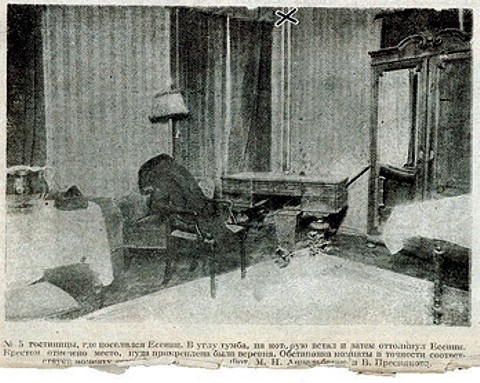Ко дню Рождения любимого поэта
Мой милый, дорогой Сергей Есенин. Всю жизнь тобой живу, тебя люблю. Спасибо за стихи твои и песни, за то, что жил, тебя благодарю. Забыть тебя я не смогу и буду всегда стихи твои и прозу прославлять.....
Вас с днем Рождения сегодня поздравляю и буду дальше с вами жить и воспевать....
И пусть душа ваша будет спокойна, вас никогда не будем забывать...
Вас с днем Рождения сегодня поздравляю и буду дальше с вами жить и воспевать....
И пусть душа ваша будет спокойна, вас никогда не будем забывать...

Всеволод Новопашин,
04-02-2014 23:29
(ссылка)
Песня на стихи Сергея Есенина - "Жизнь - обман ..."
музыка, исполнение - Всеволод Новопашин
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
"Жизнь - обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.
Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: "Лишь сердце потревожь,
Жизнь - обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.
Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе".
Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь - стезя
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.
Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, -
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.
Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил - забыли про меня.
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю."
Метки: песня
Нас ждет Сергей Есенин,друзья мои!
С 1 сентября 2012 года в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове Рыбновского района Рязанской области начинаются Есенинские дни, посвященные 117-летию со дня рождения поэта.
По традиции в рамках Есенинских дней в музее состоятся концерты, спектакли, фестивали, конференция, поэтические встречи, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина, сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области.
Программа Есенинских дней:
1 сентября (суббота):
13.00 — фольклорный праздник «На плетнях висят баранки…», город мастеров, балаган Петрушки, народные игры, конкурсы, концерт фольклорного ансамбля «Русская песня», игровая программа;
2 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса»; литературно-музыкальная композиция «Встречи Кузнецова и Есенина в кафе «Стойло Пегаса»; литературно-музыкальная композиция на стихи С. Есенина «И тебе я в песне отзовусь…»;
15.00 — показ документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве Сергея Есенина из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина;
8 сентября (суббота):
10.00 — межрегиональный фестиваль современного художественного творчества «Мой край задумчивый и нежный»;
9 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса», литературно-музыкальная композиция на стихи С. Есенина «О Русь, взмахни крылами»;
15 сентября (суббота):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» с участием поэтов из литературного объединения «Ближний круг» Рязани;
16 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» с участием композитора и актёра театра «Актёрский дом» Владимира Патрушева (Москва), актрисы театра «Переход» Екатерины Сулица (Рязань);
15.00 — показ документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве Сергея Есенина из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина;
22 сентября (суббота):
12.00 — детский есенинский фестиваль-конкурс музыкально-поэтического творчества «По-осеннему шепчут листья…»;
23 сентября (воскресенье):
13.00 — гала-концерт победителей детского есенинского фестиваля-конкурса музыкально-поэтического творчества «По-осеннему шепчут листья…»;
27–29 сентября (четверг–суббота):
10.00 — международная научно-практическая конференция «Сергей Есенин и русская история»;
30 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» с участием поэтов из литературного объединения «Ближний круг» Рязани;
15.00 — показ документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве Сергея Есенина из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина;
3 октября (среда):
17.00 — музыкально-поэтический моноспектакль «Хулиган» по мотивам творчества Сергея Есенина;
7 октября (воскресенье):
10.30 — Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвящённый 117-ой годовщине со дня рождения С. А. Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек».

По традиции в рамках Есенинских дней в музее состоятся концерты, спектакли, фестивали, конференция, поэтические встречи, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина, сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области.
Программа Есенинских дней:
1 сентября (суббота):
13.00 — фольклорный праздник «На плетнях висят баранки…», город мастеров, балаган Петрушки, народные игры, конкурсы, концерт фольклорного ансамбля «Русская песня», игровая программа;
2 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса»; литературно-музыкальная композиция «Встречи Кузнецова и Есенина в кафе «Стойло Пегаса»; литературно-музыкальная композиция на стихи С. Есенина «И тебе я в песне отзовусь…»;
15.00 — показ документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве Сергея Есенина из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина;
8 сентября (суббота):
10.00 — межрегиональный фестиваль современного художественного творчества «Мой край задумчивый и нежный»;
9 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса», литературно-музыкальная композиция на стихи С. Есенина «О Русь, взмахни крылами»;
15 сентября (суббота):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» с участием поэтов из литературного объединения «Ближний круг» Рязани;
16 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» с участием композитора и актёра театра «Актёрский дом» Владимира Патрушева (Москва), актрисы театра «Переход» Екатерины Сулица (Рязань);
15.00 — показ документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве Сергея Есенина из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина;
22 сентября (суббота):
12.00 — детский есенинский фестиваль-конкурс музыкально-поэтического творчества «По-осеннему шепчут листья…»;
23 сентября (воскресенье):
13.00 — гала-концерт победителей детского есенинского фестиваля-конкурса музыкально-поэтического творчества «По-осеннему шепчут листья…»;
27–29 сентября (четверг–суббота):
10.00 — международная научно-практическая конференция «Сергей Есенин и русская история»;
30 сентября (воскресенье):
13.00 — творческие встречи в импровизированном кафе «Стойло Пегаса» с участием поэтов из литературного объединения «Ближний круг» Рязани;
15.00 — показ документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве Сергея Есенина из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина;
3 октября (среда):
17.00 — музыкально-поэтический моноспектакль «Хулиган» по мотивам творчества Сергея Есенина;
7 октября (воскресенье):
10.30 — Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвящённый 117-ой годовщине со дня рождения С. А. Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек».

Сергей Трифонов,
23-02-2012 14:58
(ссылка)
Документальный фильм "Сергей Есенин. 1925-2010"
С сегодняшнего дня фильм "Сергей Есенин. 1925-2010" доступен для широкого просмотра
http://esenin.ru/gibel-poeta/parshikov-v-dokumentalniy-film-sergey-esenin-1925-2010.html
ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
16-01-2012 02:07
(ссылка)
Сергей Гандлевский О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Сергей Маркович Гандлевский (21 декабря 1952, Москва) — русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат премий «Антибукер», Малая Букеровская, «Северная Пальмира», Аполлона Григорьева, «Поэт». Член жюри ряда литературных премий.

С. Гандлевский (Источник: Статья "Поэтическая кухня")
Перед зеркалом в минуту трезвого отчаяния Сергей Есенин сказал о своем даровании, что оно "небольшой, но ухватистой силы". Эта беспощадная самооценка, вероятно, справедлива. Однако именно к Есенину вот уже семь десятилетий Россия питает особую слабость. Небольшой силы оказалось достаточно, чтобы взять за сердце целую страну.

Мы почти поголовно болели им в отрочестве - и "Москва кабацкая" ходила по рукам наравне с Мопассаном. Потом мы выросли, и жизнь развела нас по сословиям, кругам и компаниям. И если дорога сводила в одном купе шофера, интеллигента, секретаря заводской парторганизации и какую-то тетку из Бобруйска, оказывалось, что им не о чем говорить друг с другом, они друг другу хуже иностранцев... Но прикончив вторую бутылку водки, купе затягивало "Отговорила роща золотая..." (а проводница подпевала), и время песнопения становилось временем взаимопонимания.
Михаил Омский - ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ...
Хорошо сближает и Высоцкий. Но нужна гитара, молодая компания, мужественный артистичный солист. А Есенин - во всех ситуациях свой.
Мыслимое ли дело трясти случайного попутчика за грудки за Федю Тютчева или Володю Маяковского? Никому и в голову не придет ни звать их так, ни препираться из-за них. А вот за Серегу Есенина можно и схлопотать. Он и сам тыкал Пушкину и Америке и впустил всех нас в свою частную жизнь, где дед с портками, мать-старушка в шушуне, женщина "сорока с лишним лет", и другая женщина, и еще другая... Он сделал всех нас благодарными зрителями и чуть ли не соучастниками сериала, которому не видно конца, потому что каждое очередное поколение с удовольствием узнает себя в трюмо есенинской поэзии.
Ведь как мы живем? Вчерашний день мы еще с трудом вспомним, а уже позавчерашний - никогда. На похоронах близкого человека воспарим на мгновение над бытом, чтобы резюмировать: "Все там будем" - но есть уже чеканная формулировка, есть:

А что может быть острее чувства собственного старения. И на этот случай у Есенина есть краткое и красивое высказывание:
Не жалею, не зову, не плачу -
Все пройдет, как с белых яблонь дым...
Мы ссоримся с любимой женщиной - Есенин и здесь уместен:
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое в лицо бросали мне...
Мы куда-то уезжаем:
Корабли плывут в Константинополь,
Поезда уходят на Москву...
Теперь возвращаемся:
Прощай, Баку, тебя я не увижу...
Рутинный быт и нервотрепку Сергей Есенин возвел в степень жизни и чувств, он обвел эту тусклую прозу щемящим пятистопным размером - и она засверкала, как настенный календарь. Цветов немного, но все яркие. Спасибо ему за это!
Есенин назвал себя "последним поэтом деревни", а признание обрел у всех, почитай, сословий. Потому что во все времена и на всех широтах новое теснит обжитое старое. И видеть это больно. Я человек городской, но с есенинской обреченной неприязнью смотрю на компьютер.
Он был мастером разлуки, расставания. А ведь жизнь в большой мере и есть растянувшееся на годы и десятилетия прощание понемногу и постепенно со всем и всеми, а после и с нею самой, с жизнью: "До свиданья, друг мой, до свиданья!"
Редкий смешной гордец дерзнет соразмерять себя с лирическим героем Лермонтова или Блока, Баратынского или Ходасевича, а вот с героем Есенина - сколько угодно. Сочувствие усиливается и тихим омутом облика, миловидностью, и биографией сродни самосожжению. Иван-царевич, но "такой же, как вы, пропащий".
Пусть не покажется, что рассуждения мои грешат интеллигентским высокомерием: мол, это все - ширпотреб. Мало кто из обитателей поэтического Олимпа может похвалиться строками такой силы: "И деревья, как всадники, съехались в нашем саду..." или "А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам..."
Есенин народен не только за талант - талантливыми поэтами нас не удивишь, а за то, что вернул заурядной жизни привкус драматизма, а значит, и право на самоуважение. Таких услуг люди не забывают.
Более того, он послужил и национальному самоутверждению. Есенин силою таланта и обаянием личности двусмысленные стороны русского темперамента повернул светлой стороной. И там, где одним видится только дикость и рабский разгул, он усмотрел и вольницу молодости, и привлекательную исключительность. Есенин был очередным художником, оставлявшим за Россией особые таинственные права на необщий аршин, широту, быструю езду.
Опасен такой Есенин? Не опаснее многих явлений жизни - от свободы до водки: трудно не впасть в крайность. Держать равновесие вообще не просто, даже на двухколесном велосипеде.
ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
15-01-2012 19:51
(ссылка)
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ (начало)

Сергей Есенин, 13 июля 1913, Москва
H.А. Сардановский: "НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ"
http://esenin.ouc.ru/esenin...
Николай Алексеевич Сардановский (1893-1961) - товарищ Есенина по Константинову и первым годам жизни в Москве. В период знакомства с Есениным - учащийся, студент Коммерческого института (ныне Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова), впоследствии - советский работник, преподаватель музыки.
<...>
Приходилось мне во время каникул жить в доме дальнего моего родственника - священника села Константинова, Ивана Смирнова. <...> Необычайная приветливость его хозяев очаровывала всякого, кто туда попадал. Вот в такой-то обстановке впервые я увидел приятного и опрятного одиннадцатилетнего мальчика - Сережу, который был на два с половиной года моложе меня. Тихий был мальчик, застенчивый, кличка ему была - Серега-монах. <...>
Примерно спустя год после нашего знакомства Сергей показал мне свои стихотворения. Написаны они были на отдельных листочках различного формата. Помнится, тема всех стихотворений была - описание сельской природы. Хотя для деревенского мальчика подобное творчество и было удивительным, но мне эти стихи показались холодными по содержанию и неудовлетворительными по форме изложения.
В то время я сам преуспевал в изучении "теории словесности", а поэтому охотно объяснил Сергею сущность рифмования и построения всяческих дактилей и амфибрахиев. Удивительно трогательно было наблюдать, с каким захватывающим вниманием воспринимал он всю эту премудрость.

Сергей Есенин, 1909, Константиново
И зимой и летом в каникулярное время мы с Сережей постоянно и подолгу виделись. Много времени проходило в играх: лото, крокет, карты (в "козла"). Летом он часто и ночевал с нами во втором, новом, доме дедушки. Приходилось вместе работать на сенокосе или на уборке ржи и овса. Особенно красочно проходило время сенокоса. Всем селом выезжали в луга, по ту сторону Оки; там строили шалаши и жили до окончания сенокоса. Сенокосные участки делились на отдельные крупные участки, которые передавались группам крестьян. Каждая такая группа носила название "выть" (Сергей утверждал, что это от слова "свыкаться").
Возвращаясь с сенокоса, переедем на пароме Оку и - купаться. Отплывем подальше, ляжем на спину и поем "Вниз по матушке, по Волге...". Пел Сергей плоховато.

Сергей Есенин (третий справа) среди жителей села Константиново. Капитолина Ивановна Смирнова, Ваня Исаев, Клавдий Воронцов, Настя Воробьева, за ней — Сергей Есенин, Александра Ивановна Северова, 1909
В числе товарищей его были: Клавдий, приемыш дедушки, и Тимоша Данилин - сын бедной вдовы, который при содействии дедушки был принят на стипендию в Рязанскую гимназию Зелятрова. Все любили этого Тимошу. Бесконечно добродушный, с широкой, нескладной фигурой, с исключительно темным цветом лица, густыми, курчавыми, черными волосами, с мясистыми губами и курносым носом, Тимоша все же был очень мил. <...>
И другая картина мне представляется. На высоком берегу Оки, за ригой, в усадьбе дедушки, на маленькой, узенькой скамеечке в летний вечерний час сидим мы трое: в середине наш общий любимец дедушка, по краям мы с Сергеем. Необыкновенно милый старик нас поучает: "Бывает так, что мысль свою человек выскажет простыми словами, а иногда скажет человек такое слово, о котором много лет раздумываешь..." <...>

Сергей Есенин, 1910
Любили мы в то время читать произведения писателя А. И. Куприна. Дедушка выписывал журнал "Нива", а к этому журналу приложением было Полное собрание сочинений А. И. Куприна. Сергей обратил мое внимание на следующие строки в рассказе "Суламифь": "И любил Соломон умную речь, потому что драгоценному алмазу в золотой чаше подобно хорошо сказанное слово".
Сам Есенин, как видно, очень пристально следил за разговорной речью окружающих. Неоднократно он высказывал свое восхищение перед рассказчиками сказок, которые ему приходилось слушать ночами во время сенокоса. Помню и его восторг, когда получалась неожиданная игра слов в нашей компании. <...>

Сергей Есенин (справа) с Григорием Панфиловым, Спас-Клепики, 1911
В юношеские годы Сергей Есенин поражал необыкновенной памятью на стихотворные произведения: он мог наизусть прочесть "Евгения Онегина", а также свое любимое "Мцыри" М. Ю. Лермонтова.
Незадолго до начала войны с немцами (1914 г.) река Ока была запружена в Кузьминском. Течение реки прекратилось, и она сделалась намного шире. Решили мы первыми переплыть реку. На праздник Казанской (8 июля старого стиля) произвели мы пробу - как долго мы можем продержаться на воде, произвели соответствующие расчеты, а на другой день поплыли с правого берега на левый. Плыли трое: московский реалист Костя Рович, Сергей и я. Костя был спортсмен-пловец, а мы с Сережей плавали слабо. Условия проплыва были неважные: дул небольшой встречный ветер, и вдобавок на правом берегу возле риги стоял дедушка и не особенно приветливо махал на нас дубинкой. Костя перемахнул реку легко и быстро. Вторым был Сережа, а я кое-как плыл с малой скоростью. Переплыв реку, я увидел, что Сергей сидит на отлогом песчаном откосе и отплевывается кровью, по-видимому, переутомился. Но в общем настроение было радостным. К вечеру увидел я, что он сидит между дверьми в новом доме дедушки и на гладкой сосновой притолоке что-то пишет. Оказалось, что он писал стихотворение о нашем проплыве. Стихотворение имело размер тяжелого трехстопного анапеста.
Первые строчки неплохо рифмовались так:
. . . . . . . . жизни картиновой
. . . . . . . . . понесло Константиново.
А конец был такой:
Сардановский с Сергеем Есениным,
Тут же Рович Костюша ухватистый
По ту сторону в луг овесененный
Без ладьи вышли на берег скатистый.
Но, поскольку у нас, мальчишек, всегда был дух соревнования, я, недолго думая, написал пониже свое четверостишие:
То не легкие кречеты к небу вспарили,
Улетая от душного, пыльного поля.
На второй день Казанской Оку переплыли
Рабы божии - Костя, Сережа и Коля.
Исход соревнования пока был неясен, и Сергей написал еще ниже:
Когда придет к нам радость, слава ли,
Мы не должны забыть тот день,
Как чрез реку Оку мы плавали,
Когда не с... еще олень.
По народному поверью, на Ильин день (20 июля старого стиля) какой-то легендарный олень легкомысленно ведет себя по отношению ко всем водоемам, так что после этого купаться уже нельзя. <...>
(окончание следует)
АНАЛОГИЧНАЯ ТЕМА:
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ (начало) http://my.mail.ru/community...
ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
15-01-2012 19:45
(ссылка)
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ (окончание)

Сергей Есенин, 13 июля 1913, Москва
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ (начало) http://my.mail.ru/community...
В моем представлении решающим рубежом в жизни Сергея был переезд его в Москву.
Это произошло в 1913 году - на восемнадцатом году его жизни. В этом же году и я, окончив среднюю школу, поступил в Московский Коммерческий институт (ныне Институт им. Плеханова). Сергей работал корректором в типографии И. Д. Сытина на Пятницкой улице и жил в маленькой комнатке в одном из домов купца Крылова - Б. Строченовский пер., д. 24. Приходилось нам с ним живать в одной комнате, а когда жили отдельно, то все же постоянно виделись друг с другом. Городская жизнь, конечно, была значительно бледнее, чем деревенская.
В свободное время от работ часто бывал он у своего отца, который жил в другом доме на том же дворе. Там была "молодцовская", то есть общежитие для работников хозяина - Крылова. Отец Есенина был старшим и по молодцовской. В маленькой комнатке Есенина мы могли лишь с восторгом вспоминать о раздолье на Константиновских лугах или на Оке.
Время проводили в задушевных беседах. То он с упоением рассказывал, как видел приезжавшего в типографию Максима Горького, то описывал, как изящно оформлял свои рукописи модный в то время поэт Бальмонт.
Часто он мне читал свои стихи и любил слушать мое любимое стихотворение "Василий Шибанов" А. К. Толстого. А мою незатейливую игру на скрипке он мог слушать без конца и особо восторгался мелодичной "Славянской колыбельной песней" композитора Неруды. Впоследствии он неоднократно предлагал мне "работать" вместе, то есть он составлял бы стихи, а я делал бы к ним музыку. <...>
В начале своей деятельности поэта Сергей обдумывал, какое наименование ему лучше присвоить. Вначале он хотел подписываться "Ористон" (в то время были механические музыкальные ящики "Аристон"). Потом он хотел называться "Ясенин", считая, что по-настоящему правильная его фамилия от слова "ясный".
Он считал, что поэт - это самая почетная личность в обществе. Горячо доказывал мне, что А. С. Пушкин бесспорно самый выдающийся человек в истории России и потому он пользуется самой большой известностью. Мне приходилось несколько охлаждать пыл своего приятеля, и я высказывал соображения, что подчас и довольно ничтожные личности имеют большую известность, вот, к примеру, царь Николай. Обратились с вопросом к его квартирной хозяйке Матрене Ивановне, и, к нашему полному недоумению, оказалось, что про Пушкина она ничего не знает.
Мне помнится, что первое его стихотворение было напечатано в петербургском детском журнале "Проталинка". Полученный гонорар он целиком истратил на подарок своему отцу. Вообще в этот период я наблюдал, что отношения Сергея с отцом были вполне хорошими.
Конечно, вначале Александр Никитич неодобрительно относился к литературным занятиям Сергея, но свое мнение он высказывал без всякой резкости, а потом у него стало проскальзывать даже довольство тем обстоятельством, что его сын стал получать известность. В первые годы своей московской жизни Есенин вел довольно простой образ жизни. Частенько проводил время в молодцовской, где резался с ребятами в "козла". Любил он и наши студенческие компании. Обычно в неучебные дни мы, студенты, собирались небольшой компанией и проводили время главным образом в пении хоровых украинских песен. <...>
К этому же времени относится учеба Сергея в университете Шанявского (этот университет назывался, кажется, народным). Мне Сергей говорил, что он посещал там исключительно лекции по литературе. Этот предмет читали наиболее видные профессора того времени: Айхенвальд, автор книги "Силуэты русских писателей", и Сакулин. Однажды взволнованный Есенин сообщил мне, что он добился того, что профессор Сакулин обещает беседовать с ним по поводу его стихов. Вскоре Сергей с восторгом рассказывал мне свои впечатления о разговоре с профессором. <...> Особенно одобрил он стихотворение "Выткался на озере алый свет зари...".

Между прочим, я, неспециалист в этом деле, услыхав это стихотворение, почувствовал впервые, что в стихах Есенина появляется подлинная талантливость. Однако я долго недоумевал, как мог профессор одобрить стихотворение Есенина, которое поэт посвятил мне <...>:
Упоенье - яд отравы.
Не живи среди людей,
Не меняй своей забавы
На красу бесцветных дней
и т. д. <...>
Последняя картина моих воспоминаний такая.
В Константинове, на усадьбе дедушки, за ригой, на высоком берегу реки Оки, все на той же узенькой скамеечке сидим мы с дедушкой вдвоем. Старик одет в ветхое полукафтанье, на голове потертая бархатная скуфья, как видно, немного уже осталось жить ему на свете. "Вот, Никола,- говорит он мне, - подолгу сижу я здесь. Все вспоминаю, что было. И что будет. Всегда ношу я с собой вот эту книжицу - поминание. Всех своих родных и знакомых усопших записал. Вот записан твой отец, вот мать твоя - моя племянница Вера, братишка твой Володя, твоя сестра Анюта. А в конце, ищи и читай, записан твой приятель". Беру я это потрепанное поминание, перелистываю потемневшие странички, закапанные воском от свечей, и на одной из последних страниц читаю написанное неровным старческим почерком: "Раб божий Сергей. Сын Александра Никитича и Татьяны Федоровны Есениных. Был писателем. Скончался в Петербурге, в гостинице. На Ваганьковском кладбище похоронен". Далее дедушка добавляет: "Не стал я писать, какою смертью-то он умер. Нехорошее это дело, прости ему, господи". Что-то дрогнул голос старика, и прозрачная слезинка тихо покатилась по морщинистой щеке и затерялась в белоснежных волосах бороды. <...>

Отец Иоанн (Смирнов) — священник церкви с. Константиново. 1903 г. Рязань
АНАЛОГИЧНАЯ ТЕМА:
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ (окончание) http://my.mail.ru/community...
ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
12-01-2012 18:23
(ссылка)
КОГДА ГРУСТЯТ В ТУМАНЕ ТОПОЛЯ …

Сергей Есенин в Туркестане Художник Р. Азиханов (Ташкент, 1998 г
ИГОРЬ МОИСЕЕВ
КОГДА ГРУСТЯТ В ТУМАНЕ ТОПОЛЯ …
http://my.mail.ru/community...
В рязанском захолустье иван-чай
Качнется у заброшенной деревни,
Где сохранился русский облик древний…
Ну что ж, Мещерский край, меня встречай!
«По-Байроновски» выскочит Барбос,
Меня облает у седой калитки,
И убежит к хозяйке бабке Лидке,
Что ходит в куртке с этикеткой «BOSS».
Таких вот «боссов» на рязанщине довольно,
А молодежи там почти уж нет.
Уходит Русь… И ветреный кларнет
Звучит в верхушках тополей так больно…
И я пойду к извилистой реке,
Где берег то крутой, то очень низкий…
Воспоминаний рой далеко-близкий
Усядется на ближнем бугорке.
В его жужжании услышу я
И снега скрип, и вечер соловьиный,
И ветер над желтеющей долиной,
И одинокий оклик журавля…
Я этим летом буду не один –
Воспоминания мои всегда со мною…
Над мутною житейскою волною
Они взлетели. Я их господин.
И так невольно зарыдаю я,
Припав щекой к стареющей березе,
И буду знать, что нет возврата к прозе,
Когда грустят в тумане тополя…
2000
© Copyright: Игорь Моисеев 3, 2010
Свидетельство о публикации №11001291200

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
03-01-2012 03:39
(ссылка)
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Михаил Жовнерчук
http://soneta.ru/stihi/Pamy...
«Не грустите и не плачьте,
Вены перерезал я,
И у жизни на коленях.
Не стоять мне никогда.
Не просил и не прошу я,
Счастье мимо проплыло,
Пусть лишь саваном укроют,
Тело мёртвое моё».
Не погасло солнце в небе,
Не разверзлася земля,
Вы ушли, Сергей Есенин,
Смерть Вас в гости позвала.
Вас оплакали берёзы,
И отпели соловьи,
И в трескучие морозы,
Звёзды свечками в ночи.
Мы скорбим и сердцем плачем,
Оборвала жизнь петля,
Жаль не встать Вам на колени,
Пред иконой никогда.
Не пройтись тропой знакомой,
По нескошенной траве,
Не испить воды студеной,
Вам на утренней заре.
.....
Но Россия помнит сына,
Что любил её и чтил,
Что глушил с ворами водку,
И стихи ей посвятил.

Сергей Трифонов,
16-12-2011 12:36
(ссылка)
Премьера фильма Владимира ПАРШИКОВА «Сергей Есенин. 1925-2010»
Премьерный показ нового фильма Владимира ПАРШИКОВА
«Сергей Есенин. 1925-2010» состоится 27 декабря в 18:30 в Центральном
Доме Литераторов (малый зал). Адрес: Москва, ул. Б. Никитская, 53. Вход
свободный.
Трейлеры к фильму можно посмотреть на www.esenin.ru
ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
16-12-2011 00:15
(ссылка)
МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ЕСЕНИНЫМ...

ИГОРЬ МОИСЕЕВ
МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ЕСЕНИНЫМ...
Меня называли Есениным,
Не зная, чьи были стихи...
И вот, уходя в даль осеннюю,
Я вам оставляю штрихи...
Штрихи чёрных лет, несуразностей,
Постигших несчастную Русь...
Что ж будет при стычке всех разностей?!
Сказать я уже не берусь!!!
Вернувшись опять на Рязанщину,
В до боли родные места,
Застал я всё ту ж обывальщину:
Ни чёрта там нет, ни Христа!
Я вновь повидался с “ребятами” -
Оставшемся там мужичьём...
В лесах завались хоть опятами,
Но горе там льётся ручьём.
А местная власть, лизоблюдствуя,
Под ноги швырнув красный стяг,
Понять всё не хочет, не чувствует:
Ведь здесь же мы только в гостях!
А что ж вы потомкам оставите,
Предатели Русской земли?!
Каких же “святых” вы “прославите”,
Себе говоря: “Не внемли!”
И смерти, и слёзам, и нищенству
Все ваши закрыты сердца...
Давно над Россией бесчинствует
Зелёное знамя тельца.
С банкнот же заморские дяденьки
Надменно взирают на нас:
“Вы были народом немаленьким,
А стали трухой в один час!”
....................................................
И местный мужик, до “полтинника”,
Неслышно уйдя в мир иной,
Не нужен ни власти, ни схимнику,
Забыт он и бывшей женой...
....................................................
Лесными тропинками топая,
Я выйду всё к той же реке,
Где лист поцелую у тополя,
Представлю себя вдалеке...
Из дали, из той, неизмеренной,
Увижу несчастную Русь...
И вот уж совсем ненамеренно
Я в годы лихие вернусь!
29 августа -
15 сентября 2003
© Copyright: Игорь Моисеев 3, 2010
Свидетельство о публикации №11001294376
http://my.mail.ru/community...

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,
14-12-2011 00:18
(ссылка)
ЕСЕНИН в КОНСТАНТИНОВО
Из воспоминаний сестры ПОЭТА.
ЕСЕНИНА, Александра Александровна: РОДНОЕ и БЛИЗКОЕ. http://esenin.ru/vospominan...

Все эти годы, вплоть до 1921-го, Сергей приезжал домой почти каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино.
Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и мылось, всюду наводили порядок. Он был у нас дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось. Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому не на едва трусцой семенящей лошаденке, а на лихом извозчике, которые так и назывались «лихачи», а то и на паре, которая, изогнув головы, мчится как вихрь, едва касаясь земли и оставляя позади себя тучу поднявшейся дорожной пыли. С его приездом в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу раскрытые чемоданы, на окнах появлялись книги, со стола долго не убирался самовар. Даже воздух в избе становился другим — насыщенным папиросным дымом, смешанным с одеколоном.
На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводился Сергею для работы, а в амбаре он спал. В комнате матери, из которой выносили кровать, или в прихожей устраивали столовую. В «зале» Сергей переставлял все по-своему, и, хотя особенно переставлять было нечего, комната все же как-то сразу преображалась. Снимали и выносили стеклянный верх посудного шкафа. Накрыв нижнюю часть шкафа пестрым шелковым покрывалом, Сергей устраивал что-то вроде комода. По-своему переставлял стол. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумаги, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов. В его комнате всегда был идеальный порядок.
Остались в моей памяти некоторые песенки, которые он, устав сидеть за столом во время работы, напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».
Помню, как однажды он ездил с рыбаками ловить рыбу и так загорел, что через несколько дней, расположившись на лужайке перед домом, Катя снимала у него со спины лоскуты кожи величиною с ладонь.
Помню, как Сергей ходил легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.
К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать он называл коротко — ма, отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша», так как обычно так называли отцов деревенские жители и даже мы с Катей звали отца папой.
Я не могу сказать, что Сергей уделял в эти приезды много времени нам, домашним, он всегда был занят работой или уходил в луга, к Поповым, но одно сознание, что он дома, доставляло нам удовольствие. <>
В Макаров угол, подальше от села, обычно ходили настоящие рыболовы. Вот и мы с Сергеем, как заправские рыбаки, переезжали на лодке Оку и приходили сюда же. Но от правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили из дому мы часов в девять-десять, Добирались до места и рыбачить начинали уже почти в полдень. Не могли мы похвастаться и хорошим уловом. Ерш, окунь, плотва — вот основная наша добыча. Но мы не унывали, с радостью вытаскивали очередного ершишку или окунька и довольны были тем, что по количеству их у нас было много. Я должна была опускать в садок пойманную рыбу и вести счет.
И вот однажды нам повезло. Наконец-то попалась большая хорошая рыба. Это был голавль, примерно на четыреста — пятьсот граммов. Дрожащими руками Сергей стал снимать голавля с крючка, а я побежала за садком. Прибежав с садком, я не успела его еще раскрыть, а Сергей уже выпустил из рук голавля. Рыба, упавшая в воду, на несколько секунд замерла, не веря тому, что она на свободе, затем стремительно ушла в глубину реки. Такой неудачи ни Сергей, ни я не ожидали, и он вдруг вскипел: «Вот дурная, что ж ты наделала? Лезь вот теперь за ней». А я даже не пыталась оправдываться, что вина-то не только моя, и растерянно стояла в воде, держа в руках раскрытый садок.
Сергей был так огорчен, что разбудил Катю, которая не любила терпеливо сидеть с удочкой и обычно, пока мы ловили, спала в прибрежных кустах. Рассказывая ей о случившемся, он обвинял во всем меня. А через короткое время он уже весело подшучивал надо мной. Однако вину с меня он не снял. Это был единственный случай, когда Сергей накричал на меня. Вот теперь, спустя уже много лет, я вспоминаю и удивляюсь умению Сергея и выдержке, которые он проявлял, воспитывая нас. Ведь сам-то он был еще так молод. Я не помню случая, чтобы он когда-нибудь меня обидел. И если я делала что-нибудь не так, он обычно, как и в этот раз, восклицал: «Вот дурная, что ж ты наделала?» — и терпеливо объяснял мне мои ошибки.
У Сергея я многое переняла. Он рано научил меня любить книги. Каждое лето он приезжал домой в деревню, но не отдыхать, а работать. Чемоданы, привезенные им, в основном были заполнены книгами. Сидя за столом, с керосиновой лампой, он читал целыми ночами до самого рассвета. Уезжая из деревни, он не брал с собой привезенные книги, и таким образом у нас дома собиралась своя библиотека, благодаря которой еще девочкой десяти — двенадцати лет я знала очень много стихов Некрасова, Никитина, Пушкина, Кольцова, Тютчева, Фета, Майкова и многих других. Из писателей я особенно любила Гоголя. Он был мне близок и понятен.
Почти все свое свободное время теперь Сергей проводил с Катей и со мной. Часто вечерами выбирались мы со своего огорода, шли на село, за церковь на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером. На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.
Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются как в зеркале.
Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно и победоносно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.
Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.
После долгого трудного дня спокойно спит все село. В редком доме виднеется тусклый свет керосиновой лампы. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет «страдание» да ночной сторож лениво стучит колотушкой.
Ходим мы обычно от церкви до Питеряевки и обратно. Питеряевка — это маленький поселок или, вернее, улица в конце села, расположенная за оврагом, на дне которого небольшая плотина. Дома на Питеряевке стоят вдоль плотины, поперек села. В этом конце села тише. <>
Над уснувшим селом величаво плывет луна, освещая его своим бледным светом. Блестящими монетами рассыпались по светлому небу звезды, их немного, и кажется, что они совсем близко. Дорога и тропинки, освещенные луной, на близком расстоянии видны отчетливо, но дальше серыми змейками уползают в ночной сумрак.
Недолго ходим мы по селу молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, «себе под нос», напевать какую-либо мелодию. А уж если запоет один, то как же умолчать другим. Каждый из нас знает, что поет другой, и невольно начинает подпевать.
Поем мы, как говорят у нас в деревне, «складно». У нас небольшие голоса, да мы и не стараемся петь громко, так как наши песни требуют от исполнителей больше чувства, а не силы. Мы поем лирические песни и романсы, грустные, как, например, «Ночь» Кольцова, у которой грустный мотив и такое же грустное содержание. Разве можно спеть громко такие слова из романса «Нам пора расставаться», как: «О друг мой милый, он не дышит боле. Он лежит убитый на кровавом поле...»
Поем мы и переложенные на музыку в то время стихи Сергея: «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Письмо к матери», поем «Вечер черные брови насопил», мотив к которому мы подобрали сами.
Иногда, напевшись вволю, мы с Катей начинаем озорничать. Зачинщицей всегда бывает она: начнет петь какое-нибудь грустное стихотворение Сергея на веселый мотив, вроде плясового. Я, конечно, не отстаю от нее и подпеваю. Сергей сначала смеется, а потом начинает сердиться.
Ближе к полуночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своим делом.
АНАЛОГИЧНАЯ ТЕМА:
ЕСЕНИН в КОНСТАНТИНОВО http://my.mail.ru/community...
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу