АНТИФАУСТ: памяти Игоря Алексеева
Летом после второго курса мы жили в одном домике в «Чардыме» и загорели до язв на спине. Однажды там я поспорил с Игорем, что съем 400-грамммовую банку джема – очень хотелось сладкого. И проиграл. В результате среди «мертвого часа» я вынужден был залезть на спортивного «козла» посреди лагеря и три раза крикнуть: «Нельзя любить сразу двух!».
Игорь много рисовал. В основном его рисунки были трагикомичны (или «комитрагичны») и исполнены самоиронии. Ниже - рисунки Игоря 1980 года.
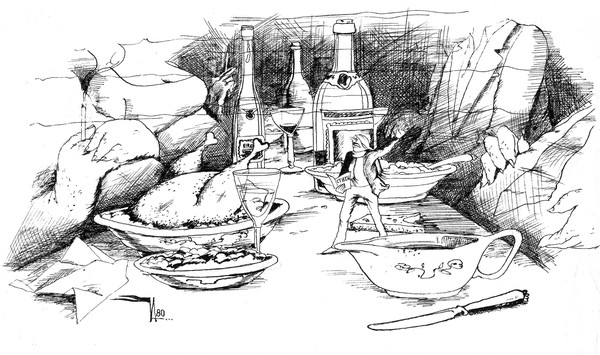
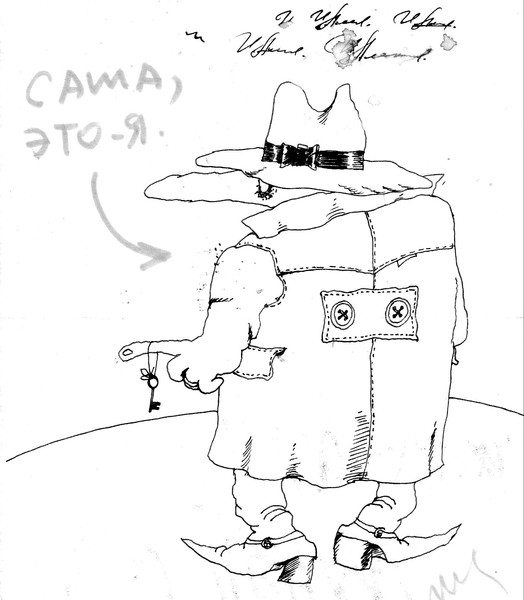
Когда после окончания института Игорь стал работать в Институте кардиологии и узнал, что у моего отца началось стенокардия, он регулярно приезжал к отцу с каким-то портативным электрокардиографом, который, не знаю, как сейчас, но в то время был большой редкостью. Этим он очень удивил и меня, и моего отца. Оба мы – я отец, и я – были ему очень благодарны.
Несколько раз мы с Игорем уходили в «ночные полеты» над Саратовом, после которых просыпались то в узком, но очень высоком кабинете Глазной клиники, то в квартире около Липок, то еще где-то.
Игорь очень любил свое тело и крайне болезненно переживал любые его возрастные изменения, которые тогда и старением-то нельзя было назвать. Когда Игорь преподавал, он говорил: «Среди профанов бытует мнение, что общаясь со студентами, ты и сам долго остаешься молодым. На самом деле студенты – это Машина Времени Наоборот. Каждый год они приходят того же возраста, а ты становишься на год старше». Игорь, занимаясь культуризмом, хотел затормозить старение (а лучше – получить молодое тело), и, по его словам, порой ненавидел выдающее его возраст лицо.
По просьбе Игоря я написал предисловие к его первой отдельной книжке «Желтая тетрадь». И считаю его лучшим из всех предисловий к его книгам. Более того, мне кажется, что я там сказал все, что хотел бы сказать о нем. Сначала я хотел привести ниже именно это предисловие, но решил – свои дневниковые записи о встречах с ним в течение двух лет – 1 апреля 2001 года по 30 марта 2003 года.
01.04.2001. Воскресенье. Ездили на обед к Алексееву на его воскресном «Мерседесе» (фраза Алексеева: «можно ли считать шапку Мономаха головным убором?»). Дом – огромное многоуров¬невое сооружение, больше похожее на компьютерную игру (либо аркаду, либо 3-D ходилку-стрелялку). Смотрели фильмы о Ялте и Египте. Прокатились по новому мосту.
20.08.01. Понедельник. Вчера было Преображение (Яблочный Спас) – предчуствие осени. Приходили Игорь Алексеев с Таней. Торты. Разговоры (Игорь: «нужно весело относиться к решению своих алкогольных проблем», «не по чину мне пить, пусть быдло бухает, а я аристократ»).
26.10.01. Пятница. Приходил с четвертушкой коньяка Алексеев. Сразу показал шов на животе и сказал, что у него рак сигмовидной кишки, каковую и отрезали на днях – это был его первый выход из больницы. Говорил про страх, сила которого превышает любое понимание или осознание происходящего и про то, что пьет для того, чтобы этот страх подавить. Рассказывал о том, как поза¬ботился о детях и чуть не плакал. Пел про Витьку Фомкина, предвари¬тельно написав текст. Ответить ему было нечего. Мы проводили его до больницы. В субботу Марине было видение о том, что она в противочумном костюме с пикой поражает в ядро немногочисленные Игоревы атипичные клетки. Вчера Игорь приходил опять с четвертушкой «Гжелки», более оптимистичный («у меня шансов больше 50», «лет 15 я еще проживу») и агрессивный. Рассказывал о двух визитах в больницу, во время которых, по его словам, люди приходили убедиться, что он умирает. Пел, предварительно написав текст, свою «Что толку горевать по городу Калуга», читал стихи
«Ты редко вспомнишь обо мне.
Я подчинен нечистой силе.
Одной ногой стою в могиле,
Другой ногой стою в говне.»
и так далее. Требовал продолжения банкета, злился, что его плохо при¬нимают, говорил, что мы трезвые и скучные, что он станет нашим ночным кошмаром и тому подобное. Ушел. Мы еле нашли его на улице. Игорь, купив «Гжелку» на ночь, подобрел и позволил проводить себя до больницы.
Новый 2002 год встречали с Игорем Алексеевым и Таней:
«Какой бы ни был я мошенник или плут,
Стал понимать все явственней и резче,
Что в гардеробе поселились вещи,
Которые меня переживут».
Они увидели у нас книжку маньеристов и купили такую же. К рож¬деству Игорь ее уже прочитал и заехал к нам в почти гипоманиакальном состоянии – хочет покупать компьютер, печатать и издавать сотню экземпляров книги своих стихов в кожаном переплете с моим предисловием. Считает себя, и наверное, справедливо, предтечей маньеристов. Говорит, что то же направление лет двадцать назад он называл «драматическим ре¬ализмом», что стеб драматичен, так как создается при отсутс¬твии таланта, но при наличии стиля, вкуса и темперамента.
30.03.02. В субботу, когда я подошел к дому, одновременно со мной приехали Алексеевы. Игорь рассказывал о тусовке в «Камелоте» и уговаривал меня начать писать роман.
31.03.02. Игорь с Таней приехали с утра после церкви. Игорь опять говорил о рома¬не («перед его началом надо бы покаяться и причаститься»), щедро даря сюжетные линии и завязки.
25.04.02. В четверг ходили на алексеевское шоу в «Камелот» с Диди, Виталей Скородумовым, Голицыным, Кирой Шестеркиной-Долининой и др. У Игоря вышла «Желтая тетрадь» с моим предисловием и посвященным мне «тревожным в воздухе чем-то...»
05.05.02. Воскресенье. Сегодня Пасха. С Алексеевыми ездили на службу в Покровскую церковь на Горько¬го. Прошли с крестным ходом.
08.06.02. Суббота. Приезжали Алексеевы. Вели детские разговоры о том, кто что бы хотел делать и как жить (Ма¬рина – «наследница», Таня – «помещица», Игорь – «проповедник», я – «писатель»).
11.08.02. Воскресенье. Алексеевы возили к себе посмотреть газон.
02.09.02. Понедельник. В четверг ходили на мероприятие Игоря Алексеева с Эсмеральдой, Балалайкиной и чтением стихов с посвящением мне и Марине.
Мир для них игрушечно податлив,
Обнимаем, сонно ирреален.
Александр Зайченко талантлив,
Алексеев Игорь гениален.
Интеллектуальные пижоны,
Зла они не знают друг о друге.
Дети их внимательны,
А жены – первые красавицы в округе.
Но, увы, сердца их бесы гложут.
Легкий ветер их улыбки гасит.
Зайченко по вечерам корежит.
Утром Алексеева колбасит.
Вот сидят, уныние посеяв,
С кислой миной на небритых рожах.
На прохожих смотрит Алексеев.
Зайченко не смотрит на прохожих.
Вчера опять заезжали Алексеевы, и пока дамы делали «шопинг», Игорь, в частности, попросил сделать предисловие и к его следующему сборнику. Трудно будет переплюнуть самого себя (вернее предыдущее пре¬дисловие).
07.10.02. Вторник. 19.01. В субботу приезжали Алексеевы со стихотворением о Ялте, посвященным Марине.
Марина, в Ялте все еще тепло
И все еще торгуют кукурузой
Вареной, но не кажется обузой
Полдневный жар. Все чаще тяжело
И медленно ползут на горизонт
Морские тучи, пышные как торты.
И, надевая шлепки, майку, шорты,
Вполне резонно взять с собою зонт,
Поскольку может вдарить дождь с утра.
На галечнике шире промежутки,
А вечером печальней проститутки,
Неместные все реже номера.
Итак, бутылка, Бродский, интернет.
Реальности и сна переплетенье
И, кажется, продлиться запустенье
Еще чуть-чуть, и жизнь сойдет на нет.
Вчера Алексеев заезжал уже со стихотворением «про меня», сообщением о том, что он закончил 2-й сборник, т.е. дописал последние (с субботы) три стиха (в том числе и тот, который «про меня»).
Тщедушие прикрыв халатом,
Научным молится столпам
Мой друг, потомственный анатом,
Специалист по черепам.
Он чаще тих, и, реже, пылок.
Но, слава Богу, жив и цел.
И ощущает мой затылок
Его профессорский прицел,
Когда, опасности не чая,
Смотрю офорты на стене,
Или, когда за чашкой чая
Я повернусь к его жене.
Мне это льстит, а вы посмели б
Кусать сомнения кулак,
Когда оценивает череп
Такого уровня маньяк?
Он не стремится быть предтечей
Кого-то. Что ни говори,
Он знает облик человечий
В буквальном смысле изнутри.
И он, признаться, не в восторге,
Как, впрочем, каждый костолом.
Часть жизни он проводит в морге,
А часть – за письменным столом,
Или блуждает в интернете,
Ища родное существо.
Но равных нет на этом свете
Печальным знаниям его.
22.36. Сейчас опять заезжали Алексеевы – об¬суждали телепередачу, в которой якобы мне предстоит интервьюировать Игоря. Он табуировал вопросы, связанные с алкоголизмом и «мальчиком из Ртищева». Стихотворение «про меня» Алексеев хочет сделать первым в сборнике и говорит, что оно на самом деле про него. Предлагал мне оформить сборник мой сборник за тысячу рублей (?!).
13.10.02. Воскресенье. 21.51. Вчера опять были Алексеевы. Говори¬ли о мистификации личной истории. Кроме того, Игорь хорошо говорил о возрождении (он избегал этого слова, употребляя «трансформация», хотя по смыслу было понятно, что речь идет именно о «возрождении»), связан¬ном с операцией на кишке, как своего рода личной Голгофе, после чего все вокруг (во всяком случае в ближайшем окружении) «стало хорошо». Игорь при этом говорил о том, что если «неблагополучие» (мягко говоря) ощущается всеми близкими, то на Голгофу-то поднимаешься в одиночку. Тогда как метаморфоза касается всех окружающих, а не только тебя.
04.11.02. Вторник. 23.06. В субботу приходили Алексеевы, ругали последний четверг в «Камелоте» – он становится все менее похож на сно¬бистский клуб, каким его планировали видеть Игорь и Таня (грязные бо¬тинки, джинсы и свитера их очень раздражают). Они ввели плату за вход (50 р.): Игорь не может найти 20 тыс. для издания «Командира» в При¬волжском издательстве.
20.02.03. Четверг. Алексеев носил к духовнику мое предисловие. Тот его, естественно, забраковал.
30.03.03. Алексеев вчера подарил новую книжку «Командир Пентагона» с двумя стихами «ко мне» и одним – «к Марине».
Позже писать об Игоре мне стало тяжело. В 2005 году Игорю отрезали почку. И если 15 октября 2006 года после выхода «Трамвая живых» Игорь просил меня написать и выслать ему эссе по «Желтой тетради» и «Трамваю живых», то через год – 4 октября 2007 года – уже «Правила применения опиоидных анальгетиков при острой и онкологической боли».
Мы изредка общались e-mail (<next@renet.com.ru>, <rain@san.ru>). Вот отрывки нескольких писем.
27.12.03. Саша, привет! Тебя и твою семью с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Игорь. Таня.
В отрезке дневном на чудовищной дозе
Тупой седативы ты будто-бы спишь.
Заходится в лабораторном психозе
Зимы одноглазая белая мышь.
И надо у выхода встать, замерев,
И руки упрятать в карманы и плакать
И плакать над тем, что цинготная слякоть
Не лечится хвоей сосновых дерев.
И надо бы как-то добраться домой,
И спрятаться в темную теплую нОру.
Уснуть и проснуться в погожую пору,
О том позабыв, что случилось зимой.
Но треснет как зеркало сонный пробел,
Когда ты найдешь меж дверных половинок
Неведомый знак пожелтевших хвоинок:
Латинскую «пять» или русскую «Л».
12.11.06. Здравствуй, Игорь! Спасибо за книгу. Провел контент-анализ Твоих стихов («Трамвай живых»). Высылаю приложением архивированными файлами. Предлагаю внимательно посмотреть. Может быть очень интересно. Ниже в качестве примера привожу маленький фрагмент результатов.
Пример. Количество повторов фрагментов из 10 букв: одиночеств (13), необходим (10); ...из 8 букв: возможно (26), человеко, разговор (11), совершен (10); ...из 7 букв: человек (27), приходи (22), станови (20), говорит (17), вспомни (15), нормаль, останов (14), осмотре, правиль (13), чувство, вспомин (12), смотрел, попроси, сигарет, обходим, интерес, человеч (11); истерик, рассказ, наверно (10); … из 6 букв: говори (38), чувств (32), станов (29), смотре (28), послед (27), приход (25), здоров (25), поэтом (24); ... из 5 букв: прост (97), говор (70), работ (52), смотр (47), опрос (43), казал (41), проси (36), остав (35), ходит (35), сказа (32).
Твой А.З.
17.10.06. Прочитал твои комменты. Интересно. Особенно там, где о сочетаниях букв, слогов и пр. Это очень интересная тема. Надо ее развить. Моя старая идея, что некоторые словосочетания зомбируют человека и превращают его в поклонника или антагониста пишущего. Причем плюс или минус здесь на важен. Важно достижение эффекта с помощью букв. Игорь.
Игорь и Таня Алексеевы все это время продолжали воевать с раком: Игорь стал называть себя не просто «великим русским поэтом», но «поэтом планетарного масштаба», он попал лонг-лист «Большой Книги», занимался блогерством на Би-Би-Си, писал мюзикл и суперроман, за которые планировал получить 3 млн. $. В последний раз мы видели Игоря около полминуты на Прощенное Воскресенье 9 марта 2008 года.
В аннотациях Игорь писал о себе (очевидно, это он считал важным) следующее. «Родился в 1959 г. в Ртищево, живет в Саратове, кандидат медицинских наук, член Союза писателей России, руководитель литературно-художественного сообщества «АРТ система», член редколлегии международного журнала «Дети Ра», участник форума «Поэтические пояса России», победитель конкурса им. Н.С. Гумилева 2006. Автор пяти поэтических книг: «Погода на февраль», «Желтая тетрадь», «Командир Пентагона», «Русский день», «Трамвай живых». Публикации Игоря – в московских журналах «Знамя», «Литературный арьергард» и «Футурум арт», германском «Крещатик», саратовском «Волга XXI век» и т.д.».
Игорь – «Антифауст» потому, что он отдал Богу и душу, и тело за талант, тогда как Фауст отдал Дьяволу душу за тело.
Метки: Игорь Алексеев, смерть
ВАЖНЕЙШИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОАНАЛИЗ

Метки: психоанализ
Вампиризм по Карен Хорни
Доклад на заседании Берлинско-Брандербургского отделения
Женской Медицинской Ассоциации Германии 20 ноября 1930 г. //
Карен Хорни. Женская психология. -
СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1993. - С. 79.




то есть ретенцией (задержкой прорезывания).
Метки: Хорни, Horney, вампиризм, клыки, дистопия, детская травма
ПОИСК БЫКА: ПРИТЧА О БЫКЕ И ПАСТУХЕ
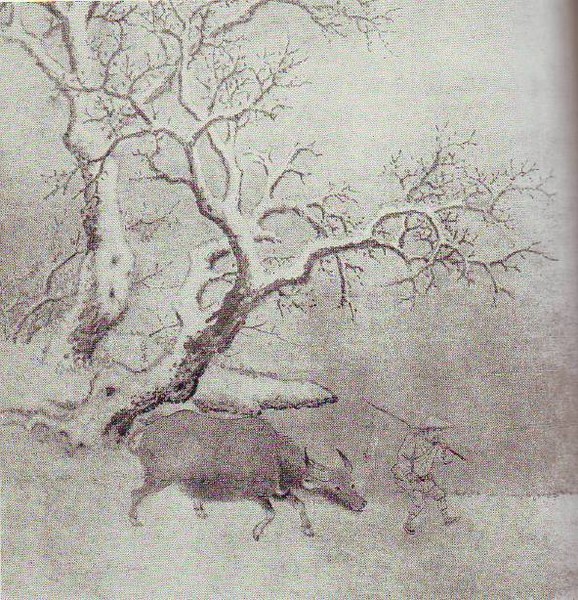
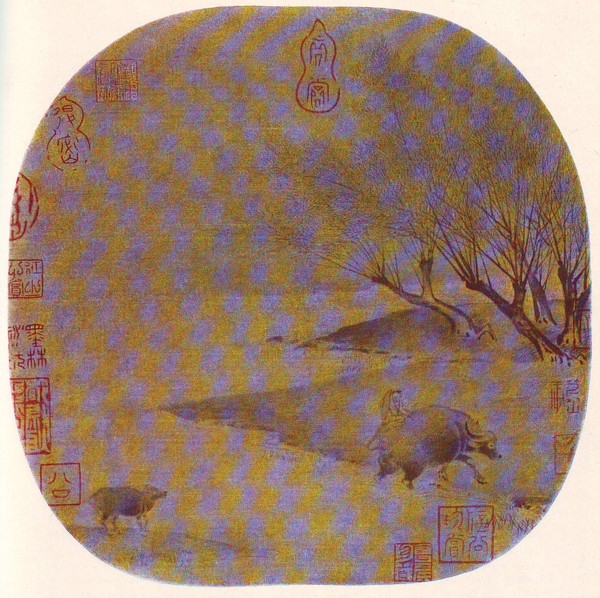
настроение: Занудное
Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка
9. Все вокруг остается таким, каково оно было и есть

До изучения дзен горы и реки – всего лишь горы и реки.
Во время изучения дзен они перестают быть реками и горами.
После достижения просветления они снова становятся горами и реками.
На что Мастер отвечает:
Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка
8. И пастух, и бык исчезают в пустоте
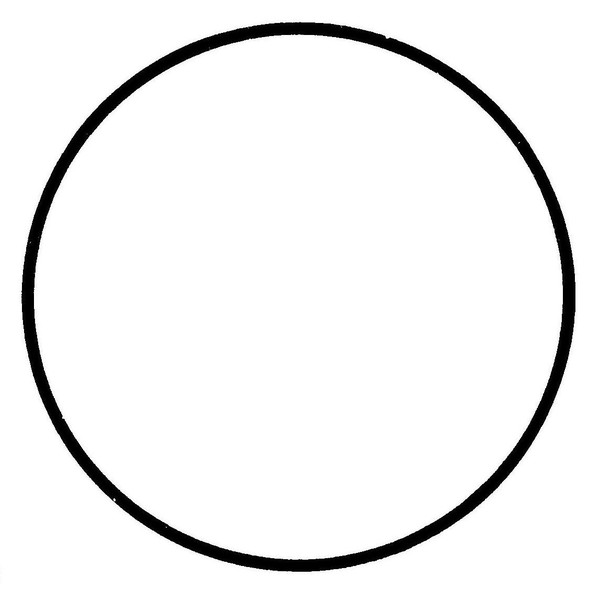
Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен
7. Пастуху больше не нужен бык и он забывает о нем

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка
6. Человек седлает быка

Пастух обретает полную уверенность и радость – он усаживается на спину вполне довольного быка и, играя на флейте, торжественно возвращается домой.
Теперь двое становятся одним: пастух начинает забывать о быке – он занят другим.
Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен
5. Человек ведет прирученного быка

Метки: Дзен, поиски быка, чань, дзэн, zen
4. Человек усмиряет быка

Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен
3. Человек видит хвост быка и бросается за ним

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка
2. Человек ищет следы быка

Метки: поиски быка, чань, дзэн, Дзен, zen
1. Пастух потерял своего быка

Метки: zen, Дзен, дзэн, чань, поиски быка
3D-Analysis of human skull: ossa faciei
Осуществлена разработка виртуальной трехмерной модели черепа человека с помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и анимации объектов – «3D Studio MAX». Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового черепа человека. Представляется, что результаты работы могут быть использованы для изучения пространственных отношений в мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. Разработано трехмерное моделирование костей лица, что может найти применение в восстановительной и реконструктивной хирургии опорных тканей лица. Создан видеоролик трехмерной модели черепа.
Результаты частично представлены на:
http://zaichenko1958.narod.ru/3d_analisys/3danalysis.htm
Популярная статья в газете "Известия":
www.izvestia.ru/science/article35350/
Ossa faciei: special coordinates of the craniometrical points and foramens were fixed using a craniostereometer, stereotopometrical analysis and reconstruction in Cartesian coordinates.
Кости лица: координаты краниометрических точек и отверстий установлены с помощью краниостереометра, стереометрический анализ и реконструкция в системе декартовых координат.
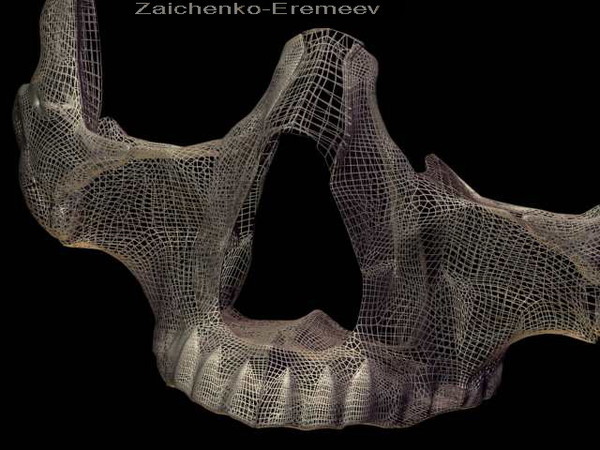


Метки: 3D-analysis, skull, cranium, ossa faciei, 3D-модель, череп, кости лица, биометрия
3D-Analysis of human skull: maxilla
Осуществлена разработка виртуальной трехмерной модели черепа человека с помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и анимации объектов – «3D Studio MAX». Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового черепа человека. Представляется, что результаты работы могут быть использованы для изучения пространственных отношений в мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. Разработано трехмерное моделирование костей лица, что может найти применение в восстановительной и реконструктивной хирургии опорных тканей лица. Создан видеоролик трехмерной модели черепа.
Результаты частично представлены на:
http://zaichenko1958.narod.ru/3d_analisys/3danalysis.htm
Популярная статья в газете "Известия":
www.izvestia.ru/science/article35350/
Maxilla: special coordinates of the craniometrical points and foramens were fixed using a craniostereometer, stereotopometrical analysis and reconstruction in Cartesian coordinates.


Метки: 3D-analysis, skull, cranium, maxilla, 3D-модель, череп, челюсть, лицо, биометрия
3D-Analysis of human skull: os zygomaticum
Осуществлена разработка виртуальной трехмерной модели черепа человека с помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и анимации объектов – «3D Studio MAX». Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового черепа человека. Представляется, что результаты работы могут быть использованы для изучения пространственных отношений в мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. Разработано трехмерное моделирование костей лица, что может найти применение в восстановительной и реконструктивной хирургии опорных тканей лица. Создан видеоролик трехмерной модели черепа.
Результаты частично представлены на:
http://zaichenko1958.narod.ru/3d_analisys/3danalysis.htm
Популярная статья в газете "Известия":
www.izvestia.ru/science/article35350/
Os zygomaticum: special coordinates of the craniometrical points and foramens were fixed using a craniostereometer, stereotopometrical analysis and reconstruction in Cartesian coordinates.
Скуловая кость: координаты краниометрических точек и отверстий установлены с помощью краниостереометра, стереометрический анализ и реконструкция в системе декартовых координат.
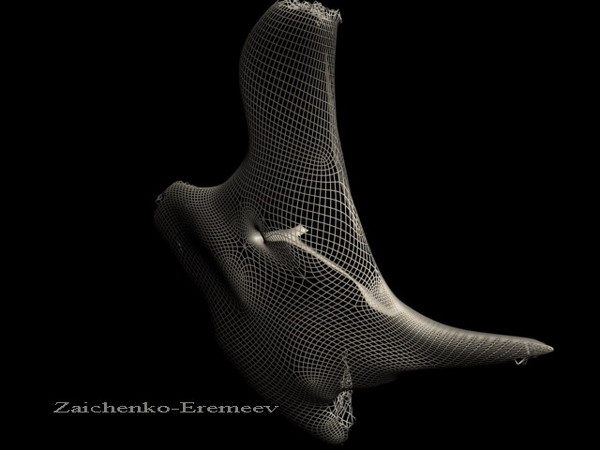

Метки: 3D-analysis, skull, cranium, zygomaticum, 3D-модель, череп, скуловая, лицо, биометрия
ТЕМПЕРАМЕНТ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Разработка вопроса о связях психики и сомы (телосложения, пальцевых узоров, групп крови) может сыграть ведущую роль в составлении гипотетического психологического портрета подозреваемого и может быть полезна для установления психологического контакта с подозреваемым или обвиняемым при проведении следственных действий. Проблема психобиометрических корреляций тесно связана и с использованием биометрии в паспортном контроле, когда представляет интерес не только идентификация личности, но и идентификация психофизиологического статуса на основе биометрических данных.
Связи нейродинамической, психодинамической и дерматоглифической конституций обусловлена тем, что эпидермис и нервная ткань имеют общий источник развития в эмбриогенезе – эктодерму, в связи с чем можно предположить, что форма пальцевых узоров маркирует темпы роста нервной ткани, а свойства нервной системы, в свою очередь, тесно связаны с типом темперамента. Кроме того, связь темперамента и дерматоглифики предположительно определяется тем, что гены, контролирующие телосложение, контролируют, кроме того, и развитие мозга, нейромедиаторов и эндокринной системы, определяющих темперамент, или же возможно существование отдельных генов для каждого признака, которые тесно сцеплены между собой.
Среди пальцевых узоров дистальных фаланг петлевой рисунок коррелирует с такими проявлениями темперамента как низкий уровень активности поведения, медлительность, не склонность к аффектам, настойчивость, упорство, глубина чувств; рисунок в виде дуги связан с глубиной и устойчивостью чувств при слабом их выражении, трудностями в сосредоточении, нерешительностью, застенчивостью, не соответствием реакции силе раздражителя; завитковый узор имеет тенденцию к взаимосвязи с подвижностью, повышенной возбудимостью, яркостью эмоциональных переживаний [Богданов 2002: 129–144]. Среди людей с дуговыми узорами на указательном и среднем пальцах левой руки значительно больше открытых и правдивых, чем среди лиц с завитками на этих пальцах, которым больше свойственны скрытность и меньшая сентиментальность [Shaefer, Persinger 1982: 1021–1022]. Выявлена связь сочетания паппилярных узоров и риска формирования различных форм девиантного поведения. В частности, обнаружена связь высокой частоты встречаемости завитковых узоров у осужденных и деформаций в нравственной сфере [Jaquin 1934: 44–48]. У серийных убийц выявлен редкий тип ассиметрии в распределении узоров различной сложности с преимущественным расположением узоров большей сложности на пальцах правой руки [Богданов, Самищенко, Хвыля–Олинтер 1998: 67]. Поскольку описанные дерматоглифические картины являются вариантом нормы, решение проблемы профилактики девиантного поведения может быть осуществлено именно усилиями психологов, которые должны определить, в чем особенности психологического статуса этих людей и в чем причины риска развития отклонений в поведении.
Целью работы явилось изучение особенностей и связей темперамента, агрессии и пальцевых узоров мужчин, осужденных за насильственные преступления.
Исследование проводилось на базе исправительной колонии №33 (Саратовская область) и Саратовского государственного социально–экономического университета. Исследуемая группа включала 42 мужчин 27,6±0,9 лет, осужденных за насильственные преступления, контрольная группа – 33 юношей 19,2±0,9 лет (студентов СГСЭУ). В качестве психологических методик были использованы тест Айзенка EPQ, тест Кейрси, опросник А.Басса–А.Дарки, проективная методика «Hand–test». Произведено выделение крайних групп по уровню экстраверсии, нейротизма, психотизма и агрессии среди осужденных: от M–3s до M–0,67s и от M+0,67s до M+3s (где s – среднее квадратическое отклонение). Проводили измерения длины и веса тела, проводили дерматоскопию с выделением следующих типов узоров – дуга (А), завиток (W), ульнарная петля (LU) и радиальная петля (LR), рассчитывали дерматоглифические индексы Данкмейера, Пола, Фуругаты и Гайпеля.
Длина тела осужденных (172,4±1,2 см) достоверно ниже, чем юношей контрольной группы (179,9±1,0 см) (t=4,5, p<0,001). Уровень психотизма в группе осужденных (9,8±0,6) достоверно выше, чем контрольной группе (7,4±0,5) (t=3,1, p<0,01), при некоторой тенденции к более низкой экстраверсии и более высокому нейротизму в группе осужденных. В группе осужденных по сравнению с контрольной группой отмечается относительно низкая частота простого редкого узора «дуга», редкого узора «радиальная петля» и, напротив, относительно высокая частота сложного узора «завиток». Отмечаются различия между исследуемой и контрольной группами по распределению узоров по пальцам. В обеих группах узор «ульнарная петля» чаще встречается на 5-м и 3-м на правой руке, «завиток» – на 4-м пальце обеих рук. В группе осужденных радиальные петли и дуги преобладают на 2-м и 3-м пальцах. Рассмотрена встречаемость различных сочетаний узоров на 10 пальцах. Из 14 возможных вариантов в группе осужденных не обнаружено 6 сочетаний: A–LR, A–W, LU, LR, W–LR, A–LR–W; в группе студентов не обнаружено 5 сочетаний: A–LR, LU–LR, A, LR, LR–W. Как в группе осужденных, так и в контрольной группе отмечены положительные корреляции дерматоглифических индексов правых и левых ладоней. У студентов: индексов Пола (r=+0,544±0,130, t=4,2, p<0,001), индекс Фуругаты (r=+0,644±0,108, t=5,9, p<0,001), индекс Гайпеля (r=+0,698±0,095, t=7,3, p<0,001) правых и левых ладоней. У осужденных: индексов Данкмейера (r=+0,899±0,029, t=30,4, p<0,001), индекс Полла (r=+0,912±0,026, t=35,2, p<0,001), индекс Гайпеля (r=+0,832±0,047, t=17,61, p<0,001), индекс Фуругаты (r=+0,397±0,130, t=3,1, p<0,01) правых и левых ладоней. Кроме того, в группе осужденных отмечена положительная корреляция индекса Данкмейера и индекса Полла (r=+0,674±0,084, t=8,0, p<0,001). Таким образом, положительная корреляция дерматоглифических индексов правых и левых ладоней более выражена у осужденных. Установлено, что в группе осужденных с низкой длиной тела пальцевой узор «радиальная петля» не встречается на левой руке. Как в группе осужденных, так и в контрольной группе имеют место положительные корреляции уровней психотизма и агрессии (соответственно r=+0,3420,171, t=1,9, p>0,05 и r=+0,353±0,176, t=2,4, p<0,05). В группах осужденных и студентов выявлена связь экстраверсии и уровня агрессии (соответственно r=+0,451±0,162, t=2,8, p<0,05 и r=+0,573±0,154, t=3,7, p<0,01). В группе осужденных выявлены отрицательные корреляции нейротизма с длиной тела на грани со статистической достоверностью (r=−0,333±0,172, t=1,9, p>0,05). В контрольной группе также имеет место положительная корреляция нейротизма и встречаемости самого сложного узора – «завиток» (r=+0,429±0,170, t=2,5, p<0,05). В группе студентов отмечается отрицательная корреляция нейротизма и частоты самого распространенного («банального») узора «ульнарная петля» (r=−0,319±0,179, t=1,8, p>0,05), а так же обнаружена взаимосвязь экстраверсии и самого редкого узора «радиальная петля» (r=0,315±0,179, t=1,8, p>0,05). В контрольной группе отмечается положительная корреляция нейротизма с индексом Гайпеля (r=+0,321±0,167, t=1,9, p>0,05) и отрицательная с индексом Полла (r=–0,319±0,167, t=1,9, p>0,05). То есть, уровень нейротизма тем выше, чем сложнее узор, а так же чем более сложен узор на первых трех пальцах и чем менее сложен на четвертом и пятом пальцах. Отмечается достоверно большая частота встречаемости узора «завиток» (pw=0,5, td=3,17) в группе с низким уровней экстраверсии и большая частота встречаемости узора «ульнарная петля» (pw=0,6, td=2,30) в группе с высоким уровнем экстраверсии. В группе с высоким уровнем нейротизма на грани со статистической достоверностью чаще встречаются дуги (pw=0,18, td=2,31), в группе с низким уровнем нейротизма – достоверно чаще ульнарные петли (pw=0,32, td=3,02). Выявлено, что в группе с высоким уровнем агрессии чаще встречаются дуги (pw=0,18, td=3,65). В качестве маркеров уровня экстраверсии и нейротизма наиболее информативной является встречаемость самых «банальных» и самых сложных узоров (ульнарной петли и завитка). В качестве маркеров уровня экстраверсии максимальную информативность имеет встречаемость этих узоров на 3-м пальце левой руки. Так, при низком уровне экстраверсии встречаемость узора «ульнарная петля» на 3 пальце левой руки достоверно ниже, чем при высоком (соответственно plu=0,25, plu=0,75, td=2,16, p<0,05). И, напротив, при низком уровне экстраверсии частота встречаемости завитков достоверно выше, чем при высоком (соответственно pw=0,625, pw=0,125, td=2,25, p<0,05). В качестве маркеров уровня нейротизма максимальную информативность имеет встречаемость ульнарных петель на 1-м пальце правой руки. Ульнарные петли встречаются достоверно чаще на 1-м пальце правой руки при низком уровне нейротизма, чем при высоком и среднем (соответственно plu=0,833, plu=0,167, td=2,82, p<0,05 и plu=0,833, plu=0,250, td=2,75, p<0,05). В отличие от типичного распределения пальцевых узоров по пальцам в исследованной группе осужденных отмечаются следующие редко встречающиеся варианты и их сочетания. Радиальная петля на правой руке чаще встречается на III и IV пальцах, у одного – радиальная петля на III пальце, на левой руке этот узор чаще встречается на V пальце (V>III>IV). Завиток относительно часто встречается на V пальце, на левой руке его частота не убывает в ульнарном направлении. У трех исследуемых завиток встречается на 10-ти пальцах, еще у 3 на 9-ти пальцах (по статистике, завиток на 10-ти пальцах встречается у 3% людей). У 1 из исследуемых дуга встречается на 10-ти пальцах (по статистике, – у 0,3% людей), 5 и более дуг встречается у 4 осужденных. Считается, что некоторые из подобных случаев требуют тщательного обследования для исключения хромосомной патологии.
Полученные данные о более высоком уровне психотизма в группе осужденных за насильственные преступления относительно контрольной группы с учетом классического определения психотизма по Айзенку свидетельствуют, что в исследуемой группе более выражена склонность к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Данные о более высокой частоте встречаемости узора «завиток» в группе осужденных подтверждают результаты исследований Н. Джэкуина [Jaquin 1934: 44–48]. Учитывая, что длина тела осужденных достоверно ниже длины тела юношей контрольной группы, а встречаемость узора «дуга» выше в группе студентов, можно констатировать наличие связи между снижением сложности пальцевых узоров в направлении завиток – дуга и увеличением длины тела, что также совпадает с результатами более ранних исследований [Сергиенко 1990: 108–109]. Данные о более высокой встречаемости в группе осужденных узора «дуга» на 2-х пальцах обеих рук подтверждает более ранние результаты [Никитюк, Чистикин 1996: 169–178]. Как в группе осужденных, так и в контрольной группе имеют место положительные корреляции уровней экстраверсии и психотизма и уровня агрессии. Действительно, экстраверсия подразумевает некоторую долю агрессии в поведении. Так, экстравертированный человек импульсивен, вспыльчив, склонен к рискованным поступкам, имеет тенденцию к агрессивности. Его чувства и эмоции не имеют строгого контроля. Психотизму по определению присущи агрессивные черты, т.к. подразумевает под собой склонность к асоциальному поведению, высокой конфликтности и неадекватности эмоциональных реакций. Данные об отрицательной связи нейротизма и длины тела осужденных, как следует из определения нейротизма, указывают на то, что чем ниже длина тела, тем субъект более склонен к эмоциональной неустойчивости, чувству вины и беспокойства, депрессивным реакциям, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Обнаруженные положительная корреляция нейротизма и встречаемости самого сложного узора – «завиток» и отрицательная корреляция нейротизма и частоты самого распространенного («банального») узора «ульнарная петля» подтверждают сведения о том, что уровень нейротизма тем выше, чем сложнее узор [Богданов 2002: 129–144].
Таким образом, выявлены следующие «психо-дерматоглифические» связи («регулярности»):
высокий уровень экстраверсии – высокая встречаемость узора «ульнарная петля» и низкая встречаемость узора «завиток»;
низкий уровень экстраверсии – высокая встречаемость узора «завиток» и низкая встречаемость узора «ульнарная петля» на 3-м пальце левой руки;
высокий уровень нейротизма – высокая встречаемость узора «дуга» и низкая встречаемость узора «ульнарная петля»;
низкий уровень нейротизма – высокая встречаемость узора «ульнарная петля» на 1-м пальце правой руки;
высокий уровень агрессии – высокая встречаемость узора «дуга».
Литература1. Богданов Н.Н. Второе лицо. Заметки о дерматоглифике // Человек. – 2002. – №5. – С. 129–144.
2. Богданов Н.Н., Самищенко С.С., Хвыля–Олинтер А.И. Дерматоглифика серийных убийц // Вопросы психологии. – 1998. – №4. – С. 67.
3. Никитюк Б.А., Чистикин А.Н. Дерматоглифические особенности у представителей отдельных социальных групп // Российские морфологические ведомости. – 1996. – № 2(5). – С. 169–178.
4. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор: дерматоглифика и длина тела человека // Новости спортивной и медицинской антропологии. – 1990. – №2. – С. 108–109.
5. Jaquin N. The Hand of Man. – London: Faber & Faber Ltd., 1934. – Р. 44–48.
6. Shaefer D., Persinger M.A. Finger prints and personality scores // Percept and Mot. Skills. – 1982. – Vol. 54., N. 3. – Pt. 1. – P. 1021–1022.
Метки: конституция, темперамент, личность, телосложение, дерматоглифика, осужденные, Преступления, биометрия, Айзенк, агрессия
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ
Донозологическая диагностика и выявление групп риска развития психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ – важная современная проблема наркологии [Иванец 2002: 2-7]. При этом считается, что лишь антисоциальное и, возможно, пограничное личностные расстройства являются факторами предрасположенности к злоупотреблению психоактивными веществами. При этом у большинства лиц с алкогольной зависимостью эти расстройства отсутствуют, как и различия по личностным параметрам между лицами с алкогольной зависимостью и без нее, в связи с чем выделить личностные факторы, которые бы могли служить предикторами развития зависимости от алкоголя, очень трудно [Shuckit, Klein, Twitchell et al. 1996: 28-29].
То есть вероятность развития алкоголизма одинакова для людей с самыми разными личностными особенностями, а выделение основных типов личности больных алкоголизмом [Блейхер, Крук 1986: 121-152] производится уже в условиях сформировавшейся зависимости.
При этом еще Эрнст Кречмер и Фердинанд Керер [Kretschmer, Kehrer 1924: 20-428] описывали конституциональную предрасположенность к различным вариантам употребления алкоголя и развитию алкоголизма. Эти взгляды получили развитие в исследованиях видных представителей конституционального направления российской психиатрии [Андреев 1926: 114-126; Ксенократов 1926: 13–15; Жислин 1935: 113-114]. С одной стороны, в настоящее время в русле клинической антропологии проводятся ис¬следования связи частной соматической конституции (телосложения) и психичес¬ких заболеваний [Корнетов 1991: 41-47], в частности алкоголизма [Губерник 1991: 19-24]. С другой стороны, изучаются особенности частной дерматоглифической конституции лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ [Ким, Тупицына, Гнусарева 2005: 53-55] и, в частности, синдромом зависимости от алкоголя [Станкушев, Спасов 1978: 27-32; Гусева, Сорокина, Скугаревская 1981: 85-89; Гусева И.С., Сорокина Т.Т., Солодкая Т.Л. и др. 1990: 10-13; Солодкая 1998: 153-160; Гасан-заде 1999: 35-38]. Однако работ, посвященных комплексному исследованию личностных и конституциональных (соматотипических и дерматоглифических) особенностей лиц с синдромом зависимости от алкоголя в доступной литературе нам обнаружить не удалось.
Целью работы явилось изучение особенностей и расстройств личности, их связей с частными соматической и дерматоглифической конституциями лиц с синдромом зависимости от алкоголя.
Исследование проводилось на базе отделения наркологии Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии. Основную группу составили 21 мужчин 33,6±1,8 лет − пациенты СОПБ с диагнозом «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя; синдром зависимости от алкоголя, в настоящее время − воздержание в условиях, исключающих употребление алкоголя». Контрольная группа включала 22 мужчин 28,4±0,9 лет, не имеющих алкогольной зависимости и не состоящих не учете у нарколога (жители города Саратова).
Методический аппарат исследования составили: MMPI, тематический апперцептивный тест Меррея и полустандартизированные интервью, предназначенные для психоаналитической диагностики личности [Мак-Вильямс 2004: 191-444] и диагностики специфического расстройства личности (F60.0-F60.9 по МКБ-10). Производили измерения тотальных размеров тела – длины тела, массы (веса) тела и окружности грудной клетки. Рассчитывали отношение массы тела к его длине и окружности груди, которое является простым и универсальным показателем плотности и массивности тела. Вычисляли индекс Ливи-Бругша, характеризующий пропорции тела по шкале узкосложенности−широкосложенности, и индекс Пинье, описывающий телосложение между полюсами астеничности−гиперстеничности (пикничности). Проводили дактилоскопию с выделением традиционных типов пальцевых узоров − дуга (А), завиток (W), ульнарная петля (LU) и радиальная петля (LR), рассчитывали дерматоглифические индексы Данкмейера, Полла, Фуругаты и Гайпеля.
В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению с контрольной группой достоверно выше уровни психастении (соответственно 49,3±2,6 и 41,4±1,3; t=6,3; p<0,001), шизоидности (59,1±2,5 и 47,5±1,9; t=3,6; p<0,01) и паранойяльности (61,2±3,3 и 45,7±2,8; t=3,6; p<0,01).
Проведение диагностического интервью, основанного на типологии личности по Н. Мак-Вильямс, демонстрирует следующие результаты. В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя 6 обследуемых имеют шизоидную организацию личности, 5 − параноидную, 3 – маниакально-депрессивную, 2 − психопатическую, 1 − истерическую. У 2 обследуемых организация личности близка одновременно к истерической и мазохистической, у 1 − к шизоидной и обсессивно-компульсивной. В контрольной группе выявлено 8 обследуемых с маниакально-депрессивной организацией личности, 4 − с нарциссической, 3 − с психопатической, 1 − с параноидной. Организация личности 2 обследуемых близка к шизоидной, 3 − к обсессивно-компульсивной и 1 – как к депрессивной, так и к мазохистической.
По результатам диагностического интервью, основанного на рубриках МКБ−10, обнаружено, что среди лиц с синдромом зависимости от алкоголя состояние 2 обследуемых отвечает критериям специфических расстройств личности, а именно − параноидного (F60.0) и истерического (F0.4). В контрольной группе лиц со специфическими расстройствами личности не обнаружено.
В группе лиц с синдромом зависимости потребность в достижении отрицательно коррелирует с уровнями депрессии (r=−0,496±0,165; t=3,0; p<0,05), ипохондрии (r=−0,472±0,170; t=2,8; p<0,05) и истерии (r=−0,376±0,187; t=2,1; p<0,05), а уровень депрессии – положительно со степенью выраженности потребностей в понимании (r=0,421±0,180; t=2,3; p<0,05) и противодействии (r=0,419±0,180; t=2,3; p<0,05). В контрольной группе обнаружены отрицательные связи шизоидности с потребностями в эксгибиции (r=−0,448±0,174; t=2,6; p<0,05), избегании ущерба (r=−0,481±0,168; t=2,9; p<0,01), понимании (r=−0,590±0,142; t=4,1; p<0,001) и положительная связь уровня шизоидности с потребностью в агрессии (r=0,399±0,183; t=2,2; p<0,05). Гипомания положительно коррелирует с потребностями в достижении (r=0,539±0,155; t=3,5; p<0,01) и избегании ущерба (r=0,446±0,175; t=2,6; p<0,05) и отрицательно – с потребностями в агрессии (r=−0,387±0,186; t=2,1; p<0,05) и поддержке (r=−0,403±0,183; t=2,2; p<0,05). Выявлены положительные корреляции ипохондрии с потребностью в самоунижении (r=0,381±0,187; t=2,0; p<0,05), паранойяльности − с потребностью в чувственных впечатлениях (r=0,405±0,182; t=2,2; p<0,05). Истерия положительно коррелирует с потребностью в понимании (r=0,407±0,182; t=2,2; p<0,05) и отрицательно – с потребностью в агрессии (r=−0,440±0,176; t=2,5; p<0,05). Уровень психастении положительно коррелирует с потребностью в отвержении (r=0,401±0,183; t=2,2; p<0,05) и отрицательно – с потребностью в аффилиации (r=−0,501±0,163; t=3,1; p<0,01). Обнаружена отрицательная корреляция депрессии с потребностью в избегании (r=−0,424±0,179; t=2,7; p<0,05).
У лиц с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению с мужчинами контрольной группы длина и масса (вес) тела ниже, (соответственно 176,8±1,7 см и 185,1±2,3 см; t=3,0; p<0,01; 70,5±1,4 кг и 78,1±2,0 кг; t=3,2; p<0,01) и выше значение индекса Ливи−Бругша (51,3±1,1 и 46,8±0,8; t=3,3; p<0,01).
В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя обнаружена положительная связь длины тела с ипохондрией и шизоидностью (соответственно r=0,403±0,187; t=2,2; p<0,05 и r=0,478±0,173; t=2,8; p<0,05). В контрольной группе выявлена положительная связь гипомании и веса тела (r=0,399±0,183; t=2,2; p<0,05), а также отрицательная связь ипохондрии и окружности грудной клетки (r=−0,412±0,181; t=2,3; p<0,05).
В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению с контрольной группой отмечается относительно высокая частота встречаемости сложного узора «завиток» (0,295±0,032 и 0,173±0,026; t=3,0; p<0,01), при этом завитки чаще встречаются на IV пальце в основной группе и на III − в контрольной. В обеих группах узор «дуга» чаще встречается на II пальце левой руки, а узор «ульнарная петля» − на I пальце обеих рук в группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя и на I пальце левой руки – в контрольной группе. Радиальные петли в обеих группах преобладают на II пальце (в основной группе на правой руке не встречается). Как в основной, так и в контрольной группе отмечены положительные корреляции дерматоглифических индексов правых и левых ладоней.
В контрольной группе выявлено значительное количество «дермато-соматических» корреляций, тогда как в основной группе обнаружена положительная корреляция лишь индекса Полла и длины тела (r=0,454±0,178; t=2,6; p,0,05).
В обеих группах обнаружена положительная корреляция уровня гипомании и сложности пальцевого узора. В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя уровень шизоидности тем выше, чем проще пальцевой узор, чем менее он сложен на IV и V пальцах и более сложен узор на I, II III. В контрольной группе выявлено, что уровень психопатии тем выше, чем проще пальцевой узор, при этом обнаружена связь ипохондрии и степени асимметрии пальцевых узоров (r=0,393±0,185; t=2,1; p<0,05). При выделении в группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя крайних групп по уровням паранойяльности и шизоидности – от M–3s до M–0,55s и от M+0,55s до M+3s (где s – среднее квадратическое отклонение) – отмечается большая частота встречаемости узора «дуга» (p=0,14±0,03, t=2,2; p<0,05) в группе с высоким уровнем паранойяльности и узора «ульнарная петля» (p=0,66±0,07; t=2,5; p<0,05) в группе с низким уровнем шизоидности.
Таким образом, обнаружена определенная специфика особенностей и расстройств личности, телосложения, пальцевых узоров и их связей у лиц с синдромом зависимости от алкоголя.
Список использованной литературы
Андреев М.П. Взаимоотношения психического склада и телосложения. Клинико-антропологическое исследование // Работы психиатрической клиники Казанского Государственного университета. Вып. 1. – Казань: Изд-во Казанского Гос. ун-та, 1926. – С. 114-126.
Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. – Киев: 3доров'я, 1986. – 280 с.
Гасан-заде Н.Ю. Скорость формирования алкоголизма в зависимости от ряда психоконституционных особенностей // Вопросы наркологии. – 1999. – № 3. – С. 35-38.
Губерник В.Я. Клинико-конституциональные закономерности течения алкоголизма // Актуальные вопросы медицинской и клинической антропологии: Материалы межреспубликанского научного симпозиума (апрель 1991 г., г. Томск). – Томск, 1991. – С. 19-24
Гусева И.С., Сорокина Т.Т., Скугаревская Е.И. Особенности папиллярного узора у мужчин, больных хроническим алкоголизмом // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсака. – 1981. – Т. 81, вып. 2. – С. 85-89.
Гусева И.С., Сорокина Т.Т., Солодкая Т.Л. и др. Симметрия пальцевых узоров у больных алкоголизмом мужчин // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 2. – С. 10-13.
Жислин С.Г. Об алкогольных расстройствах: клинические исследования. – Воронеж, 1935. – С.113-114.
Иванец Н.Н. Современные проблемы наркологии // Наркология. – 2002. – № 6. – С. 2-7.
Ким В.В., Тупицына Л.С., Гнусарева Е.С. Особенности пальцевой дерматоглифики у мужчин, систематически употребляющих психоактивные вещества // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – № 8. – С. 53-55.
Корнетов Н. А. Клиническая антропология: Теоретический подход и основные принципы // Актуальные вопросы медицинской и клинической антропологии: Материалы межреспубликанского научного симпозиума (апрель 1991 г., г. Томск). – Томск, 1991. – С. 41-47.
Ксенократов М. Н. Зависимость течения психозов от генной структуры // Современная Психоневрология. – 1926. – №4. – С.13–15.
Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. − М.: Независимая фирма «Класс», 2004. − 480 с.
Солодкая Т.Л. Некоторые особенности дерматоглифики у больных хроническим алкоголизмом // Алкогольная интоксикация и зависимость: Механизмы развития, диагностика, лечение. − Минск: Беларусь, 1998. − С.153-160.
Станкушев Т., Спасов С. Проучвания върху половия хроматин и дерматоглифски изследования при алкохолно болни // Журн. неврол., психиатр. и нейрохир. (София). − 1978. − №1. − С. 27-32.
Kretschmer E., Kehrer F. A. Die Veranlagung zu seelischen Störungen. – Berlin: Springer, 1924. – 428 S.
Shuckit M.A., Klein J., Twitchell G. et al. Показатели личностных тестов как предикторы развития алкоголизма в течение последующих почти 10 лет // Ежегодник: статьи из ежегодного издания по психиатрии и психическому здоровью. − 1996. − №.4. − С.28-29.
Метки: личность, алкоголизм, телосложение, дерматоглифика, MMPI, биометрия, психология, психиатрия, наркология, конституция
ПОСТМОДЕРН И ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. Часть 2
ОКОНЧАНИЕ
Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: психотерапевтическая ризома // Человек и социум в трансформирующемся мире: cборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Саратов, 29-30 мая 2006 г.). – Вып.2. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С. 118-120.
Зайченко А.А. Психотерапия XXIвека: эклектическая модель // Молодежь и наука: итоги и перспективы: Материалы межрегиональной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. – Саратов, 22-24 ноября 2006 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2006. – С. 34.
Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия: ответ на вызов эпохи постмодерна // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 28-29 ноября 2006 года. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2006. – С.130-133.
Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 1 марта 2007 г.: Сборник научных трудов. Вып. 5. – Саратов, 2007. – С. 27-35.
Зайченко А.А. Постмодерн и эклектическая психотерапия // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 2. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С.116-125.
В монографии И.П. Ильина «Постмодернизм: от истоков до конца столетия» (1998)[i] нарративная перспектива в психологии прослеживается от «лакановского лингвистического поворота в психологии» до Кевина Мюррея, а в книге «Теория и практика семейной психотерапии» Дж. Браун, Д. Кристенсен (Joseph H. Brown, Dana N. Christensen, 2001)[ii] значительное внимание уделяют теоретическим подходам, сформировавшимся уже в эпоху постмодерна, в частности – конструктивизму, нарративной психотерапии и др.
Семейный психотерапевт Паола Бостон (Paula Boston, University of Leeds) в статье «Системная семейная психотерапия и влияние постмодернизма» (2000)[iii], обсуждая значимость постмодернизма для психотерапии, описывает две модели системной терапии: «постмодернистскую модель», принадлежащую T. Andersen и H. Goolishian (1988, 1992)[iv], и «модель нарративной психотерапии», принадлежащую M. White, D. Epston (1990)[v].
Выделяются следующие компоненты постмодернистской психотерапии:
1) терапевт – «участник-распорядитель» разговора (а не «специалист»);
2) язык (а не стиль взаимодействия) играет роль системы;
3) смысл и понимание доступны благодаря постоянным усилиям;
4) сложности создаются в системе языка и могут «растворяться» благодаря языку;
5) изменения происходят благодаря развитию нового языка;
6) для получения комментариев и участия в совместном создании альтернативных смыслов используются «рефлексирующие бригады».
Структура психотерапии в большей степени представлена налаживанием определенного типа беседы между ее участниками. Основной вклад терапевта в процесс изменения состоит в конструировании определенного стиля беседы. Терапевт занимает рефлексирующую и молчаливую позиции, стараясь не поддаваться предложениям взять на себя роль «знающего». Задаваемые вопросы мягко и осторожно направлены на расширение и открытие смыслов. Совет в отношении какой-либо конкретной проблемы можно предлагать лишь как некоторые из множества возможных идей. Терапевт с пониманием относится к тому, что какая-то информация окажется несовместимой с опытом клиента, уважительно и с интересом воспринимает его мысли и реакции. Во время «бесед рефлексирующей бригады» ее члены разговаривают друг с другом перед семьей. Они развивают и проясняют темы, прозвучавшие во время сеанса, предлагают идеи, появившиеся у них во время слушания, а также активно реагируют на смыслы, выявленные в результате беседы. После этого члены семьи и терапевт вправе проигнорировать, отбросить или более детально развить эти темы.
Представляется, что нарративная модель семейной психотерапии еще в большей степени, чем постмодернистская, заимствована у структуралистов (концепция деконструкции Derrida, идеи Foucault о доминирующих и подчиненных дискурсах, исследования Bruner и Luciarello в отношении значения структуры повествований в создании смыслов).
«Появление бесконечного числа направлений психотерапии, каждое из которых претендовало на уникальность и превосходство, поставило психотерапию в затруднительное положение», – пишет Джон К. Норкросс (2000)[vi]. Одна из самых ранних попыток интеграции психотерапевтических направлений была предпринята в 1932 г., когда Т.М. Френч передал в Американскую психиатрическую ассоциацию рукопись, где шла речь о связи вытеснения с угашением и торможением. Спустя два года Л.С. Куби опубликовал статью, в которой утверждал, что эффективность определенных аспектов психоаналитической техники может быть объяснена с помощью условных рефлексов[vii]. Как считает С.А. Кулаков (2004)[viii], в эпоху постмодерна интегративные тенденции в психотерапии значительно усилились. Однако, как указывает автор «Учебника эклектической психотерапии» Джон Норкросс (Norcross J. C., 1986)[ix], в психотерапии существуют принципиальные различия между интеграционизмом, означающим мультитеоретическую конвергенцию, «объединение частей в целое», и эклектизмом, который характеризует как стремление «к широкому подходу в клинической работе, основанному на доказанной [технической] эффективности». Реальность интеграции концепций психодинамической, бихевиористской теорий и теории систем в своем «интегративно-психодинамическом подходе» декларирует Пол Л. Уочтел (Wachtel P.L., 2000)[x]. Джон К. Норкросс (2000) предпочитает называть свой подход «эклектическо-интегративной психотерапией»[xi]. Эклектизм представляет собой метод или практику «выбора из различных систем того, что представляется лучшим» («Университетский словарь Вэбстера»)[xii], или «выбор того, что представляется лучшим из различных источников, систем или стилей» («American Heritage Dictionary»)[xiii]. Эклектизм в психотерапии, кроме того, «признает разнообразие и многомерность процессов изменения»[xiv]. Психотерапия эклектична по своей сути[xv]. Во всяком случае, большинство современных психотерапевтических подходов могут без сомнения отнесены к эклектическим[xvi].
Одним из таких подходов является «могут без сомнения отнесены к эклектическимменных психотерапевтических подходов мультивариантная эклектическая психотерапия» Сола Л. Гарфилда (Garfield S. L., 2000)[xvii]: Гарфилдопределяет психотерапию как«планируемый межличностный процесс, в ходе которого человек с меньшими нарушениями (психотерапевт) пытается помочь человеку, испытывающему более серьезные нарушения (клиенту), решить его проблемы»[xviii]. При этом, пишет Гарфилд, «не столь уж важно, какое именно объяснение или интерпретацию предлагает психотерапевт. Важно другое: имеют ли предлагаемое объяснение или интерпретация смысл для данного клиента и принимаются ли они им. Фактически не существует единственного правильного объяснения». В связи с этим не удивительно, что «при последнем опросе клинических психологов, психиатров, супружеских и семейных терапевтов, проведенном в США, 68% опрошенных сообщили, что они придерживаются эклектической ориентации». Автор предполагает, «что большинство психотерапевтов-эклектиков выбирают эклектический образ жизни по одной из двух следующих причин: это или те, кто разочаровался в том или ином подходе, или же те, кто чувствует, что эклектизм – лучший способ приспособить психотерапевтические процедуры к потребностям клиента». Гарфилд констатирует, что в его случае «имели место обе причины, но на меня произвело большое впечатление также предположение о том, что существуют факторы, общие для различных форм психотерапии»[xix]. К этим факторам автор относит психотерапевтические отношения, поддержку и интерес со стороны психотерапевта, пробуждение надежды, эмоциональную разрядку, объяснения; восприятие клиентом психотерапевта как компетентного человека; мотивацию клиента и его желание сотрудничать с психотерапевтом; надежды клиента, связанные с психотерапией. «Другим обстоятельством, оказавшим на меня большое влияние в начале моего профессионального пути, – пишет Гарфилд, – было явное расхождение между тем, что тот или иной психотерапевт говорил о том, что он делает в ходе психотерапии, и тем, что происходит в действительности».
Ларри Бойтлер (Beutler L.Е., 2000) в своей «систематической эклектической психотерапии»[xx] утверждает: «поскольку психотерапия представляет собой процесс открытого или скрытого убеждения, наиболее эффективно мы можем учить тому, в чем убеждены сами. Было бы бессмысленным требовать от всех психотерапевтов одинаковых взглядов на мир и одной и той же философии жизни, для того чтобы заниматься систематической эклектической психотерапией. Вот почему приветствуется многообразие теоретических ориентаций». При этом «клиницисты нуждаются в первую очередь в аспектах теории, представляющих собой сплав какой-либо формальной теории, которой отдается предпочтение, с их личной философией жизни».
Интегративно-эклектический подход превратился в ясно очерченную сферу психотерапии в последние десятилетия. Дж. Прохазка и Дж. Норкросс (2005)[xxi] связывают это со следующими факторами:
1) количественный рост разных видов терапии;
2) несостоятельность любой отдельно взятой теоретической системы в применении ко всем пациентам и проблемам;
3) внешние социально-экономические обстоятельства (в частности, информированные потребители и страховая медицина);
4) растущая популярность краткосрочного, сфокусированного на проблеме, лечения;
5) возможность наблюдать за разными методами психотерапии и экспериментировать с ними;
6) сходство в психотерапии играют важную роль в определении психотерапевтического исхода;
7) идентификация специфических методов выбора (когнитивная и интерперсональная терапия эффективна при депрессиях, поведенческая – при фобиях, панических атаках и детской агрессии, системная – при супружеских конфликтах);
8) образование профессиональных сообществ в поддержку интеграции.
Авторы идентифицируют 6 факторов, способствующих принятию эклектической или интегративной позиции:
1) отсутствие прессинга доктринерского подхода и харизматической фигуры – примера для подражания;
2) продолжительный клинический опыт;
3) психотерапевтическая практика является способом реализации философии жизни;
4) обсессивно-компульсивная потребность упорядочить психотерапевтические вмешательства;
5) независимый характер, побуждающий выходить за рамки отдельного теоретического лагеря;
6) скептическое отношение к status quo.
В результате опроса 818 американских специалистов, занятых в системе психологической помощи, выявлено, что 38% из них не придерживаются того или иного «чистого» подхода, а являются сторонниками эклектики («интегративной модели»). Стоит отметить, что в совокупности сторонниками психоаналитической и психодинамической ориентации являются 30% терапевтов, тогда как к другим «чистым» моделям (адлерианской, бихевиориальной, когнитивной, экзистенциальной / гуманистической, гештальт-терапии, салливанианской, клиент-центрированной, системной и другим) относят себя лишь от 1 до 7% терапевтов. «Психотерапевты, – пишут Прохазка и Норкросс, – комбинируют буквально все имеющиеся теории, создавая свои собственные клинические гибриды»[xxii]. При этом, если в 1976 г. наиболее часто комбинировалась поведенческая терапия с психодинамической, гуманистической и когнитивной, то уже в 1986 г. наиболее часто встречаются комбинации когнитивной терапии с поведенческой, гуманистической и психодинамической. В качестве наиболее ярких примеров интегративного и эклектического подходов авторы анализируют интегративную психодинамически-поведенческую терапию Пола Вахтеля (Wachtel P.L.) и мультимодальную терапию Арнольда Лазаруса (Lazarus A.A.).
В 1967 г. Арнольд А. Лазарус (2000)[xxiii] предложил концепцию «технического эклектизма», реализованную им в «мультимодальной психотерапии», где предпочтение отдавалось эмпирической валидности перед теоретической валидностью. Лазарус относит бурное начало формирования новых (по сравнению с ортодоксальным психоанализом и психодинамической терапией) психотерапевтических подходов и систем к 50-м гг. XX века. Лазарус обращает особое внимание на клиент-центрированную терапию Карла Роджерса, гештальт-терапию Фрица Перлза, рациональную терапию Альберта Эллиса и психотерапию реципрокного торможения Джозефа Вольпе. В 60-е и 70-е годы новые психотерапевтические методы, системы и школы стали появляться в огромном количестве, и к 1980 г. было описано около 250 видов психотерапии. Не удивительно, что уже в ходе исследований, проведенных в 1974-1982 гг. выяснилось, что большинство клинических психотерапевтов относят себя к эклектикам. Лазарус считает, что психотерапия находится в допарадигмальной («препарадигматической») фазе развития, «крайне нуждается в теоретической основе для интеграции» и считает это в отдаленной перспективе возможным (при этом «ни одна из нынешних теорий в качестве такой основы выступить не может»). Полемизируя «с одним доктором наук, повышавшим квалификацию», который «утверждал, что в будущем хаос еще более усилится, соревнующихся между собой точек зрения станет еще больше, новые харизматические лидеры создадут десятки новых психотерапевтических систем и школ, привнеся в психотерапию дополнительную эклектику и путаницу», Лазарус подчеркивает «достоинства технического и опасность теоретического эклектизма». Опасность последнего, по мнению Лазаруса, заключается в том, что «выбор теорий и техник на основании их субъективной привлекательности для конкретного психотерапевта вызывает хаос и неразбериху. Теории и представления, лежащие в основе многочисленных психотерапевтических систем, часто отражают фундаментальные идеологические и эпистемологические различия между этими системами. При ближайшем рассмотрении обычно выясняется, что они несовместимы по своим существенным характеристикам». При этом он рассматривает «технический эклектизм» как «научный метод, предпочитающий обширность подхода глубине и исходящий из необходимости специфического лечения в каждом конкретном случае… Поскольку мультимодальная психотерапия исходит из того, что каждый человек уникален и психотерапия должна соответствовать особенностям каждого индивида, мультимодальный психотерапевт лишен такой роскоши, как опора на некую общую теорию… Мультимодальный психотерапевт должен приводить стиль своей работы в соответствие с потребностями различных людей… Я давно убежден, – пишет Лазарус, – что психотерапевт, который хочет, чтобы его работа с широким кругом проблем была эффективной, должен обладать гибкостью, быть разносторонне образованным и использовать технически эклектичный подход. Психотерапевт, не забывающий в своей деятельности об этике, может пользоваться разными техниками, которые кажутся ему полезными, независимо от их происхождения… Я не устаю повторять, что подход психотерапевта, который хочет добиться конструктивных результатов при работе с широким кругом проблем, должен быть технически эклектичным». При этом Лазарус констатирует, что необходимы «тесты и измерительные методы, которые позволили бы предсказать реакции клиентов на разные виды воздействия», «инструментарий для принятия решений с предсказуемой валидностью и высокой надежностью»[xxiv]. Представляется, что решение именно этих практических задач является первоочередным и наиболее актуальным для становления эклектической психотерапии в ситуации постмодерна.
[ii] См.: Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. 3-е изд. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.
[iii] См.: Boston P. Systemic family therapy and the influence of post-modernism // Advances in Psychiatric Treatment. – 2000. – Vol. 6. – P.450–457.
[iv] См.: Andersen T. The reflecting team: dialog and meta dialog in clinical work // Family Process. – 1987. – Vol. 26. P.415–481. Andersen T., Goolishian H. Human systems as linguistic systems // Family Process. – 1988. – Vol. 27. – P.371–393. Andersen T., Goolishian H. The client as the expert: a not knowing approach to therapy // Therapy as Social Construction (eds S. McNee & K. Gergen). – London: Sage Publications, 1992. – P. 25–39.
[vi] См.: Норкросс Дж. К. Эклектическо-интегративная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 223.
[vii] См.: Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 223.
[viii] См.: Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков: Учебник для вузов (Серия: Психологический практикум). – СПб.: Речь, 2004. – 464 с.
[x] См.: Уочтел П.Л. Интегративно-психодинамический подход // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 241-245.
[xi] См.: Норкросс Дж. К. Эклектическо-интегративная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 223-227.
[xii] См.: Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С.223.
[xiv] См.: Норкросс Дж. К. Эклектическо-интегративная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 225.
[xv] См.: Бластейн Л. Эклектическое определение психотерапии: эволюционный контекстуальный подход // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 250-255.
[xvi] См.: Фицджеральд Р., Кропп Р. П., Паркер Г. М. Эклектическая психотерапия. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.
[xvii] См.: Гарфилд С.Л. Мультивариантная эклектическая психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 245-250.
[xx] См.: Бойтлер Л. Систематическая эклектической психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 232-240.
[xxi] Прохазка Дж., Норкросс Дж. Системы психотерапии. Пособие для специалистов в области психотерапии и психологии. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 384 с.
[xxiii] См.: Лазарус А. А. Мультимодальная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 227-231.
ПОСТМОДЕРН И ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. Часть 1
Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: психотерапевтическая ризома // Человек и социум в трансформирующемся мире: cборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Саратов, 29-30 мая 2006 г.). – Вып.2. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С. 118-120.
Зайченко А.А. Психотерапия XXI века: эклектическая модель // Молодежь и наука: итоги и перспективы: Материалы межрегиональной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. – Саратов, 22-24 ноября 2006 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2006. – С. 34.
Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия: ответ на вызов эпохи постмодерна // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 28-29 ноября 2006 года. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2006. – С.130-133.
Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 1 марта 2007 г.: Сборник научных трудов. Вып. 5. – Саратов, 2007. – С. 27-35.
Зайченко А.А. Постмодерн и эклектическая психотерапия // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 2. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С.116-125.
Модернизм берет своё начало в эпоху Просвещения и объединяет все феномены европейской культуры конца XIX – середины XX веков. Если для модернизма характерны вера в прогресс, разум (рациональность), абсолютное знание и свободу, достигаемые с помощью науки и техники, политики; структуру, наличие бинарных противоположностей, иерархию, то для постмодернизма характерны недоверие к обещаниям, сделанным во имя прогресса; интерес к тому, что находится между бинарными противоположностями; предпочтение изменчивости «норме». В ситуации постмодерна развалилась структура, иерархия: в работе Жиля Делеза и Феликса Гваттари (Deleuze G., Guattari F., 1976) «Ризома»[i] на место древесной модели мира выдвигается модель «ризоматическая» (ризома – грибница, являющаяся корнем самой себя). «Ризома» – понятие, фиксирующее неструктурный и нелинейный способ самоорганизации, – возникла в качестве альтернативы линейным структурам с осевой ориентацией, корневой и древовидной организации эпохи модерна. С появлением ризомы мир теряет свой стержень. Ризома – потенциальная бесконечность, абсолютная нелинейность. «Никакой моноязык, никакой метод уже не могут всерьез претендовать на полное овладение реальностью, на вытеснение других методов, им предшествовавших. Все языки и все коды..., все философские школы и художественные направления теперь становятся знаками культурного сверхъязыка, своего рода клавишами, на которых разыгрываются новые полифонические произведения человеческого духа»[ii]. Одним из «реальных дел» постмодернизма, по мнению Е.А. Ромек (2002)[iii], «стало внедрение в сознание просвещенной публики категорического императива толерантности»: постмодернизм «признает, что человеческое знание обусловлено множеством субъективных факторов; что объективные сущности, или вещи-в-себе, непостижимы и невыразимы; что все истины и убеждения подлежат постоянной переоценке. Критический поиск истины вынужден быть терпимым к двусмысленности и плюрализму, а его результатом с необходимостью станет относительное и опровержимое, а не абсолютное и надежное знание»[iv]. В настоящее время можно говорить о сформировавшейся «психологии постмодерна»[v].
Американский психотерапевт Адам Блатнер (Adam Blatner, 1997)[vi] считает, что в ситуации постмодерна монополия на «производство мировоззрения», как совокупности «культурных мифов», от философии перешла к психотерапии, которая играет все чаще роль «практической философии» (и это – несмотря на всю «брезгливость естествоиспытателя», которую декларировал Фрейд в ответ на попытки придания психоанализу статуса этико-педагогической доктрины). Поскольку консенсус относительно этих мифов отсутствует, а клиент должен получить «персональную мифологию» автор выдвигает следующие задачи психотерапии в эпоху постмодерна:
1) сделать творчество основополагающей ценностью;
2) помочь клиентам в создании «личной мифологии» (помочь в процессе личного религиозного паломничества построить историю их собственной жизни с элементами приключения и героического эпоса);
3) помочь клиентам выработать трансперсональную (выходящую за пределы личности) перспективу как основу мировоззрения и найти субъективно истинные трансперсональные мифологические образы;
4) помочь индивиду принять плюралистический образ своего Я (метафору многообразного Я, с помощью которой человек сможет осознанно разрешить себе выступать в одно время в родительской роли, в другое – в детской и т.д.);
5) помочь людям больше узнавать о других культурах;
6) предложить эклектический подход к лечению;
7) помочь клиентам развивать в себе способность к метапознанию, мышлению о мышлении;
8) выдвинуть формирование навыков на передний план психотерапии.
«Одна из характерных особенностей постмодернизма состоит в том, – пишет A. Blatner (1997), – что индивид оказывается под перекрестным огнем тысяч советов, предложений, рекомендаций и т.д., о том, как ему стать лучше, иметь больше, словом, так или иначе призывающих его к достижению превосходства. Это ведет к переизбытку выбора… Эти призывы апеллируют к множеству желаний и таким образом пробуждают различные, требующие удовлетворения части Я... Я предвижу, – заключает A. Blatner (1997), – что обучение навыкам самопознания и межличностного общения станут основными предметами в учебных программах XXI века».
По мнению Адама Блатнера (2000)[vii], «многочисленность аспектов и уровней сложности человеческого опыта подразумевает многообразие этиологических факторов, а это, в свою очередь, требует соответствующего разнообразия подходов к психотерапевтической работе», т.е. эклектизму, который «представляет собой единственную ориентацию, апеллирующую ко всем полезным подходам в психотерапевтической работе… Психотерапевту, – пишет Блатнер, – необходимо познакомиться с наиболее продуктивными идеями и методами ряда различных подходов и продолжать пополнять свои знания». При этом Блатнер считает вполне возможным «создание метатеоретической системы, которая может стать идейной основой эклектизма». В роли такой метатеории Блатнер видит ролевую динамику, «поскольку концепция роли применима на различных уровнях функционирования: биологическом, интрапсихическом, межличностном, семейном, групповом, а также на уровне культуры… Эклектизм является необходимой и достижимой целью, а ролевая динамика служит его идейной основой».
Мир и человек рассматриваются Жаком Деррида[viii] как текст. Бесконечные интертекстуальные связи ведут к полисемантичности текста, метафоричности любого мышления. В психотерапии постмодерна текст пациента, как и любой текст, может иметь бесконечное число толкований. И среди них не будет истинных и ложных. Из многозначности и поливариантности трактовок текста пациента следует естественный плюрализм интерпретаций. Любая попытка выделения одного значения текста (например, из-за предвзятости психотерапевта) является фиктивной. Отсюда – антитеза Лютеру («На этом стою и не могу иначе»): «На этом стою, хотя могу как угодно»[ix]. Психотерапевт не стремится «правильно понять смысл» текста пациента. В процессе психотерапии происходит «нарастание» смыслов друг на друга, образование сэндвича толкований. Более того, вывод Барта, сделанный им в работе «Смерть автора»[x], о том, что источник текста располагается не в письме, а в чтении, может быть применим к психотерапевтической ситуации. В этом случае многозначность сущностей текста пациента фокусируется в психотерапевте, как «читателе текста». И, в конечном счете, текст пациента интерпретирует сам себя.
Одна из задач, если не главная задача психотерапии состоит в интеграции личности человека (через мифологию психотерапевта) с доминирующей мифологией. Доминирующей модернистской мифологией Нового времени являлся экзистенциализм (опустим «диалектический материализм» социалистического лагеря). В 1940-е – 50-е годы появились и развивались гуманистическая клиент-центрированная психотерапия Роджерса, гештальт-терапия Перлза, логотерапия Франкла, психодрама Морено и другие психотерапевтические направления, ориентированные на экзистенциализм. Однако, ситуация постмодерна размыла и без того неоднозначный парадигмальный статус психотерапии, что привело к следующим последствиям:
1) бесконечному клонированию психотерапевтических «империй» или «сект», возглавляемых «гуру» и живущих по своим законам[xi];
2) отсутствию универсальных критериев верификации психотерапевтического знания;
3) разрыву между научной психотерапией с одной стороны и практической психотерапией – с другой с «комплексом неполноценности» последней («Почему, когда все понимаешь, ничего не происходит?»).
Поскольку не существует ни объективных критериев, ни экспертов психического здоровья и психического расстройства, доминирующей темой психотерапии постмодерна является деконструкция[xii]. Большинство людей считают само собой разумеющимися такие «истины» как, например, «если Вы не зарабатываете на хорошую жизнь, Вы не успешны». Терапевты, практикующие психотерапию постмодерна, тщательно исследуют эти установки с точки зрения клиента. Кроме того, они подвергают сомнению основные положения их собственной профессии (например, концепцию переноса и ее уместность в работе с клиентами). Они обращают внимание на необходимость отказа от власти, предоставляемой терапевту клиентом, что достигается в сотрудничестве с ним.
Выделяют три типа психотерапии постмодерна:
1) нарративная психотерапия;
2) психотерапия, ориентированная на решение (решение-фокусированная психотерапия, Solution-Focused Therapy), которая подчеркивает необходимость поиска решений проблем, а не их причин;
3) психотерапия «общих систем языка» («Collaborative Language Systems»), которая основана на диалоговом сотрудничестве терапевта с клиентом и которая «растворяет» («dis-solves») проблемы через беседу.
Лоис Шовер (Lois Shawver), частный психотерапевт из Калифорнии, ведущая сайт, посвященный «терапиям постмодерна» (Postmodern Therapies)[xiii], в интервью журналу "New Therapist"[xiv] утверждает: культура образования перестает быть «культурой книги»: общение в Интернете, а не библиотека; семинары, а не лекции. Преподаватели должны найти пути для диалога со студентами и поощрять этот диалог. Автор делает акцент на скептицизме постмодерна: постмодернистский психотерапевт-скептик, глядя на все школы психотерапии, от психоанализа до теории поведения и семейной терапии, говорит: «Они говорят, похоже, что выяснили все, но я не верю этому. Они слишком уверены. Я же знаю о слишком многих исключениях из их правил». Автор считает, что психотерапией постмодерна является разговорная терапия, терапия диалога: люди утомлены монологами, им нужен диалог. А он возможен лишь тогда, когда люди не чувствуют себя совершенно переданными определенным «пакетам идей» (теорий или притч). Терапевт при этом занимает недирективную позицию агностика.
Ричард Алан Миллер (Richard Alan Miller, 1993)[xv], относя себя к сторонникам «радикального плюрализма», в работе «Теория хаоса в постмодернистской психотерапии» пишет: «Наши представления о нас самих и мире вокруг нас проникнуты предубеждениями. Мы никогда не переживаем действительность непосредственно, а только посредством моделирования. Мозг фильтрует и создает действительность». Однако состояние сознания хаотично. Философию постмодернистской психотерапии автор называет «Хаософией» (Chaosophy), поскольку именно Хаос выступает универсальным растворителем Эго в психоделическом сознании. Появление технологий виртуального мира открывает новое измерение для психотерапии: в нее может быть введено электронное моделирование, позволяющее психотерапевту и клиенту занять имагинальное пространство. При этом «врач, как электронный шаман, или ведет клиента, или следует за ним»: полет шамана в ад, чтобы отыскать и восстановить «потерянную» душу, становится реальностью. Клиент возвращается в прежнюю действительность, просто закрыв глаза.
Постмодернизм допускает равноправность любых форм психотерапии. В психотерапии ситуации постмодерна равноценны тексты психодинамического направления, гештальт-терапии, экзистенциально-гуманистической, бихевиориально-когнитивной, трансперсональной и других версий психотерапии. Любая психотерапевтическая система является лишь системой координат, которая представляется удобной именно этому психотерапевту для решения определенных проблем у конкретного пациента (и которую можно в любой момент сменить на любую другую). Психотерапевту ситуации постмодерна остается лишь быть жонглером этими психотерапевтическими системами координат и уметь глубоко внедряться в любую интерпретацию любого текста. Психотерапевт ситуации постмодерна всегда находится в нескольких «плоскостях», у него нет «точки опоры» на какую-либо одну психотерапевтическую теорию и не может быть фиксированной «точки зрения». Проблема «психотерапия и постмодерн» находит отражение в исследованиях в области гештальт-терапии, арттерапии, психодинамической терапии, дзен-терапии, нарративной, системной семейной[xvi] и подростковой психотерапии.
Директор Кливлендского института гештальт-терапии Гордон Уилер в своей монографии «Гештальттерапия постмодерна: за пределами индивидуализма» (2005)[xvii], обосновывая межличностную природу человека и его опыта, связывает гештальт-терапию с социальным конструктивизмом и деконструктивизмом. Солвита Вектере, гештальт-терапевт из Риги, в лекции «Ренессанс, неоромантизм и проблема человека: проекции в пространство психотерапии», прочитанной на тематическом гештальт-интенсиве в рамках учебных проектов Московского Гештальт Института (19-25 июня 2005 г., Гатчина, СПб)[xviii], заявляет: «постмодернизм можно понимать как стиль психотерапии». Автор предлагает таблицу сравнения постмодерна как стиля искусства и стиля психотерапии (табл.).
Постмодерн как стиль искусства и стиль психотерапии (по С. Вектере)
| Принципы постмодерна как стиля в искусстве |
Принципы постмодерна как стиля в психотерапии |
| Любой текст является текстом. |
Любое действие терапевта терапевтично. |
| Нет четких границ. Принцип управления пультом к телевизору. Фрагментаризм. |
Каждый элемент поля потом складывается в уникальную фигуру. |
| Цитаты. Нет плагиата. |
Узнаваемые сценки из жизни, принцип фрактальности, большое видно в малом. |
| Отказ от авторства. |
Терапевтический эффект достигается в диалоге. Терапевт не является главным действующим лицом терапевтической сессии. |
| Отказ от авторитета. |
Принципиальный субъективизм происходящего в терапевтической сессии. Только клиент знает, что ему надо. |
Ихаб Хасан (Hasan I., 1986) выделяет из среды явлений постмодерна 12 принципов (для удобства запоминания, их может быть меньше или больше). Солвита Вектере предлагает краткое изложение этих принципов, приближенное к идеологии гештальт-подхода[xix].
1. Неопределенность. Вы так и не узнаете, что такое постмодернизм. Вам не выйти из этой неопределенной ситуации. Только ироническое отношение (см. позицию 7 подсказывает выход). Обратно в постмодернизм.
2. Фрагментарность. На экране компьютера ты видишь часть текста. Как на обрывке газеты. Текст завершен всегда. Части можно переставить местами. От перестановки мест слагаемых сумма меняется. Как и Гештальт-подход, постмодернизм дитя 20 века. В 19 веке не было компьютера и пишущей машинки. И не было теории «завершенных гештальтов». Поэтому человек и фрагмент редко встречались в феноменологических полях. А если встречались, то не признавались в знакомстве.
3. Деканонизация. Долой Перлза. Зачет на эту тему принимается только после просмотра фильма «Догма».
4. Отсутствие «Я-позиции». Отсутствие авторской формы я: «Я смотрю, но ни во что не включен».
5. Непредставительность (непрезентабельность).
6. Невоспроизводимость и невозможность изображения. Вспомните ситуацию, когда много мыслей и чувств, но нет слов. Нет возможности произведения текста. Собака с умными глазами. Как узнать, что у нее в голове. Главное всегда за кадром или за текстом.
7. Ирония.
8. Гибридизация, смешение стилей, кич.
9. Карнавализация. Шапка шута дает право на действие. Трикстер удачно придуман филологами 20 века. Маски всегда узнаваемы, чтобы выполнить функцию неузнавания истины. Игра в карнавал не должна перерастать карнавал игры. Ты знаешь, что за той маской, когда встречаешь ее. И никогда не увидишь того, что за маской.
10. Форма. В тексте есть форма, которая, как вирус, побуждает к исполнению данного текста именно в той же самой форме.
11. Конструктивизм. Постмодернизм не ищет структуру, поэтому не может ее деконструировать. Место и время будут путаться местами. Швы между пространством и временем должны быть видны. Можешь строить ситуацию в любом времени и в любом пространстве. Пространство данного текста – случайность.
12. Этот пункт читатель может придумать самостоятельно.
Майкл Т. Уолкер (Michael T. Walker) в статье[xx] о практическом приложении роджерианской психотерапии в психотерапии постмодерна, замечает, что Карл Роджерс и его последователи интерпретировали личностно-центрированную («personcentered») терапию в терминах своего времени в соответствии с существовавшими модернистскими концепциями психотерапии и индивидуальности. В настоящее вместе с тремя «роджерианскими условиями» (сочувствие, безоговорочное положительное отношение и подлинность) используются и другие методы, которые могут быть отнесены к «постмодернистским». По мнению А. Копытина (2002)[xxi], к ним относятся методы арт-терапии, К.В. Ильин (2000)[xxii] относит к ним метод «направленных фантазий» (кататимного переживания образов Ханскарла Лёйнера и технику направленного фантазирования Роберта Дезолье).
Интернет-портал доктора философии Эндрю Твардона (Andrew Twardon) посвящен «постмодернистской психодинамической психотерапии» (Postmodern Psychodynamic Psychotherapy) и «буддистской психотерапии» (Buddhist Therapy)[xxiii]. A. Twardon справедливо подчеркивает, что психология и психотерапия постмодерна не являются «теориями». С его точки зрения, они интегрируют психоанализ, психиатрию, когнитивную психологию, буддизм и семиотику в параметрах психодинамической терапии. Согласно A. Twardon, психология и психотерапия постмодерна являются синтезом искусства (красоты, эстетики), религии (духовности, этики) и науки (философии знания). Буддизм и психотерапию постмодерна объединяют идеи релятивизма, фундаментальности страдания (duhkha), являющегося следствием желания, (включая желание существования и желания небытия), поиска индивидуального пути «освобождения» и реализации пустоты. В связи с этим существует тенденция рассматривать в качестве психотерапии эпохи постмодерна буддистскую практику[xxiv]. A. Twardon пишет, что существует четыре способа справиться с психическим расстройством:
1) прямое вмешательство в нейрохимическое функционирование мозга, например психофармакологическое вмешательство;
2) косвенное вмешательство в функционировании нервной системы, например медитация, йога, спорт, секс;
3) прямое изменение внешнего контекста – жизненной ситуации, стиля жизни, например, начиная или заканчивая отношения, изменение места проживания;
4) прямое преобразование субъективного опыта через психотерапию с приобретением нового понимания, нового знания и т.д.
Автор делает очень конкретные рекомендации относительно первой консультации и организации «постмодернистской психотерапии»:
1) цель первой консультации состоит в том, чтобы ясно сформулировать причину посещения и сформулировать ее на языке психотерапии постмодерна;
2) в пределах первых 1 – 3 посещений обычно могут быть достигнуты и обсуждены полная первичная психодинамическая формулировка проблемы и диагноз в соответствии МКБ-10 или DSM-IV-TR (часто предлагаются дополнительные консультации с целью разъяснения диагноза);
3) рекомендуется терапия, обсуждаются варианты терапии и оплаты, решается вопрос заключения терапевтического контракта;
4) сеансы индивидуальной психотерапии по 50 минут или дольше проводятся 1 – 5 раз в неделю;
5) клиенту предлагается список книг, статей, стихов, видеозаписей, произведений искусства, музыки и интерактивных ресурсов для индивидуального изучения;
6) поощряется медитация, 30 – 60 минут ежедневно;
7) может быть рекомендована групповая психотерапия;
8) могут быть сделаны другие индивидуальные назначения;
9) терапия может быть закончена в течение нескольких сеансов или остаться, в случае необходимости, «открытой схемой».
[i] См.: Deleuze G., Guattari F. Rhizome: introduction. – Paris, 1976. – 74 p.
[ii] См.: Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М., 1988. – С.14.
[iii] См.: Ромек Е.А. Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2002, №1, С. 48-65// http://www.psychology.ru/romek/therapy.
Метки: психотерапия, Эклектика, постмодерн, психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм, экзистенциализм, гештальт, дзен-терапия
CURRICULUM VITAE
PERSONAL INFORMATION
Name: Alexander Zaichenko
Address: 20A Volskaya St., apt. 25, 410056 Saratov, Russia
Telephone: (007-845-2) 33 31 13 (office).
Fax: (007-845-2) 33 22 12 (office)
WEB site: http://zaichenko1958.narod.ru/
Энциклопедия "Ученые России"
http://www.famous-scientist...
Блоги:
http://blogs.mail.ru/mail/z...
http://zai-chen-ko.livejour...
Социальные сети:
http://vkontakte.ru/id10003613
http://www.odnoklassniki.ru...
http://zaychenko.moikrug.ru/
Nationality: Russian
Date of birth: 18 November 1958
WORK EXPERIENCE
• Dates: 2004 - present
• Name and address of employer: Saratov State Socio-Economic University (Saratov, Russia)
• Occupation or position held: Professor at the Pedagogy and Psychology Dept.
• Main activities and responsibilities: Delivering lectures and seminars in psychiatry, clinical psychology, psychotherapy, psychophysiology, anthropology
• Dates: 2002 - 2004
• Name and address of employer: Saratov State Medical University (Saratov, Russia)
• Occupation or position held: Professor at the Human Anatomy Dept.; secretary of the Saratov branch of the All-Russian Scientific Society of Anatomists, Histologists and Embryologists (ARSSAHE)
• Main activities and responsibilities: Delivering lectures and seminars in human anatomy for the students of therapeutic and pediatric faculties; author's cycle of lectures in anthropology for students of therapeutic, pediatric and stomatological faculties; supervisor of a student scientific coterie at Human Anatomy Dept.; member of the Scientific Council of Saratov State Medical University
• Dates: 1993 - 2002
• Name and address of employer: Saratov State Medical University (Saratov, Russia)
• Occupation or position held: Assistant professor (senior lecturer) at the Human Anatomy Dept.; secretary of the Saratov branch of the All-Russian Scientific Society of Anatomists, Histologists and Embryologists (ARSSAHE);
• Main activities and responsibilities: Delivering lectures and seminars on anatomy of the man for the students of therapeutic and pediatric faculties; supervisor of a student scientific coterie at Human Anatomy Dept.; member of Scientific Council of Saratov State Medical University
• Dates: 1989 - 1993
• Name and address of employer: Saratov State Medical University (Saratov, Russia)
• Occupation or position held: Assistant lecturer at Human Anatomy Dept.
• Main activities and responsibilities: Delivering lectures and seminars on anatomy of the man for the students of therapeutic and pediatric faculties
• Dates: 1985 - 1989
• Name and address of employer: Saratov State Medical University (Saratov, Russia)
• Occupation or position held: Assistant lecturer at Clinical Anatomy Dept.
• Main activities and responsibilities: Delivering lectures and seminars on clinical anatomy of the man for the students of therapeutic and pediatric faculties
EDUCATION AND TRAINING
• Dates: 2007
• Name and type of organisation providing education and training: Saratov State Socio-Economic University
• Course name Professional development course: "Fundraising and Grant Making"
• Title of qualification awarded: Certificate of Professional Development
• Dates: 2003
• Name and type of organisation providing education and training: Penza Advanced Training Institute for Doctors
• Course name: Early diagnostics and rescue emergency care of mental disorders, suicidology issues
• Title of qualification awarded: Certificate
• Dates: 2001-2002
• Name and type of organisation providing education and training: Smolensk State Medical Academy, Penza Advanced Training Institute for Doctors
• Course name: Primary specialization and certification in psychiatry
• Title of qualification awarded: Certificate
• Dates 1997
• Name and type of organisation providing education and training: Saratov State Medical University
• Course name: Computer facilities, didactics of teaching
• Title of qualification awarded: Certificate
• Dates: 1992
• Name and type of organisation providing education and training: Kiev Medical Institute, Ukraine
• Course name: Normal anatomy
• Title of qualification awarded: Certificate
• Dates: 1987
• Name and type of organisation providing education and training: Central advanced training institute for doctors, Moscow
• Course name: Selected issues of clinical anatomy
• Title of qualification awarded: Certificate
• Dates: 1987-2000
• Name and type of organisation providing education and training: Saratov State Medical Institute
• Course name: Doctor’s degree studies
• Title of qualification awarded: Doctor of Medicine degree
• Dates: 1982 - 1985
• Name and type of organisation providing education and training: Saratov State Medical Institute (department of Human Anatomy).
• Course name: Post -graduate studies in Human Anatomy
• Title of qualification awarded: Candidate of Medical Science degree
• Dates: 1976-1982
• Name and type of organisation providing education and training: Saratov State Medical Institute (therapeutic faculty)
• Title of qualification awarded Diploma, qualification – doctor
PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES
MOTHER TONGUE: Russian
OTHER LANGUAGES: French English
• Reading skills good basic
• Writing skills basic basic
• Verbal skills
basic basic
SCIENTIFIC INTERESTS: Psychiatry, anthropology
TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc. Computer skills: Microsoft Office, Internet, e-mail
ADDITIONAL INFORMATION: Delivered lectures and practical classes in:
• psychopathology, neuropathology, psychiatry at Pedagogical Institute of the Saratov State University
• forensic psychiatry, criminal psychiatry at Saratov Law Institute of Russian Ministry of Interior
• psychopathology, neuropathology, psychiatry at Saratov Institute for Advanced Training and Re-Training of Educators
• clinical psychology, psychiatry at the Institute of Continuing Professional Education, Saratov State Socio-Economic University
A member of the Saratov branch of the All-Russian Scientific Society of Anatomists, Histologists and Embryologists (ARSSAHE).
A member of the Saratov Branch of the Russian Psychology Society.
Titles:
Academic degree – Doctor of Medicine.
Title – Professor of special psychology. Psychiatrist.
Publications:
More than 200 publications.
ПСИХОТЕРАПИЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ: КАТАРСИС
Зайченко А.А. Греческая трагедия и психотерапия // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции, Саратов, 23-24 апреля 1996.- Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 1997.- Вып.3.- С.38-42.
Зайченко А. А. Психотерапия и греческая трагедия: катарсис // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. - Вып. 4. (Саратов, 1 марта 2006 г.). - Саратов, 2006. - С. 65-72.
Эрос и Танатос оргиастического начала дионисийских культов в середине первого тысячелетия до н.э. силой полиса были введены в русло государственных мистерий и трагедии (примечательно, что завершающей жизнь последнего великого трагика античности Еврипида была трагедия "Вакханки" последний всплеск дионисийского оргиазма). Если в пратрагедии герой сам Дионис, руководитель оргий и преступник, поскольку преступает закон, то в поздних трагедиях герой чаще всего преступник поневоле, расплачивающийся за оргиазм предков. Недаром античные трагедии объединялись в трилогии, описывающие трагедию, истоки которой кроются в преступлениях родителя или прародителя, то есть, фактически, охватывают трагедию рода (таковы трилогии "Лай" "Эдип" "Семеро против Фив" Эсхила, "Эдип-царь" "Эдип в Колоне" "Антигона" Софокла).
"Изначальное зло" в трагедии Софокла "Эдип-царь" убийство Эдипом своего отца Лая лежит вне пределов трагедии. Исходная ситуация заключается в том, что Аполлон карает чумой жителей Фив, где благополучно царствует ослепленный неведением собственной вины Эдип. Все действия Эдипа направлены на познание "изначального зла", осознание, таки образом, своей виновности и, в конечном счете, на отождествление себя с самим собой. Результатом является очищение Эдипа, которое происходит в последней трагедии Софокла "Эдип в Колоне". Самоотождествление, нахождение источника бед в себе, знание, решение принять и исполнить свою истинную судьбу, достигнутые в борьбе с роком, приводят к очищению, "Ибо я не прежний я" . Однако, "изначальное зло" продолжает действовать в цепи последующих поколений, о чем мы узнаем из пролога третьей части трилогии Софокла "Антигона" и заключительной части трилогии Эсхила "Семеро против Фив" (две первые части "Лай" и "Эдип" не сохранились): врагом царствующего в Фивах сына Эдипа Этеокла становится его брат Полиник (греч. "распря", "брань") "И брат рукою брата был убит в бою" . Дочери Эдипа Антигона и Исмена уходят за телами Полиника и Этеокла, при этом хор, являясь смысловым фоном трагедии, подтверждает, что на стороне каждой из них своя неоспоримая правда.
Герой трагедии, находясь перед неодолимым роком, субъективно осознает себя свободным в поступках и, следовательно, виновным в их возможных последствиях. При этом он, как правило, совершает выбор из равно пагубных возможностей, предопределенных судьбой. Идея судьбы задается изначальным событием, определяющим "склад событий" трагедии целью которой является познание судьбы. Если "изначальное зло", как правило, лежит в мифологическом сюжете, вне рамок данного действия, то начало трагедии незнание, ослепление причина ошибок и преступлений героя, а ее конец в очищении героя путем приобретения им трагического знания.
Обобщением опыта греческой трагедии является теория Аристотеля, для которого, впрочем, трагедия является уже не универсальным социокультурным институтом, а произведением искусства с главной частью в виде "склада событий", содержащим "то главное, чем трагедия увлекает душу, переломы и узнавания" . Аристотель определяет трагедию как "подражание действию важному и законченному, … (производимое) в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания (элеос) и страха (фобос) очищение (катарсис, katharsis) подобных страстей" . Таким образом, элеос и фобос сострадание и страх лучше всего характеризуют те чувства, которые вызывает трагедия у зрителя, идентифицирующего себя с героем, а понятие катарсиса очищения лежит в самом определении трагедии. В понятие катарсиса у Аристотеля кроме очищающего воздействия трагедии на зрителя включается и очищение (ритуальное, нравственное и психическое) в самой трагедии, без которого невозможно избавление от безумия, освобождение, примирение, которое Гегель назвал "восстановление целостности сознания" . Оба эти смысла очищения связаны через аффекты "ужаса" и "страдания". Будучи изображенными ("подражание"), страдания героя трагедии, преобразуясь "состраданием" и "страхом", доставляя зрителям удовольствие от познания, приводят к очищению. В этом психотерапевтический аспект катарсиса, дарующего, по Аристотелю, "среднее" здоровье.
В Европе драма рождалась дважды: впервые родившись в середине первого тысячелетия до н. э., она умерла с гибелью античной культуры (последним автором трагедий, которые игрались в театре, был консул-суффект 44 года Публий Помпоний Секунд), второе рождение произошло через три-четыре века. Общим для них является ритуальное происхождение и мифологическое содержание. Но если греческая трагедия берет начало в ритуалах дионисийских культов, то средневековая драма в календарных обрядах европейских народов и христианском богослужении. Ницше, противопоставляя христианство, как "философию рабов", трагическому, как "философии свободного человека", утверждал, что христианство в принципе исключает трагическое, враждебно самому духу трагедии. В таблице представлены параллели "склада событий" греческой трагедии и христианской традиции, обусловленные на наш взгляд, не традиционно прослеживаемой связью античности с христианством через стоицизм и неоплатонизм, а связью, обусловленной архетипом восприятия индивидуального и исторического времени.
С XVII века в литературе имеются описания целительного действия театральных спектаклей, ориентированных на специфическое положение страдающего героя. В XIX веке существовала специальная медицинская литература, в которой для терапии душевнобольных рекомендовались театральные игры.
Одним из последних наиболее глубоких и серьезных исследований, посвященных всестороннему рассмотрению катарсиса, является работа Н. Гладких "Катарсис смеха и плача" (1999) , где автор, ссылаясь на А. Ф. Лосева, указывает, что уже к 1931 году насчитывалось 1425 различных толкований термина "катарсис", часто выходящих далеко за пределы тех эстетических установок Аристотеля. Понимание катарсиса как явления двустороннего, синтезирующего эстетический и психологический аспекты, предложил Л. С. Выготский в работе "Психология искусства" (1915-1925, впервые опубликована в 1957 г.): "несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что никакой другой термин из употреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду, уничтожению, превращению в противоположные и что эстетическая реакция как таковая, в сущности, сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств" . Различая в художественном произведении две группы эмоций: эмоции, вызываемые содержанием, и эмоции, вызываемые формой, он показал, "что они находятся в постоянном антагонизме, они направлены в противоположные стороны и что от басни и до трагедии закон эстетической реакции один: она заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение. Вот этот процесс мы и хотели определить словом катарсис. Мы могли бы показать то, что художник всегда формой преодолевает свое содержание, и мы нашли для этого блестящее подтверждение и в строении басни и в строении трагедии" . "Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства. Благодаря этому разряду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона аффекта, и нам начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства. На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, что оно, вызывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает только благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии. В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции" . Механизм действия этой реакции Л. С. Выготский проверяет, в числе прочих эстетических объектов, на таких классических категориях как трагическое и комическое, отмечая при этом: "Многие авторы совершенно правы, утверждая, что, по существу, эти категории и не суть категории эстетические, но что комическое и трагическое возможно и вне искусства (Гаман, Кроче)" .
В психотерапии катарсис понимается как а) состояние внутреннего очищения, освобождения после вторичного переживания и адекватного отреагирования патогенных и (или) стрессогенных аффектов, послуживших источником психической травмы; б) специальный (катарсический) метод воздействия , направленный на выявление и разрядку, отреагирование, абреакцию бессознательных импульсов; в) фаза психотерапии, в ходе которой пациент, находясь в измененном состоянии сознания, вспоминает и воспроизводит психотравмирующие события, вызывая тем самым разрядку патогенных аффектов. В основе катарсической психотерапии лежит повторное воспроизведение сильной эмоции, обусловленной психотравмирующей ситуацией. Механизм действия катарсиса состоит в освобождении от неотреагированных эмоций при отсутствии негативных последствий, имевших место в реальности. Это облегчает возможность пересмотра значимости психотравмы для пациента. Катарсис успешен, когда тревога, связанная с восстановлением контакта с ситуацией, подавляется другими позитивными эмоциями в психотерапевтических условиях, чувством защищенности и безопасности . Катарсис достигается полным погружением в психотравмирующую ситуацию или путем поэтапного приближения к ней (десенсибилизация) . Согласно психотерапевтической концепции катарсиса, у человека, перенесшего психическую травму и аффективно не отреагировавшего ее, остаются комплексные переживания, подвергающиеся вытеснению из сознания. Эти аффективно-насыщенные бессознательные переживания, являются причиной болезненных отражений в сознании и соматике. Их символами являются симптомы невроза, соматоформные расстройства и психосоматические заболевания. К катарcическим методам в психотерапии могут быть отнесены психокатарсический метод Брейера-Фрейда, методика репродуктивных переживаний Асатиани-Лившица, психокатарсическая терапия Франка, метод экспериментальной репродукции невротических синдромов Платонова, методы Мура и Лейнера, автологокатарсис Атанасова, гипнотическая абреакция, декапсуляция Чолакова, искусственная репродукция аффективных переживаний (графокатарсис) Крестникова, фармакологическая абреакция, психолиз. Катарсические методы нашли применение в телесно-ориентированной терапии Райха и Лоуэна , психоделической трансперсональной терапии Грофа , психодраме по Морено. Именно в психодраме психотерапия и театр достигли максимального взаимопроникновения, когда клиент с помощью ведущего и группы воспроизводит в драматическом действии значимые, но не вполне осознаваемые и не пережитые в полной мере события своей жизни (иногда события, которым жизнь не позволила и, возможно, не позволит осуществиться). Действие структурируется таким образом, чтобы клиент, одновременно являясь и творцом драмы, и ее героем, и зрителем, достигает катарсиса. При этом катарсис может быть "обсервационным" (пассивным) и "акциональным" (активным спонтанным): "В греческой драме духовное очищение являлось процессом, происходящем в зрителе, "пассивным катарсисом",… Из Древней Греции мы сохранили драму и сцену, тогда как от Ближнего Востока переняли принцип осуществления катарсиса в самом конкретном человеке". Психодрама рождает и групповой катарсис опыт сообщества, возникающий благодаря содействию и сопереживанию участников действия судьбе реального члена группы.
настроение: Задумчивое
Метки: психотерапия, психоанализ, античность, катарсис
ХРИСТИАНСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии экзистенциальной депрессии // Проблемы диагностики и коррекции психического развития детей: Сборник научных трудов преподавателей кафедры дефектологии педагогического института Саратовского государственного университета. - Саратов: Изд-во СПИ, 1999. - С.30-33.
Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций при эндофилолагнии и алекситимии // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 22-23 апреля 1999. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2000. - Вып.6.- С.11-20.
Зайченко. А.А. Христианские праздники в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.6. - Пенза, 2003. - С.89-93.
Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психокоррекция // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.7. - Пенза, 2004. - С.142-153.
Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. - Вып. 3. - Саратов, 2005. - С. 105-107.
Взаимоотношения религии, психологии и психотерапии, по мнению R.H.Cox (1997), определяются тем, что если психология исследует то, чем человек является, то религия и психотерапия говорят о том, чем человек может стать. S.-A.Gopaul McNicol (1997), ссылаясь на позиции Boyd-Franklin (1989) и Peck (1993), утверждает, что психотерапевты не должны игнорировать вопросы религиозного характера при работе с пациентами.
Христиански-ориентированная психотерапия может рассматриваться и в русле проблемы взаимоотношений православия и медицины (Силуянова И.В., 1998). Наиболее яркий представитель "Третьей венской школы", основоположник такого известного направления экзистенциальной психотерапии как логотерапия, Виктор Эмиль Франкл пишет о том, что к психотерапевту часто обращаются с теми проблемами, которые в действительности должны ставиться перед священником. Более того, психотерапию В.Э.Франкл называет "медицинским священничеством", понимая под этим то, что она оперирует вдоль великой линии, разделяющей медицину и религию (Франкл В., 1990; Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е., 2003). Сходные идеи можно найти и у Карла Густава Юнга, писавшего о том, что отсутствие религиозности порождает бессмысленность жизни, что выступает одним из основных препятствий на пути индивидуации и является "эквивалентом заболевания" (Юнг К.Г., 1994).
Несмотря на сомнения в возможности создания христиански-ориентированных психологии и психотерапии (Розин М.В., 1994), в настоящее время предпринимаются активные попытки осуществления подобного синтеза (Занадворнов М.С., 1994; Воловикова М.И., Махнач А.В., 1995). Об этом свидетельствует, в частности, и состоявшаяся 10-16 мая 1997 года в Санкт-Петербурге 3-я Международная конференция "Психология и Христианство: путь интеграции" (Православие и современность…, 1997). Так, на этой конференции современный православный богослов – патриарх Антио¬хийский Игнатий отмечал, что для психологии принципиально важно нахо¬диться в поле глубинного диалога с богословием. N.Malony (Фуллеровская Теологическая Семинария, США) в своем докладе констатировал, что хрис¬тианская экзистенциальная точка зрения может и должна служить основой современной психологии. Б.С.Братусь (Психологический институт РАО, Москва) посвятил свое сообщение взаимоотношениям "христианской и светской психотерапии". В "Московском психотерапевтическом журнале" в 1998 году публиковались фрагменты книги православного пастыря кандидата психологических наук о. Бориса Нечипорова "Психология энергийности и праздничная стихия" и работа игумена Евмения "Пастырская помощь душев¬нобольным". В настоящее время концептуальные основы христианской психологии (Братусь Б.С. и др., 1995) и православной психотерапии (Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского…, 2000) могут считаться разработанными. На интеграции церковного опыта и психотерапии базируется массовая эмоционально-эстетическая психотерапия алкоголизма по Г.И. Григорьеву (1993) (Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского…, 2000).
Автором разработана групповая христиански-ориентированная психотерапия, базирующаяся на концептуальных основах хрис¬тианских праздников (Зайченко А.А., 1999, 1999а, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005). Наиболее близким психотерапевтическим методом является этнотерапия Гауснера (Hausner M.) и Кочовой (Kocova Z.) (Слободяник А. П., 1982; Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского…, 2000). Так же, как и в этнотерапии, группы функционируют по календарному плану годового цикла (сессии приурочены к праздничным дням). Предлагаемая форма психотерапии наибо¬лее адекватно раскрывается названием метода – "Беседы и вопросы", что близко названиям известных в народной традиции произведений ("Беседа трех святителей", "Вопросы Иоанна Богослова Господу").
Ниже приводятся тезисы тем отдельных "праздничных" терапевтических бесед.
Благовещение - "первый праздник", "корень праздников" (Иоанн Златоуст). В христианской традиции этот праздник ассоциируется с покоем и радостью. То, что Иисус возвестил людям, он назвал на арамейском языке "бесора" (греч. евангелион) - "радостное или благое известие". Радость сопровождает жизнь христианина, являясь плодом Святого Духа и отличи¬тельным свойством Царства Божия (Рим.14, 17; 1 Кор.13, 6; 2 Кор.7,4; Гал.5,22; 1Петр.1; Ио.15,11; Ио.17,13; Пс.15,11; Ис.12,3). "Духовную Веселость" (термин Франциска Ассизского), "радость духовную христиане должны иметь в благополучии и неблагополучии" (Тихон Задонский).
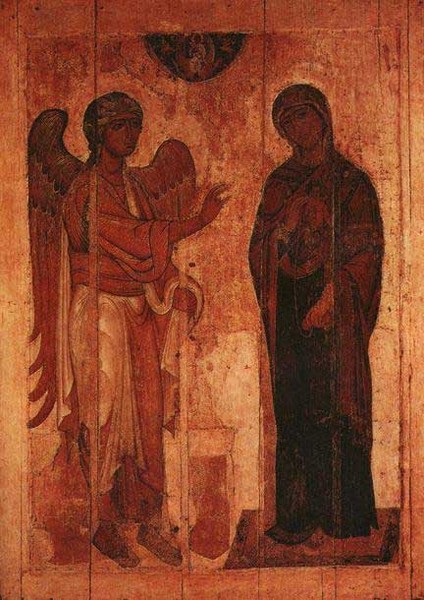
Пасха означает "прохождение мимо", "избавление от беды" (Серафим Слободский), первоначально - праздник избавления евреев из египетского рабства. В христианстве - праздник освобождения от рабства смерти, танатоса, деструкции, праздник воскресения к истинной жизни, нового рождения. Символом праздника является яйцо, из которого возникает новая жизнь, разбив мертвую скорлупу. Освобождение, воскресение возможно лишь через покаяние: "в покаянии - дерзновение, в покаянии - свобода, в покаянии - очищение от греха" (Иоанн Златоуст). "Христианская жизнь вся не иное что есть, как всегдашнее до кончины жизни покаяние" (Тихон Задонский). Термином "покайтесь" в Новом Завете передается арамейское слово "тешува", означающее "ответить", "вернуться". Тот смысл, который обычно вкладывается в понятие "покаяние", не идентичен семантике "ответа на призыв Бога" или "возвращения к Богу, в Царство Божие", то есть своему истинному Я.
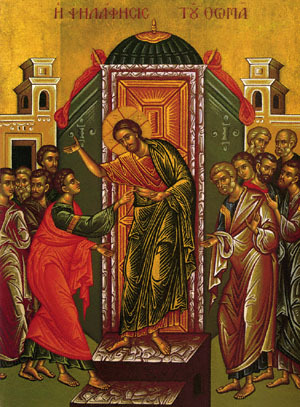
Вознесение (греч. `Avalhjiz, лат. Ascensio) сопровождается ощущением радости, надеждой на нисхождение Святого Духа, и возвращение Ии¬суса (Лук.24,42-53; Деян.1,4-12; Мк.16,15-20). Греческий и латинский термины могут быть переведены и как "восхождение" или "восшествие", что предполагает активный аспект возвращения в Царство Божие.

Троица (греч. Triaz, лат. Trinitas) следует после сплошного праздника, длящегося с Пасхи, ей не предшествует пост. Ветхозаветная Троица представляет собой явление трех ангелов Аврааму, безмолвная близость которых вокруг жертвенной чаши гениально изображена Андреем Рублевым. Непостижимость Новозаветной Троицы - единства Бога в трех лицах - рождающей первоосновы Отца, энергии слова-смысла Сына-Логоса и освящающего животворящего Святого Духа обусловливает необходимость использования метафор (например, единства воды в трех состояниях - твердом, жидком и газообразном). Тогда как попытка интеллектуального познания Троицы, рационального овладения ее сущностью сравнима с тем, как если бы страдающий от жажды и зноя путник не пытался напиться водой, погрузиться в нее и омыться в ней, а стремился узнать ее химическую формулу. Плодотворным в плане психотерапии может быть рассмотрение архетипических триад и триад в других традициях (например, единства Тримурти - Брахмы, Шивы и Вишну), "Супер-Эго, Эго и Ид" Фрейда или "Родителя, Взрослого и Ребенка" Берна.

Духов День, совпадая с ветхозаветным праздником обретения Моисеем десяти заповедей Синайского Законодательства, в христианстве - праздник обретения апостолами Святого Духа. В Палестине, где появились первые христианские проповедники, говорили преимущественно по-арамейски. В арамейском языке "дух" (арам. ruha dqudsa, евр. ruah-ha-godes) - женского рода, в связи с чем "святой дух" выступал как "Мать-дух" Иисуса. В одном из апокрифов Иисус называет Дух Святой "матерью". Ориген цитирует: "Мать моя, святой дух", тогда как по-гречески "святой дух" (pneyma `agion) - среднего рода. Последнее обстоятельство не могло не повлиять на отказ от концепции существования у Иисуса кроме "матери во плоти" еще и "матери в духе", которая и родила его как Господа. Уже в Ветхом Завете существует связь между понятиями "Дух" и "птица" (Втор.32,11; Быт.1,2) (ср. с арабским "рух" - "дух", "птица"). Символом Святого Духа в христианской традиции является голубь или голубица, которая может снести яйцо - символ Пасхи. В образе голубя Святой Дух и является во время Крещения Иисуса (Матф.3,16; Мк.1.10; Лук.3,22). Охваченный Святым Духом делается "иным человеком", "получает иное сердце" (1 Царств.10, 6 и 9) и дар, делающий его харизматическим пророком "с того дня и позже" (1 Царств.10,10; Ис.63.11; Иезек.11,19 и 24; Иоиль 2, 28; Мих.3,8). Именно Святой Дух является автором богодухновенных книг.
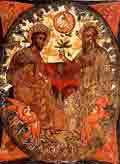
Преображение (Мтф.17,1-13; Лук.9,28-36; 2Петр1,10-19) - праздник, когда Иисус, представ во славе, продемонстрировал свою истинную преображенную сущность и, тем самым подчеркнул произвольность своих страданий. Праздник связан с темой благодати - любви Бога, не заслуженной делами, а получаемой как дар (Рим.3,24; Еф.2,8-9; Матф.5,44; Деян.3,26), спасения и обновления Святым Духом (Тит.3,5-7). "Христианс¬тво говорит, что ты можешь себя усовершенствовать, но до Бога добрать¬ся невозможно, пока Он сам к тебе не придет" (А. Мень). Этот приход Бога и есть благодать.
Воздвижение Креста Господня - праздник символа победы над смертью. Эпиграфом к беседе, посвященной этому празднику, его девизом являются слова Иисуса: "Кто не берет креста своего ... тот не достоин Меня" (Матф.10,38). Обращает внимание, что Иисус говорит о "своем", а не "его" кресте. Предлагается рисовать крест с дальнейшей интерпретацией этого символа в изображении пациента: крест - символ лишений, страданий и обязанностей, икс, плюс, меч, якорь, ключ, мировое дерево, древо познания добра и зла, модель человека с распростертыми (в молитве) руками или птицы с распростертыми крыльями, символ восхождения Богу, высших сакральных ценностей, орудие спасения мира, символ выбора (перекресток) между жизнью и смертью, счастьем и несчастьем, добром и злом, символ единства жизни и смерти, духа и материи, космического и земного, мужского и женского начал.
Главная проблема рациональной психотерапии может быть сформулирована в вопросе "почему, когда все понимаешь, ничего не происходит?", который связан с преимущественной апелляцией психотерапии к "ratio", тогда как в покаянии не меньшее значение имеют эмоциональный и волевой аспекты. В связи с этим особую значимость могут приобретать психотерапевтические беседы, посвященные основным понятиям христианства, положения двух из которых приводятся ниже.
Литература
Барсов И.И. Покаяние // Христианство / Энциклопедический словарь. Т.2. М.: Большая Российская энциклопедия,1995. - С.357-358.
Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия / Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 472 с.
Воловикова М.И., Махнач А.В. Психология, психотерапия и христианство: Круглый стол // Психол. ж. 1995. Т.16, №1. С.176-178.
Зайченко А.А. "Дитя" или "раб", "союз" или "завет" // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 16-17 апреля 1999. Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 1999. Вып.5. С.59-60.
Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии экзистенциальной депрессии // Проблемы диагностики и коррекции психического развития детей: Сборник научных трудов преподавателей кафедры дефектологии педагогического института Саратовского государственного университета. Саратов: Изд-во СПИ, 1999а. С.30-33.
Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций при эндофилолагнии и алекситимии // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 22-23 апреля 1999. Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2000. Вып.6.- С.11-20.
Зайченко А.А. "Метаноя" или что бывает "после понимания" // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 25-26 апреля 2002. Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2002. Вып.8. С.57-61.
Зайченко. А.А. Христианские праздники в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.6. Пенза, 2003. С.89-93.
Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психокоррекция // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.7. Пенза, 2004. С.142-153.
Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. Вып. 3. Саратов, 2005. С. 105-107.
Занадворнов М.С. Я и иное // Моск. психотерапевт. ж. 1994. №2. С.179-190.
Игумен Евмений. Пастырская помощь душевнобольным // Моск. психотерапевт. ж. 1998. №1. С.151-186.
Нечипоров Б. Психология энергийности и праздничная стихия // Моск. психотерапевт. ж. 1998. №1. С.187-194.
Православие и современность // Моск. психотерапевт. ж. 1997. №2. С.78-89.
Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2000. 1024 с.
Розин М.В. Религия и психотерапия: возможен ли кентавр?// Моск. психотерапевт. ж. 1994. №2. С.191-200.
Силуянова И.В. Современная медицина и православие. – М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и студенческой православной газеты "Татьянин день", 1998. 201 с.
Слободяник А. П. Психотерапия, внушение, гипноз. Киев: Здоров`я, 1982. 376 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени: Пер. с нем. М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1994. 336 с.
Behm J. Metanoia // Theologycal Dictionary of the New Testament. T.1. Grand Rapids: Zondervan, 1967. P.1002.
Berkhoff L. Systematic Theology. Crand Rapids: Erdmans, 1939. P.837-838.
Chafer L.S. Systematic Theology. T.3. Dallas: Dallas Seminary, 1948. P.372.
Constable Th.L. The Gospel Message. Walvoord: A Tribute, Chicago: Moody Press, 1982. P.207.
Cox R.H. Transcedence and imminence in psychotherapy // Amer. J. Psychoter. 1997. Vol.51, N.4. P.511-521.
Goetzman J. Conversion // New International Dictionary of New Testament Theology. T.1. Grand Rapids: Zondervan, 1986. P.358.
Gopaul McNicol S.-A. The role of religion in psychotherapy // J. Contemp. Psychother. 1997. Vol.27, N.1. P.37-48.
Ironside H.A. Except ye Recept. Crand Rapids: Zondervan, 1937. P.7.
MacArthur J.F. The Gospel According. Crand Rapids, Michigan: Zondervan, 1994. P.185.
Strong A. Systematic Theology. Philadelphia: Godson, 1907. P.837-838.
Thayer J.H. Greek-English Lexicon of the New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1962. P.406.
Vos G. The Kingdom of God and the Church. Nutley, N.Y.: Presbyterian and Reformed, 1972. P.92-93.
Метки: христианство, психотерапия, праздники
ЮРОДСТВО
Зайченко А.А. Юродство // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 22-24 мая 2003.- Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2003.- Вып.9.- С.119-125.
"ημεΐζ μωροί διά Χριστόν"
("мы безумны Христа ради")
(1 Кор. 4:10)
"from Bethleham to Bethleham"
("из Вифлеема в Бедлам",
"из Бедлама в Вифлеем")
(Ионеско).
Словом "юрод" переводятся греческие слова μωρόζ (глупый, безумный) и σαλόζ (простой, глупый, откуда прозвище "Салос" юродивых Николы Новгородского и Михаила Клопского). Более древним обозначением безумного, было "буй, буякъ, буявъ", как в кирилло-мефодиевском переводе Послания к коринфянам. Лишь в последующих редакциях оно вытесняется словами "оуродъ", "уродъ", "юрод". Даль пишет о юродстве: "Ныне более произносят: юродивый. Юродивость и юродство - состоянье юродивого; безумие. Принимать на себя юродство, юродиться, юродствовать, напускать на себя дурь, прикидываться дурачком, как делывали встарь шуты; шалить, дурить".
Выражение "юродивый Христа ради" впервые применил к себе апостол Павел, говоря: "Мы безумны Христа ради". В послании к Коринфянам он объясняет, что сама проповедь о распятом Христе является безумием для людей мира сего: "Слово о кресте для погибающих есть юродство, а для нас спасаемых - сила Божия". "Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих" (1 Кор. 1:21 и 4:10). На допросе у проконсула Феста тот прямо заявил апостолу: "Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия" (Деян. 26:24). Христиане, в силу своей веры в распятого Христа, в глазах неверующих являются "юродивыми". "Книжники" и об Иисусе Христе говорили, что "Он безумствует" (Иоанн 10:20). Видя неспособность "книжников" принять Его учение, Иисус восклицает: "Славлю Тебя, Отче неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам" (Мф. 11:25) (в первой русской редакции жития Василия Нового (XII в.) говорится: "Иже оуродством мудраго злобу победиши"). Корни феномена юродства некоторые исследователи склонны видеть в античности, в частности, в школе киников и идеях гимнософизма. Архетипически юродство воспроизводит ритуальную практику древних культов. В любой сакральной системе существуют две параллельные духовные "иерархии" (Александр Дугин "Ignoramus - эссе о глупости"). Одна из них утверждает путь ratio, разума, премудрости (в частности сознательного разграничения добродетели и греха) и самосовершенствования. Другая основана на отказе от рассудка и индивидуальности. В буддизме – это чань и дзен, в исламе – суфизм и маламатья, в иудаизме – хасидизм, в христианстве – юродство.
Юродство рассматривается как один из христианских подвигов, более трудный, чем монашество, "способ хождения по узкому пути", "хождение по заповедям Божиим", поскольку в его основе лежит отречение от ума и индивидуальности, смиренный выбор безумия и невежества, уход в мир безумия, "в никуда". Монашество предполагает уход от мира с обетами нестяжания (добровольной нищеты), целомудрия, послушания и аскетическими подвигами (затвор, странничество, столпничество, пустынножительство). Юродство же – это "внутренний затвор" в переходной области между святостью и смеховым миром (Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., 1999). "Юродство — христианство, не сводимое к определению или формуле, "опровержение предыдущих достижений, путь, противоположный фарисейству. Юродство невозможно как традиция. Юродству невозможно подражать… Юродство — отражение истины, всегда рождающейся где-то между" (Архиепископ Иоанн). Юродство делает человека близким Богу.
В православии считается, что предтечами христианского юродства являются пророки Исаия, Иеремия и Иезекииль (Исаия 8:3; Иеремия 13:1-9, 18:1-4, 19:1-4, 20:2-10, 27:2, 38:6; Иезекииль 4:1-15, 5:1-4, 12:2-7, 24:3-5), через которых в ветхозаветный период священной истории, вступая в контакт с людьми, говорил Святой Дух - Третье Лицо Пресвятой Троицы.
"Юродство ради Христа", как вид подвижничества, возникло почти одновременно с монашеством в III- середине IV века в Египте. Первой "Христа ради юродивой" считается св. Исидора (ум. около 365 г.) из Тавенского монастыря. Ее жизнь описал св. Ефрем Сирин, посетивший Египет в 371 г. Из юродивых Восточной (греческой) церкви известны преп. Серапион Синдонит, преп. Виссарион Чудотворец, св. Симеон, преп. Фома, св. Андрей.
Юродство пришло на Русь из Византии, где юродствовали преподобные Серапион Синдонит, Виссарион Чудотворец, Фома, святой Симеон Эмесский, святой Андрей Царьградский (в отличие от Руси большинство юродивых в Византии были чернецами). К XIV в. юродство в Византии исчезает. Последним византийским юродивым считается Максим Кавсокаливат, умерший в 1367 г. (Иванов С.А. Византийское юродство. М., 1994).
Первым же юродивым на Руси считают киево-печерского чернеца Исаакия, затворника печерского (ум. 1009 г.), который (как и Авраамий Смоленский, юродивая Пелагея или святой Андрей, Христа ради юродивый) "юродствовал временно", то есть относился к юродству как маске, которую иногда можно и нужно снять. Юродство как социальный феномен появляется в России, начиная с XIV века. Первым "настоящим" юродивым на Руси был Прокопий Устюжский (умер в 1285 или 1303 г.). Его житие рассказывает, что сам он был немцем и прибыл в Устюг из Новгорода, где принял православие (богатый купец "от западных стран, от латинска языка, от немецкой земли"). Крестившись и раздав свое имение, "приемлет юродственное Христа ради житие" и отправляется в "восточные страны", "взыскуя древнего погибшего отечества". Его юродство навлекает на "досаду и укорение, и биение, и пхание", но он молится за своих обидчиков. Вскоре он прибывает в Устюг, где спит нагой "на гноище" или на паперти, принимает у бедных людей немного пищи, а молится тайно, по ночам.
В России юродство достигло наибольшего расцвета, как и его почитание. В России юродство блаженного всегда было предпочтительнее глубокомыслия мудреца: "Если мое юродивое мудрование не понимает мудрости юродства, то прошу прощения" (святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский). Следует отметить, однако, что российский "юродский" пафос не является ортодоксальным. В одной из притч IV в. Иоанн Эфесский, описывая отношение толпы к паре молодых юродивых, сообщает: "Множество народу окружало их..., шутя и играя с ними и давая им затрещины по голове". Список жития Симеона Эмесского (VI в.), составленный в VII в. кипрским епископом Леонтием Неапольским, содержит описание реакции горожан на появление юродивого: "Когда ребята увидели, они начали кричать: "А вот безумный!" и пустились за ним вдогонку, осыпая его тумаками". Житие Василия Нового, написанное в X в., так рисует картину земной жизни юродивых: "В здешнем мире тщеты они представляют себя глупыми во имя Господа; люди преследуют их и презирают". Агиограф, создавший в X в. житие юродивого Андрея Царьградского (V в.), пишет: "Иные его колотили, иные лягали, кто-то бил палкой по голове, другие таскали за волосы, давали подзатыльники или кидали оземь и, связав ноги, волочили по улицам, не боясь Бога и не имея христианской жалости к себе подобному". В конце VII в. началось наступление на юродство со стороны церковных властей Византии. Канон 60 Трульского Собора (692 г.) гласил: "Всячески наказывать тех, кто притворяется бесноватым и нарочно подражает ему в испорченности нравов. Пусть они будут подвергнуты тем же строгостям и тяготам, как если бы бесновались по-настоящему".
В Западную Европу, где уже с III в. широко практиковался экзорсизм, т.е. обряды изгнания дьявола, юродство проникает лишь в XI в. Но Римско-католическому миру феномен юродства оказался чужд, и уже в XII в. он исчезает. Русская же духовность включает почитание "умом обиженных" (от образа Иванушки-дурачка до образа юродивого в "Борисе Годунове" Пушкина). Иван Грозный считал себя самым грешным человеком на земле и верил, что его царство держится только на святости юродивых, и проводил с ними много времени. Государь, завидуя юродивым, свои письма монахам Кирилло-Белозерского монастыря подписывал псевдонимом Парфений Юродивый. В Новгороде особо почитали Николая Кочанова, Михаила Клопского, Иакова Боровицкого, в Устюге – Прокопия и Иоанна, в Ростове – Исидора, в Москве – Максима и Василия Блаженного, в Калуге – Лаврентия, в Пскове – Николу Салоса. В XIV-XVI вв. на Руси были канонизированы около десяти юродивых. Большинство же, не будучи официально канонизированы, считались святыми в народе. Р.А.Наумов приводит имена четырехсот пятидесяти неканонизированных юродивых. Впрочем, отношение к юродивым в России не всегда было однозначно. При Петре I юродивых предписывалось помещать в монастыри "с употреблением их в труд до конца жизни", а указом 1732 года, в царствование Анны Иоанновны и Бирона, запрещалось "впускать юродивых в кощунных одеждах в церкви". В середине XVIII века в Москве и Петербурге насчитывалось около тридцати юродивых. Митрополит Филарет Московский утверждал, что "христианство не юродство, но премудрость Божия"
В эссе "Премудрость и юродство" Олег Носков связывает почитание юродства в России с "гносеомахией", которой прот. Георгий Флоровский ("Пути русского богословия") называл уклон в русском православии, когда происходит подмена духовности душевностью. В России с "душой" ассоциируют эмоции, "душевность" синонимична "эмоциональности", а привычка "изливать душу" стала одной из основных черт русского национального характера. В связи с этим в "гносеомахии" стремление к Божественному созерцанию, к Премудрости Божией, подменяется нарочитым психологизмом, "ласкательной чувствительностью". В результате православие превращается в назидательный фольклор, чистое морализаторство. Гносеомахия, с ее борьбой с ratio, возникла как реакция на рационализм и бездуховное мудрствование Запада. Ещё в XVII в. Бенедикт Спиноза пришел к выводу, что в Библии нет знания, а только – мораль, тогда как истина может быть найдена в "чистом разуме" свободного исследователя. Эта идейная позиция легла в основу буржуазной духовности. Протестантизм довел эти идеи до логического завершения, где религия сведена к морали, а источником истин признаётся разум. Представляется, однако, что юродство одинаково противостоит как "гносеомахии", так и "премудрости".
Сакрализация юродства в православии имеет в своей основе тему, отраженную в чинах блаженств: "блаженны нищие духом, яко тех есть царство небесное". В русском языке "блаженными" называют именно "безумных" и "слабоумных", "глупых" и "дурачков", "умственно отсталых". Василий Ключевский отмечал: "Юродивый, блаженный, отрешался от всех благ житейских, не только от телесных, но и от духовных удобств... В таком смирении до самоуничижения древняя Русь видела практическую разработку высокой заповеди о блаженстве нищих духом, которым принадлежит царствие Божие".
Нищий духом юродивый, отказываясь от разума, "не ведает, что творит". Он снимает дихотомии мира. Его игра неотличима от жизни всерьез, бред — от пророчества. Он не плох и не хорош - он блажен. Блаженство – его естественное состояние. Внешне он "расхристан", так как он свободен во Христе. Он пуст: у него нет индивидуального начала, "Я", поэтому только через него без искажений может вещать Святой Дух. Он словно чистый лист, на котором Святой Дух может начертать свои слова. Юродивый освобождает свое существо для Него. В этом таинство нищеты духа. Юродивый сам себе не судья, он свободен как "с ума сшедший человек", он управляется лишь Богом. Юродивый не "совершенствует свою личность", не копит добродетели как благочестивый христианин. Расстояние между Божественным и человеческим так огромно, что мудрость богопознания и благочестие никак не приближают человека к Творцу. Великое и малое сливаются, а то, чем человек гордится, может быть противно Богу, так как "мудрость мира сего" есть "безумие пред Господом".
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу




