Антон Павлов,
19-06-2022 22:44
(ссылка)
О «прирождённых Белых». Польский и русский взгляд.
1917 г. Польский уланский дивизион Польской стрелковой бригады Российской Императорской Армии. https://ria1914.info/index....
Ночью я крепко спал, когда ординарец разбудил меня и передал, что меня требуют в штаб полка.
— Что случилось? — еще не окончательно проснувшись, спросил я.
Он, словно опасаясь, что нас может кто-то услышать, хрипло прошептал:
— Император отрекся от престола, — и, помолчав, словно пытаясь привыкнуть к этой мысли, закончил: — Теперь войне конец.
Ординарец считал, что император развязал войну; император, имевший власть, заставлял людей страдать и умирать. А раз император отрекся, значит, войне конец.
Ошеломленный полученным известием, я быстро оделся и поспешил в штаб. Там уже собралось порядка пятнадцати офицеров. Все переговаривались тихими голосами, почти шепотом.
Полковник собрал нас в бывшей классной комнате. Мы расселись за партами, а полковник сел за стол преподавателя, располагавшийся на небольшом возвышении. Полковник всегда был скорее учителем, чем командиром и смотрелся на учительской кафедре очень уместно. Внимательный, любящий, он был для нас кем-то вроде отца. Для этого сорокапятилетнего холостяка семьей был полк, а мы его сыновьями.
Уланы любили своего полковника. Он был строг, но никогда не нарушал данного слова и никогда не лгал. И солдаты знали, что обманывать его бесполезно. Он всегда давал человеку возможность исправиться, если тот честно признался во всем, но был беспощаден в отношении тех, кто пытался обмануть его. Он обожал лошадей и очень тревожился за них и всегда подчеркивал, что улан в первую очередь должен заботиться о лошади, а уж потом, в оставшееся время, о себе. Может, я несколько преувеличиваю, но думаю, что полковник крах революции видел в том, что люди перестали заботиться о лошадях. Он был выходцем из старой дворянской семьи, но человеком во всех отношениях непритязательным.
Сейчас полковник сидел за учительским столом в классной комнате. Ставни были закрыты. Единственным источником света была лампа под шелковым розовым абажуром, стоявшая на столе. В комнате царил полумрак. Полковник изучал телеграмму, лежащую перед ним.
Комната постепенно заполнялась офицерами. В углу, прислонившись к стене, стоял капитан Бут. Рядом с ним молодой корнет Шмиль, прямой и напряженный. Капитан Султан, потомок татарских ханов, чья семья считалась польской в четвертом поколении, прохаживался взад-вперед. Вместе с ним мерил комнату шагами капитан Лан, невысокий, худой, крайне замкнутый офицер.
Одним из последних появился граф Г., презиравший весь мир и считавший риск своего рода спортом. Невероятный гордец и смельчак.
Следом за ним вошли поручик Pap, с мрачным, сосредоточенным лицом, и молодой Мукке, воображавший себя будущим Наполеоном Последним прибыл хирург, доктор Край, в шинели, накинутой прямо на нижнее белье. У него был вид глубоко потрясенного человека. Он плохо слышал и не понимал, что произошло.
— Садитесь, господа, — сказал полковник, увидев, что все в сборе.
Офицеры расселись за маленькими, неудобными школьными партами, предназначенными для десятилетних детей. Все уже знали об «отречении» и понимали, что только такое экстраординарное событие могло заставить полковника поднять их среди ночи. В комнате повисла тишина.
Офицеры, словно ученики, застывшие в ожидании урока, тихо сидели на неудобных партах и не сводили с полковника глаз.
Полковник выдержал десятиминутную паузу.
Он очень нервничал. Никто из нас никогда еще не видел нашего командира в таком возбужденном состоянии. Полковник относился к той породе людей, которые быстро занимают наблюдательный пост, достают полевой бинокль и, подвергаясь опасности, изучают окопы врага, не обращая внимания на свистящие вокруг пули. В подобной ситуации он всегда сохранял полное спокойствие.
Наконец, оторвавшись от телеграммы, полковник поднял голову и оглядел класс. На него не отрываясь смотрели тридцать пар глаз. Вероятно, впервые в жизни он не мог прямо смотреть в глаза своим офицерам и не знал, что делать.
Левой рукой он прижимал саблю, словно эта была самая большая драгоценность, которую у него кто-то собирался отнять. В гробовой тишине было слышно, как рукав его мундира трется об эфес сабли.
Эта пытка тишиной не могла продолжаться до бесконечности. Полковник откашлялся и сказал:
— Внимание, господа!
Бессмысленно было взывать к вниманию людей, которые и так были само внимание. Его слова на какой-то миг разрушили тишину; офицеры, все как один, сменили позу, устраиваясь поудобнее, и наклонились вперед. Полковник взял телеграмму, лежавшую на столе, и мы увидели, как дрожит его рука. В комнате опять повисла тишина.
Наконец полковник овладел собой.
— Внимание, господа! — повторил он. — Я получил телеграмму из штаба в отношении его величества. Прошу всех встать!
Теперь мы слушали стоя, в полной тишине. Полковник зачитал телеграмму, в которой говорилось об отречении императора Николая II.
Это было печальное свидетельство сохранившего достоинство человека, который не мог выдержать возложенного на него бремени «Божьего избранника», попытавшегося спасти своего единственного сына от этого бремени.
Полковник медленно зачитал документ, словно стараясь, чтобы каждое слово запечатлелось у нас в мозгу. Закончив чтение, старый полковник поставил точку на своей карьере и жизни. Он понимал, что ему не остается ничего другого, как ждать конца. Неожиданно он обрел спокойствие. Осенив себя крестным знамением, он мягко сказал:
— Садитесь, господа. Можете курить.
Мы сели и закурили. И тут в звенящей от напряжения тишине раздался отчетливый голос.
— Трус!
Все узнали этот голос и, в изумлении, посмотрели на графа Г. Он, как всегда, в гордом одиночестве стоял у стены. Граф мог все, что угодно, простить монарху, кроме желания перестать быть монархом. Вся его жизнь, все мысли были подчинены сохранению традиций, аристократии, монархии.
Граф Г. был живым примером человека, отмеченного «Божьей милостью». Граф досконально изучил свою родословную. В его роду были епископы, сенаторы и даже знаменитые писатели. Он презирал тех, кто мог отступить и отказаться от своего предназначения.
Царь, который отрекся от престола, перестал для него существовать, и он высказал свое мнение. Трус!
Глядя на графа, я подумал: «Чертовски хороший актер» — и представил, как он был бы недоволен, если бы кто-то высказал эту мысль вслух. Мне с большим трудом удалось сохранять спокойствие и невозмутимость. Дело в том, что я испытывал особое чувство к графу Г.
Я имел отношение к театру и не скрывал этого. По мнению графа, людей, в той или иной мере связанных с театром, следовало хоронить за кладбищенскими стенами. Первые три месяца он просто не замечал меня. Однако после того как он понял, что я ничем не отличаюсь от остальных и так же пришпориваю коня, как представители древних родов, он начал со мной здороваться. Правда, дальше этого наше общение не пошло. Только «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!».
Теперь, нарушив тишину, граф Г. ждал от нас ответной реакции. Все молчали.
— Господин полковник, господа офицеры, — не дождавшись ответа, проговорил он, щелкнул шпорами и откланялся.
Назавтра он таинственным образом исчез. Никто не знает, как ему удалось это сделать, но он умудрился пройти по территории России, находившейся в руках мятежников, и очутиться в Варшаве. Его особняк был занят немцами. Как говорится, одним движением он выкинул войну из своей жизни. По его мнению, война велась не по правилам.
После ухода графа Г. офицеры один за другим вставали с места и подходили к полковнику, задавая вопросы или внося предложения. Все старались говорить как можно тише, словно не были уверены, что их вопросы подлежат публичному обсуждению. Полковник вежливо, но достаточно односложно отвечал офицерам.
— Да.
— Нет.
— Несомненно.
— Нет смысла.
Капитан Султан спокойно сидел на месте. На его благородном лице играла легкая улыбка. В нем текла кровь татарских ханов, и казалось, погрузившись в века, он сейчас искал и не находил среди них тех, кто когда-либо отрекся от престола. О храбрости Султана ходили легенды, при этом он был добрым и отзывчивым человеком.
Его жена-француженка повсюду следовала за ним. Она была единственной женщиной, находившейся вместе с нами на линии огня. Султан никогда не брал отпуск, зачем — его жена всегда была при нем.
Примерно через год после той ночи его эскадрон попал в окружение. Израсходовав все патроны, под ураганным огнем он с безрассудной смелостью прорвался через оцепление красноармейцев. Его ординарец и еще один солдат следовали за ним. Через сотню метров ординарец был ранен и упал с лошади. Султан повернул коня, подобрал ординарца, посадил его перед собой и поскакал дальше. Но пули все-таки достали Султана. На следующее утро раненый ординарец принес тело капитана Султана в лагерь белых.
Этой ночью Султан, являясь сторонником абсолютной монархии, тем не менее сохранял улыбку. Он молчал до тех пор, пока один из офицеров не заметил, что отречение царя освобождает офицеров от присяги.
— Я присягал императору, не зная, будет он хорошим или плохим. Я присягнул императору… и не откажусь от присяги, — встав с места, спокойно проговорил Султан.
Тут началось сущее вавилонское столпотворение.
Свалившаяся на них проблема была выше понимания офицеров. Они не были глупыми людьми — знали и были в состоянии обсудить и объяснить многие вещи, но их никогда не интересовало происходящее в мире. Армия всегда стояла вне политики.
Они умели переносить невзгоды, молча терпеть и не понаслышке знали, что такое смерть. Они были отличными солдатами. Но сейчас офицеры столкнулись с неразрешимой задачей.
Одни офицеры считали, что император не имел права отречься от престола. Он, как и они, тоже давал присягу на верность, и они не собираются верить никаким сообщениям до тех пор, пока не получат приказ от самого императора. Телеграмма об отречении была подписана Временным правительством.
Очевидно, эти офицеры были прирожденными белыми. Для них это был вопрос принципа. Они дали присягу и не могли ее нарушить. Эта группа офицеров собралась вокруг капитана Султана.
Центром другой группы стал капитан Бут.
— Все это напоминает мятеж. Но если солдат поднимает мятеж, в этом нет его вины, — громким, срывающимся голосом заявил Бут.
— В таком случае чья же это вина? — с мягкой улыбкой спросил Султан.
— Тех, кто над ним. В течение последних двадцати лет я управлял крестьянами, и одному Богу известно, сколько лет этим занимались мои предки. В нашем поместье никто никогда не поднимал мятежей.
Капитану Буту было чуть больше сорока. Он являлся владельцем большого поместья и отправился на войну с тремя ординарцами, шестью лошадьми, сворой гончих, собственным поваром и добрым запасом вина. Он не имел ни малейшего понятия о воинской службе, дисциплине и субординации. Легкий, веселый человек, всегда готовый прийти на помощь. В критический момент он запросто мог хлопнуть полковника по спине и предложить отправиться на охоту. В детстве кто-то рассказал ему, что некоторые его предки были хорошими солдатами, и он считал, что это в равной степени относится и к нему. Он действительно всегда скакал впереди эскадрона и никогда не отступал. Бут был одним из немногих, кто всегда заступался за пострадавших. Любой солдат мог обратиться к нему за помощью.
Теперь вокруг капитана собрались те, кто считал, что должно найтись какое-то решение. Если уж на то пошло, заявили они, известны примеры надежных государств с республиканской формой правления. Они уже тогда понимали, что невозможен компромисс между абсолютной монархией и республикой.
Эта группа пыталась рассмотреть проблему с точки зрения закона. Они решали, каким образом преподнести эту новость солдатам, как вести себя в сложившейся ситуации, стоит ли им оставаться на военной службе.
Большинство офицеров согласились с Султаном, небольшая часть приняла сторону Бута, а один офицер остался в полном одиночестве.
Этим человеком был капитан Лан. Невысокий, худенький, с маленькими глазками на узком лице с тонкой полоской усов, длинным носом и маленьким ртом. Впрочем, с руками, словно сделанными из стали. Он был одним из лучших наездников в армии и выиграл немало призов. Должен признаться, что я не встречал более мерзкого человека. Грубый, безжалостный, жестокий. Для него не существовало никого и ничего, что бы он любил или перед чем преклонялся. Подозрительный, вечно ожидающий подвоха, злобный маленький человечек.
Лошади его боялись, и он никогда не заходил в стойло, чтобы выпустить лошадь. Это за него делал ординарец. Лошадь подчинялась ему только тогда, когда он вскакивал в седло. Возможно, Лан чувствовал, что, если окажется с лошадью в стойле, ему не придется ждать пощады. Я так и не понял, вызывал ли кто-нибудь у него симпатию. У него не было друзей.
Лан неожиданно заговорил об офицерских обязанностях, но в его резком голосе не было и тени воодушевления. Он не относил себя ни к одной из вновь созданных группировок. Он, как обычно, наблюдал за происходящим со стороны и руководствовался не эмоциями, а параграфом устава.
Оставшаяся часть офицеров (я был в их числе) пыталась собраться с мыслями… Увы, все было тщетно. Мы говорили общие слова, но никто не мог предложить ничего дельного.
Мы вновь и вновь перебирали события этой ночи. Чтение телеграммы из штаба. Первая пауза. Разговоры шепотом. Обсуждение, как быть и что делать.
Только один из нас, похоже, знал, что делать. И он, наконец, заговорил.
Для нас революция началась с выступления капитана Баса.
Высокий, немного сутулый, капитан Бас имел сильный командный голос. Стоило ему начать говорить, как мы словно очнулись. Все головы повернулись в его сторону.
— Господа, вы понимаете, что случилось… Дело не во Временном правительстве… Не в царе… Не в Думе…
Его взволнованный голос заставил забыть о спорах. Второй раз за эту ночь наступила полная тишина. В этой напряженной тишине звучал взволнованный голос. В течение десяти минут капитан Бас удерживал напряженное внимание аудитории.
У капитана был здоровый цвет лица. Белокурые волосы. Синевато-стальной цвет глаз, как у Джорджа Вашингтона Он не вынимал изо рта сигарету и был довольно молчалив. Бас, наверно, впервые заговорил, не дожидаясь приглашения. Это свидетельствовало о том, что в нем произошли какие-то серьезные изменения.
Он стоял спиной к единственной лампе под нелепым розовым абажуром, и мы не могли разглядеть его лицо. Был виден только темный силуэт с ореолом вокруг головы. Он сопровождал речь короткими, рублеными жестами.
— Господа, это означает освобождение ста пятидесяти миллионов человек. Это означает новые порядки и новые свободы. Это означает, что каждый человек сможет теперь доказать, на что он способен.
Никто не понимал, о чем он говорит. Никто, казалось, не удивлялся его словам, и только позже мы осознали, какое ошеломляющее впечатление на нас произвела его речь.
От атмосферы неуверенности, возникшей после чтения телеграммы, не осталось и следа, словно после успокаивающей мелодии медленного вальса мы услышали сумасшедшие джазовые ритмы. Капитан Бас первым заставил меня услышать ритм революции.
Онемев от удивления, мы внимали неведомым прежде словам: «буржуи», «рабы капитализма», «предатели народа». В словах капитана не было ненависти. Он никого не обвинял. Он не видел врага в императоре, отрекшемся от престола. Он говорил исключительно о будущем. Никто из нас не мог даже предположить, как этот человек догадался, что телеграмма была подлинной, что с монархией покончено раз и навсегда.
Ходили слухи, что капитан Бас был незаконнорожденным сыном известного члена Думы. Капитан был, несомненно, незаурядным человеком. Любил в одиночестве прогуливаться, скакать на коне, читать. Он, возможно, чувствовал, что, выказывая ему показное уважение, кто-то за спиной шепотом произносит слово «незаконнорожденный». Но он знал, как заставить себя уважать. Всегда четко формулирующий мысль, Бас не давал возможности собеседникам вовлечь его в спор. Позже мы узнали, что у него были глубокие знания в области социологии и теории революции. В последующие дни людей захлестнут эмоции. Ораторы на митингах будут кричать и выплевывать оскорбления, доводя себя и толпу до исступления, и толпа будет требовать крови и мщения. В этой атмосфере смятения и беспорядка капитан Бас будет спокойно подниматься на трибуну и тихим, «профессорским» голосом объяснять буйной, возбужденной, опьяненной ощущением свободы толпе значение происходящего.
Второй раз за эту ночь в комнате наступила тишина, нарушаемая только уверенным голосом, говорящим неслыханные вещи.
Выступление Баса длилось около десяти минут, а затем раздались недовольные крики. Постепенно пришло понимание, что предложения Баса не годятся для офицеров. Они подошли бы для студентов, рабочих, для всех этих сумасшедших революционеров, но только не для офицеров царской армии.
Обстановка накалялась. Капитан Бас, обладая сильным голосом, какое-то время еще мог перекрикивать около двадцати орущих офицеров, но вскоре и он сдался.
Теперь кто-то замыслил вовлечь капитана в спор. Некоторые убеждали полковника, что он должен вмешаться и прекратить обсуждение. Полковник попытался докричаться до Баса, но у него ничего не вышло.
В четыре утра было уже ясно, какая сторона в этом споре выйдет победителем. С одной стороны звучали резкие, как выстрелы, аргументы. С другой слышался тихий ропот, словно ветер пробегал по кронам деревьев.
Капитан Бас, почувствовав, что все ополчились против него, перестал говорить общие фразы о правах человека и обратился к персоналиям. Пристально глядя в глаза, он принялся объяснять каждому из нас, кем мы являемся по сути. Он безжалостно расправлялся с нами. Ты, заявил капитан Буту, дурак и бездельник. Твое место, Шмиль, на конюшне; единственное, на что ты способен, — быть помощником конюха. А доктор ничего не смыслит в медицине, категорически заявил Бас.
Капитан был не похож на себя. Он, словно дикая кошка, отбивался от окружившей его стаи волков. Теперь он понял, что не было смысла говорить этим людям о высоких, гуманных аспектах революции.
Атмосфера накалилась до предела. Офицеры плотно обступили капитана. Хорошо, что они пришли без оружия, иначе Бас был бы тут же расстрелян. Молодые офицеры, протиснувшись к капитану, в ответ на его оскорбления стали выкрикивать:
— Предатель!
— Под трибунал его!
— Повесить!
Тяжелые удары в дверь со стороны улицы оборвали крики. Неожиданно запертая дверь с треском распахнулась, и в дверном проеме возникла чья-то фигура. В первый момент мы не поняли, кто стоит в дверях. В наступившей тишине все головы повернулись к двери, и оттуда спокойно донеслось:
— Доброе утро, граждане!
Третий раз за эту сумасшедшую ночь наступила гробовая тишина. На пороге комнаты стоял солдат из 114-го русского пехотного полка. Он считался никчемным солдатом. Вечно грязный, бестолковый, на него никогда не обращали особого внимания.
Теперь солдат по-хозяйски стоял в дверях в нарушение всех правил и инструкций. Фуражка, сдвинутая на одно ухо; расстегнутый воротник гимнастерки; шинель, переброшенная через плечо. На поясе два браунинга. На нем почему-то были длинные брюки, право на ношение которых имели только офицеры.
Это был червь, ничтожество! Паршивая гнида!
Потрясенные, мы следили, как он прошел через комнату к полковнику. Его речь звучала так, словно он в течение долгого времени заучивал свою роль, но, являясь плохим актером, был вынужден делать невероятные усилия, чтобы завладеть аудиторией. Он безуспешно пытался говорить с аристократической небрежностью.
— Гражданин полковник, я представитель местного комитета солдат и рабочих. Я принимаю на себя функции представителя солдат в нашем гарнизоне.
Рука его сжимала телеграмму, подписанную левыми социалистами. Телеграмма, полученная полковником, была подписана Временным правительством. Пока Временное правительство пыталось пойти законным путем, левые социалисты действовали собственными методами. Они срочно отдали приказ своим представителям об организации солдатских, рабочих и крестьянских комитетов.
Вот так рядовой Шук поставил себя рядом с полковником во главе знаменитого полка. Он не случайно был в офицерских брюках: судя по всему, он предполагал всерьез взяться за дело. Полковник никак не отреагировал на слова рядового, но тут взвился Шмиль:
— Сукин сын! Тридцать суток на хлебе и воде!
— Господин корнет, — вмешался полковник, — вы находитесь в присутствии высших чинов.
Шмиль, молча козырнув, судорожно оглядывался в поисках какого-нибудь орудия, чтобы бить, громить, убивать, в то время как Шук, держа в каждой руке по пистолету, с глумливой улыбкой следил за его судорожными движениями. Затем, повернувшись спиной к Шмилю, он сказал полковнику:
— Думаю, будет лучше уволить граждан офицеров. Они слишком нервничают из-за того, что пришел конец их власти. Нам с вами, гражданин полковник, надо многое обсудить. Комиссар назначил проведение политического митинга гарнизона на одиннадцать утра. Я хочу подготовиться к митингу и готов выслушать ваши мысли по этому поводу. С этого момента мы будем действовать в полном согласии.
Мы выглядели столь же нелепо, как человек, который пытается сохранить достоинство, в то время как у него из-под ног вытягивают ковер.
Не знаю, чем бы все это могло закончиться, но тут вмешался капитан Бас.
— Мы провели тут всю ночь и сильно устали, — спокойно заговорил он, обращаясь к Шуку. — Раз митинг назначен на одиннадцать, я предлагаю сейчас прерваться. Мы все серьезно обдумаем и через два часа встретимся.
Затем он молча повернулся и, сохраняя невозмутимость, вышел из комнаты. Шук, как маленькая собачка, услышавшая голос хозяина, торопливо засеменил следом. Едва они исчезли из вида, как в углу комнаты раздался громкий истерический хохот.
Смеялся капитан Лан. Красный, с широко раскрытым ртом, он хлопал себя по бедрам руками, заходясь в истеричном смехе. Я боялся, что его разорвет от хохота, но он все-таки смог взять себя в руки и заговорил:
— Господа офицеры! Его высочество рядовой Шук решил вопрос с вашей присягой. Вы не знали, как быть, а он в момент все решил. Он решил… — Словно пьяный, с трудом удерживаясь на ногах, Лан судорожно вцепился в выломанный дверной косяк. — Спокойной ночи, граждане! Спокойной ночи, граждане! — продолжал выкрикивать он, слабо улыбаясь и раскланиваясь во все стороны. — Встретимся утром на митинге, граждане. Всего доброго, граждане.
Продолжая бормотать, Лан удалился из комнаты.
Оставшиеся офицеры медленно вышли в холодное, серое утро и молча разошлись по квартирам». (Болеславский Р. Путь улана. Воспоминания польского офицера 1916-1918. / Перевод Л. Игоревского. М.: «Центрполиграф», 2008. С. 63-76.) http://militera.lib.ru/memo...
Автор воспоминаний Болеславский Ричард Валентинович: https://ru.wikipedia.org/wi...
«Одним из офицеров в 1-м эскадроне был Ричард Болеславский, актёр и режиссёр МХАТа, а позже в Голливуде, который описал действия эскадрона и полка в своей книге (изданной на английском языке в США) англ. «The Way of the Lancer», однако придерживаясь псевдонимов вместо имён своих однополчан-офицеров». https://ru.wikipedia.org/wi...
«Великая, единая и недѣлимая Россія» — говорило уму и сердцу каждаго отчетливо и ясно. Но дальше дѣло осложнялось. Громадное большинство команднаго состава и офицерства было монархистами. Въ одномъ изъ своихъ писемъ*** (*** Письмо къ ген. Щербачеву отъ 31 іюля 18 года.) ген. Алексѣевъ опредѣлялъ совершенно искренне свое убѣжденіе въ этомъ отношеніи и довольно вѣрно офицерскія настроенія:
«...Руководящіе дѣятели арміи сознаютъ, что нормальнымъ ходомъ событій Россія должна подойти къ возстановленію монархіи, конечно, съ тѣми поправками, кои необходимы для облегченія гигантской работы цо управленію для одного лица. Какъ показалъ продолжительный опытъ пережитыхъ событій, никакая другая форма правленія не можетъ обезпечить цѣлость, единство, величіе государства, объединить въ одно цѣлое разные народы, населяющіе его территорію. Такъ думаютъ почти всѣ офицерскіе элементы, входящіе въ составъ Добровольческой арміи, ревниво слѣдящіе за тѣмъ, чтобы руководители не уклонились отъ этого основного принципа»1. (1 Я предпочитаю изобразить взглядъ М. В. его собственными словами и утверждаю, что этотъ взглядъ былъ присущъ ему во всѣхъ стадіяхъ нашей совмѣстной дѣятельности на Югѣ Россіи.)
Но въ маѣ — іюнѣ настроеніе офицерства подъ вліяніемъ активныхъ правыхъ общественныхъ круговъ было значительно сложнѣе. Очень многіе считали необходимымъ немедленное офиціальное признаніе въ арміи монархическаго лозунга. Это настроеніе проявлялось не только внѣшне въ демонстративномъ ношеніи романовскихъ медалей, пѣніи гимна и т. п., но и въ нѣкоторомъ броженіи въ частяхъ и... убыли въ рядахъ арміи. Въ частности появились офицеры — агитаторы, склонявшіе добровольцевъ къ участію въ тайныхъ организаціяхъ; въ своей работѣ они злоупотребляли и именемъ в. кн. Николая Николаевича. Меня непріятно удивила однажды сцена во время военнаго совѣта передъ походомъ: Марковъ рѣзко отозвался о дѣятельности въ арміи монархическихъ организацій; Дроздовскій вспылилъ:
— Я самъ состою въ тайной монархической организаціи... Вы не дооцѣниваете нашей силы и значенія...
Въ концѣ апрѣля въ обращеніи къ русскимъ людямъ я опредѣлилъ политическія цѣли борьбы Добровольческой арміи*. (* Декларація отъ 23 апрѣля. См. Т. II, гл. XXXI.) Въ началѣ мая мною, съ вѣдома ген. Алексѣева, былъ данъ наказъ представителямъ арміи, разосланнымъ въ разные города, для общаго руководства:
I. Добровольческая армія борется за спасеніе Россіи путемъ 1) созданія сильной дисциплинированной и патріотической арміи; 2) безпощадной борьбы съ большевизмомъ; 3) установленія въ странѣ единства государственнаго и правового порядка.
II. Стремясь къ совмѣстной работѣ со всѣми русскими людьми, государственно мыслящими, Добровольческая армія не можетъ принять партійной окраски.
III. Вопросъ о формахъ государственнаго строя является послѣдующимъ этапомъ и станетъ отраженіемъ воли русскаго народа, послѣ освобожденія его отъ рабской неволи и стихійнаго помѣшательства.
IV. Никакихъ сношеній ни съ нѣмцами, ни съ большевиками. Единственно пріемлемыя положенія: уходъ изъ предѣловъ Россіи первыхъ и разоруженіе и сдача вторыхъ.
V. Желательно привлеченіе вооруженныхъ силъ славянъ на основѣ ихъ историческихъ чаяній, не нарушающихъ единства и цѣлостности русскаго государства, и на началахъ, указанныхъ въ 1914 году русскимъ Верховнымъ главнокомандующимъ.
Оба эти обращенія нашли живой откликъ, но... не совсѣмъ сочувственный.
Офицерство не удовлетворялось осторожнымъ «умолчаніемъ» Алексѣева — формулой, которая гласно не расшифровывалась, раздѣлялась многими старшими начальниками и въ цитированномъ мною выше письмѣ** (** Алексѣева къ Щербачеву.) была высказана вполнѣ откровенно: «...Добровольческая армія не считаетъ возможнымъ теперь же принять опредѣленные политическіе лозунги ближайшаго государственнаго устройства, признавая, что вопросъ этотъ недостаточно еще назрѣлъ въ умахъ всего русскаго народа и что преждевременно объявленный лозунгъ можетъ лишь затруднить выполненіе широкихъ государственныхъ задачъ».
Еще менѣе, конечно, могло удовлетворить офицерство мое «непредрѣшеніе» и въ особенности моя декларація съ упоминаніемъ объ «Учредительномъ собраніи» и «народоправствѣ». Начальники бригадъ доложили мнѣ, что офицерство смущено этими терминами... Такое же впечатлѣніе произвели они въ другомъ крупномъ центрѣ про- тивоболыпевицкаго движенія — Кіевѣ. Ген. Лукомскій писалъ мнѣ въ то время*** (*** 14 мая 18 года.): «...Я глубоко убѣжденъ, что это воззваніе вызоветъ въ самой арміи и смущеніе, и расколъ. Въ странѣ же многихъ отшатнетъ отъ желанія идти въ армію или работать съ ней рука объ руку. Можетъ быть, до васъ еще не дошелъ пульсъ біенія страны, но долженъ Васъ увѣрить, что поправѣніе произошло громадное. Что всѣ партіи, кромѣ соціалистическихъ, видятъ единственной пріемлемой формой конституціонную монархію. Большинство отрицаетъ возможность созыва новаго Учредительнаго собранія, а тѣ, кто допускаютъ, считаютъ, что членами такового могутъ быть допущены лишь цензовые элементы. Вамъ необходимо высказаться болѣе опредѣленно и ясно»...
Милюковъ сообщалъ Ц. К. партіи въ Москву, что онъ «вступилъ уже въ сношенія съ ген. Алексѣевымъ, чтобы убѣдить его обратить Добровольческую армію на служеніе этой задачѣ»*... (* Объединеніе Россіи путемъ контакта съ нѣмцами и возстановленіе конституціонной монархіи. Письмо 7 мая 18 г.) А кн. Г. Трубецкой нѣсколько позже въ своемъ донесеніи Правому Центру** (** 30 іюля 18 г.) недоумѣвалъ: «...какъ все перемѣнилось! Вѣдь, какъ это ни дико, но для штаба Добровольческой арміи, напримѣръ, позиція Милюкова слишкомъ правая, ибо они все еще не отдѣлались отъ полинявшихъ побрякушекъ, вродѣ Учредительнаго собранія, и не высказались еще за монархію».
Атмосфера въ арміи сгущалась и необходимо было такъ или иначе разрѣдить ее. Давъ волю тогдашнимъ офицерскимъ пожеланіямъ, мы отвѣтили бы и слагавшимся тогда настроеніямъ значительныхъ группъ несоціалистической интеллигенціи, но рисковали полнымъ разрывомъ съ народомъ, въ частности съ казачествомъ — тогда не только не склоннымъ къ пріятію монархической идеи, но даже прямо враждебнымъ ей». (Деникинъ А.И. Очерки Русской Смуты. T. III. Бѣлое движенiе и борьба добровольческой армiи. Май – октябрь 1918 года. Берлинъ. 1924. Стр. 130-132.)
Во-первых. Показательно, что Деникина «неприятно удивило» создание тайных монархических офицерских организаций, но нимало не смущал военный заговор во главе с Гучковым и подчинявшимся ему генералом Алексеевым, приведший к свержению царя и революции.
Во-вторых. Заявления Деникина о враждебности казаков самодержавию, по меньшей мере, сомнительны. Хотя бы потому, что в Войске Донском (область Войска Донского) были восстановлены законы Российской Империи: https://my.mail.ru/communit...
Сын атамана Всевеликого Войска Донского генерал-лейтенанта Африкана Петровича Богаевского Борис оставил следующую дарственную надпись на титульном листе воспоминаний отца: «Наши отцы – генералы Русской Императорской Армии имели счастье честно и верно служить России. Наша судьба сложилась иначе …
Искренно тебя уважающий
(Богаевский А.П. Воспоминания. 1918 год. «Ледяной поход». Нью-Иорк. 1963.) https://rev-lib.com/vospomi...
«БОГАЕВСКИЙ Борис Африканович (дон.) – рожд. 1908 г., ст. Каменской; младший сын Донского атамана А.П. Богаевского; инженер-химик, писатель-историк, редактор журнала «Родимый Край» и многолетний председатель Казачьего Союза. С 1930 г., после окончания Высшего Химического института в Руане, служит в крупном французском предприятии, производящем искусственные органические вещества. Состоит одним из директоров своей фирмы, а одновременно и техническим консультантом в нескольких других косметических предприятиях. Сотрудничает в европейской и американской технической печати. В 1938 г. особым изданием опубликована его работа на французском языке «Обработка и окраска мехов». Изобретения инж. Б. запатентованы и эксплуатируются в некоторых европейских странах, а сам он неоднократно командировался своею фирмой в Италию, Испанию и Скандинавию, как для изучения местной промышленности, так и для организации там новых методов работы в кожевенной, меховой, бумажной и косметической промышленностях. Одновременно с этим остается неутомимым и уважаемым казачьим общественным деятелем; в журнале «Родимый Край» часто печатает свои очерки на темы казачьей истории последних веков». (Казачий словарь справочник. Т. I. Абрамов-Зябловский. Кливленд. 1966.)
Казачий словарь справочник.
Три тома в одном: http://library.khpg.org/fil...
http://library.kazachiy-hut...
Т. I. Абрамов-Зябловский. Кливленд. 1966. [отсутствуют первые 112 страниц] https://vtoraya-literatura....
Т. II. Ибн Батута – Пятый Дон. каз. полк. Сан Ансельмо. 1968. [отсутствуют страницы после 178] https://vtoraya-literatura....
Т. III. Раа – Ятовь. Сан Ансельмо. 1970. [отсутствуют страницы после 341] https://vtoraya-literatura....
«Глава 7
НОЧЬ ОТКРОВЕНИЙ
НОЧЬ ОТКРОВЕНИЙ
Ночью я крепко спал, когда ординарец разбудил меня и передал, что меня требуют в штаб полка.
— Что случилось? — еще не окончательно проснувшись, спросил я.
Он, словно опасаясь, что нас может кто-то услышать, хрипло прошептал:
— Император отрекся от престола, — и, помолчав, словно пытаясь привыкнуть к этой мысли, закончил: — Теперь войне конец.
Ординарец считал, что император развязал войну; император, имевший власть, заставлял людей страдать и умирать. А раз император отрекся, значит, войне конец.
Ошеломленный полученным известием, я быстро оделся и поспешил в штаб. Там уже собралось порядка пятнадцати офицеров. Все переговаривались тихими голосами, почти шепотом.
Полковник собрал нас в бывшей классной комнате. Мы расселись за партами, а полковник сел за стол преподавателя, располагавшийся на небольшом возвышении. Полковник всегда был скорее учителем, чем командиром и смотрелся на учительской кафедре очень уместно. Внимательный, любящий, он был для нас кем-то вроде отца. Для этого сорокапятилетнего холостяка семьей был полк, а мы его сыновьями.
Уланы любили своего полковника. Он был строг, но никогда не нарушал данного слова и никогда не лгал. И солдаты знали, что обманывать его бесполезно. Он всегда давал человеку возможность исправиться, если тот честно признался во всем, но был беспощаден в отношении тех, кто пытался обмануть его. Он обожал лошадей и очень тревожился за них и всегда подчеркивал, что улан в первую очередь должен заботиться о лошади, а уж потом, в оставшееся время, о себе. Может, я несколько преувеличиваю, но думаю, что полковник крах революции видел в том, что люди перестали заботиться о лошадях. Он был выходцем из старой дворянской семьи, но человеком во всех отношениях непритязательным.
Сейчас полковник сидел за учительским столом в классной комнате. Ставни были закрыты. Единственным источником света была лампа под шелковым розовым абажуром, стоявшая на столе. В комнате царил полумрак. Полковник изучал телеграмму, лежащую перед ним.
Комната постепенно заполнялась офицерами. В углу, прислонившись к стене, стоял капитан Бут. Рядом с ним молодой корнет Шмиль, прямой и напряженный. Капитан Султан, потомок татарских ханов, чья семья считалась польской в четвертом поколении, прохаживался взад-вперед. Вместе с ним мерил комнату шагами капитан Лан, невысокий, худой, крайне замкнутый офицер.
Одним из последних появился граф Г., презиравший весь мир и считавший риск своего рода спортом. Невероятный гордец и смельчак.
Следом за ним вошли поручик Pap, с мрачным, сосредоточенным лицом, и молодой Мукке, воображавший себя будущим Наполеоном Последним прибыл хирург, доктор Край, в шинели, накинутой прямо на нижнее белье. У него был вид глубоко потрясенного человека. Он плохо слышал и не понимал, что произошло.
— Садитесь, господа, — сказал полковник, увидев, что все в сборе.
Офицеры расселись за маленькими, неудобными школьными партами, предназначенными для десятилетних детей. Все уже знали об «отречении» и понимали, что только такое экстраординарное событие могло заставить полковника поднять их среди ночи. В комнате повисла тишина.
Офицеры, словно ученики, застывшие в ожидании урока, тихо сидели на неудобных партах и не сводили с полковника глаз.
Полковник выдержал десятиминутную паузу.
Он очень нервничал. Никто из нас никогда еще не видел нашего командира в таком возбужденном состоянии. Полковник относился к той породе людей, которые быстро занимают наблюдательный пост, достают полевой бинокль и, подвергаясь опасности, изучают окопы врага, не обращая внимания на свистящие вокруг пули. В подобной ситуации он всегда сохранял полное спокойствие.
Наконец, оторвавшись от телеграммы, полковник поднял голову и оглядел класс. На него не отрываясь смотрели тридцать пар глаз. Вероятно, впервые в жизни он не мог прямо смотреть в глаза своим офицерам и не знал, что делать.
Левой рукой он прижимал саблю, словно эта была самая большая драгоценность, которую у него кто-то собирался отнять. В гробовой тишине было слышно, как рукав его мундира трется об эфес сабли.
Эта пытка тишиной не могла продолжаться до бесконечности. Полковник откашлялся и сказал:
— Внимание, господа!
Бессмысленно было взывать к вниманию людей, которые и так были само внимание. Его слова на какой-то миг разрушили тишину; офицеры, все как один, сменили позу, устраиваясь поудобнее, и наклонились вперед. Полковник взял телеграмму, лежавшую на столе, и мы увидели, как дрожит его рука. В комнате опять повисла тишина.
Наконец полковник овладел собой.
— Внимание, господа! — повторил он. — Я получил телеграмму из штаба в отношении его величества. Прошу всех встать!
Теперь мы слушали стоя, в полной тишине. Полковник зачитал телеграмму, в которой говорилось об отречении императора Николая II.
Это было печальное свидетельство сохранившего достоинство человека, который не мог выдержать возложенного на него бремени «Божьего избранника», попытавшегося спасти своего единственного сына от этого бремени.
Полковник медленно зачитал документ, словно стараясь, чтобы каждое слово запечатлелось у нас в мозгу. Закончив чтение, старый полковник поставил точку на своей карьере и жизни. Он понимал, что ему не остается ничего другого, как ждать конца. Неожиданно он обрел спокойствие. Осенив себя крестным знамением, он мягко сказал:
— Садитесь, господа. Можете курить.
Мы сели и закурили. И тут в звенящей от напряжения тишине раздался отчетливый голос.
— Трус!
Все узнали этот голос и, в изумлении, посмотрели на графа Г. Он, как всегда, в гордом одиночестве стоял у стены. Граф мог все, что угодно, простить монарху, кроме желания перестать быть монархом. Вся его жизнь, все мысли были подчинены сохранению традиций, аристократии, монархии.
Граф Г. был живым примером человека, отмеченного «Божьей милостью». Граф досконально изучил свою родословную. В его роду были епископы, сенаторы и даже знаменитые писатели. Он презирал тех, кто мог отступить и отказаться от своего предназначения.
Царь, который отрекся от престола, перестал для него существовать, и он высказал свое мнение. Трус!
Глядя на графа, я подумал: «Чертовски хороший актер» — и представил, как он был бы недоволен, если бы кто-то высказал эту мысль вслух. Мне с большим трудом удалось сохранять спокойствие и невозмутимость. Дело в том, что я испытывал особое чувство к графу Г.
Я имел отношение к театру и не скрывал этого. По мнению графа, людей, в той или иной мере связанных с театром, следовало хоронить за кладбищенскими стенами. Первые три месяца он просто не замечал меня. Однако после того как он понял, что я ничем не отличаюсь от остальных и так же пришпориваю коня, как представители древних родов, он начал со мной здороваться. Правда, дальше этого наше общение не пошло. Только «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!».
Теперь, нарушив тишину, граф Г. ждал от нас ответной реакции. Все молчали.
— Господин полковник, господа офицеры, — не дождавшись ответа, проговорил он, щелкнул шпорами и откланялся.
Назавтра он таинственным образом исчез. Никто не знает, как ему удалось это сделать, но он умудрился пройти по территории России, находившейся в руках мятежников, и очутиться в Варшаве. Его особняк был занят немцами. Как говорится, одним движением он выкинул войну из своей жизни. По его мнению, война велась не по правилам.
После ухода графа Г. офицеры один за другим вставали с места и подходили к полковнику, задавая вопросы или внося предложения. Все старались говорить как можно тише, словно не были уверены, что их вопросы подлежат публичному обсуждению. Полковник вежливо, но достаточно односложно отвечал офицерам.
— Да.
— Нет.
— Несомненно.
— Нет смысла.
Капитан Султан спокойно сидел на месте. На его благородном лице играла легкая улыбка. В нем текла кровь татарских ханов, и казалось, погрузившись в века, он сейчас искал и не находил среди них тех, кто когда-либо отрекся от престола. О храбрости Султана ходили легенды, при этом он был добрым и отзывчивым человеком.
Его жена-француженка повсюду следовала за ним. Она была единственной женщиной, находившейся вместе с нами на линии огня. Султан никогда не брал отпуск, зачем — его жена всегда была при нем.
Примерно через год после той ночи его эскадрон попал в окружение. Израсходовав все патроны, под ураганным огнем он с безрассудной смелостью прорвался через оцепление красноармейцев. Его ординарец и еще один солдат следовали за ним. Через сотню метров ординарец был ранен и упал с лошади. Султан повернул коня, подобрал ординарца, посадил его перед собой и поскакал дальше. Но пули все-таки достали Султана. На следующее утро раненый ординарец принес тело капитана Султана в лагерь белых.
Этой ночью Султан, являясь сторонником абсолютной монархии, тем не менее сохранял улыбку. Он молчал до тех пор, пока один из офицеров не заметил, что отречение царя освобождает офицеров от присяги.
— Я присягал императору, не зная, будет он хорошим или плохим. Я присягнул императору… и не откажусь от присяги, — встав с места, спокойно проговорил Султан.
Тут началось сущее вавилонское столпотворение.
Свалившаяся на них проблема была выше понимания офицеров. Они не были глупыми людьми — знали и были в состоянии обсудить и объяснить многие вещи, но их никогда не интересовало происходящее в мире. Армия всегда стояла вне политики.
Они умели переносить невзгоды, молча терпеть и не понаслышке знали, что такое смерть. Они были отличными солдатами. Но сейчас офицеры столкнулись с неразрешимой задачей.
Одни офицеры считали, что император не имел права отречься от престола. Он, как и они, тоже давал присягу на верность, и они не собираются верить никаким сообщениям до тех пор, пока не получат приказ от самого императора. Телеграмма об отречении была подписана Временным правительством.
Очевидно, эти офицеры были прирожденными белыми. Для них это был вопрос принципа. Они дали присягу и не могли ее нарушить. Эта группа офицеров собралась вокруг капитана Султана.
Центром другой группы стал капитан Бут.
— Все это напоминает мятеж. Но если солдат поднимает мятеж, в этом нет его вины, — громким, срывающимся голосом заявил Бут.
— В таком случае чья же это вина? — с мягкой улыбкой спросил Султан.
— Тех, кто над ним. В течение последних двадцати лет я управлял крестьянами, и одному Богу известно, сколько лет этим занимались мои предки. В нашем поместье никто никогда не поднимал мятежей.
Капитану Буту было чуть больше сорока. Он являлся владельцем большого поместья и отправился на войну с тремя ординарцами, шестью лошадьми, сворой гончих, собственным поваром и добрым запасом вина. Он не имел ни малейшего понятия о воинской службе, дисциплине и субординации. Легкий, веселый человек, всегда готовый прийти на помощь. В критический момент он запросто мог хлопнуть полковника по спине и предложить отправиться на охоту. В детстве кто-то рассказал ему, что некоторые его предки были хорошими солдатами, и он считал, что это в равной степени относится и к нему. Он действительно всегда скакал впереди эскадрона и никогда не отступал. Бут был одним из немногих, кто всегда заступался за пострадавших. Любой солдат мог обратиться к нему за помощью.
Теперь вокруг капитана собрались те, кто считал, что должно найтись какое-то решение. Если уж на то пошло, заявили они, известны примеры надежных государств с республиканской формой правления. Они уже тогда понимали, что невозможен компромисс между абсолютной монархией и республикой.
Эта группа пыталась рассмотреть проблему с точки зрения закона. Они решали, каким образом преподнести эту новость солдатам, как вести себя в сложившейся ситуации, стоит ли им оставаться на военной службе.
Большинство офицеров согласились с Султаном, небольшая часть приняла сторону Бута, а один офицер остался в полном одиночестве.
Этим человеком был капитан Лан. Невысокий, худенький, с маленькими глазками на узком лице с тонкой полоской усов, длинным носом и маленьким ртом. Впрочем, с руками, словно сделанными из стали. Он был одним из лучших наездников в армии и выиграл немало призов. Должен признаться, что я не встречал более мерзкого человека. Грубый, безжалостный, жестокий. Для него не существовало никого и ничего, что бы он любил или перед чем преклонялся. Подозрительный, вечно ожидающий подвоха, злобный маленький человечек.
Лошади его боялись, и он никогда не заходил в стойло, чтобы выпустить лошадь. Это за него делал ординарец. Лошадь подчинялась ему только тогда, когда он вскакивал в седло. Возможно, Лан чувствовал, что, если окажется с лошадью в стойле, ему не придется ждать пощады. Я так и не понял, вызывал ли кто-нибудь у него симпатию. У него не было друзей.
Лан неожиданно заговорил об офицерских обязанностях, но в его резком голосе не было и тени воодушевления. Он не относил себя ни к одной из вновь созданных группировок. Он, как обычно, наблюдал за происходящим со стороны и руководствовался не эмоциями, а параграфом устава.
Оставшаяся часть офицеров (я был в их числе) пыталась собраться с мыслями… Увы, все было тщетно. Мы говорили общие слова, но никто не мог предложить ничего дельного.
Мы вновь и вновь перебирали события этой ночи. Чтение телеграммы из штаба. Первая пауза. Разговоры шепотом. Обсуждение, как быть и что делать.
Только один из нас, похоже, знал, что делать. И он, наконец, заговорил.
Для нас революция началась с выступления капитана Баса.
Высокий, немного сутулый, капитан Бас имел сильный командный голос. Стоило ему начать говорить, как мы словно очнулись. Все головы повернулись в его сторону.
— Господа, вы понимаете, что случилось… Дело не во Временном правительстве… Не в царе… Не в Думе…
Его взволнованный голос заставил забыть о спорах. Второй раз за эту ночь наступила полная тишина. В этой напряженной тишине звучал взволнованный голос. В течение десяти минут капитан Бас удерживал напряженное внимание аудитории.
У капитана был здоровый цвет лица. Белокурые волосы. Синевато-стальной цвет глаз, как у Джорджа Вашингтона Он не вынимал изо рта сигарету и был довольно молчалив. Бас, наверно, впервые заговорил, не дожидаясь приглашения. Это свидетельствовало о том, что в нем произошли какие-то серьезные изменения.
Он стоял спиной к единственной лампе под нелепым розовым абажуром, и мы не могли разглядеть его лицо. Был виден только темный силуэт с ореолом вокруг головы. Он сопровождал речь короткими, рублеными жестами.
— Господа, это означает освобождение ста пятидесяти миллионов человек. Это означает новые порядки и новые свободы. Это означает, что каждый человек сможет теперь доказать, на что он способен.
Никто не понимал, о чем он говорит. Никто, казалось, не удивлялся его словам, и только позже мы осознали, какое ошеломляющее впечатление на нас произвела его речь.
От атмосферы неуверенности, возникшей после чтения телеграммы, не осталось и следа, словно после успокаивающей мелодии медленного вальса мы услышали сумасшедшие джазовые ритмы. Капитан Бас первым заставил меня услышать ритм революции.
Онемев от удивления, мы внимали неведомым прежде словам: «буржуи», «рабы капитализма», «предатели народа». В словах капитана не было ненависти. Он никого не обвинял. Он не видел врага в императоре, отрекшемся от престола. Он говорил исключительно о будущем. Никто из нас не мог даже предположить, как этот человек догадался, что телеграмма была подлинной, что с монархией покончено раз и навсегда.
Ходили слухи, что капитан Бас был незаконнорожденным сыном известного члена Думы. Капитан был, несомненно, незаурядным человеком. Любил в одиночестве прогуливаться, скакать на коне, читать. Он, возможно, чувствовал, что, выказывая ему показное уважение, кто-то за спиной шепотом произносит слово «незаконнорожденный». Но он знал, как заставить себя уважать. Всегда четко формулирующий мысль, Бас не давал возможности собеседникам вовлечь его в спор. Позже мы узнали, что у него были глубокие знания в области социологии и теории революции. В последующие дни людей захлестнут эмоции. Ораторы на митингах будут кричать и выплевывать оскорбления, доводя себя и толпу до исступления, и толпа будет требовать крови и мщения. В этой атмосфере смятения и беспорядка капитан Бас будет спокойно подниматься на трибуну и тихим, «профессорским» голосом объяснять буйной, возбужденной, опьяненной ощущением свободы толпе значение происходящего.
Второй раз за эту ночь в комнате наступила тишина, нарушаемая только уверенным голосом, говорящим неслыханные вещи.
Выступление Баса длилось около десяти минут, а затем раздались недовольные крики. Постепенно пришло понимание, что предложения Баса не годятся для офицеров. Они подошли бы для студентов, рабочих, для всех этих сумасшедших революционеров, но только не для офицеров царской армии.
Обстановка накалялась. Капитан Бас, обладая сильным голосом, какое-то время еще мог перекрикивать около двадцати орущих офицеров, но вскоре и он сдался.
Теперь кто-то замыслил вовлечь капитана в спор. Некоторые убеждали полковника, что он должен вмешаться и прекратить обсуждение. Полковник попытался докричаться до Баса, но у него ничего не вышло.
В четыре утра было уже ясно, какая сторона в этом споре выйдет победителем. С одной стороны звучали резкие, как выстрелы, аргументы. С другой слышался тихий ропот, словно ветер пробегал по кронам деревьев.
Капитан Бас, почувствовав, что все ополчились против него, перестал говорить общие фразы о правах человека и обратился к персоналиям. Пристально глядя в глаза, он принялся объяснять каждому из нас, кем мы являемся по сути. Он безжалостно расправлялся с нами. Ты, заявил капитан Буту, дурак и бездельник. Твое место, Шмиль, на конюшне; единственное, на что ты способен, — быть помощником конюха. А доктор ничего не смыслит в медицине, категорически заявил Бас.
Капитан был не похож на себя. Он, словно дикая кошка, отбивался от окружившей его стаи волков. Теперь он понял, что не было смысла говорить этим людям о высоких, гуманных аспектах революции.
Атмосфера накалилась до предела. Офицеры плотно обступили капитана. Хорошо, что они пришли без оружия, иначе Бас был бы тут же расстрелян. Молодые офицеры, протиснувшись к капитану, в ответ на его оскорбления стали выкрикивать:
— Предатель!
— Под трибунал его!
— Повесить!
Тяжелые удары в дверь со стороны улицы оборвали крики. Неожиданно запертая дверь с треском распахнулась, и в дверном проеме возникла чья-то фигура. В первый момент мы не поняли, кто стоит в дверях. В наступившей тишине все головы повернулись к двери, и оттуда спокойно донеслось:
— Доброе утро, граждане!
Третий раз за эту сумасшедшую ночь наступила гробовая тишина. На пороге комнаты стоял солдат из 114-го русского пехотного полка. Он считался никчемным солдатом. Вечно грязный, бестолковый, на него никогда не обращали особого внимания.
Теперь солдат по-хозяйски стоял в дверях в нарушение всех правил и инструкций. Фуражка, сдвинутая на одно ухо; расстегнутый воротник гимнастерки; шинель, переброшенная через плечо. На поясе два браунинга. На нем почему-то были длинные брюки, право на ношение которых имели только офицеры.
Это был червь, ничтожество! Паршивая гнида!
Потрясенные, мы следили, как он прошел через комнату к полковнику. Его речь звучала так, словно он в течение долгого времени заучивал свою роль, но, являясь плохим актером, был вынужден делать невероятные усилия, чтобы завладеть аудиторией. Он безуспешно пытался говорить с аристократической небрежностью.
— Гражданин полковник, я представитель местного комитета солдат и рабочих. Я принимаю на себя функции представителя солдат в нашем гарнизоне.
Рука его сжимала телеграмму, подписанную левыми социалистами. Телеграмма, полученная полковником, была подписана Временным правительством. Пока Временное правительство пыталось пойти законным путем, левые социалисты действовали собственными методами. Они срочно отдали приказ своим представителям об организации солдатских, рабочих и крестьянских комитетов.
Вот так рядовой Шук поставил себя рядом с полковником во главе знаменитого полка. Он не случайно был в офицерских брюках: судя по всему, он предполагал всерьез взяться за дело. Полковник никак не отреагировал на слова рядового, но тут взвился Шмиль:
— Сукин сын! Тридцать суток на хлебе и воде!
— Господин корнет, — вмешался полковник, — вы находитесь в присутствии высших чинов.
Шмиль, молча козырнув, судорожно оглядывался в поисках какого-нибудь орудия, чтобы бить, громить, убивать, в то время как Шук, держа в каждой руке по пистолету, с глумливой улыбкой следил за его судорожными движениями. Затем, повернувшись спиной к Шмилю, он сказал полковнику:
— Думаю, будет лучше уволить граждан офицеров. Они слишком нервничают из-за того, что пришел конец их власти. Нам с вами, гражданин полковник, надо многое обсудить. Комиссар назначил проведение политического митинга гарнизона на одиннадцать утра. Я хочу подготовиться к митингу и готов выслушать ваши мысли по этому поводу. С этого момента мы будем действовать в полном согласии.
Мы выглядели столь же нелепо, как человек, который пытается сохранить достоинство, в то время как у него из-под ног вытягивают ковер.
Не знаю, чем бы все это могло закончиться, но тут вмешался капитан Бас.
— Мы провели тут всю ночь и сильно устали, — спокойно заговорил он, обращаясь к Шуку. — Раз митинг назначен на одиннадцать, я предлагаю сейчас прерваться. Мы все серьезно обдумаем и через два часа встретимся.
Затем он молча повернулся и, сохраняя невозмутимость, вышел из комнаты. Шук, как маленькая собачка, услышавшая голос хозяина, торопливо засеменил следом. Едва они исчезли из вида, как в углу комнаты раздался громкий истерический хохот.
Смеялся капитан Лан. Красный, с широко раскрытым ртом, он хлопал себя по бедрам руками, заходясь в истеричном смехе. Я боялся, что его разорвет от хохота, но он все-таки смог взять себя в руки и заговорил:
— Господа офицеры! Его высочество рядовой Шук решил вопрос с вашей присягой. Вы не знали, как быть, а он в момент все решил. Он решил… — Словно пьяный, с трудом удерживаясь на ногах, Лан судорожно вцепился в выломанный дверной косяк. — Спокойной ночи, граждане! Спокойной ночи, граждане! — продолжал выкрикивать он, слабо улыбаясь и раскланиваясь во все стороны. — Встретимся утром на митинге, граждане. Всего доброго, граждане.
Продолжая бормотать, Лан удалился из комнаты.
Оставшиеся офицеры медленно вышли в холодное, серое утро и молча разошлись по квартирам». (Болеславский Р. Путь улана. Воспоминания польского офицера 1916-1918. / Перевод Л. Игоревского. М.: «Центрполиграф», 2008. С. 63-76.) http://militera.lib.ru/memo...
Автор воспоминаний Болеславский Ричард Валентинович: https://ru.wikipedia.org/wi...
«Одним из офицеров в 1-м эскадроне был Ричард Болеславский, актёр и режиссёр МХАТа, а позже в Голливуде, который описал действия эскадрона и полка в своей книге (изданной на английском языке в США) англ. «The Way of the Lancer», однако придерживаясь псевдонимов вместо имён своих однополчан-офицеров». https://ru.wikipedia.org/wi...
«Великая, единая и недѣлимая Россія» — говорило уму и сердцу каждаго отчетливо и ясно. Но дальше дѣло осложнялось. Громадное большинство команднаго состава и офицерства было монархистами. Въ одномъ изъ своихъ писемъ*** (*** Письмо къ ген. Щербачеву отъ 31 іюля 18 года.) ген. Алексѣевъ опредѣлялъ совершенно искренне свое убѣжденіе въ этомъ отношеніи и довольно вѣрно офицерскія настроенія:
«...Руководящіе дѣятели арміи сознаютъ, что нормальнымъ ходомъ событій Россія должна подойти къ возстановленію монархіи, конечно, съ тѣми поправками, кои необходимы для облегченія гигантской работы цо управленію для одного лица. Какъ показалъ продолжительный опытъ пережитыхъ событій, никакая другая форма правленія не можетъ обезпечить цѣлость, единство, величіе государства, объединить въ одно цѣлое разные народы, населяющіе его территорію. Такъ думаютъ почти всѣ офицерскіе элементы, входящіе въ составъ Добровольческой арміи, ревниво слѣдящіе за тѣмъ, чтобы руководители не уклонились отъ этого основного принципа»1. (1 Я предпочитаю изобразить взглядъ М. В. его собственными словами и утверждаю, что этотъ взглядъ былъ присущъ ему во всѣхъ стадіяхъ нашей совмѣстной дѣятельности на Югѣ Россіи.)
Но въ маѣ — іюнѣ настроеніе офицерства подъ вліяніемъ активныхъ правыхъ общественныхъ круговъ было значительно сложнѣе. Очень многіе считали необходимымъ немедленное офиціальное признаніе въ арміи монархическаго лозунга. Это настроеніе проявлялось не только внѣшне въ демонстративномъ ношеніи романовскихъ медалей, пѣніи гимна и т. п., но и въ нѣкоторомъ броженіи въ частяхъ и... убыли въ рядахъ арміи. Въ частности появились офицеры — агитаторы, склонявшіе добровольцевъ къ участію въ тайныхъ организаціяхъ; въ своей работѣ они злоупотребляли и именемъ в. кн. Николая Николаевича. Меня непріятно удивила однажды сцена во время военнаго совѣта передъ походомъ: Марковъ рѣзко отозвался о дѣятельности въ арміи монархическихъ организацій; Дроздовскій вспылилъ:
— Я самъ состою въ тайной монархической организаціи... Вы не дооцѣниваете нашей силы и значенія...
Въ концѣ апрѣля въ обращеніи къ русскимъ людямъ я опредѣлилъ политическія цѣли борьбы Добровольческой арміи*. (* Декларація отъ 23 апрѣля. См. Т. II, гл. XXXI.) Въ началѣ мая мною, съ вѣдома ген. Алексѣева, былъ данъ наказъ представителямъ арміи, разосланнымъ въ разные города, для общаго руководства:
I. Добровольческая армія борется за спасеніе Россіи путемъ 1) созданія сильной дисциплинированной и патріотической арміи; 2) безпощадной борьбы съ большевизмомъ; 3) установленія въ странѣ единства государственнаго и правового порядка.
II. Стремясь къ совмѣстной работѣ со всѣми русскими людьми, государственно мыслящими, Добровольческая армія не можетъ принять партійной окраски.
III. Вопросъ о формахъ государственнаго строя является послѣдующимъ этапомъ и станетъ отраженіемъ воли русскаго народа, послѣ освобожденія его отъ рабской неволи и стихійнаго помѣшательства.
IV. Никакихъ сношеній ни съ нѣмцами, ни съ большевиками. Единственно пріемлемыя положенія: уходъ изъ предѣловъ Россіи первыхъ и разоруженіе и сдача вторыхъ.
V. Желательно привлеченіе вооруженныхъ силъ славянъ на основѣ ихъ историческихъ чаяній, не нарушающихъ единства и цѣлостности русскаго государства, и на началахъ, указанныхъ въ 1914 году русскимъ Верховнымъ главнокомандующимъ.
Оба эти обращенія нашли живой откликъ, но... не совсѣмъ сочувственный.
Офицерство не удовлетворялось осторожнымъ «умолчаніемъ» Алексѣева — формулой, которая гласно не расшифровывалась, раздѣлялась многими старшими начальниками и въ цитированномъ мною выше письмѣ** (** Алексѣева къ Щербачеву.) была высказана вполнѣ откровенно: «...Добровольческая армія не считаетъ возможнымъ теперь же принять опредѣленные политическіе лозунги ближайшаго государственнаго устройства, признавая, что вопросъ этотъ недостаточно еще назрѣлъ въ умахъ всего русскаго народа и что преждевременно объявленный лозунгъ можетъ лишь затруднить выполненіе широкихъ государственныхъ задачъ».
Еще менѣе, конечно, могло удовлетворить офицерство мое «непредрѣшеніе» и въ особенности моя декларація съ упоминаніемъ объ «Учредительномъ собраніи» и «народоправствѣ». Начальники бригадъ доложили мнѣ, что офицерство смущено этими терминами... Такое же впечатлѣніе произвели они въ другомъ крупномъ центрѣ про- тивоболыпевицкаго движенія — Кіевѣ. Ген. Лукомскій писалъ мнѣ въ то время*** (*** 14 мая 18 года.): «...Я глубоко убѣжденъ, что это воззваніе вызоветъ въ самой арміи и смущеніе, и расколъ. Въ странѣ же многихъ отшатнетъ отъ желанія идти въ армію или работать съ ней рука объ руку. Можетъ быть, до васъ еще не дошелъ пульсъ біенія страны, но долженъ Васъ увѣрить, что поправѣніе произошло громадное. Что всѣ партіи, кромѣ соціалистическихъ, видятъ единственной пріемлемой формой конституціонную монархію. Большинство отрицаетъ возможность созыва новаго Учредительнаго собранія, а тѣ, кто допускаютъ, считаютъ, что членами такового могутъ быть допущены лишь цензовые элементы. Вамъ необходимо высказаться болѣе опредѣленно и ясно»...
Милюковъ сообщалъ Ц. К. партіи въ Москву, что онъ «вступилъ уже въ сношенія съ ген. Алексѣевымъ, чтобы убѣдить его обратить Добровольческую армію на служеніе этой задачѣ»*... (* Объединеніе Россіи путемъ контакта съ нѣмцами и возстановленіе конституціонной монархіи. Письмо 7 мая 18 г.) А кн. Г. Трубецкой нѣсколько позже въ своемъ донесеніи Правому Центру** (** 30 іюля 18 г.) недоумѣвалъ: «...какъ все перемѣнилось! Вѣдь, какъ это ни дико, но для штаба Добровольческой арміи, напримѣръ, позиція Милюкова слишкомъ правая, ибо они все еще не отдѣлались отъ полинявшихъ побрякушекъ, вродѣ Учредительнаго собранія, и не высказались еще за монархію».
Атмосфера въ арміи сгущалась и необходимо было такъ или иначе разрѣдить ее. Давъ волю тогдашнимъ офицерскимъ пожеланіямъ, мы отвѣтили бы и слагавшимся тогда настроеніямъ значительныхъ группъ несоціалистической интеллигенціи, но рисковали полнымъ разрывомъ съ народомъ, въ частности съ казачествомъ — тогда не только не склоннымъ къ пріятію монархической идеи, но даже прямо враждебнымъ ей». (Деникинъ А.И. Очерки Русской Смуты. T. III. Бѣлое движенiе и борьба добровольческой армiи. Май – октябрь 1918 года. Берлинъ. 1924. Стр. 130-132.)
Во-первых. Показательно, что Деникина «неприятно удивило» создание тайных монархических офицерских организаций, но нимало не смущал военный заговор во главе с Гучковым и подчинявшимся ему генералом Алексеевым, приведший к свержению царя и революции.
Во-вторых. Заявления Деникина о враждебности казаков самодержавию, по меньшей мере, сомнительны. Хотя бы потому, что в Войске Донском (область Войска Донского) были восстановлены законы Российской Империи: https://my.mail.ru/communit...
Сын атамана Всевеликого Войска Донского генерал-лейтенанта Африкана Петровича Богаевского Борис оставил следующую дарственную надпись на титульном листе воспоминаний отца: «Наши отцы – генералы Русской Императорской Армии имели счастье честно и верно служить России. Наша судьба сложилась иначе …
Искренно тебя уважающий
Б. Богаевский
11/12/6[?]».
11/12/6[?]».
(Богаевский А.П. Воспоминания. 1918 год. «Ледяной поход». Нью-Иорк. 1963.) https://rev-lib.com/vospomi...
«БОГАЕВСКИЙ Борис Африканович (дон.) – рожд. 1908 г., ст. Каменской; младший сын Донского атамана А.П. Богаевского; инженер-химик, писатель-историк, редактор журнала «Родимый Край» и многолетний председатель Казачьего Союза. С 1930 г., после окончания Высшего Химического института в Руане, служит в крупном французском предприятии, производящем искусственные органические вещества. Состоит одним из директоров своей фирмы, а одновременно и техническим консультантом в нескольких других косметических предприятиях. Сотрудничает в европейской и американской технической печати. В 1938 г. особым изданием опубликована его работа на французском языке «Обработка и окраска мехов». Изобретения инж. Б. запатентованы и эксплуатируются в некоторых европейских странах, а сам он неоднократно командировался своею фирмой в Италию, Испанию и Скандинавию, как для изучения местной промышленности, так и для организации там новых методов работы в кожевенной, меховой, бумажной и косметической промышленностях. Одновременно с этим остается неутомимым и уважаемым казачьим общественным деятелем; в журнале «Родимый Край» часто печатает свои очерки на темы казачьей истории последних веков». (Казачий словарь справочник. Т. I. Абрамов-Зябловский. Кливленд. 1966.)
Казачий словарь справочник.
Три тома в одном: http://library.khpg.org/fil...
http://library.kazachiy-hut...
Т. I. Абрамов-Зябловский. Кливленд. 1966. [отсутствуют первые 112 страниц] https://vtoraya-literatura....
Т. II. Ибн Батута – Пятый Дон. каз. полк. Сан Ансельмо. 1968. [отсутствуют страницы после 178] https://vtoraya-literatura....
Т. III. Раа – Ятовь. Сан Ансельмо. 1970. [отсутствуют страницы после 341] https://vtoraya-literatura....
Антон Павлов,
19-06-2022 01:37
(ссылка)
Из писем прапорщика артиллериста.
5-я батарея 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. 12-я Сибирская стрелковая дивизия.
«К матери. 21-го января 1915 г. Яслиска. Галиция».
«Приехав на наблюдательный пункт, мы прежде всего, если это не сделано загодя, начинаем рыть окоп. Сноровка уже есть, земля послушно разверзается, и неглубокая ямка сравнительно быстро готова. Несколько ударов топора, и окоп наполовину покрывается крышей, в отверстие которой просовывается труба. Свеже вырытая земля наскоро забрасывается снегом, все сооружение маскируется ельником, и внешне пункт готов. Затем во внутрь стелют привезенную солому и два полушубка. Рядом с нами ставится телефон, перед нами развертывается карта, и начинается обдумывание положения. Изредка слышны выстрелы, временами трещат пулеметы. Кое-какие шалые пули залетают к нам, иногда над нами рвутся шрапнели, но на это никто не обращает внимания. Это все мелочи: наблюдательный пункт не открыт, стреляют не по нас, а если что и залетает случайно, так это не важно. Через несколько времени поступает по телефону приказание обстрелять такую-то высоту. Иван Дмитриевич вынимает портсигар и говорит: «ну, голубчик, прежде всего перекурим это дело табаком». Я отвечаю: «перекурим», и мы — перекуриваем. Затем он спокойно вычисляет команды, передает их по телефону на батарею и прибавляет: «огонь». Когда на батарее у Вильзара все готово, мы принимаем с батареи: «выстрел идет», и я становлюсь к трубе, чтобы наблюдать разрывы. Я ясно вижу в трубу окопы неприятеля, высовывающиеся из них и снова прячущиеся головы австрияков, вижу, как наши снаряды попадают около окопов, сообщаю Ивану Дмитриевичу «левее, правее», и мы добиваемся с ним того, что гранаты и шрапнели начинают ложиться прямо в окопы, т. е., очевидно поражать.
Смысл слов об очевидном поражении Ивану Дмитриевичу совершенно не ясен, и он радуется исключительно успеху своего артиллерийского дела. ...
/.../
Часов в пять вечера австрийские окопы уже не видны в темноте, и мы получаем приказание сниматься с позиции. ...
Выезжаем на шоссе. С позиции возвращается батарея. Она счастлива тем, что нынче, слава Богу, довелось пострелять, и я решительно бессилен не сочувствовать этой понятной радости: в душе подымается даже нечто вроде прославления Бога за то, что помог он нам поддержать своими снарядами свою пехоту». (Степун Ф.А. Из писем прапорщика артиллериста. Прага: «Пламя», 1926. С. 56-57, 58-59.)
«К матери. 21-го января 1915 г. Яслиска. Галиция».
«Приехав на наблюдательный пункт, мы прежде всего, если это не сделано загодя, начинаем рыть окоп. Сноровка уже есть, земля послушно разверзается, и неглубокая ямка сравнительно быстро готова. Несколько ударов топора, и окоп наполовину покрывается крышей, в отверстие которой просовывается труба. Свеже вырытая земля наскоро забрасывается снегом, все сооружение маскируется ельником, и внешне пункт готов. Затем во внутрь стелют привезенную солому и два полушубка. Рядом с нами ставится телефон, перед нами развертывается карта, и начинается обдумывание положения. Изредка слышны выстрелы, временами трещат пулеметы. Кое-какие шалые пули залетают к нам, иногда над нами рвутся шрапнели, но на это никто не обращает внимания. Это все мелочи: наблюдательный пункт не открыт, стреляют не по нас, а если что и залетает случайно, так это не важно. Через несколько времени поступает по телефону приказание обстрелять такую-то высоту. Иван Дмитриевич вынимает портсигар и говорит: «ну, голубчик, прежде всего перекурим это дело табаком». Я отвечаю: «перекурим», и мы — перекуриваем. Затем он спокойно вычисляет команды, передает их по телефону на батарею и прибавляет: «огонь». Когда на батарее у Вильзара все готово, мы принимаем с батареи: «выстрел идет», и я становлюсь к трубе, чтобы наблюдать разрывы. Я ясно вижу в трубу окопы неприятеля, высовывающиеся из них и снова прячущиеся головы австрияков, вижу, как наши снаряды попадают около окопов, сообщаю Ивану Дмитриевичу «левее, правее», и мы добиваемся с ним того, что гранаты и шрапнели начинают ложиться прямо в окопы, т. е., очевидно поражать.
Смысл слов об очевидном поражении Ивану Дмитриевичу совершенно не ясен, и он радуется исключительно успеху своего артиллерийского дела. ...
/.../
Часов в пять вечера австрийские окопы уже не видны в темноте, и мы получаем приказание сниматься с позиции. ...
Выезжаем на шоссе. С позиции возвращается батарея. Она счастлива тем, что нынче, слава Богу, довелось пострелять, и я решительно бессилен не сочувствовать этой понятной радости: в душе подымается даже нечто вроде прославления Бога за то, что помог он нам поддержать своими снарядами свою пехоту». (Степун Ф.А. Из писем прапорщика артиллериста. Прага: «Пламя», 1926. С. 56-57, 58-59.)
Антон Павлов,
18-06-2022 01:15
(ссылка)
Обозники в 1-ю, 2-ю Мировые войны и 2022 году.
1-я Мировая война. В 1915 г. в русской армии оказался сильный недостаток винтовок. Вызван он был тремя причинами: 1) в отличие от Западного фронта, на Восточном (протяжённостью 1300 км) боевые действия велись непрерывно, и мы не имели передышки для пополнения запасов, как французы и англичане; 2) в 1914 г. солдаты не заботились о сбережении своих винтовок, так как считалось, что война продлится недолго, винтовок было много, и взамен утраченной винтовки тут же выдавалась новая; 3) армия увеличилась до очень больших по довоенным меркам размеров. Весной 1915 г. были созданы особые отряды для сбора на поле боя винтовок, снаряжения и боеприпасов. «Наше ополчение, служившее для защиты военных центров внутри страны, состоявшее из старших возрастов призыва, было вооружено винтовками системы Бердана, рассчитанными на стрельбу свинцовыми пулями [без оболочки]. …
… В конце 1915 года на линии огня наши войска пользовались русским, австрийским и японским оружием; было даже небольшое количество так называемых «мексиканских» винтовок. Части, находившиеся в тылу, помимо некоторого количества уже перечисленных систем, использовавшегося для обучения, были вооружены ещё и винтовками других типов, завезённых из Франции, Великобритании и Италии, а также отечественными ружьями системы Бердана.
К чести наших обозников скажу, что не известно ни единого случая, когда находившиеся на линии огня войска получили бы патроны калибра, который не годился бы для их винтовок». (Гурко Василий Иосифович. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914–1917. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 132.)
«Тот факт, что в войсках не было зарегистрировано ни единого случая развития эпидемий, свидетельствует, что солдаты не испытывали недостатка продовольствия и одежды, а медицинская помощь была эффективна, хотя признаки увеличения заболеваемости имелись». (Там же. С. 163.)
«Наши медицинские учреждения получали огромную помощь от общественных организаций, таких как Союз земств, Союз городов, Российское общество Красного Креста и некоторые другие менее заметные организации, а также частных лиц.
Благодаря всему этому в целом общее состояние войск, за редчайшими исключениями, было во время войны лучше, чем при казарменной жизни в мирное время, и процент заболеваемости был несколько ниже». (Там же. С. 164-165.)
«Следует ещё добавить, что энергичные усилия, направленные на предотвращение обморожений, на протяжении всей войны давали отличные результаты.
Частые поражения ступней, так называемая траншейная нога, так распространённые в армиях наших союзников, совершенно неизвестны в нашей армии. Случаются они, как правило, в сырую погоду, когда ртуть в термометрах стоит около нуля. Причиной редкости этого заболевания у нас является, скорее, не большая выносливость русских солдат, а их обувь, которая позволяет ступням и икрам расширяться; в противном случае может произойти нарушение циркуляции крови. Большие неприятности нам доставляла борьба с обморожением ног в сильные морозы. Это объяснялось сложностями при снабжении воск валенками — обычной зимней обувью наших крестьян». (Там же. С. 175.)
В русской армии носили русские сапоги с портянками. В западных ботинки.
Кратко о Василие Гурко: https://ria1914.info/index....
«Помню: двое сутокь сидѣлъ я съ Донской бригадой своей дивизiи въ только что занятыхъ нами нѣмецкихъ окопахъ у Рудки-Червище, на рѣкѣ Стоходѣ. Это было въ августѣ 1916 г. Противникъ засыпалъ все кругомъ тяжелыми снарядами, подходы къ мосту прострѣливались ружейнымъ огнемъ. Оренбургскiя казачьи баттареи принуждены были выкопать въ крутомъ берегу окопы для орудiйныхъ лошадей. Между нами и тыломъ легло пространство, гдѣ нельзя было ходить.
Смеркалось. Пустыя избы деревни, вытянувшiяся улицей, четко рисовались въ холодѣющемъ небѣ. И вдругъ на улицѣ показалась невысокая фигура человѣка, спокойно и безстрашно шедшаго мимо домовъ, мимо раздутыхъ труповъ лошадей, мимо воронокъ отъ снарядовъ, наполненныхъ грязной водой.
Мы изъ окопа наблюдали за нимъ.
— А вѣдь это Вашъ Поповъ — сказалъ мнѣ Начальникъ Штаба, полковникъ Денисовъ.
— Поповъ и есть — подтвердилъ старшiй адьютантъ.
Поповъ шелъ, не торопясь, точно рисуясь безстрашiемъ. Въ обѣихъ рукахъ онъ несъ какой то большой тяжелый свертокъ.
Весь нашъ боевой участокъ заинтересовался этимъ человѣкомъ. Онъ шелъ, какъ ползаетъ безпечно по столу муха, въ которую бросаютъ горохомъ. Снаряды рвались спереди, сзади, съ боковъ, онъ не прибавлялъ шага. Онъ шелъ, бережно неся что то хрупкое и тяжелое.
Спокойно дошелъ онъ до хода въ окопы, спустился по землянымъ ступенямъ и предсталъ передъ нами въ большомъ блиндажѣ, крытомъ тяжелымъ накатникомъ.
— Ужинать, Ваше Превосходительство, принесъ — сказалъ онъ, ставя передъ нами корзину съ посудой, чайниками, хлѣбомъ и мясомъ.
— Чай за два дня то проголодались!...
— Кто же пустилъ тебя?
— И то на батареѣ, не пускали. Да, какъ же можно такъ безъ ѣды! И письмо отъ генеральши пришло и посылка, я все доставилъ.
Этотъ Поповъ....
Но не будемъ говорить объ этомъ. Этотъ Поповъ тогда, когда онъ служилъ въ Русской Императорской Армiи даже и не понималъ того, что онъ совершилъ подвигъ Христiанской любви и долга!
А былъ онъ самъ богатый человѣкъ, съ дѣтства избалованный, коннозаводчикъ и сынъ зажиточнаго торговаго казака Богаевской станицы Войска Донского». (Красновъ П.Н. Вѣнокъ на могилу неизвѣстнаго солдата Императорской Россiйской Армiи. // Русская Лѣтопись. Кн. VI. Парижъ. 1924. Стр. 26-27.)
2-я Мировая.
«№ 30. Из спецсообщения ОВЦ 7-й гв. армии в Военный совет и политотдел армии с обзором писем военнослужащих за 16-31 июля 1943 г.
/.../
Военнослужащий Игнатов Г.В. из п/п 74068-в (270-я сд) в своём письме от 24.VII-43 г. семье Игнатовой Е.Я. в г. Москву пишет:
«Я нахожусь сейчас в Курской обл., идут бои с раннего утра и до поздней ночи, друзей моих по службе многих не стало, ранило, а многих убило. Меня ранили 22.VII... Плохо воюют большинство не русских – узбеки, киргизы, казахи, мучаемся мы с ними, из-за них и нас, командиров и политработников, выводят немецкие снайперы из строя. При сильном обстреле как залягут, так и не подымешь [в атаку], приходится вставать во весь рост, идти поднимать, а противнику только это и нужно. Немцы, по-моему, изучили, что первыми поднимаются в атаку политработники и командиры. Конечно, это так и должно быть, но немецкие снайперы ловят на мушку именно этих передовиков с целью обезглавить подразделение. Бои идут ожесточённые. Всё моё подразделение, в котором я был, осталось (X)1. Скажу прямо, что мы страдаем большой неорганизованностью, по двое суток бываем без питания и воды, а это, конечно, отрицательно действует и на боевой успех, особенно при непрерывном наступлении. В наши тылы забрались люди, которые только больше думают о себе и о начальстве, как бы угодить, а о бойцах и средних командирах, которые грудь с грудью стоят против противника, забота проявляется по возможности. Враньё, всевозможные выкрутасы, очковтирательство процветают на каждом шагу. Сравним войны. Когда я воевал в 17-18 гг., солдаты были дисциплинированы лучше, сравниваю с гражданской войной. Дисциплина была железная. Сейчас раздемократились. Особенного внимания своевременному воспитанию красноармейца, мл. командира, да и командира не уделялось, а если и делалось, то без достаточного контроля. Приходящее пополнение в военном отношении не обучено. Как старый солдат, знаю, каким должен быть солдат русской армии, у нас, надо сказать, не блещет выправка красноармейца, более того, даже командира. Когда начинаешь подтягивать до уровня настоящего воина, проявляют недовольство, и начинает группироваться мнение, что командир жесток и т.д. и т.п. Лени хоть отбавляй. Кроме всего, что я тебе вкратце рассказал – я скажу, что неувязки нас заели. К примеру, «Лопата, – говорят, – друг солдата», а в бой мы пошли без лопат. «Обещали». Вот эти обещания настолько надоели, что веры нет. Ко всему приходится относиться с подозрением. Много в штабах просто идиотов. Видишь, дурак, а он занимает пост благодаря тому, что болтает, врёт. Вот так приходится нести уйму обид, объективности нет...» [...]
1Так в тексте.»
(Огненная дуга. Курская битва глазами Лубянки. М.: «Московские учебники и Картолитография», 2003. С. 89, 90-91.)
Общеизвестно, что в 1917-18 годах было, наоборот, революционное разложение солдат. Можно предположить, что автор письма имел в виду Российскую Императорскую Армию или Белые войска, на что указывает его выражение «солдат русской армии», противопоставленное «красноармейцу». В 1917 г. «железную дисциплину» можно было найти только в Гвардии, Ударных батальонах (или Батальонах смерти) и артиллерии. В 1918 г. либо в Белых войсках, либо у «красных» латышских стрелков, однако автор не латыш.
2022 г.
https://t.me/aleksandr_skif...
https://t.me/aleksandr_skif...
… В конце 1915 года на линии огня наши войска пользовались русским, австрийским и японским оружием; было даже небольшое количество так называемых «мексиканских» винтовок. Части, находившиеся в тылу, помимо некоторого количества уже перечисленных систем, использовавшегося для обучения, были вооружены ещё и винтовками других типов, завезённых из Франции, Великобритании и Италии, а также отечественными ружьями системы Бердана.
К чести наших обозников скажу, что не известно ни единого случая, когда находившиеся на линии огня войска получили бы патроны калибра, который не годился бы для их винтовок». (Гурко Василий Иосифович. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914–1917. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 132.)
«Тот факт, что в войсках не было зарегистрировано ни единого случая развития эпидемий, свидетельствует, что солдаты не испытывали недостатка продовольствия и одежды, а медицинская помощь была эффективна, хотя признаки увеличения заболеваемости имелись». (Там же. С. 163.)
«Наши медицинские учреждения получали огромную помощь от общественных организаций, таких как Союз земств, Союз городов, Российское общество Красного Креста и некоторые другие менее заметные организации, а также частных лиц.
Благодаря всему этому в целом общее состояние войск, за редчайшими исключениями, было во время войны лучше, чем при казарменной жизни в мирное время, и процент заболеваемости был несколько ниже». (Там же. С. 164-165.)
«Следует ещё добавить, что энергичные усилия, направленные на предотвращение обморожений, на протяжении всей войны давали отличные результаты.
Частые поражения ступней, так называемая траншейная нога, так распространённые в армиях наших союзников, совершенно неизвестны в нашей армии. Случаются они, как правило, в сырую погоду, когда ртуть в термометрах стоит около нуля. Причиной редкости этого заболевания у нас является, скорее, не большая выносливость русских солдат, а их обувь, которая позволяет ступням и икрам расширяться; в противном случае может произойти нарушение циркуляции крови. Большие неприятности нам доставляла борьба с обморожением ног в сильные морозы. Это объяснялось сложностями при снабжении воск валенками — обычной зимней обувью наших крестьян». (Там же. С. 175.)
В русской армии носили русские сапоги с портянками. В западных ботинки.
Кратко о Василие Гурко: https://ria1914.info/index....
«Помню: двое сутокь сидѣлъ я съ Донской бригадой своей дивизiи въ только что занятыхъ нами нѣмецкихъ окопахъ у Рудки-Червище, на рѣкѣ Стоходѣ. Это было въ августѣ 1916 г. Противникъ засыпалъ все кругомъ тяжелыми снарядами, подходы къ мосту прострѣливались ружейнымъ огнемъ. Оренбургскiя казачьи баттареи принуждены были выкопать въ крутомъ берегу окопы для орудiйныхъ лошадей. Между нами и тыломъ легло пространство, гдѣ нельзя было ходить.
Смеркалось. Пустыя избы деревни, вытянувшiяся улицей, четко рисовались въ холодѣющемъ небѣ. И вдругъ на улицѣ показалась невысокая фигура человѣка, спокойно и безстрашно шедшаго мимо домовъ, мимо раздутыхъ труповъ лошадей, мимо воронокъ отъ снарядовъ, наполненныхъ грязной водой.
Мы изъ окопа наблюдали за нимъ.
— А вѣдь это Вашъ Поповъ — сказалъ мнѣ Начальникъ Штаба, полковникъ Денисовъ.
— Поповъ и есть — подтвердилъ старшiй адьютантъ.
Поповъ шелъ, не торопясь, точно рисуясь безстрашiемъ. Въ обѣихъ рукахъ онъ несъ какой то большой тяжелый свертокъ.
Весь нашъ боевой участокъ заинтересовался этимъ человѣкомъ. Онъ шелъ, какъ ползаетъ безпечно по столу муха, въ которую бросаютъ горохомъ. Снаряды рвались спереди, сзади, съ боковъ, онъ не прибавлялъ шага. Онъ шелъ, бережно неся что то хрупкое и тяжелое.
Спокойно дошелъ онъ до хода въ окопы, спустился по землянымъ ступенямъ и предсталъ передъ нами въ большомъ блиндажѣ, крытомъ тяжелымъ накатникомъ.
— Ужинать, Ваше Превосходительство, принесъ — сказалъ онъ, ставя передъ нами корзину съ посудой, чайниками, хлѣбомъ и мясомъ.
— Чай за два дня то проголодались!...
— Кто же пустилъ тебя?
— И то на батареѣ, не пускали. Да, какъ же можно такъ безъ ѣды! И письмо отъ генеральши пришло и посылка, я все доставилъ.
Этотъ Поповъ....
Но не будемъ говорить объ этомъ. Этотъ Поповъ тогда, когда онъ служилъ въ Русской Императорской Армiи даже и не понималъ того, что онъ совершилъ подвигъ Христiанской любви и долга!
А былъ онъ самъ богатый человѣкъ, съ дѣтства избалованный, коннозаводчикъ и сынъ зажиточнаго торговаго казака Богаевской станицы Войска Донского». (Красновъ П.Н. Вѣнокъ на могилу неизвѣстнаго солдата Императорской Россiйской Армiи. // Русская Лѣтопись. Кн. VI. Парижъ. 1924. Стр. 26-27.)
2-я Мировая.
«№ 30. Из спецсообщения ОВЦ 7-й гв. армии в Военный совет и политотдел армии с обзором писем военнослужащих за 16-31 июля 1943 г.
Не ранее 1 августа 1943 г.
Совершенно секретно
Совершенно секретно
/.../
Военнослужащий Игнатов Г.В. из п/п 74068-в (270-я сд) в своём письме от 24.VII-43 г. семье Игнатовой Е.Я. в г. Москву пишет:
«Я нахожусь сейчас в Курской обл., идут бои с раннего утра и до поздней ночи, друзей моих по службе многих не стало, ранило, а многих убило. Меня ранили 22.VII... Плохо воюют большинство не русских – узбеки, киргизы, казахи, мучаемся мы с ними, из-за них и нас, командиров и политработников, выводят немецкие снайперы из строя. При сильном обстреле как залягут, так и не подымешь [в атаку], приходится вставать во весь рост, идти поднимать, а противнику только это и нужно. Немцы, по-моему, изучили, что первыми поднимаются в атаку политработники и командиры. Конечно, это так и должно быть, но немецкие снайперы ловят на мушку именно этих передовиков с целью обезглавить подразделение. Бои идут ожесточённые. Всё моё подразделение, в котором я был, осталось (X)1. Скажу прямо, что мы страдаем большой неорганизованностью, по двое суток бываем без питания и воды, а это, конечно, отрицательно действует и на боевой успех, особенно при непрерывном наступлении. В наши тылы забрались люди, которые только больше думают о себе и о начальстве, как бы угодить, а о бойцах и средних командирах, которые грудь с грудью стоят против противника, забота проявляется по возможности. Враньё, всевозможные выкрутасы, очковтирательство процветают на каждом шагу. Сравним войны. Когда я воевал в 17-18 гг., солдаты были дисциплинированы лучше, сравниваю с гражданской войной. Дисциплина была железная. Сейчас раздемократились. Особенного внимания своевременному воспитанию красноармейца, мл. командира, да и командира не уделялось, а если и делалось, то без достаточного контроля. Приходящее пополнение в военном отношении не обучено. Как старый солдат, знаю, каким должен быть солдат русской армии, у нас, надо сказать, не блещет выправка красноармейца, более того, даже командира. Когда начинаешь подтягивать до уровня настоящего воина, проявляют недовольство, и начинает группироваться мнение, что командир жесток и т.д. и т.п. Лени хоть отбавляй. Кроме всего, что я тебе вкратце рассказал – я скажу, что неувязки нас заели. К примеру, «Лопата, – говорят, – друг солдата», а в бой мы пошли без лопат. «Обещали». Вот эти обещания настолько надоели, что веры нет. Ко всему приходится относиться с подозрением. Много в штабах просто идиотов. Видишь, дурак, а он занимает пост благодаря тому, что болтает, врёт. Вот так приходится нести уйму обид, объективности нет...» [...]
ЦА ФСБ России, ф. 41, on. 51, д. 11, л. 286-287.
Подлинник.
Подлинник.
1Так в тексте.»
(Огненная дуга. Курская битва глазами Лубянки. М.: «Московские учебники и Картолитография», 2003. С. 89, 90-91.)
Общеизвестно, что в 1917-18 годах было, наоборот, революционное разложение солдат. Можно предположить, что автор письма имел в виду Российскую Императорскую Армию или Белые войска, на что указывает его выражение «солдат русской армии», противопоставленное «красноармейцу». В 1917 г. «железную дисциплину» можно было найти только в Гвардии, Ударных батальонах (или Батальонах смерти) и артиллерии. В 1918 г. либо в Белых войсках, либо у «красных» латышских стрелков, однако автор не латыш.
2022 г.
https://t.me/aleksandr_skif...
https://t.me/aleksandr_skif...
Антон Павлов,
17-06-2022 00:16
(ссылка)
Убийство населения. 100 лет назад и сейчас.
1918 г. Станица Кавказская Кавказского отдела Кубанского казачьего войска: «Ночь на 25 марта, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, смертельным страхом нависла над нами. На небесах витали ангелы, а на земле владычествовал сатана. В природе было сыро и холодно. В желудках голодно, а на душе — мертвящая жуть...
/.../
После поражения — паника в нашей станице, в Стане главных сил, была полная. Ненавистный красный враг уже обстреливал её шрапнелью, совершенно неслыханным и невиданным оружием для женщин и детей, поэтому семьи казаков, наскоро связав «узлы необходимого», устремились на восток и в степь, боясь разгрома и убийств со стороны красных. Всё это было и в нашем семействе. Кстати сказать, двор нашего отца находился в непосредственной близости от станичной крепости.
— Сыны, сыны!.. Только не попались бы живьём! — так рассказывала потом наша мать, взывал отец. И, отправив её, нашу мать, с тремя дочурками-подростками на линейке на восток, — держал в седле Андрею-сыну его строевую кобылицу, и... сам попал живьём в руки красных.
С матерью нашей он условился, что она будет ждать его у двора «сватов Жуковых», на востоке от станичной площади, и уже оттуда двинутся в Темижбекскую. Но... наша добрая и слабовольная мать...
— Поспешим, сватушка, в наш сад над Кубанью под горою... а сват (т. е. наш отец — он догадается, куда мы убежали, и найдёт нас, — так уговорила её свекровь нашей старшей сестры Марии. И они, две семьи, двинулись под гору, в их далекий фруктовый сад перед самым правым берегом Кубани.
Отец с последним станичным атаманом и соседом, старшим урядником И.В. Виноградовым, скорым шагом шли на условленное с матерью место встречи, чтобы вместе бежать на Темижбек, но... не нашли её там. Наверное, не дождавшись, тронулась самостоятельно на восток с толпою других, решили они и быстро двинулись в том же направлении по длинной улице, ведущей к Темижбекской станице. И уже на окраине её из переулка выскочил красный патруль и арестовал их. Почему — неизвестно, но бывшего атамана он отпустил, а нашего отца препроводил к бронепоезду, стоявшему у западной окраины станицы. И между начальником красного карательного отряда, бывшего на бронепоезде, и нашим отцом произошёл такой диалог:
— Ты есть Елисеев? — отец ответил утвердительно.
— Это твои три сына-офицера? —отец ответил, также утвердительно.
— Ну... иди!.. Ты свободен... — коварно сказал он, Романовского хутора мужик, «Сережка-портной». И когда отец отошёл от бронепоезда — он выстрелил ему в спину, но ранил в ногу и отец упал... Тогда он подошёл к нему и в упор выстрелил в голову... Пуля пробила череп и осталась в голове. Наш дорогой отец был убит наповал...
Так рассказал машинист бронепоезда, когда белые войска заняли нашу станицу и хутор Романовский. На второй день 70-летняя его старушка мать, наша бабушка, с 30-летнего возраста вдова, взяв костылек и заплетаясь своими износившимися в работе старческими ногами, плетётся на далекую окраину станицы, чтобы найти тело любимого и единственного сына. Все запуганы... все попрятались или убежали из своих домов в степь, но ей... ей теперь всё равно...
Вот и свежие могилки за железнодорожным полотном. Их много. И это не могилки, а небольшие насыпи поверх погибших казаков. Здесь пострадал вчера взвод темижбекских казаков, высланный из Казанской от конного отряда, для выяснения, — что же происходит в главных силах? Не зная о случившемся в Кавказской — хорунжий Маслов напоролся на красный бронепоезд...
Заскорузлыми от старости руками — она разрывает одну, другую, третью могилку... Лежат окровавленные казаки, но её сына нет. А чтобы вороны не выклевали бы казачьи глаза, старушка заботливо присыпает их землею и разгребает следующую могилку. В четвертой — два тела. «Он!.. Он, мой родной, любимый и единственный сыночек» — залилась старушка горючими слезами.
Сирота с 16 лет. Отца его так же убили разбойники в степи. Отбыв 16 лет царской действительной службы в Закавказье, участник Турецкой войны 1877-1878 гг. Перенёс Баязетское голодное сидение в той войне. Вернулся домой. Только бы работать и поправлять хозяйство после станичного пожара и долгой своей службы, и вот... злые люди убили его...
Вот и его сын. Учил детей. Дал своему Отечеству на войну трех сыновей-офицеров. И за это — красные убили его...
Лежит мертвый бородатый казачина, и почему-то блаженная улыбка застыла на его устах. Как глубоко верующий человек — он, видимо, молился перед смертью, так как пальцы правой руки сложены для крестного моления. Пулей пробита нога, и лишь маленькое входное отверстие в висок, прекратившее ему жизнь в его 50 лет...
И плетётся вновь старушка назад, домой, «за линейкой», чтобы привезти дорогое тело в дом и похоронить по-христиански. Кругом тишина. Улицы пусты. И лишь встречающиеся злые собаки на улицах да красногвардейцы на реквизированных казачьих строевых лошадях нарушали покой мёртвой станицы. Но ей теперь все равно...
Горе в нашем семействе тогда — трудно описать. Где были мы, два брата, Жорж и я — и что с нами? — им не было известно. Старший брат Андрей — где-то укрылся. В доме две беспомощные старушки да три наших сестрёнки-подростка. Кто утолит печаль вот их?!
Тело отца привезли в дом. Омыли и положили в гроб, в зале на столе. В семействе, глубоко верующем в Бога, должна быть священная тишина и церковный лампадный запах. Говорить громко в доме — считалось кощунственным перед гробом отца. Непереставаемые слёзы и плач всех.
На третий день, в глухую полночь — вдруг громкий требовательный стук в наши массивные ворота, наглухо запертые на засов. «Вновь обыск»... — решили терроризированные «пять душ», старых и малых, осиротевших женщин. Они боятся и не выходят на стук. Но он повторяется громко, нетерпеливо, требовательно. Как глава дома — на парадное крыльцо вышла бабушка.
— Федюшка уби-ит!. — заголосила она.
В доме паника и новый удар. То «бил копытами» в ворота мой злой нетерпеливый рыжий конь Орлик, прибежавший в свой дом без седла и без уздечки... Где он был в эти три дня? Кто снял с него седло и уздечку? Откуда он бежал домой? — всё это осталось загадкой для всех. Но женщины, с нашим отцом в гробу в доме — иначе и не могли понять, что конный отряд разбит и его начальник убит, ежели прибежал его конь домой.
Отец похоронен. О его гибели я узнал два месяца спустя. Но красные не оставили семью в покое. Они распространили слух, что Фёдор (так называли меня красные мужики в станице) нарочно отпустил своего коня, к гриве которого была привязана записка такого содержания: «Когда я вернусь домой с нашей казачьей властью, будет расстреляно тридцать человек красных как месть за отца».
Конечно, — это была фантазия станичного совета. Но мой рыжий конь, злой и неутомимый, был реквизирован для нужд красной армии». (Елисеев Ф.И. С Корниловским конным. М.: «АСТ», «Астрель», 2003. С. 196, 198-202.)
Сторонники советской власти возразят, что это воспоминания Белого казачьего офицера. Но вот свидетельство из внутреннего большевицкого отчёта, подписанного секретарём тюменского губернского комитета «российской коммунистической партии большевиков» Сергеем Агеевым, и не о казачьих областях: «Разбитые и уничтоженные, часто до основания, хозяйства и семьи деревенских коммунистов; разграбленные, а иногда и вырезанные сотнями людей коммуны; не потерявшие ещё своей ранящей остроты кошмарные сцены бесчисленных пыток и зверств со стороны бандитов; с другой стороны, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УБИТЫХ ПОВСТАНЦЕВ [выделено мной — А.П.] и, таким образом, лишённые иногда БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ВЗРОСЛОГО МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ [выделено мной — А.П.] деревни и т.д. и т.д. — всё это дополняет общую картину кровавого хаоса разрушения». ЦДООСО, ф. 1494, оп. 1., д. 41, л. 16-23. Машинописный подлинник. (Политический отчёт Тюменского губкома РКП(б) за февраль-март 1921 года. // За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии 1921. Сборник документов. Новосибирск: «Сибирский хронограф», 2000. С. 609.)
Это за два месяца только в одной Тюменской губернии в официально мирное время. Большевики поступили так со своими гражданами, объявленными «бандитами» и «повстанцами», которых никто не поддерживал извне.
13 апреля 1919 г.: «Мы говорим: мы воюем, мы отдаём последние силы, мы считаем эту войну единственно справедливой и законной войной. Мы зажгли социализм у себя и во всём мире. Кто хоть сколько-нибудь мешает этой борьбе, с тем мы боремся без пощады. Кто не с нами, тот — против нас». (Пленум всероссийского центрального совета профессиональных союзов. 11 апреля 1919 г. 1. Доклад о задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией на восточный фронт. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 38. Март – июнь. 1919. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 289.)
Просто ли это схоже с совершаемым теперь «Украиной», или имеет прямую связь? Ответ даёт следующий пример.
Первая половина января 1919 г., Уральская область: «Мы двигались теперь по зауральным степям, направляясь в хохляцкие переселенческие посёлки. Первый этап наш был — посёлок Покатиловка, затем Ново-Николаевка и Фёдоровка. Все эти посёлки довольно большие, растянувшиеся по главной улице версты на три, были богаты и заселялись исключительно хохлами-переселенцами из Покатиловской [Покатиловский уезд Харьковской губернии], Харьковской и других губерний.
Вид этих сёл совершенно не походил на сёла и деревни нашего края — это была Малороссия. Чистые белые мазанки с высокой черепичной крышей, обширные дворы с надворными постройками, на дворах и улицах хохлы в белых домотканых свитках, хохлушки в вышитых поневах, парные в дышлах упряжках хороших рослых коней или пара здоровых красных волов, всё это как-то не походило на нашу степь.
Все переселенцы жили богато, но, несмотря на это, почти все, почему-то, наверное, по глупости, сочувствовали большевикам. Может быть, это и не была глупость, может быть, просто встретились два совершенно разных уклада жизни: казачий и хохляцкий. Казаки тоже не были бедны, но уклад их жизни был совсем иначе. Кроме того, всё же казаки чувствовали себя хозяевами в своих степях, а хохлы — пришельцы, а потому, естественно, что между ними появился некоторый антагонизм, который в мирное время был не заметен, а во время Гражданской войны всплыл наружу.
Как бы там ни было, но, попав в эти сёла, сразу почувствовали, что мы во враждебной стране. Не буду останавливаться на этих сёлах, мы проходили их, останавливаясь только на ночлег». (Киров Б.Н. О борьбе с большевиками на фронте Уральского казачьего войска. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская — Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 110-111.)
Посёлки малороссов (всего более 45) располагались на левом берегу Урала в Уральском и Илекском уездах Уральской области. Создавались с 1906 г. в рамках «Столыпинской» аграрной реформы. К августу 1919 г. был создан партизанский отряд из переселенцев-малороссов (около 200 чел.), открывший военные действия против Белых. (Там же. С. 220.)
Зло существует испокон веков. Но если говорить об украинстве, то, как показывает история, это явление было нежизнеспособно в Царской России. Только с её гибелью оно, как болезнь, начинает распространяться, встречая вместо здоровой поражённую нравственными недугами страну. Единственной силой после 1917 г., исключающей украинство, были Белые. Конечно, как всякое человеческое сообщество, Белые войска не были безгрешны. Но они сражались за историческую Россию («За Великую, Единую и Неделимую Россию»). Поэтому и теперь, когда заходит речь о Белых воинах, их начинают остервенело злословить. «И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». (Откровение Иоанна Богослова. Гл. 2, ст. 8-9.)
Конец января или начало февраля 1919 г.: «Колёса равномерно отбивали такт. В темноте не было видно говорящего, и поэтому сказанное приобретало абстрактный характер.
/.../
– Крестьянин отвернётся от коммунизма, когда он его узнает. Он тугодум и пожалуй будет поздно – нас уже не будет, чтобы ему помочь...
/.../
– Революцию сделала ловкая пропаганда левых.
– Хм... Не всё, что они говорили, было ложью. Правительство и царь наделали много глупостей.
– Вот видите, вы подпали пропаганде. Конечно, были ошибки, как везде, но не больше, чем во Франции или в Англии. Пропаганда же преувеличивала ошибки и замалчивала успехи. Получалось впечатление гнили. И напрасно. В общем дела шли совсем не так плохо. Россия развивалась гигантскими шагами.
– Собственно, чтобы остановить это развитие, Германия объявила нам войну. Через десяток лет Россия стала бы непобедима. Наши товары стали вытеснять немецкие товары с азиатских рынков...
– Царь был слаб, конечно, был бы лучше Александр III с железным кулаком. …
/.../
– Наш рубль принимался во всём мире.
/.../
– Неграмотных среди молодежи почти не было...
– Русская наука имела много мировых имён. В литературе, музыке и в театре мы были...
... Колеса ритмично пели: тра-та-та, тра-та-та. Я повернулся на бок и заснул». (Мамонтов С.И. Походы и кони. Париж: «YMCA-PRESS», 1981. Глава «В Донецком каменноугольном районе. В поезде». С. 149, 150-151, 152, 153.)
/.../
Трагедия в нашем семействе
После поражения — паника в нашей станице, в Стане главных сил, была полная. Ненавистный красный враг уже обстреливал её шрапнелью, совершенно неслыханным и невиданным оружием для женщин и детей, поэтому семьи казаков, наскоро связав «узлы необходимого», устремились на восток и в степь, боясь разгрома и убийств со стороны красных. Всё это было и в нашем семействе. Кстати сказать, двор нашего отца находился в непосредственной близости от станичной крепости.
— Сыны, сыны!.. Только не попались бы живьём! — так рассказывала потом наша мать, взывал отец. И, отправив её, нашу мать, с тремя дочурками-подростками на линейке на восток, — держал в седле Андрею-сыну его строевую кобылицу, и... сам попал живьём в руки красных.
С матерью нашей он условился, что она будет ждать его у двора «сватов Жуковых», на востоке от станичной площади, и уже оттуда двинутся в Темижбекскую. Но... наша добрая и слабовольная мать...
— Поспешим, сватушка, в наш сад над Кубанью под горою... а сват (т. е. наш отец — он догадается, куда мы убежали, и найдёт нас, — так уговорила её свекровь нашей старшей сестры Марии. И они, две семьи, двинулись под гору, в их далекий фруктовый сад перед самым правым берегом Кубани.
Отец с последним станичным атаманом и соседом, старшим урядником И.В. Виноградовым, скорым шагом шли на условленное с матерью место встречи, чтобы вместе бежать на Темижбек, но... не нашли её там. Наверное, не дождавшись, тронулась самостоятельно на восток с толпою других, решили они и быстро двинулись в том же направлении по длинной улице, ведущей к Темижбекской станице. И уже на окраине её из переулка выскочил красный патруль и арестовал их. Почему — неизвестно, но бывшего атамана он отпустил, а нашего отца препроводил к бронепоезду, стоявшему у западной окраины станицы. И между начальником красного карательного отряда, бывшего на бронепоезде, и нашим отцом произошёл такой диалог:
— Ты есть Елисеев? — отец ответил утвердительно.
— Это твои три сына-офицера? —отец ответил, также утвердительно.
— Ну... иди!.. Ты свободен... — коварно сказал он, Романовского хутора мужик, «Сережка-портной». И когда отец отошёл от бронепоезда — он выстрелил ему в спину, но ранил в ногу и отец упал... Тогда он подошёл к нему и в упор выстрелил в голову... Пуля пробила череп и осталась в голове. Наш дорогой отец был убит наповал...
Так рассказал машинист бронепоезда, когда белые войска заняли нашу станицу и хутор Романовский. На второй день 70-летняя его старушка мать, наша бабушка, с 30-летнего возраста вдова, взяв костылек и заплетаясь своими износившимися в работе старческими ногами, плетётся на далекую окраину станицы, чтобы найти тело любимого и единственного сына. Все запуганы... все попрятались или убежали из своих домов в степь, но ей... ей теперь всё равно...
Вот и свежие могилки за железнодорожным полотном. Их много. И это не могилки, а небольшие насыпи поверх погибших казаков. Здесь пострадал вчера взвод темижбекских казаков, высланный из Казанской от конного отряда, для выяснения, — что же происходит в главных силах? Не зная о случившемся в Кавказской — хорунжий Маслов напоролся на красный бронепоезд...
Заскорузлыми от старости руками — она разрывает одну, другую, третью могилку... Лежат окровавленные казаки, но её сына нет. А чтобы вороны не выклевали бы казачьи глаза, старушка заботливо присыпает их землею и разгребает следующую могилку. В четвертой — два тела. «Он!.. Он, мой родной, любимый и единственный сыночек» — залилась старушка горючими слезами.
Сирота с 16 лет. Отца его так же убили разбойники в степи. Отбыв 16 лет царской действительной службы в Закавказье, участник Турецкой войны 1877-1878 гг. Перенёс Баязетское голодное сидение в той войне. Вернулся домой. Только бы работать и поправлять хозяйство после станичного пожара и долгой своей службы, и вот... злые люди убили его...
Вот и его сын. Учил детей. Дал своему Отечеству на войну трех сыновей-офицеров. И за это — красные убили его...
Лежит мертвый бородатый казачина, и почему-то блаженная улыбка застыла на его устах. Как глубоко верующий человек — он, видимо, молился перед смертью, так как пальцы правой руки сложены для крестного моления. Пулей пробита нога, и лишь маленькое входное отверстие в висок, прекратившее ему жизнь в его 50 лет...
И плетётся вновь старушка назад, домой, «за линейкой», чтобы привезти дорогое тело в дом и похоронить по-христиански. Кругом тишина. Улицы пусты. И лишь встречающиеся злые собаки на улицах да красногвардейцы на реквизированных казачьих строевых лошадях нарушали покой мёртвой станицы. Но ей теперь все равно...
Горе в нашем семействе тогда — трудно описать. Где были мы, два брата, Жорж и я — и что с нами? — им не было известно. Старший брат Андрей — где-то укрылся. В доме две беспомощные старушки да три наших сестрёнки-подростка. Кто утолит печаль вот их?!
Тело отца привезли в дом. Омыли и положили в гроб, в зале на столе. В семействе, глубоко верующем в Бога, должна быть священная тишина и церковный лампадный запах. Говорить громко в доме — считалось кощунственным перед гробом отца. Непереставаемые слёзы и плач всех.
На третий день, в глухую полночь — вдруг громкий требовательный стук в наши массивные ворота, наглухо запертые на засов. «Вновь обыск»... — решили терроризированные «пять душ», старых и малых, осиротевших женщин. Они боятся и не выходят на стук. Но он повторяется громко, нетерпеливо, требовательно. Как глава дома — на парадное крыльцо вышла бабушка.
— Федюшка уби-ит!. — заголосила она.
В доме паника и новый удар. То «бил копытами» в ворота мой злой нетерпеливый рыжий конь Орлик, прибежавший в свой дом без седла и без уздечки... Где он был в эти три дня? Кто снял с него седло и уздечку? Откуда он бежал домой? — всё это осталось загадкой для всех. Но женщины, с нашим отцом в гробу в доме — иначе и не могли понять, что конный отряд разбит и его начальник убит, ежели прибежал его конь домой.
Отец похоронен. О его гибели я узнал два месяца спустя. Но красные не оставили семью в покое. Они распространили слух, что Фёдор (так называли меня красные мужики в станице) нарочно отпустил своего коня, к гриве которого была привязана записка такого содержания: «Когда я вернусь домой с нашей казачьей властью, будет расстреляно тридцать человек красных как месть за отца».
Конечно, — это была фантазия станичного совета. Но мой рыжий конь, злой и неутомимый, был реквизирован для нужд красной армии». (Елисеев Ф.И. С Корниловским конным. М.: «АСТ», «Астрель», 2003. С. 196, 198-202.)
Сторонники советской власти возразят, что это воспоминания Белого казачьего офицера. Но вот свидетельство из внутреннего большевицкого отчёта, подписанного секретарём тюменского губернского комитета «российской коммунистической партии большевиков» Сергеем Агеевым, и не о казачьих областях: «Разбитые и уничтоженные, часто до основания, хозяйства и семьи деревенских коммунистов; разграбленные, а иногда и вырезанные сотнями людей коммуны; не потерявшие ещё своей ранящей остроты кошмарные сцены бесчисленных пыток и зверств со стороны бандитов; с другой стороны, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УБИТЫХ ПОВСТАНЦЕВ [выделено мной — А.П.] и, таким образом, лишённые иногда БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ВЗРОСЛОГО МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ [выделено мной — А.П.] деревни и т.д. и т.д. — всё это дополняет общую картину кровавого хаоса разрушения». ЦДООСО, ф. 1494, оп. 1., д. 41, л. 16-23. Машинописный подлинник. (Политический отчёт Тюменского губкома РКП(б) за февраль-март 1921 года. // За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии 1921. Сборник документов. Новосибирск: «Сибирский хронограф», 2000. С. 609.)
Это за два месяца только в одной Тюменской губернии в официально мирное время. Большевики поступили так со своими гражданами, объявленными «бандитами» и «повстанцами», которых никто не поддерживал извне.
13 апреля 1919 г.: «Мы говорим: мы воюем, мы отдаём последние силы, мы считаем эту войну единственно справедливой и законной войной. Мы зажгли социализм у себя и во всём мире. Кто хоть сколько-нибудь мешает этой борьбе, с тем мы боремся без пощады. Кто не с нами, тот — против нас». (Пленум всероссийского центрального совета профессиональных союзов. 11 апреля 1919 г. 1. Доклад о задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией на восточный фронт. // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 38. Март – июнь. 1919. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 289.)
Просто ли это схоже с совершаемым теперь «Украиной», или имеет прямую связь? Ответ даёт следующий пример.
Первая половина января 1919 г., Уральская область: «Мы двигались теперь по зауральным степям, направляясь в хохляцкие переселенческие посёлки. Первый этап наш был — посёлок Покатиловка, затем Ново-Николаевка и Фёдоровка. Все эти посёлки довольно большие, растянувшиеся по главной улице версты на три, были богаты и заселялись исключительно хохлами-переселенцами из Покатиловской [Покатиловский уезд Харьковской губернии], Харьковской и других губерний.
Вид этих сёл совершенно не походил на сёла и деревни нашего края — это была Малороссия. Чистые белые мазанки с высокой черепичной крышей, обширные дворы с надворными постройками, на дворах и улицах хохлы в белых домотканых свитках, хохлушки в вышитых поневах, парные в дышлах упряжках хороших рослых коней или пара здоровых красных волов, всё это как-то не походило на нашу степь.
Все переселенцы жили богато, но, несмотря на это, почти все, почему-то, наверное, по глупости, сочувствовали большевикам. Может быть, это и не была глупость, может быть, просто встретились два совершенно разных уклада жизни: казачий и хохляцкий. Казаки тоже не были бедны, но уклад их жизни был совсем иначе. Кроме того, всё же казаки чувствовали себя хозяевами в своих степях, а хохлы — пришельцы, а потому, естественно, что между ними появился некоторый антагонизм, который в мирное время был не заметен, а во время Гражданской войны всплыл наружу.
Как бы там ни было, но, попав в эти сёла, сразу почувствовали, что мы во враждебной стране. Не буду останавливаться на этих сёлах, мы проходили их, останавливаясь только на ночлег». (Киров Б.Н. О борьбе с большевиками на фронте Уральского казачьего войска. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская — Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 110-111.)
Посёлки малороссов (всего более 45) располагались на левом берегу Урала в Уральском и Илекском уездах Уральской области. Создавались с 1906 г. в рамках «Столыпинской» аграрной реформы. К августу 1919 г. был создан партизанский отряд из переселенцев-малороссов (около 200 чел.), открывший военные действия против Белых. (Там же. С. 220.)
Зло существует испокон веков. Но если говорить об украинстве, то, как показывает история, это явление было нежизнеспособно в Царской России. Только с её гибелью оно, как болезнь, начинает распространяться, встречая вместо здоровой поражённую нравственными недугами страну. Единственной силой после 1917 г., исключающей украинство, были Белые. Конечно, как всякое человеческое сообщество, Белые войска не были безгрешны. Но они сражались за историческую Россию («За Великую, Единую и Неделимую Россию»). Поэтому и теперь, когда заходит речь о Белых воинах, их начинают остервенело злословить. «И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». (Откровение Иоанна Богослова. Гл. 2, ст. 8-9.)
Конец января или начало февраля 1919 г.: «Колёса равномерно отбивали такт. В темноте не было видно говорящего, и поэтому сказанное приобретало абстрактный характер.
/.../
– Крестьянин отвернётся от коммунизма, когда он его узнает. Он тугодум и пожалуй будет поздно – нас уже не будет, чтобы ему помочь...
/.../
– Революцию сделала ловкая пропаганда левых.
– Хм... Не всё, что они говорили, было ложью. Правительство и царь наделали много глупостей.
– Вот видите, вы подпали пропаганде. Конечно, были ошибки, как везде, но не больше, чем во Франции или в Англии. Пропаганда же преувеличивала ошибки и замалчивала успехи. Получалось впечатление гнили. И напрасно. В общем дела шли совсем не так плохо. Россия развивалась гигантскими шагами.
– Собственно, чтобы остановить это развитие, Германия объявила нам войну. Через десяток лет Россия стала бы непобедима. Наши товары стали вытеснять немецкие товары с азиатских рынков...
– Царь был слаб, конечно, был бы лучше Александр III с железным кулаком. …
/.../
– Наш рубль принимался во всём мире.
/.../
– Неграмотных среди молодежи почти не было...
– Русская наука имела много мировых имён. В литературе, музыке и в театре мы были...
... Колеса ритмично пели: тра-та-та, тра-та-та. Я повернулся на бок и заснул». (Мамонтов С.И. Походы и кони. Париж: «YMCA-PRESS», 1981. Глава «В Донецком каменноугольном районе. В поезде». С. 149, 150-151, 152, 153.)
Антон Павлов,
14-06-2022 03:36
(ссылка)
Русские броневики. Примеры боёв 1917-18 г.
В сравнение с: https://my.mail.ru/communit...
Примеры действий русских броневых частей в 1917 году, когда бывшие царские войска уже оказались разложены большевицкой пропагандой.
Юго-Западный фронт.
VIII бронедивизион 8-й армии. «Например, 25 июня (8 июля) 1917 года броневик «Громобой» 20-го автопулемётного отделения, поддерживая пехоту при атаке австро-венгерских позиций у города Станислав (современный Ивано-Франковск, Украина. – Прим. автора). В ходе боя экипаж машины, удачно маневрируя под артиллерийским обстрелом, сумел неожиданно прорваться через проволочное заграждение, и с дистанции 30-35 метров открыть огонь из пушки и пулемётов по австро-венгерским окопам и огневым точкам. Не выдержав обстрела с близкой дистанции, противник оставил окопы и отошёл, благодаря чему русская пехота захватила брошенные позиции без потерь. При этом броневик вёл огонь, пока не закончились боеприпасы, и только после этого отошёл в тыл. За этот бой члены экипажа машины унтер-офицеры С.И. Березин и И.А. Голенков, ефрейторы И.Ф. Берзин и А.А. Пилевин были награждены Георгиевскими крестами. Интересно, что во время боя «Громобой» вёл шофёр с заднего поста управления, о чём в наградном документе на ефрейтора Т.Ф. Березина говорилось так:
«Награжден от имени Военного Министра за отличие в бою 25.06.1917 г. при прорыве австрийских позиций у г. Станиславова, где, будучи шофером заднего рулевого управления на броневой пушечной машине «Громобой», первый привел и врезался в проволочные заграждения противника, чем дал возможность использовать огневую силу броневого автомобиля на расстоянии 40-50 шагов и оказал существенную поддержку пехоте». (Коломиец М.В. Русский Гарфорд: «Дракон», «Громобой», «Чудовище» и другие. М.: «Эксмо», «Яуза», 2019. С. 120-121.)
XI бронедивизион 11-й армии. В его 34-м отделении имелся пулемётный бронеавтомобиль под именем «Друг пехоты». (Там же. С. 124.)
VII бронедивизион 7-й армии. «13 (26) июля 1917 года 31-е отделение получило приказ командира дивизиона – прикрыть отход частей 34-го армейского корпуса на новую линию обороны Сухостав – Вельки. Бронеавтомобили должны были сдерживать продвижение противника с утра до темноты, курсируя вдоль шоссе Трембовля – Сухостав*. Машины были поставлены недалеко у шоссе и тщательно замаскированы. Командир отделения занял наблюдательный пункт на господствующей высоте 360, 0. В тыду за бронемашинами расположился резерв – два бронеавтомобиля «Пирлес» с 40-мм автоматами из состава 2-й отдельной бронированной батареи для стрельбы по воздушному флоту (в бою не участвовали).
Впереди находился передовой дозор – разъезд Ингушского конного полка. Примерно в 10 дозор донёс о появлении противника, и вскоре отошёл. Через полчаса стало ясно, что немецкие части с запада и севера подходят к деревне Мшанец* и станции Роскошь, в районе которых занимали позиции броневики.
Первым примерно в 10.30 в бой вступил броневик «Владимирец», который по приказанию капитана Ольховика неожиданно для противника выехал из своего укрытия и огнём своих пулемётов рассеял его колонну, выдвигавшуюся к станции Роскошь. Вслед за «Владимирцем» в бой вступил пушечный бронеавтомобиль:
«Одновременно капитан Ольховик, внезапно выехав на броневике «Сибиряк 2» на высоту 360, метким огнем своего орудия рассеял другую – сильнейшую колонну (около 1 полка пехоты с артиллерией), приближавшуюся к д. Мшанец со стороны д. Деренювка, причем нанес ей большие потери. Затем, заметив большое скопление неприятельской пехоты и обозов в д. Деренювка, капитан Ольховик, не прекращая огня своих пулеметов по частям рассеявшимся и залегшим частям разбитой колонны, перенес орудийный огонь на эту деревню, и удачными попаданиями зажег ее в нескольких местах, чем навел еще большую панику на ошеломленного внезапными выездами броневиков противника. Около 11 часов германцы принуждены были развернуться в боевой порядок, причем для обстреливания броневых машин ими было выдвинуто к западной окраине д. Мшанец 2 легких орудия. Вступив в состязание с этими орудиями, «Сибиряк 2» своим метким пушечным огнем привел к молчанию на все время боя эти орудия». (РГВИА. Ф. 409. Оп. 4. Д. 5079. Л. 2.)
Немцы привлекли для борьбы с бронемашинами 31-го отделения артиллерию (гаубичную и две тяжёлых батареи), которая открыла огонь. Под его прикрытием пехота противника начала движение в двух направлениях – с северо-запада и на восток. Броневики неоднократно выезжали вперёд, и вступали в бой с наступающей пехотой, при этом «Сибиряк 2-й» несколько раз прорывался по дороге немцам в тыл, ведя огонь с близкой дистанции. В течение нескольких часов броневые машины не позволяли немцам занять деревню Мшанец, нанося им существенные потери. Около 17 часов пехота противника сумела занять деревню, двигаясь далее в юго-восточном направлении. Несмотря на это, броневики 31-го отделения несколько раз врывались на улицы Мшанеца, ведя огонь практически в упор. В 17.30, во время одного из таких выездов, близким разрывом артиллерийского снаряда было разбито колесо броневика «Павловец». Капитан Ольховик, несмотря на сильный обстрел противника, подъехал на своём «Гарфорде» к подбитой машине, взял её на буксир и вывез в тыл, чем спас от захвата противником. Затем «Сибиряк 2-й» вернулся, и совместно с бронемашиной «Владимирец» вёл бой с наступающими немецкими частями до 20.00. В результате броневики вели бой в течение 9,5 часов, чем позволили «104, 5-й Заамурской и 1-й Финляндской пехотным дивизиям спокойно оборудовать свои позиции, не боясь внезапного наступления, и не только не понеся потерь, но даже не сделав ни единого выстрела».
За бои юго-восточнее Тарнополя в июле 1917 года приказом по 7-й армии № 1765 от 31 октября (13 ноября) 1917 года пять офицеров 7-го броневого дивизиона, в их числе и капитан Ольховик, были награждены орденами Св. Георгия 4-й степени, а многие солдаты и унтер-офицеры получили Георгиевские кресты и медали.
* Современные Трембовля и Сухостав в Тарнопольской области Украины, деревня Мшанец находится примерно в 35 км юго-восточнее Тарнополя. Упоминаемая выше деревня Доброполье находится в 20 км западнее деревни Мшанец. До 1918 года эта территория входила в состав Австро-Венгрии». (Там же. С. 125-127.)
«282 Константинъ ОЛЬХОВИКЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 13 Іюля 1917 г. будучи Капитаномъ 31 броневого Отдѣленія когда этому отдѣленію было приказано прикрыть отходъ частей 34-го Армейскаго корпуса, который долженъ былъ устроиться на новой позиціи Сухоставъ-Хавилувъ-Вельки, Капитанъ Ольховикъ замаскировавъ ввѣреныя ему 3 броневыя машины въ дер. Мшанецъ, выждалъ подхода значительныхъ силъ противника, для чего пропустилъ мимо себя непріятельскую развѣдку, а замѣмъ внезапно атаковалъ своими броневиками наступавшіе непріятельскіе колоны. Безстрашными и умѣлыми маневрами, нанося непріятелю большіе потери пушечнымъ и пулеметнымъ огнемъ и, замѣтивъ скопленіе большихъ силъ противника съ обозами въ дер. Деренювка, зажегъ ее въ нѣсколькихъ мѣстахъ, чѣмъ посѣялъ панику и нанесъ большой уронъ противнику. Своими дѣйствіями заставилъ построиться германцевъ въ боевой порядокъ, поставить на позиціи съ запада д. Мшанецъ 2 легкихъ орудія, которыя были огнемъ броневика сейчасъ же приведены къ молчанію на все время боя. Отражая яростныя атаки непріятель. пѣхоты и состязаясъ съ артиллеріей, безприрывно смѣло атакуя противника выѣздами по фронту и въ тылъ и заберя на буксиръ подбитую брон. машину Капитанъ Ольховикъ велъ бой и задержалъ на 14 часовъ (съ 6 до 20 ч.) наступленіе непріятеля, чѣмъ далъ возможностъ 104-й, 5-й Заамурской и 1-й Финляндской пѣх. дивизіямъ спокойно оборудоватъ свои позиціи, не только не понеся потеръ, но и не сдѣлавъ ни одного выстрѣла». (Альбомъ кавалеровъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгiя и Георгiевскаго оружiя. Бѣлградъ. 1935. Стр. 134.) https://cloud.mail.ru/publi...
«Далеко неполный, охватывающій всего въ фотографіяхъ 1/10, а въ спискахъ 1/3 награжденныхъ Георгіевскими наградами, Альбомъ и въ этомъ количествѣ, съ большимъ трудомъ собранный, явится и памятникомъ Славы Россійской ИМПЕРАТОРСКОЙ Арміи и Флота, и будетъ служить справочникомъ въ будушемъ». (Там же. Стр. 196.)
«Исторiя скажетъ свое слово о Русской Императорской Армiи, и она можетъ спокойно ожидать этого суда и не бояться его. Непостыженная, побѣдоносная, несокрушимая, славная предстанетъ она на судъ исторiи и къ безконечной вереницѣ именъ героевъ прибавится еще длинный списокъ новыхъ именъ.
/.../
Забыли... забыли... забыли...
И пока не вспомнимъ: — тоска бѣженства на чужбинѣ, нищета, голодъ, казни, насилiя, развратъ, людоѣдство, грабежъ, звѣриная жизнь тамъ — гдѣ была Родина. Пора взять себя въ руки и твердо сказать, какъ писали мы въ рапортахъ:
«Выздоровѣвъ отъ революцiонной горячки, я вступилъ въ исполненiе обязанностей службы Его Императорскаго Величества». (Красновъ П.Н. Памяти Императорской Русской Армiи. // Русская лѣтопись. Кн. V. Парижъ. 1923. Стр. 36, 64.)
https://my.mail.ru/communit...
«Бронеавтомобили «Гарфорд» без сомнения являлись самыми мощными по вооружению бронемашинами Первой мировой войны. Ни одна армия мира в то время не располагала бронемашинами с 76-мм пушками. Имея, помимо орудия, ещё и три пулемёта, «Гарфорд» мог выполнять на поле боя самые разные задачи – от поддержки своей пехоты до борьбы с артиллерией и огневыми точками противника. Впоследствии, уже во время гражданской войны в России, эти машины с успехом освоили и новую «специальность» – они успешно использовались в борьбе не только с броневиками, но и танками противника.
В целом, конструкцию броневика следует признать достаточно удачной для своего времени – она сочетала не только мощное вооружение, но и надёжное бронирование, защищавшее экипаж от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. Благодаря не полностью бронированной крыше башни и корпуса удалось существенно улучшить вентиляцию боевого отделения при интенсивной стрельбе. Вместе с тем, такое решение создавало определённые проблемы для экипажа в дождливую погоду или снегопад.
/.../
Таким образом, по своим тактико-техническим характеристикам – масса, проходимость, скорость – «Гарфорд» ничем не проигрывал пушечным английским и французским машинам. А по боевым характеристикам – вооружению и защите экипажа – российский броневик превосходил союзников.
Кстати, из-за того, что «Гарфорд» изготавливался на базе бескапотного грузовика, он имел меньшую, по сравнению с английскими машинами, длину и колёсную базу, и, следовательно, был более маневренным.
И ещё один любопытный момент. По фотографиям кажется, что «Гарфорд» имеет весьма значительные размеры. Однако на самом деле, по своим габаритам броневик примерно такой же (даже чуть ниже и короче) как автомобиль «Газель» с обычным промтоварным фургоном. И даже база «Гарфорда» и «Газели» практически одинаковая.
Таким образом, пушечный броневик «Гарфорд» ничем не уступал, а во многом и превосходил отечественные и зарубежные аналоги, которых, сказать, было немного. И хотя с современной точки зрения его конструкция может показаться несколько архаичной, для своего времени использовавшиеся в бронеавтомобиле технические решения являлись достаточно передовыми и удачными». (Коломиец М.В. Русский Гарфорд: «Дракон», «Громобой», «Чудовище» и другие. М.: «Эксмо», «Яуза», 2019. С. 210, 213.)
«Согласно техническому описанию «Гарфорда», его полная боевая масса с экипажем, боекомплектом, запасами бензина, керосина, тавота, масла, запасными частями и инструментом составляла 525 пудов (8600 кг). Она складывалась из масс в 6960 кг пустого бронеавтомобиля, 352 кг артвыстрелов, 184 кг пулемётных лент в коробках, 96 кг бензина, 24 кг запасов керосина для фонарей, тавота и масла, 160 кг запасных частей и инструмента для орудия и автомобиля и 144 кг двух домкратов и комплекса цепей противоскольжения на задние колёса». (Там же. С. 78.)
Основные боеприпасы к 76,2-мм пушке броневика: 1) унитарный выстрел общей длиной приблизительно 470 мм, вес с гранатой или шрапнелью около 7,8 кг; 2) снаряд с пулевой шрапнелью и 22-секундной трубкой – 256-265 пуль, вес 6,5 кг; 3) тротиловая граната с взрывателем – 6,4 кг, вес тротилового заряда 785 г. (Там же. С. 76.)
См. также: Краткое описание Броневого Пушечно-Пулеметнаго Автомобиля „Гарфордъ“ оборудованнаго Путиловскимъ заводомъ. Пг. 1915.
Броневик Путиловского завода Путилов-Гарфорд (или Гарфорд-Путилов, на шасси американского грузовика «Гарфорд») выпускался с апреля 1915 г. 4-колёсный броневик весом 8,6 т (морской выпуска 1916 г. – 11 т), толщина брони 6,5 мм (морской выпуска 1916 г. – 7-9 мм, орудийной башни 8-13 мм).
1907 г.: «Пробиваемость новых остроконечных пуль значительно возросла. При стрельбе тупыми пулями 6-миллиметровый щит пулемёта Максима мог пробиваться лишь у самого дула винтовки, при стрельбе же опытными пулями такой же щит пробивался пулей в 9,5 г на всех расстояниях до 100 шагов и пулей в 10,5 г — до 75 шагов.
При стрельбе по 5-миллиметровым щитам, новые 9,5-граммовые пули пробивают щит на всех расстояниях до 200 шагов; 10,5-граммовые — до 175 шагов; тупые пули пробивают такие щиты не далее 25 шагов; щиты толщиной 4 мм соответственно пробиваются на расстояниях 300, 250 и не далее 50 шагов». (Федоров В.Г. Оружейное дело на грани двух эпох. (Работы оружейника 1900-1935 гг.). Ч. I. Оружейное дело в начале XX столетия. Л. 1938. С. 23.)
Изнутри в качестве противоосколочного бронирования Путилов-Гарфорд был обшит войлоком и холстом. Надо заметить, что Т-34, например, подобного бронирования не имел, и его экипаж постоянно посекался осколками при пробивании брони. Также и лёгкая советская бронетехника не имела такой защиты. Только в 2010 г. на предположенных к производству «новых» БТР-82 (с КПВТ) и БТР-82А (с 30-м пушкой) была введена противоосколочная обшивка. Напротив, у немцев во 2-ю Мировую войну танки изнутри отделывались резиной, что защищало германские экипажи от посечения осколками.
Вооружён Путилов-Гарфорд был 3-дюймовым (76,2 мм) орудием (ствол защищён броневым кожухом) на особо для этого созданной орудийной тумбе во вращающейся башне (угол обстрела по горизонту 230°) в задней части броневика. Тремя пулемётами Максима: один в орудийной башне справа от пушки и два по бокам в особых башнях, обеспечивавших угол обстрела в пределах 110°. Впоследствии стволы пулемётов также стали закрываться по бокам броневыми листами. Боезапас 44 выстрела к пушке (расположенных в железных лотках) и 5000 патронов к пулемётам; с 1916 г. 60 и 9000 соответственно. Карбюраторный двигатель фирмы «Джефри» в 35 л.с. (26 кВт), запас топлива 98 л., запас хода по дорогам с твёрдым покрытием 100-120 км., наибольшая скорость 15-18 км/ч вперёд и 3-4 км/ч задним ходом. (Отечественные бронированные машины. ХХ век. Т. 1. Отечественные бронированные машины 1905-1941. М.: «Экспринт», 2002. С. 328.)
Можно прочесть, что на Путилове-Гарфорде стояла противоштурмовая пушка обр. 1910 г. На самом деле, это условно. Указанная противоштурмовая пушка была создана на основе 3-дюймовой горной пушки обр. 1909 г. Горные пушки имели укороченный ствол и были облегчёнными по сравнению с полевыми, почему дальность стрельбы у них была меньшей. Противоштурмовая пушка отличалась от горной недорогим, более лёгким, неразборным лафетом и облегчённым снарядом, так как предназначалась для выкатывания на позицию при обороне крепостей для стрельбы по идущей на приступ пехоте – отсюда название «противоштурмовая». Горная же пушка должна была разбираться для навьючивания на лошадь и перевозки в горах. Таким образом, на броневике стояло не орудие, а ствол с казённой частью горной обр. 1909 / противоштурмовой обр. 1910 г. пушки. Станок же (тумба) были сделаны особо для броневика. Горная пушка стреляла теми же снарядами, что и обычная полевая.
3-дюймовая русская горная пушка обр. 1909 г., имея ствол длинной 17 калибров, выпускала шрапнельный снаряд весом в 6,5 кг с начальной скоростью 380 м/с, при наибольшей дальности стрельбы в 7 км. (Военная энциклопедия. Т. VIII. СПб. 1912. Ст. «Горная артиллерия». С. 406.). Для сравнения, стоявшая в 1941 г. на немецких Pr.IV и StG.III 75-мм KwK 37 L/24 (дословно: боевой машины орудие 37 длинной 24 калибра) выпускала бронебойный снаряд весом 6,8 кг с начальной скоростью 385 м/с. То есть, русский броневик Путиловского завода 1915 г., при замене шрапнели на бронебойный снаряд, легко мог бороться в орудийной мощи с передовыми для 1941 г. германскими танком и штурмовым орудием поддержки пехоты. Ствол нашего орудия гораздо короче: 1295,4 мм (17Х76,2) против немецкого 1800 мм (24Х75). Но разница в начальной скорости полёта снаряда всего 5 м/с. Вес немецкого снаряда на 300 г больше. Однако для бронебойного снаряда гораздо важнее прочность, чем отличались снаряды немецкие, и чем совсем не могли похвастаться снаряды советские, нередко разрушавшиеся при попадании в толстую немецкую броню, не достигнув заброневого действия.
3-дюймовая (76,2 мм) русская скорострельная лёгкая полевая пушка обр. 1902 г. намного превосходила по начальной скорости полёта снаряда подобные пушки остальных стран мира. (Правда, в виду недостаточной обтекаемости нашего шрапнельного снаряда, он несколько терял скорость в полёте. Но это легко устранимый недостаток.) Русская пушка длинной ствола в 30 калибров выпускала 6,5 кг шрапнельный снаряд с начальной скоростью 1930 футов (588,264 м/с).
Австрийская 8-см (76,5 мм) скорострельная полевая пушка обр. 1905 г. в 30 кал. из прокованной бронзы: 6,68 кг – 500 м/с.
Английская (наиболее распространённый образец из имевшихся в полевой артиллерии 14-ти): 18-фунтовая (83,8 мм) пушка обр. 903 г. длинной 29,4 кал.: 20,5 фунта (8,4 кг) – 1600 футов (487,68 м/с).
Германская полускорострельная 77-мм обр. 1895 г. длинной 27,3 кал.: 6,85 кг – 465 м/с.
Итальянская скорострельная 7,5 см полевая пушка обр. 1906 г. длинной 30 кал.: 6,5 кг – 510 м/с.
Французская 75-мм скорострельная обр. 1897 г. длиной 35 кал.: 7,25 кг – 530 м/с.
(Военная энциклопедия. Т. III. СПб. 1911. Ст. «Артиллерия современная». С. 144-155.).
Подобное же было и в горной артиллерии:
Русская 3-дюймовая (76,2 мм) горная пушка обр. 1909 г. с длинной ствола в 17 калибров выпускала 6,5 кг шрапнельный снаряд с начальной скоростью 380 м/с.
Австрийская 7-см (72,5 мм) обр. 99 г. (бронзовая) длинной 14 кал.: 4,68 кг – 304 м/с. Обр. 909 г. (бронзовая) – 310 м/с.
Английская 75-мм Максима-Норденфельда длинной 12 кал.: 5,67 кг – 250 м/с.
Германская 75-мм системы Круппа длиной 14 кал.: 5,3 кг – 300 м/с.
Итальянская 70-мм длиной 16,4 калибра: 4,9 кг – 350 м/с.
Французская 65-мм обр. 910 г. длиной 17 кал.: 4,2 кг – 360 м/с.
Японская 75-мм обр. 1898 г. длиной 13,3 кал.: 6 кг – 275 м/с.
(Военная энциклопедия. Т. VIII. СПб. 1912. Статья «Горная артиллерия». С. 406. Т. III. СПб. 1911. Ст. «Артиллерия современная». С. 151 (итальянская).).
На этом «проклятом наследии» «отсталой Царской России» «передовой» СССР «выезжал» всю 2-ю Мировую войну. Взяв за основу ствол скорострельной пушки обр. 1902 г. и её гильзу, из улучшений в СССР ввели лишь увеличение длины ствола и веса порохового заряда с 0,9 кг до 1,08 кг. Последнее предусматривалось ещё царской конструкцией, так как гильза была сделана с запасом. (Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. Мн.: «Харвест», 2000. С. 459.)
К примеру, 73-мм пушка на советском БМП-1, будучи почти на 90 см длиннее ствола 76,2-мм горной пушки обр. 1909 г., стоявшей на Путилов-Гарфорде, намного уступает последней не только в износоустойчивости, но и начальной скорости полёта снаряда (для осколочной гранаты ОГ-15В она составляет 290 м/с). Это же относится и к 100-мм пушке БПМ-3, которая по своей слабости даже не предполагает стрельбу бронебойными снарядами.
Советская броня по качеству также намного хуже русской и немецкой. Например, сравнивая Путилов-Гарфорд (не морской) и тяжёлые советские бронеавтомобили БА-11 1939 г. и БА-11Д 1940 г., можно видеть, что первый весит 8,6 т, второй 8,13 т, а третий 8,6 т. (Отечественные бронированные машины. Т. 1. С. 337.) При этом, несмотря на то, что в целом царский броневик по размерам несколько больше, у него значительно тоньше броня, нет радиостанции, легче двигатель и на 4 колеса меньше. А что такое советский двигатель, можно видеть из следующего примера. БА-11Д отличается от БА-11 дизельным двигателем ЗИС-Д-7 в 98 л.с. (72 кВт) вместо карбюраторного ЗИС-16 до 90 л.с. (66 кВт). Боекомплект был увеличен для 45-мм пушки со 104 до 114 выстрелов, а для 2-х 7,62-мм пулемётов уменьшен с 3087 до 3014 патронов. На БА-11Д были установлены радиостанция и внутреннее переговорное устройство. В итоге вес «усовершенствованного» БА увеличился с 8,13 до 8,6 тонн, а максимальная скорость сократилась с 64 до 48 км/ч. (Там же. С. 329.) Добавление нового советского двигателя и радиостанции увеличили вес машины на полтонны, значительно снизив её скорость. Из этого можно видеть, что при заявленной большей толщине советская броня весила меньше русской. То есть, была менее качественной (плотной).
Вот пример из 2-й Мировой войны. 20 июня 1942 г.: «После обеда пробные стрельбы из пулемёта с дистанции 50 метров по мишени – листу немецкой брони толщиной 8 мм и русской [т.е. советской – А.П.] брони толщиной 15 мм.
Стреляет обер-лейтенант Айк, но обычные патроны броневые листы не берут, зато остроконечные пули со стальным сердечником легко прошивают их насквозь». (Кубек В. В авангарде танковых ударов. Фронтовой дневник стрелка разведывательной бронемашины. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 243.)
31 августа 1942 г.: «А нас, оказывается, обстреляли из танкового пулемёта и ещё огня добавили несколько солдат из своих карабинов.
…В мою машину с левой стороны угодила пуля русского карабина. Ерунда, царапина, только краску чуть содрало, а на броне ни вмятинки». (Кубек В. Передовой отряд смерти. Фронтовой дневник разведчика Вермахта 1942-1945. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 82.) В последнем случае автор воевал на 8-колёсной бронемашине «Бюссинг-НАГ GS» (Sd.Kfz 231), вооружённой 20-мм пушкой и спаренным с ней 7,92-мм пулемётом. Бронирование: корпуса от 8 до 14,5 (лоб) мм, лоб башни 30 мм. Машины этой серии имели вес от 8,3 до 8,8 тонн и двигатель в 180 л.с. (Кочнев Е. Военные автомобили Вермахта и его союзников. М.: «Яуза», «Эксмо», 2009. С. 177-180.)
В 1917 г. на Западном фронте немцы начали стрелять по танкам союзников бронебойными снарядами, использовав своё 77-мм орудие как противотанковое. На Восточном фронте, благодаря высокой начальной скорости полёта снаряда русских 3-дюймовых пушек, с такой стрельбой трудностей не было. Снаряд со шрапнелью разрывался при ударе о цель. Как и во 2-ю Мировую войну, в 1-ю броневик мог продолжать бой, будучи повреждённым или подбитым. Например, 2-й Кубанский поход Добровольческой армии, 1918 г.: «На рассвете 18 июля полковник Кутепов с частью Офицерского и с Кубанским стрелковым полками, а также с тремя орудиями нашей батареи, под командой полковника Миончинского, двинулся прямо в лоб армии товарища Сорокина в направлении станции Сосыка. Группа Сорокина шла от Кущевки прямо на Екатеринодар и насчитывала тысяч 30 штыков, подкрепленных сильной артиллерией и двумя бронепоездами. Тимановский повел несколько рот Офицерского полка с орудием капитана Шперлинга и с Кирасирским эскадроном в обход станции Сосыка справа. Уже в двух километрах от станицы Тимашевской наши цепи вступили в бой с пехотой Сорокина. Цепи красных медленно и в полном порядке отходили на север под давлением рот Офицерского полка. Артиллерия красных действовала непривычно близко и вела точную пристрелку, нанося потери офицерским ротам. Наше одно орудие с трудом боролось против четырех красных. Левая колонна, двигавшаяся по полотну, вела тяжелый бой. Грохот орудий, главным образом красных, не умолкал. Из Тихорецкой подошел наш легкий автоброневик с пулеметами.
Около трех часов дня красные залегли и окопались, оказывая жестокое сопротивление. Офицерские роты тоже залегли и дальше не продвигались. Полковник Тимановский хмурился, ругал почему-то сопровождавший нас Кирасирский эскадрон и недоумевал, почему нет связи справа от конницы генерала Покровского.
Наш автоброневик пытался продвинуться по дороге вперед, но тут же получил прямое попадание шрапнелью. Его командир был ранен в живот, а один из пулеметов – разбит. Однако броневик не вышел из боя и продолжал поддерживать цепи, стреляя из одного пулемета. Капитан Шперлинг пристрелялся к красным цепям и начал подготовку атаки. После короткой, но удачной пристрелки офицерские роты, сопровождаемые бронеавтомобилем и немногочисленными кирасирскими всадниками с правого фланга, пошли в атаку. Впереди закипела стрельба, и цепь наша вскоре скрылась за гребнем.
Первое наше орудие взялось в передки и понеслось галопом за пехотой. Капитан Шперлинг скакал впереди, явно увлекшись преследованием красных, и не заметил бегущих назад, справа и слева, кубанских пластунов. Когда мы поднялись на гребень, Шперлинг осадил на галопе, буквально свалился с лошади и крикнул непривычно громко: „С передков!”
В нескольких сотнях шагов двигалась в нашу сторону красная пехотная цепь, пулеметная тачанка выскочила вперед прямо перед нашим орудием. Пластунов наших нигде не было видно, видны были лишь два кирасира, офицер и молодая девушка в кирасирской форме, но без фуражки. Она вытирала на лице офицера струившуюся обильно кровь. „Десять! Гранатой огонь!” Перелет... „Уровень меньше”... „Заклинилось!” – крикнул наводчик. Проклятая граната Обуховского завода заклинилась и не шла ни туда, ни сюда. Экстрактор не выбрасывал патрон назад. Шперлинг, стоявший на зарядном ящике, спрыгнул вниз. Пулемет красных застрочил в упор по орудию. Красная цепь поднялась и пошла в контратаку, стреляя на ходу. А мы, привыкшие к железной дисциплине Кубанского похода, не могли оставить орудие и уходить назад.
Через минуту послышались крики: „Ранен... ранен...” Хартулари тряс раненной рукой, Рейтеру пуля царапнула спину, я почувствовал сильный удар по правой щиколотке и сырость в сапоге. „Ранен!” – крикнул и я и начал, приволакивая ногу, отходить от орудия. Все поле пылилось от града пуль красных. Я видел, как в тумане, что отбегавший от орудия капитан Михно, лег на живот и кричал нашим стоящим вдали передкам, чтобы они спасали орудие. Слева от меня наша батарейная пулеметная повозка отъезжала назад. Испуганные мальчики-пулеметчики, бывшие новочеркасские кадеты, садили из „Максима” куда-то вверх. Еще дальше было видно, как наш автоброневик, подбитый и, видимо, не способный двигаться, строчит по красным из уцелевшего пулемета. Красные товарищи с победными криками бежали к орудию. Я понял, что мое спасение зависит лишь от того, смогу ли я, с перебитой костью, догнать уходившую тачанку, или нет... Меня увидел сидевший в повозке Андрей Соломон, портупей-юнкер нашего Константиновского училища. Андрей приказал тачанке остановиться и подождать меня. Ждать под таким убийственным пулеметным и ружейным огнем – было подвигом. Я перевалился в повозку, и мы понеслись рысью.
Мы проскочили расположение последней резервной роты Офицерского полка. Рота уже дрогнула под убийственным огнем. Полковник Тимановский, потерявший свое невозмутимое спокойствие, размахивая плетью, организовал контратаку, и командир роты, полковник Булаткин, – один из легендарных героев Марковских полков, повел роту в контратаку. Широкоплечий, высокий и невозмутимый, он пошел, ускоряя шаг и не оглядываясь, навстречу огненному смерчу. Офицеры двинулись за ним в направлении замолчавшего нашего Первого орудия. У орудия лежали окровавленные трупы всех двенадцати лошадей, скошенных вражескими пулеметами при попытке ездовых взять орудие „на задки”: ездовые, во главе с бывшим портупей-юнкером Березовским, услышав зов капитана Михно, галопом бросились спасать орудие. Они хоть и доскакали до орудия, но, когда делали заезд, попали под смертельный обстрел из пулеметов. Наши верные кони степного похода все пали. Каким-то чудом никто из батареи не был убит, были только раненые.
Капитан Шперлинг с уцелевшими номерами отошел от орудия и дожидался контратаки 9-ой роты Офицерского полка. Славная 9-ая рота, несмотря на заградительный пулеметный огонь черноморских матросов, опрокинула красных, уже близко подошедших к нашему орудию.
Рота полковника Булаткина потеряла нескольких человек убитыми и больше десяти раненными, но бой был решен: красные отходили, не останавливаясь, и очистили станицу Елизаветинскую. Обходная колонна полковника Тимановского, как оказалось, наскочила на более значительные силы красных, нежели отряд полковника Кутепова, наступавший на станцию Сосыку.
„Проклятая тяжелая гаубица”, мешавшая ночью спать, была подбита на станции Сосыка огнем нашего Второго орудия поручика Боголюбского. Как оказалось, эта восьмидюймовая [203,2 мм – А.П.] гаубица стреляла с площадки бронепоезда. Граната орудия Боголюбского попала прямо в вагон со снарядами и была причиной сильного взрыва, разнесшего советский бронепоезд. Взрыв этот вызвал панику, и красные отступили на Кущевку». (Ларионов В.А. Последние юнкера. Франкфурт на Майне: «Посев», 1984. С. 114-118.) https://rev-lib.com/posledn...
3-дюймовое (76,2 мм) орудие броневика Путилов-Гарфорд:


Изображения взяты из: https://zen.yandex.ru/media...
Примеры действий русских броневых частей в 1917 году, когда бывшие царские войска уже оказались разложены большевицкой пропагандой.
Юго-Западный фронт.
VIII бронедивизион 8-й армии. «Например, 25 июня (8 июля) 1917 года броневик «Громобой» 20-го автопулемётного отделения, поддерживая пехоту при атаке австро-венгерских позиций у города Станислав (современный Ивано-Франковск, Украина. – Прим. автора). В ходе боя экипаж машины, удачно маневрируя под артиллерийским обстрелом, сумел неожиданно прорваться через проволочное заграждение, и с дистанции 30-35 метров открыть огонь из пушки и пулемётов по австро-венгерским окопам и огневым точкам. Не выдержав обстрела с близкой дистанции, противник оставил окопы и отошёл, благодаря чему русская пехота захватила брошенные позиции без потерь. При этом броневик вёл огонь, пока не закончились боеприпасы, и только после этого отошёл в тыл. За этот бой члены экипажа машины унтер-офицеры С.И. Березин и И.А. Голенков, ефрейторы И.Ф. Берзин и А.А. Пилевин были награждены Георгиевскими крестами. Интересно, что во время боя «Громобой» вёл шофёр с заднего поста управления, о чём в наградном документе на ефрейтора Т.Ф. Березина говорилось так:
«Награжден от имени Военного Министра за отличие в бою 25.06.1917 г. при прорыве австрийских позиций у г. Станиславова, где, будучи шофером заднего рулевого управления на броневой пушечной машине «Громобой», первый привел и врезался в проволочные заграждения противника, чем дал возможность использовать огневую силу броневого автомобиля на расстоянии 40-50 шагов и оказал существенную поддержку пехоте». (Коломиец М.В. Русский Гарфорд: «Дракон», «Громобой», «Чудовище» и другие. М.: «Эксмо», «Яуза», 2019. С. 120-121.)
XI бронедивизион 11-й армии. В его 34-м отделении имелся пулемётный бронеавтомобиль под именем «Друг пехоты». (Там же. С. 124.)
VII бронедивизион 7-й армии. «13 (26) июля 1917 года 31-е отделение получило приказ командира дивизиона – прикрыть отход частей 34-го армейского корпуса на новую линию обороны Сухостав – Вельки. Бронеавтомобили должны были сдерживать продвижение противника с утра до темноты, курсируя вдоль шоссе Трембовля – Сухостав*. Машины были поставлены недалеко у шоссе и тщательно замаскированы. Командир отделения занял наблюдательный пункт на господствующей высоте 360, 0. В тыду за бронемашинами расположился резерв – два бронеавтомобиля «Пирлес» с 40-мм автоматами из состава 2-й отдельной бронированной батареи для стрельбы по воздушному флоту (в бою не участвовали).
Впереди находился передовой дозор – разъезд Ингушского конного полка. Примерно в 10 дозор донёс о появлении противника, и вскоре отошёл. Через полчаса стало ясно, что немецкие части с запада и севера подходят к деревне Мшанец* и станции Роскошь, в районе которых занимали позиции броневики.
Первым примерно в 10.30 в бой вступил броневик «Владимирец», который по приказанию капитана Ольховика неожиданно для противника выехал из своего укрытия и огнём своих пулемётов рассеял его колонну, выдвигавшуюся к станции Роскошь. Вслед за «Владимирцем» в бой вступил пушечный бронеавтомобиль:
«Одновременно капитан Ольховик, внезапно выехав на броневике «Сибиряк 2» на высоту 360, метким огнем своего орудия рассеял другую – сильнейшую колонну (около 1 полка пехоты с артиллерией), приближавшуюся к д. Мшанец со стороны д. Деренювка, причем нанес ей большие потери. Затем, заметив большое скопление неприятельской пехоты и обозов в д. Деренювка, капитан Ольховик, не прекращая огня своих пулеметов по частям рассеявшимся и залегшим частям разбитой колонны, перенес орудийный огонь на эту деревню, и удачными попаданиями зажег ее в нескольких местах, чем навел еще большую панику на ошеломленного внезапными выездами броневиков противника. Около 11 часов германцы принуждены были развернуться в боевой порядок, причем для обстреливания броневых машин ими было выдвинуто к западной окраине д. Мшанец 2 легких орудия. Вступив в состязание с этими орудиями, «Сибиряк 2» своим метким пушечным огнем привел к молчанию на все время боя эти орудия». (РГВИА. Ф. 409. Оп. 4. Д. 5079. Л. 2.)
Немцы привлекли для борьбы с бронемашинами 31-го отделения артиллерию (гаубичную и две тяжёлых батареи), которая открыла огонь. Под его прикрытием пехота противника начала движение в двух направлениях – с северо-запада и на восток. Броневики неоднократно выезжали вперёд, и вступали в бой с наступающей пехотой, при этом «Сибиряк 2-й» несколько раз прорывался по дороге немцам в тыл, ведя огонь с близкой дистанции. В течение нескольких часов броневые машины не позволяли немцам занять деревню Мшанец, нанося им существенные потери. Около 17 часов пехота противника сумела занять деревню, двигаясь далее в юго-восточном направлении. Несмотря на это, броневики 31-го отделения несколько раз врывались на улицы Мшанеца, ведя огонь практически в упор. В 17.30, во время одного из таких выездов, близким разрывом артиллерийского снаряда было разбито колесо броневика «Павловец». Капитан Ольховик, несмотря на сильный обстрел противника, подъехал на своём «Гарфорде» к подбитой машине, взял её на буксир и вывез в тыл, чем спас от захвата противником. Затем «Сибиряк 2-й» вернулся, и совместно с бронемашиной «Владимирец» вёл бой с наступающими немецкими частями до 20.00. В результате броневики вели бой в течение 9,5 часов, чем позволили «104, 5-й Заамурской и 1-й Финляндской пехотным дивизиям спокойно оборудовать свои позиции, не боясь внезапного наступления, и не только не понеся потерь, но даже не сделав ни единого выстрела».
За бои юго-восточнее Тарнополя в июле 1917 года приказом по 7-й армии № 1765 от 31 октября (13 ноября) 1917 года пять офицеров 7-го броневого дивизиона, в их числе и капитан Ольховик, были награждены орденами Св. Георгия 4-й степени, а многие солдаты и унтер-офицеры получили Георгиевские кресты и медали.
* Современные Трембовля и Сухостав в Тарнопольской области Украины, деревня Мшанец находится примерно в 35 км юго-восточнее Тарнополя. Упоминаемая выше деревня Доброполье находится в 20 км западнее деревни Мшанец. До 1918 года эта территория входила в состав Австро-Венгрии». (Там же. С. 125-127.)
«282 Константинъ ОЛЬХОВИКЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 13 Іюля 1917 г. будучи Капитаномъ 31 броневого Отдѣленія когда этому отдѣленію было приказано прикрыть отходъ частей 34-го Армейскаго корпуса, который долженъ былъ устроиться на новой позиціи Сухоставъ-Хавилувъ-Вельки, Капитанъ Ольховикъ замаскировавъ ввѣреныя ему 3 броневыя машины въ дер. Мшанецъ, выждалъ подхода значительныхъ силъ противника, для чего пропустилъ мимо себя непріятельскую развѣдку, а замѣмъ внезапно атаковалъ своими броневиками наступавшіе непріятельскіе колоны. Безстрашными и умѣлыми маневрами, нанося непріятелю большіе потери пушечнымъ и пулеметнымъ огнемъ и, замѣтивъ скопленіе большихъ силъ противника съ обозами въ дер. Деренювка, зажегъ ее въ нѣсколькихъ мѣстахъ, чѣмъ посѣялъ панику и нанесъ большой уронъ противнику. Своими дѣйствіями заставилъ построиться германцевъ въ боевой порядокъ, поставить на позиціи съ запада д. Мшанецъ 2 легкихъ орудія, которыя были огнемъ броневика сейчасъ же приведены къ молчанію на все время боя. Отражая яростныя атаки непріятель. пѣхоты и состязаясъ съ артиллеріей, безприрывно смѣло атакуя противника выѣздами по фронту и въ тылъ и заберя на буксиръ подбитую брон. машину Капитанъ Ольховикъ велъ бой и задержалъ на 14 часовъ (съ 6 до 20 ч.) наступленіе непріятеля, чѣмъ далъ возможностъ 104-й, 5-й Заамурской и 1-й Финляндской пѣх. дивизіямъ спокойно оборудоватъ свои позиціи, не только не понеся потеръ, но и не сдѣлавъ ни одного выстрѣла». (Альбомъ кавалеровъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгiя и Георгiевскаго оружiя. Бѣлградъ. 1935. Стр. 134.) https://cloud.mail.ru/publi...
«Далеко неполный, охватывающій всего въ фотографіяхъ 1/10, а въ спискахъ 1/3 награжденныхъ Георгіевскими наградами, Альбомъ и въ этомъ количествѣ, съ большимъ трудомъ собранный, явится и памятникомъ Славы Россійской ИМПЕРАТОРСКОЙ Арміи и Флота, и будетъ служить справочникомъ въ будушемъ». (Там же. Стр. 196.)
«Исторiя скажетъ свое слово о Русской Императорской Армiи, и она можетъ спокойно ожидать этого суда и не бояться его. Непостыженная, побѣдоносная, несокрушимая, славная предстанетъ она на судъ исторiи и къ безконечной вереницѣ именъ героевъ прибавится еще длинный списокъ новыхъ именъ.
/.../
Забыли... забыли... забыли...
И пока не вспомнимъ: — тоска бѣженства на чужбинѣ, нищета, голодъ, казни, насилiя, развратъ, людоѣдство, грабежъ, звѣриная жизнь тамъ — гдѣ была Родина. Пора взять себя въ руки и твердо сказать, какъ писали мы въ рапортахъ:
«Выздоровѣвъ отъ революцiонной горячки, я вступилъ въ исполненiе обязанностей службы Его Императорскаго Величества». (Красновъ П.Н. Памяти Императорской Русской Армiи. // Русская лѣтопись. Кн. V. Парижъ. 1923. Стр. 36, 64.)
https://my.mail.ru/communit...
О броневике Путилов-Гарфорд.
«Бронеавтомобили «Гарфорд» без сомнения являлись самыми мощными по вооружению бронемашинами Первой мировой войны. Ни одна армия мира в то время не располагала бронемашинами с 76-мм пушками. Имея, помимо орудия, ещё и три пулемёта, «Гарфорд» мог выполнять на поле боя самые разные задачи – от поддержки своей пехоты до борьбы с артиллерией и огневыми точками противника. Впоследствии, уже во время гражданской войны в России, эти машины с успехом освоили и новую «специальность» – они успешно использовались в борьбе не только с броневиками, но и танками противника.
В целом, конструкцию броневика следует признать достаточно удачной для своего времени – она сочетала не только мощное вооружение, но и надёжное бронирование, защищавшее экипаж от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. Благодаря не полностью бронированной крыше башни и корпуса удалось существенно улучшить вентиляцию боевого отделения при интенсивной стрельбе. Вместе с тем, такое решение создавало определённые проблемы для экипажа в дождливую погоду или снегопад.
/.../
Таким образом, по своим тактико-техническим характеристикам – масса, проходимость, скорость – «Гарфорд» ничем не проигрывал пушечным английским и французским машинам. А по боевым характеристикам – вооружению и защите экипажа – российский броневик превосходил союзников.
Кстати, из-за того, что «Гарфорд» изготавливался на базе бескапотного грузовика, он имел меньшую, по сравнению с английскими машинами, длину и колёсную базу, и, следовательно, был более маневренным.
И ещё один любопытный момент. По фотографиям кажется, что «Гарфорд» имеет весьма значительные размеры. Однако на самом деле, по своим габаритам броневик примерно такой же (даже чуть ниже и короче) как автомобиль «Газель» с обычным промтоварным фургоном. И даже база «Гарфорда» и «Газели» практически одинаковая.
Таким образом, пушечный броневик «Гарфорд» ничем не уступал, а во многом и превосходил отечественные и зарубежные аналоги, которых, сказать, было немного. И хотя с современной точки зрения его конструкция может показаться несколько архаичной, для своего времени использовавшиеся в бронеавтомобиле технические решения являлись достаточно передовыми и удачными». (Коломиец М.В. Русский Гарфорд: «Дракон», «Громобой», «Чудовище» и другие. М.: «Эксмо», «Яуза», 2019. С. 210, 213.)
«Согласно техническому описанию «Гарфорда», его полная боевая масса с экипажем, боекомплектом, запасами бензина, керосина, тавота, масла, запасными частями и инструментом составляла 525 пудов (8600 кг). Она складывалась из масс в 6960 кг пустого бронеавтомобиля, 352 кг артвыстрелов, 184 кг пулемётных лент в коробках, 96 кг бензина, 24 кг запасов керосина для фонарей, тавота и масла, 160 кг запасных частей и инструмента для орудия и автомобиля и 144 кг двух домкратов и комплекса цепей противоскольжения на задние колёса». (Там же. С. 78.)
Основные боеприпасы к 76,2-мм пушке броневика: 1) унитарный выстрел общей длиной приблизительно 470 мм, вес с гранатой или шрапнелью около 7,8 кг; 2) снаряд с пулевой шрапнелью и 22-секундной трубкой – 256-265 пуль, вес 6,5 кг; 3) тротиловая граната с взрывателем – 6,4 кг, вес тротилового заряда 785 г. (Там же. С. 76.)
См. также: Краткое описание Броневого Пушечно-Пулеметнаго Автомобиля „Гарфордъ“ оборудованнаго Путиловскимъ заводомъ. Пг. 1915.
Броневик Путиловского завода Путилов-Гарфорд (или Гарфорд-Путилов, на шасси американского грузовика «Гарфорд») выпускался с апреля 1915 г. 4-колёсный броневик весом 8,6 т (морской выпуска 1916 г. – 11 т), толщина брони 6,5 мм (морской выпуска 1916 г. – 7-9 мм, орудийной башни 8-13 мм).
1907 г.: «Пробиваемость новых остроконечных пуль значительно возросла. При стрельбе тупыми пулями 6-миллиметровый щит пулемёта Максима мог пробиваться лишь у самого дула винтовки, при стрельбе же опытными пулями такой же щит пробивался пулей в 9,5 г на всех расстояниях до 100 шагов и пулей в 10,5 г — до 75 шагов.
При стрельбе по 5-миллиметровым щитам, новые 9,5-граммовые пули пробивают щит на всех расстояниях до 200 шагов; 10,5-граммовые — до 175 шагов; тупые пули пробивают такие щиты не далее 25 шагов; щиты толщиной 4 мм соответственно пробиваются на расстояниях 300, 250 и не далее 50 шагов». (Федоров В.Г. Оружейное дело на грани двух эпох. (Работы оружейника 1900-1935 гг.). Ч. I. Оружейное дело в начале XX столетия. Л. 1938. С. 23.)
Изнутри в качестве противоосколочного бронирования Путилов-Гарфорд был обшит войлоком и холстом. Надо заметить, что Т-34, например, подобного бронирования не имел, и его экипаж постоянно посекался осколками при пробивании брони. Также и лёгкая советская бронетехника не имела такой защиты. Только в 2010 г. на предположенных к производству «новых» БТР-82 (с КПВТ) и БТР-82А (с 30-м пушкой) была введена противоосколочная обшивка. Напротив, у немцев во 2-ю Мировую войну танки изнутри отделывались резиной, что защищало германские экипажи от посечения осколками.
Вооружён Путилов-Гарфорд был 3-дюймовым (76,2 мм) орудием (ствол защищён броневым кожухом) на особо для этого созданной орудийной тумбе во вращающейся башне (угол обстрела по горизонту 230°) в задней части броневика. Тремя пулемётами Максима: один в орудийной башне справа от пушки и два по бокам в особых башнях, обеспечивавших угол обстрела в пределах 110°. Впоследствии стволы пулемётов также стали закрываться по бокам броневыми листами. Боезапас 44 выстрела к пушке (расположенных в железных лотках) и 5000 патронов к пулемётам; с 1916 г. 60 и 9000 соответственно. Карбюраторный двигатель фирмы «Джефри» в 35 л.с. (26 кВт), запас топлива 98 л., запас хода по дорогам с твёрдым покрытием 100-120 км., наибольшая скорость 15-18 км/ч вперёд и 3-4 км/ч задним ходом. (Отечественные бронированные машины. ХХ век. Т. 1. Отечественные бронированные машины 1905-1941. М.: «Экспринт», 2002. С. 328.)
Можно прочесть, что на Путилове-Гарфорде стояла противоштурмовая пушка обр. 1910 г. На самом деле, это условно. Указанная противоштурмовая пушка была создана на основе 3-дюймовой горной пушки обр. 1909 г. Горные пушки имели укороченный ствол и были облегчёнными по сравнению с полевыми, почему дальность стрельбы у них была меньшей. Противоштурмовая пушка отличалась от горной недорогим, более лёгким, неразборным лафетом и облегчённым снарядом, так как предназначалась для выкатывания на позицию при обороне крепостей для стрельбы по идущей на приступ пехоте – отсюда название «противоштурмовая». Горная же пушка должна была разбираться для навьючивания на лошадь и перевозки в горах. Таким образом, на броневике стояло не орудие, а ствол с казённой частью горной обр. 1909 / противоштурмовой обр. 1910 г. пушки. Станок же (тумба) были сделаны особо для броневика. Горная пушка стреляла теми же снарядами, что и обычная полевая.
3-дюймовая русская горная пушка обр. 1909 г., имея ствол длинной 17 калибров, выпускала шрапнельный снаряд весом в 6,5 кг с начальной скоростью 380 м/с, при наибольшей дальности стрельбы в 7 км. (Военная энциклопедия. Т. VIII. СПб. 1912. Ст. «Горная артиллерия». С. 406.). Для сравнения, стоявшая в 1941 г. на немецких Pr.IV и StG.III 75-мм KwK 37 L/24 (дословно: боевой машины орудие 37 длинной 24 калибра) выпускала бронебойный снаряд весом 6,8 кг с начальной скоростью 385 м/с. То есть, русский броневик Путиловского завода 1915 г., при замене шрапнели на бронебойный снаряд, легко мог бороться в орудийной мощи с передовыми для 1941 г. германскими танком и штурмовым орудием поддержки пехоты. Ствол нашего орудия гораздо короче: 1295,4 мм (17Х76,2) против немецкого 1800 мм (24Х75). Но разница в начальной скорости полёта снаряда всего 5 м/с. Вес немецкого снаряда на 300 г больше. Однако для бронебойного снаряда гораздо важнее прочность, чем отличались снаряды немецкие, и чем совсем не могли похвастаться снаряды советские, нередко разрушавшиеся при попадании в толстую немецкую броню, не достигнув заброневого действия.
3-дюймовая (76,2 мм) русская скорострельная лёгкая полевая пушка обр. 1902 г. намного превосходила по начальной скорости полёта снаряда подобные пушки остальных стран мира. (Правда, в виду недостаточной обтекаемости нашего шрапнельного снаряда, он несколько терял скорость в полёте. Но это легко устранимый недостаток.) Русская пушка длинной ствола в 30 калибров выпускала 6,5 кг шрапнельный снаряд с начальной скоростью 1930 футов (588,264 м/с).
Австрийская 8-см (76,5 мм) скорострельная полевая пушка обр. 1905 г. в 30 кал. из прокованной бронзы: 6,68 кг – 500 м/с.
Английская (наиболее распространённый образец из имевшихся в полевой артиллерии 14-ти): 18-фунтовая (83,8 мм) пушка обр. 903 г. длинной 29,4 кал.: 20,5 фунта (8,4 кг) – 1600 футов (487,68 м/с).
Германская полускорострельная 77-мм обр. 1895 г. длинной 27,3 кал.: 6,85 кг – 465 м/с.
Итальянская скорострельная 7,5 см полевая пушка обр. 1906 г. длинной 30 кал.: 6,5 кг – 510 м/с.
Французская 75-мм скорострельная обр. 1897 г. длиной 35 кал.: 7,25 кг – 530 м/с.
(Военная энциклопедия. Т. III. СПб. 1911. Ст. «Артиллерия современная». С. 144-155.).
Подобное же было и в горной артиллерии:
Русская 3-дюймовая (76,2 мм) горная пушка обр. 1909 г. с длинной ствола в 17 калибров выпускала 6,5 кг шрапнельный снаряд с начальной скоростью 380 м/с.
Австрийская 7-см (72,5 мм) обр. 99 г. (бронзовая) длинной 14 кал.: 4,68 кг – 304 м/с. Обр. 909 г. (бронзовая) – 310 м/с.
Английская 75-мм Максима-Норденфельда длинной 12 кал.: 5,67 кг – 250 м/с.
Германская 75-мм системы Круппа длиной 14 кал.: 5,3 кг – 300 м/с.
Итальянская 70-мм длиной 16,4 калибра: 4,9 кг – 350 м/с.
Французская 65-мм обр. 910 г. длиной 17 кал.: 4,2 кг – 360 м/с.
Японская 75-мм обр. 1898 г. длиной 13,3 кал.: 6 кг – 275 м/с.
(Военная энциклопедия. Т. VIII. СПб. 1912. Статья «Горная артиллерия». С. 406. Т. III. СПб. 1911. Ст. «Артиллерия современная». С. 151 (итальянская).).
На этом «проклятом наследии» «отсталой Царской России» «передовой» СССР «выезжал» всю 2-ю Мировую войну. Взяв за основу ствол скорострельной пушки обр. 1902 г. и её гильзу, из улучшений в СССР ввели лишь увеличение длины ствола и веса порохового заряда с 0,9 кг до 1,08 кг. Последнее предусматривалось ещё царской конструкцией, так как гильза была сделана с запасом. (Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. Мн.: «Харвест», 2000. С. 459.)
К примеру, 73-мм пушка на советском БМП-1, будучи почти на 90 см длиннее ствола 76,2-мм горной пушки обр. 1909 г., стоявшей на Путилов-Гарфорде, намного уступает последней не только в износоустойчивости, но и начальной скорости полёта снаряда (для осколочной гранаты ОГ-15В она составляет 290 м/с). Это же относится и к 100-мм пушке БПМ-3, которая по своей слабости даже не предполагает стрельбу бронебойными снарядами.
Советская броня по качеству также намного хуже русской и немецкой. Например, сравнивая Путилов-Гарфорд (не морской) и тяжёлые советские бронеавтомобили БА-11 1939 г. и БА-11Д 1940 г., можно видеть, что первый весит 8,6 т, второй 8,13 т, а третий 8,6 т. (Отечественные бронированные машины. Т. 1. С. 337.) При этом, несмотря на то, что в целом царский броневик по размерам несколько больше, у него значительно тоньше броня, нет радиостанции, легче двигатель и на 4 колеса меньше. А что такое советский двигатель, можно видеть из следующего примера. БА-11Д отличается от БА-11 дизельным двигателем ЗИС-Д-7 в 98 л.с. (72 кВт) вместо карбюраторного ЗИС-16 до 90 л.с. (66 кВт). Боекомплект был увеличен для 45-мм пушки со 104 до 114 выстрелов, а для 2-х 7,62-мм пулемётов уменьшен с 3087 до 3014 патронов. На БА-11Д были установлены радиостанция и внутреннее переговорное устройство. В итоге вес «усовершенствованного» БА увеличился с 8,13 до 8,6 тонн, а максимальная скорость сократилась с 64 до 48 км/ч. (Там же. С. 329.) Добавление нового советского двигателя и радиостанции увеличили вес машины на полтонны, значительно снизив её скорость. Из этого можно видеть, что при заявленной большей толщине советская броня весила меньше русской. То есть, была менее качественной (плотной).
Вот пример из 2-й Мировой войны. 20 июня 1942 г.: «После обеда пробные стрельбы из пулемёта с дистанции 50 метров по мишени – листу немецкой брони толщиной 8 мм и русской [т.е. советской – А.П.] брони толщиной 15 мм.
Стреляет обер-лейтенант Айк, но обычные патроны броневые листы не берут, зато остроконечные пули со стальным сердечником легко прошивают их насквозь». (Кубек В. В авангарде танковых ударов. Фронтовой дневник стрелка разведывательной бронемашины. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 243.)
31 августа 1942 г.: «А нас, оказывается, обстреляли из танкового пулемёта и ещё огня добавили несколько солдат из своих карабинов.
…В мою машину с левой стороны угодила пуля русского карабина. Ерунда, царапина, только краску чуть содрало, а на броне ни вмятинки». (Кубек В. Передовой отряд смерти. Фронтовой дневник разведчика Вермахта 1942-1945. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 82.) В последнем случае автор воевал на 8-колёсной бронемашине «Бюссинг-НАГ GS» (Sd.Kfz 231), вооружённой 20-мм пушкой и спаренным с ней 7,92-мм пулемётом. Бронирование: корпуса от 8 до 14,5 (лоб) мм, лоб башни 30 мм. Машины этой серии имели вес от 8,3 до 8,8 тонн и двигатель в 180 л.с. (Кочнев Е. Военные автомобили Вермахта и его союзников. М.: «Яуза», «Эксмо», 2009. С. 177-180.)
В 1917 г. на Западном фронте немцы начали стрелять по танкам союзников бронебойными снарядами, использовав своё 77-мм орудие как противотанковое. На Восточном фронте, благодаря высокой начальной скорости полёта снаряда русских 3-дюймовых пушек, с такой стрельбой трудностей не было. Снаряд со шрапнелью разрывался при ударе о цель. Как и во 2-ю Мировую войну, в 1-ю броневик мог продолжать бой, будучи повреждённым или подбитым. Например, 2-й Кубанский поход Добровольческой армии, 1918 г.: «На рассвете 18 июля полковник Кутепов с частью Офицерского и с Кубанским стрелковым полками, а также с тремя орудиями нашей батареи, под командой полковника Миончинского, двинулся прямо в лоб армии товарища Сорокина в направлении станции Сосыка. Группа Сорокина шла от Кущевки прямо на Екатеринодар и насчитывала тысяч 30 штыков, подкрепленных сильной артиллерией и двумя бронепоездами. Тимановский повел несколько рот Офицерского полка с орудием капитана Шперлинга и с Кирасирским эскадроном в обход станции Сосыка справа. Уже в двух километрах от станицы Тимашевской наши цепи вступили в бой с пехотой Сорокина. Цепи красных медленно и в полном порядке отходили на север под давлением рот Офицерского полка. Артиллерия красных действовала непривычно близко и вела точную пристрелку, нанося потери офицерским ротам. Наше одно орудие с трудом боролось против четырех красных. Левая колонна, двигавшаяся по полотну, вела тяжелый бой. Грохот орудий, главным образом красных, не умолкал. Из Тихорецкой подошел наш легкий автоброневик с пулеметами.
Около трех часов дня красные залегли и окопались, оказывая жестокое сопротивление. Офицерские роты тоже залегли и дальше не продвигались. Полковник Тимановский хмурился, ругал почему-то сопровождавший нас Кирасирский эскадрон и недоумевал, почему нет связи справа от конницы генерала Покровского.
Наш автоброневик пытался продвинуться по дороге вперед, но тут же получил прямое попадание шрапнелью. Его командир был ранен в живот, а один из пулеметов – разбит. Однако броневик не вышел из боя и продолжал поддерживать цепи, стреляя из одного пулемета. Капитан Шперлинг пристрелялся к красным цепям и начал подготовку атаки. После короткой, но удачной пристрелки офицерские роты, сопровождаемые бронеавтомобилем и немногочисленными кирасирскими всадниками с правого фланга, пошли в атаку. Впереди закипела стрельба, и цепь наша вскоре скрылась за гребнем.
Первое наше орудие взялось в передки и понеслось галопом за пехотой. Капитан Шперлинг скакал впереди, явно увлекшись преследованием красных, и не заметил бегущих назад, справа и слева, кубанских пластунов. Когда мы поднялись на гребень, Шперлинг осадил на галопе, буквально свалился с лошади и крикнул непривычно громко: „С передков!”
В нескольких сотнях шагов двигалась в нашу сторону красная пехотная цепь, пулеметная тачанка выскочила вперед прямо перед нашим орудием. Пластунов наших нигде не было видно, видны были лишь два кирасира, офицер и молодая девушка в кирасирской форме, но без фуражки. Она вытирала на лице офицера струившуюся обильно кровь. „Десять! Гранатой огонь!” Перелет... „Уровень меньше”... „Заклинилось!” – крикнул наводчик. Проклятая граната Обуховского завода заклинилась и не шла ни туда, ни сюда. Экстрактор не выбрасывал патрон назад. Шперлинг, стоявший на зарядном ящике, спрыгнул вниз. Пулемет красных застрочил в упор по орудию. Красная цепь поднялась и пошла в контратаку, стреляя на ходу. А мы, привыкшие к железной дисциплине Кубанского похода, не могли оставить орудие и уходить назад.
Через минуту послышались крики: „Ранен... ранен...” Хартулари тряс раненной рукой, Рейтеру пуля царапнула спину, я почувствовал сильный удар по правой щиколотке и сырость в сапоге. „Ранен!” – крикнул и я и начал, приволакивая ногу, отходить от орудия. Все поле пылилось от града пуль красных. Я видел, как в тумане, что отбегавший от орудия капитан Михно, лег на живот и кричал нашим стоящим вдали передкам, чтобы они спасали орудие. Слева от меня наша батарейная пулеметная повозка отъезжала назад. Испуганные мальчики-пулеметчики, бывшие новочеркасские кадеты, садили из „Максима” куда-то вверх. Еще дальше было видно, как наш автоброневик, подбитый и, видимо, не способный двигаться, строчит по красным из уцелевшего пулемета. Красные товарищи с победными криками бежали к орудию. Я понял, что мое спасение зависит лишь от того, смогу ли я, с перебитой костью, догнать уходившую тачанку, или нет... Меня увидел сидевший в повозке Андрей Соломон, портупей-юнкер нашего Константиновского училища. Андрей приказал тачанке остановиться и подождать меня. Ждать под таким убийственным пулеметным и ружейным огнем – было подвигом. Я перевалился в повозку, и мы понеслись рысью.
Мы проскочили расположение последней резервной роты Офицерского полка. Рота уже дрогнула под убийственным огнем. Полковник Тимановский, потерявший свое невозмутимое спокойствие, размахивая плетью, организовал контратаку, и командир роты, полковник Булаткин, – один из легендарных героев Марковских полков, повел роту в контратаку. Широкоплечий, высокий и невозмутимый, он пошел, ускоряя шаг и не оглядываясь, навстречу огненному смерчу. Офицеры двинулись за ним в направлении замолчавшего нашего Первого орудия. У орудия лежали окровавленные трупы всех двенадцати лошадей, скошенных вражескими пулеметами при попытке ездовых взять орудие „на задки”: ездовые, во главе с бывшим портупей-юнкером Березовским, услышав зов капитана Михно, галопом бросились спасать орудие. Они хоть и доскакали до орудия, но, когда делали заезд, попали под смертельный обстрел из пулеметов. Наши верные кони степного похода все пали. Каким-то чудом никто из батареи не был убит, были только раненые.
Капитан Шперлинг с уцелевшими номерами отошел от орудия и дожидался контратаки 9-ой роты Офицерского полка. Славная 9-ая рота, несмотря на заградительный пулеметный огонь черноморских матросов, опрокинула красных, уже близко подошедших к нашему орудию.
Рота полковника Булаткина потеряла нескольких человек убитыми и больше десяти раненными, но бой был решен: красные отходили, не останавливаясь, и очистили станицу Елизаветинскую. Обходная колонна полковника Тимановского, как оказалось, наскочила на более значительные силы красных, нежели отряд полковника Кутепова, наступавший на станцию Сосыку.
„Проклятая тяжелая гаубица”, мешавшая ночью спать, была подбита на станции Сосыка огнем нашего Второго орудия поручика Боголюбского. Как оказалось, эта восьмидюймовая [203,2 мм – А.П.] гаубица стреляла с площадки бронепоезда. Граната орудия Боголюбского попала прямо в вагон со снарядами и была причиной сильного взрыва, разнесшего советский бронепоезд. Взрыв этот вызвал панику, и красные отступили на Кущевку». (Ларионов В.А. Последние юнкера. Франкфурт на Майне: «Посев», 1984. С. 114-118.) https://rev-lib.com/posledn...
3-дюймовое (76,2 мм) орудие броневика Путилов-Гарфорд:


Изображения взяты из: https://zen.yandex.ru/media...
Антон Павлов,
08-06-2022 00:23
(ссылка)
Об историческом изъяне России.
https://t.me/aleksandr_skif...
«19.10.1919. На нашем участке, судя по газетам, дела обстоят не совсем хорошо. Кромы и Дмитровск опять отданы, и по какой линии идут сейчас бои, составить себе более или менее определённое впечатление по газетной сводке совсем невозможно. Факт тот, что наши отходят, но как – об этом судить трудно. По линии железной дороги наши оставили Брасово, Комаричи, Дерюгина, оставляли даже Дмитриев, но после упорного боя, он снова занят нами. Бои идут серьёзные и весьма напряжённые. Как ни верти, а наши цепи всё ещё слишком малочисленны и редки. Вообще уже пора ставить погуще линию фронта, а против латышей и китайцев это даже необходимо. На позиции же чересчур мало народу, а между тем в тылу, в городах видно колоссальное количество офицеров и молодых, сильных, здоровых и опытных людей. Что они делают в городах и почему не хотят принять участие в этой героической борьбе, непонятно. Смотришь на на них, и противно делается. Я уже не только потерял всякое уважение к русскому человеку и интеллигенции, но начал уже ненавидеть его и её. Почти все так не хотят возвращения красных и боятся их. А между тем, сами испытывают страх перед фронтом и всячески стараются увильнуть от него, предпочитая сидеть в тылу и выезжать на нашей шее, не считаясь совсем с тем, что подчас мы, несмотря на все усилия, из-за нашей малочисленности не в состоянии удержать красных.
/.../
… Втянутость у нас всё-таки громадная и выдыхаемся мы очень и очень не скоро, чему приходится прямо-таки удивляться. Это несомненное превосходство над красными в выдержке и упорстве главным образом даёт нам возможность, не отходя много во время здоровенного нажима, охладить пыл и ослабить энергию наступающих красных. Даже латыши у них и то начинают довольно скоро сдавать, несмотря на то, что сразу наступают и идут очень хорошо. Мы же можем весьма долго с сильными боями танцевать на месте и, вымотав противника, обычно начинаем двигаться быстро вперёд».
«19.11.1919 г. … Дела на фронте идут неважно; теперь развиваются бои в районе жел. дороги Курск–Белгород. Всё это ничего, и фронт мог бы быстро выправиться и с новой энергией снова бодро наступать, если бы привели в порядок наш тыл. В тылу делается чёрт знает что, и всю эту сволочь, сытую и одетую, не так скоро удастся оздоровить.
Газеты всё время посвящают статьи преступлениям тыла, число которых, увы, бесконечно. Всё время продолжается этот бешенный «пир во время чумы». Кабаки наполнены, платят тысячи за шампанское, которое пьют как нарзан, люди щеголяют стотысячными брильянтами. Нет меры, нет предела наглости, жадности и тупости этой тыловой мерзости и сволочи. Какая-то безудержная, развратная скачка без предела. Почему её не могут остановить одним движением твёрдой руки? О фронте никто из этой тыловой публики не думает и умеет только критиковать и возмущаться, если наши отступают. А в этом отступлении виноваты только мы сами. Нельзя на немногих людей взвалить ту ношу, которая им непосильна, в то время как сотни тысяч праздношатающихся за их спиной устраивают свои гнусные, разлагающие свистопляски. Шкуро в беседе высказал своё отрицательное отношение к тылу и напомнил: «Не забывайте, что мы боремся не за буржуазию, а за Великую, Единую, Неделимую Россию. Мы сражаемся за самое существование родины, за своё существование». (Орлов Г.А. Дневник добровольца. Хроника гражданской войны. 1918–1921. М.: «Посев», 2019. С. 236-237, 260-261.)
https://docviewer.yandex.ru...
«Как и многие другие офицеры, я не раз задумывался над вопросом о причинах неудачи Белого движения. Основной причиной этой неудачи мне представлялись организационные ошибки руководителей Добровольческой Армии, которые и привели к проигрышу генерального сражения на путях к Москве в сентябре – октябре 1919 года. В дальнейшем, несмотря на весь блеск организационного таланта генерала Врангеля, сумевшего многое исправить, Русская армия в силу своей малочисленности, по существу, не имела шансов на успех». (Русский гарнизон в Болгарии. Примечания. I. // Раевский Н.А. Русский гарнизон в Болгарии. Охрание – София – Прага. М.: «Вече», 2021. С. 291.)
Воевавшие немалое число лет офицеры говорят не про призыв новобранцев, а о правильной постановке дела в тылу. Орлов пишет о людях, но об «опытных», то есть, прошедших 1-ю Мировую войну. Речь не о «всеобщей мобилизации», но правильном распоряжении имеющимся. То есть, суть дела во внутреннем, а не внешнем.
Большевики брали подавляющим численным превосходством, в том числе иноземным:
https://my.mail.ru/communit...
Тут, конечно, могут начать заявлять, что нелепо сводить победу в Гражданской войне к текущему государственному управлению, главное – народ, и т.п. Народ может быть главным, если он действует, как в Смутное время начала XVII века, а не безучастно взирает на происходящее, как в 1917-20 годах. Вследствие западнических петровских реформ и нравственного развития их последствий, в России стало возможно даже такое: «9 июня 1917 года, переезд Киев – Тарнополь.
/.../
Ночь я сплю сидя, клюя носом один рядом с 4-мя… Офицер передает эпизод: в Москве манифестация за «долой войну». Всходит некто и начинает говорить, что враг может взять Киев и Смоленск. «Согласны отдать?» «Согласны». «Но ведь может дойти и до Москвы… Ее отдать согласны?» Орут: «Согласны». «Но погодите, братцы, зачем отдавать всю Москву, сохраним один дом». «Сохраним». «Но какой нам дом сохранить?» Молчанье. Оратор: «Сохраним, братцы, дом умалишенных, чтобы упрятать таких дураков, как вы, что все повторяют слова, не понимая их смыслу…» Убег, а то бы убили…». (Снесарев А.Е. Дневник 1916-1917. М.: «Кучково поле», 2014. С. 468-469.)
Но здоровые силы в русском обществе ещё сохранялись и воевали 5 лет с конца 1917 по конец 1922 г. против большевиков за историческую Россию. Одержав верх, советская власть уничтожила последнюю. В итоге, 17 марта 1991 г. советские граждане проголосовали за сохранение СССР, но, в отличие от сторонников Царской России в 1917-22 годах, ничего не стали делать для его сохранения.
В 1811 г. Карамзин писал воспитанному швейцарцем Лагарпом совершенному западнику Александру I о воспитанном швейцарцем Лефортом в Немецкой слободе Петре I: «Но мы, Россіяне, имѣя предъ глазами свою Исторію, подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иноземцевъ и скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей Московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную и, что не менѣе важно, учредили въ ней твердое правленіе единовластное? Петръ нашелъ средство дѣлать великое, князья Московскіе приготовляли оное, и, славя славное въ семъ монархѣ, оставимъ ли безъ замѣчанiя вредную сторону его блестящаго царствованія?
Умолчимъ о порокахъ личныхъ; но сія страсть къ новымъ для насъ обычаямъ преступила въ немъ границы благоразумія. Петръ не хотѣлъ вникнуть въ истину, что духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ, подобно физическому, нужное для ихъ твердости. Сей духъ и вѣра спасли Россію во время Самозванцевъ; онъ есть ничто иное какъ привязанность къ нашему особенному, ничто иное какъ уваженіе къ своему народному достинству. Искореняя древніе навыки, представляя ихъ смѣшными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь Россіи унижалъ Россіянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ. Презрѣніе къ самому себѣ располагаетъ ли человѣка и гражданина къ великимъ дѣламъ? Любовь къ отечеству питается сими народными особенностями, безгрѣшными въ глазахъ космополита, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго. Просвѣщеніе достохвально, но въ чемъ состоитъ оно? Въ знаніи нужнаго для благоденствія. Художества, искусства, науки не имѣютъ иной цѣны. Русская одежда, пища, борода не мѣшали заведенію школъ. Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различные. Государство можетъ заимствовать отъ другаго полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сiи обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе беззаконное и для монарха самодержавнаго. Народъ, въ первоначальномъ завѣтѣ съ вѣнценосцами, сказалъ имъ: «Блюдите нашу безопасность внѣ и внутри, наказывайте злодѣевъ, жертвуйте частію для спасенія цѣлаго», но не сказалъ: «противоборствуйте нашимъ невинннымъ склонностямъ и вкусамъ въ домашней жизни». Въ семъ отношеніи государь, по справедливости, можетъ дѣйствовать только примѣромъ, а не указомъ.
Жизнь человѣческая кратка, а для утвержденія новыхъ обычаевъ требуется долговременность. Петръ ограничилъ свое преобразованіе дворянствомъ. Дотолѣ, отъ сохи до престола, Россiяне сходствовали между собою нѣкоторыми общими признаками наружности и въ обыкновеніяхъ. Со временъ Петровыхъ, высшія степени отдѣлились отъ нижнихъ, и Русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ увидѣлъ Нѣмцевъ въ Русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго, народнаго единодушія государственныхъ состояній.
Въ теченіи вѣковъ народъ обыкъ чтить бояръ, какъ мужей ознаменованныхъ величіемъ, поклонялся имъ съ истиннымъ уничиженіемъ, когда они съ своими благородными дружинами, съ Азіатскою пышностію, при звукѣ бубновъ, являлись на стогнахъ, шествуя въ храмъ Божій, или на совѣтъ къ Государю. Петръ уничтожилъ достоинство бояръ, — ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вмѣсто древней славной Думы явился Сенатъ, вмѣсто Приказовъ Коллегіи, вмѣсто дьяковъ секретари и проч. Таже безмысленная для Россіянъ перемѣна въ воинскомъ чиноначалiи: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали изъ нашей рати воеводъ, сотниковъ, пятидесятниковь и проч. Честію и достоинствомъ Россіянъ сдѣлалось подражаніе.
Семейственные нравы не укрылись отъ вліянія царевой деятельности. Вельможи стали жить открытымъ домомъ; ихъ супруги и дочери вышли изъ непроницаемыхъ теремовъ своихъ; балы, ужины соединили одинъ полъ съ другимъ въ шумныхъ залахъ; Россіянки перестали краснѣть отъ нескромнаго взора мужчинъ, и Европейская вольность заступила мѣсто Азіатскаго принужденія. Чѣмъ болѣе мы успѣвали въ людкости, въ обходительности, тѣмъ болѣе слабѣли связи родственныя: имѣя множество пріятелей, чувствуемъ менѣе нужды въ друзьяхъ и жертвуемъ свѣту союзомъ единокровія.
Не говорю и не думаю, чтобы древніе Россіяне, подъ великокняжескимъ или царскимъ правленіемъ, были вообще лучше насъ; не только въ свѣдѣніяхъ, но и въ нѣкоторыхъ нравственныхъ отношеніяхъ мы превосходнѣе, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились и что дѣйствительно порочно, — однакожъ должно согласиться, что мы, съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ, утратили гражданскія. Имя Русскаго имѣетъ ли теперь для насъ ту силу неисповѣдимую, какую оно имѣло прежде? И весьма естественно: дѣды наши, уже въ царствованіе Михаила и сына его, присвоивая себѣ многія выгоды иноземныхъ обычаевъ, все еще оставались въ тѣхъ мысляхъ, что правовѣрный Россіянинъ есть совершеннѣйшій гражданинъ въ мірѣ, а святая Русь —первое государство. Пусть назовутъ то заблужденіемъ, но какъ оно благопріятствовало любви къ отечеству и нравственной силѣ онаго! Теперь же, болѣе ста лѣтъ находясь въ школѣ иноземцевъ, безъ дерзости можемъ ли похвалиться своимъ гражданскимъ достоинствомъ? Нѣкогда называли мы всѣхъ иныхъ Европейцевъ невѣрными, теперь называемъ братьями. Спрашиваю: кому бы легче было покорить Россію, невѣрнымъ или братьямъ, т. е. кому бы она, по вѣроятности, долженствовала болѣе противиться? При царѣ Михаилѣ или Ѳеодорѣ, вельможа Россійскій, обязанный всѣмъ отечеству, могъ ли бы съ веселымъ сердцемъ на вѣки оставить его, чтобы въ Парижѣ, въ Лондонѣ, Вѣнѣ спокойно читать въ газетахъ о нашихъ государственныхъ опасностяхъ? Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаях гражданами Россіи, — виною Петръ!». (О древней и новой Россiи въ ея политическомъ и гражданскомъ отношенiяхъ. Сочиненiе Н.М. Карамзина. // Русскiй архивъ. 1869. Вып. XII. М. 1869. Столбцы. 2250-2254.)
https://runivers.ru/lib/boo...
https://rusneb.ru/catalog/0...
Между прочим, ненавидя всё великорусское, Пётр I был очень расположен к малороссам. Так что и для этого случая он верно впоследствии был назван «первым большевиком».
Иноземцы в суждениях о нашем западничестве были гораздо резче. 1802-07 годы: «Александръ Булгаковъ разсказывалъ, что въ молодости, когда онъ служилъ въ Неаполѣ, одинъ Англичанинъ спросилъ его: есть-ли глупые люди въ Россiи? – Нѣсколько озадаченный такимъ вопросомъ, онъ отвѣчалъ: Вѣроятно, есть, и не менѣе, полагаю, нежели въ Англiи. – Не въ томъ дѣло, возразилъ Англичанинъ. Вы меня, кажется, не поняли; а мнѣ хотѣлось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземныхъ глупцовъ, когда имѣетъ своихъ?». (Полное собранiе сочиненiй князя П.А. Вяземскаго. Т. VIII. Старая записная книжка. СПб. 1883. С. 485.)
Здесь могут возразить, что иноземцев принимали на службу и прежде. Да, но была существенная разница. До Петра их приглашали для основательного ознакомления с каким-либо делом, например, рейтарским строем. А Пётр стремился уничтожить всё великорусское, заменив его северогерманским и желая превратить Россию в Немецкую слободу. Действенность для него значения не имела, главное, чтобы как в Европе: https://my.mail.ru/communit...
Из всего этого можно видеть, что с некоторого времени, особенно же с 1917 г., мы имеем внутренние трудности, которых не знали русские люди XVII века.
«19.10.1919. На нашем участке, судя по газетам, дела обстоят не совсем хорошо. Кромы и Дмитровск опять отданы, и по какой линии идут сейчас бои, составить себе более или менее определённое впечатление по газетной сводке совсем невозможно. Факт тот, что наши отходят, но как – об этом судить трудно. По линии железной дороги наши оставили Брасово, Комаричи, Дерюгина, оставляли даже Дмитриев, но после упорного боя, он снова занят нами. Бои идут серьёзные и весьма напряжённые. Как ни верти, а наши цепи всё ещё слишком малочисленны и редки. Вообще уже пора ставить погуще линию фронта, а против латышей и китайцев это даже необходимо. На позиции же чересчур мало народу, а между тем в тылу, в городах видно колоссальное количество офицеров и молодых, сильных, здоровых и опытных людей. Что они делают в городах и почему не хотят принять участие в этой героической борьбе, непонятно. Смотришь на на них, и противно делается. Я уже не только потерял всякое уважение к русскому человеку и интеллигенции, но начал уже ненавидеть его и её. Почти все так не хотят возвращения красных и боятся их. А между тем, сами испытывают страх перед фронтом и всячески стараются увильнуть от него, предпочитая сидеть в тылу и выезжать на нашей шее, не считаясь совсем с тем, что подчас мы, несмотря на все усилия, из-за нашей малочисленности не в состоянии удержать красных.
/.../
… Втянутость у нас всё-таки громадная и выдыхаемся мы очень и очень не скоро, чему приходится прямо-таки удивляться. Это несомненное превосходство над красными в выдержке и упорстве главным образом даёт нам возможность, не отходя много во время здоровенного нажима, охладить пыл и ослабить энергию наступающих красных. Даже латыши у них и то начинают довольно скоро сдавать, несмотря на то, что сразу наступают и идут очень хорошо. Мы же можем весьма долго с сильными боями танцевать на месте и, вымотав противника, обычно начинаем двигаться быстро вперёд».
«19.11.1919 г. … Дела на фронте идут неважно; теперь развиваются бои в районе жел. дороги Курск–Белгород. Всё это ничего, и фронт мог бы быстро выправиться и с новой энергией снова бодро наступать, если бы привели в порядок наш тыл. В тылу делается чёрт знает что, и всю эту сволочь, сытую и одетую, не так скоро удастся оздоровить.
Газеты всё время посвящают статьи преступлениям тыла, число которых, увы, бесконечно. Всё время продолжается этот бешенный «пир во время чумы». Кабаки наполнены, платят тысячи за шампанское, которое пьют как нарзан, люди щеголяют стотысячными брильянтами. Нет меры, нет предела наглости, жадности и тупости этой тыловой мерзости и сволочи. Какая-то безудержная, развратная скачка без предела. Почему её не могут остановить одним движением твёрдой руки? О фронте никто из этой тыловой публики не думает и умеет только критиковать и возмущаться, если наши отступают. А в этом отступлении виноваты только мы сами. Нельзя на немногих людей взвалить ту ношу, которая им непосильна, в то время как сотни тысяч праздношатающихся за их спиной устраивают свои гнусные, разлагающие свистопляски. Шкуро в беседе высказал своё отрицательное отношение к тылу и напомнил: «Не забывайте, что мы боремся не за буржуазию, а за Великую, Единую, Неделимую Россию. Мы сражаемся за самое существование родины, за своё существование». (Орлов Г.А. Дневник добровольца. Хроника гражданской войны. 1918–1921. М.: «Посев», 2019. С. 236-237, 260-261.)
https://docviewer.yandex.ru...
«Как и многие другие офицеры, я не раз задумывался над вопросом о причинах неудачи Белого движения. Основной причиной этой неудачи мне представлялись организационные ошибки руководителей Добровольческой Армии, которые и привели к проигрышу генерального сражения на путях к Москве в сентябре – октябре 1919 года. В дальнейшем, несмотря на весь блеск организационного таланта генерала Врангеля, сумевшего многое исправить, Русская армия в силу своей малочисленности, по существу, не имела шансов на успех». (Русский гарнизон в Болгарии. Примечания. I. // Раевский Н.А. Русский гарнизон в Болгарии. Охрание – София – Прага. М.: «Вече», 2021. С. 291.)
Воевавшие немалое число лет офицеры говорят не про призыв новобранцев, а о правильной постановке дела в тылу. Орлов пишет о людях, но об «опытных», то есть, прошедших 1-ю Мировую войну. Речь не о «всеобщей мобилизации», но правильном распоряжении имеющимся. То есть, суть дела во внутреннем, а не внешнем.
Большевики брали подавляющим численным превосходством, в том числе иноземным:
https://my.mail.ru/communit...
Тут, конечно, могут начать заявлять, что нелепо сводить победу в Гражданской войне к текущему государственному управлению, главное – народ, и т.п. Народ может быть главным, если он действует, как в Смутное время начала XVII века, а не безучастно взирает на происходящее, как в 1917-20 годах. Вследствие западнических петровских реформ и нравственного развития их последствий, в России стало возможно даже такое: «9 июня 1917 года, переезд Киев – Тарнополь.
/.../
Ночь я сплю сидя, клюя носом один рядом с 4-мя… Офицер передает эпизод: в Москве манифестация за «долой войну». Всходит некто и начинает говорить, что враг может взять Киев и Смоленск. «Согласны отдать?» «Согласны». «Но ведь может дойти и до Москвы… Ее отдать согласны?» Орут: «Согласны». «Но погодите, братцы, зачем отдавать всю Москву, сохраним один дом». «Сохраним». «Но какой нам дом сохранить?» Молчанье. Оратор: «Сохраним, братцы, дом умалишенных, чтобы упрятать таких дураков, как вы, что все повторяют слова, не понимая их смыслу…» Убег, а то бы убили…». (Снесарев А.Е. Дневник 1916-1917. М.: «Кучково поле», 2014. С. 468-469.)
Но здоровые силы в русском обществе ещё сохранялись и воевали 5 лет с конца 1917 по конец 1922 г. против большевиков за историческую Россию. Одержав верх, советская власть уничтожила последнюю. В итоге, 17 марта 1991 г. советские граждане проголосовали за сохранение СССР, но, в отличие от сторонников Царской России в 1917-22 годах, ничего не стали делать для его сохранения.
В 1811 г. Карамзин писал воспитанному швейцарцем Лагарпом совершенному западнику Александру I о воспитанном швейцарцем Лефортом в Немецкой слободе Петре I: «Но мы, Россіяне, имѣя предъ глазами свою Исторію, подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иноземцевъ и скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей Московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную и, что не менѣе важно, учредили въ ней твердое правленіе единовластное? Петръ нашелъ средство дѣлать великое, князья Московскіе приготовляли оное, и, славя славное въ семъ монархѣ, оставимъ ли безъ замѣчанiя вредную сторону его блестящаго царствованія?
Умолчимъ о порокахъ личныхъ; но сія страсть къ новымъ для насъ обычаямъ преступила въ немъ границы благоразумія. Петръ не хотѣлъ вникнуть въ истину, что духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ, подобно физическому, нужное для ихъ твердости. Сей духъ и вѣра спасли Россію во время Самозванцевъ; онъ есть ничто иное какъ привязанность къ нашему особенному, ничто иное какъ уваженіе къ своему народному достинству. Искореняя древніе навыки, представляя ихъ смѣшными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь Россіи унижалъ Россіянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ. Презрѣніе къ самому себѣ располагаетъ ли человѣка и гражданина къ великимъ дѣламъ? Любовь къ отечеству питается сими народными особенностями, безгрѣшными въ глазахъ космополита, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго. Просвѣщеніе достохвально, но въ чемъ состоитъ оно? Въ знаніи нужнаго для благоденствія. Художества, искусства, науки не имѣютъ иной цѣны. Русская одежда, пища, борода не мѣшали заведенію школъ. Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различные. Государство можетъ заимствовать отъ другаго полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сiи обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе беззаконное и для монарха самодержавнаго. Народъ, въ первоначальномъ завѣтѣ съ вѣнценосцами, сказалъ имъ: «Блюдите нашу безопасность внѣ и внутри, наказывайте злодѣевъ, жертвуйте частію для спасенія цѣлаго», но не сказалъ: «противоборствуйте нашимъ невинннымъ склонностямъ и вкусамъ въ домашней жизни». Въ семъ отношеніи государь, по справедливости, можетъ дѣйствовать только примѣромъ, а не указомъ.
Жизнь человѣческая кратка, а для утвержденія новыхъ обычаевъ требуется долговременность. Петръ ограничилъ свое преобразованіе дворянствомъ. Дотолѣ, отъ сохи до престола, Россiяне сходствовали между собою нѣкоторыми общими признаками наружности и въ обыкновеніяхъ. Со временъ Петровыхъ, высшія степени отдѣлились отъ нижнихъ, и Русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ увидѣлъ Нѣмцевъ въ Русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго, народнаго единодушія государственныхъ состояній.
Въ теченіи вѣковъ народъ обыкъ чтить бояръ, какъ мужей ознаменованныхъ величіемъ, поклонялся имъ съ истиннымъ уничиженіемъ, когда они съ своими благородными дружинами, съ Азіатскою пышностію, при звукѣ бубновъ, являлись на стогнахъ, шествуя въ храмъ Божій, или на совѣтъ къ Государю. Петръ уничтожилъ достоинство бояръ, — ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вмѣсто древней славной Думы явился Сенатъ, вмѣсто Приказовъ Коллегіи, вмѣсто дьяковъ секретари и проч. Таже безмысленная для Россіянъ перемѣна въ воинскомъ чиноначалiи: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали изъ нашей рати воеводъ, сотниковъ, пятидесятниковь и проч. Честію и достоинствомъ Россіянъ сдѣлалось подражаніе.
Семейственные нравы не укрылись отъ вліянія царевой деятельности. Вельможи стали жить открытымъ домомъ; ихъ супруги и дочери вышли изъ непроницаемыхъ теремовъ своихъ; балы, ужины соединили одинъ полъ съ другимъ въ шумныхъ залахъ; Россіянки перестали краснѣть отъ нескромнаго взора мужчинъ, и Европейская вольность заступила мѣсто Азіатскаго принужденія. Чѣмъ болѣе мы успѣвали въ людкости, въ обходительности, тѣмъ болѣе слабѣли связи родственныя: имѣя множество пріятелей, чувствуемъ менѣе нужды въ друзьяхъ и жертвуемъ свѣту союзомъ единокровія.
Не говорю и не думаю, чтобы древніе Россіяне, подъ великокняжескимъ или царскимъ правленіемъ, были вообще лучше насъ; не только въ свѣдѣніяхъ, но и въ нѣкоторыхъ нравственныхъ отношеніяхъ мы превосходнѣе, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились и что дѣйствительно порочно, — однакожъ должно согласиться, что мы, съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ, утратили гражданскія. Имя Русскаго имѣетъ ли теперь для насъ ту силу неисповѣдимую, какую оно имѣло прежде? И весьма естественно: дѣды наши, уже въ царствованіе Михаила и сына его, присвоивая себѣ многія выгоды иноземныхъ обычаевъ, все еще оставались въ тѣхъ мысляхъ, что правовѣрный Россіянинъ есть совершеннѣйшій гражданинъ въ мірѣ, а святая Русь —первое государство. Пусть назовутъ то заблужденіемъ, но какъ оно благопріятствовало любви къ отечеству и нравственной силѣ онаго! Теперь же, болѣе ста лѣтъ находясь въ школѣ иноземцевъ, безъ дерзости можемъ ли похвалиться своимъ гражданскимъ достоинствомъ? Нѣкогда называли мы всѣхъ иныхъ Европейцевъ невѣрными, теперь называемъ братьями. Спрашиваю: кому бы легче было покорить Россію, невѣрнымъ или братьямъ, т. е. кому бы она, по вѣроятности, долженствовала болѣе противиться? При царѣ Михаилѣ или Ѳеодорѣ, вельможа Россійскій, обязанный всѣмъ отечеству, могъ ли бы съ веселымъ сердцемъ на вѣки оставить его, чтобы въ Парижѣ, въ Лондонѣ, Вѣнѣ спокойно читать въ газетахъ о нашихъ государственныхъ опасностяхъ? Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаях гражданами Россіи, — виною Петръ!». (О древней и новой Россiи въ ея политическомъ и гражданскомъ отношенiяхъ. Сочиненiе Н.М. Карамзина. // Русскiй архивъ. 1869. Вып. XII. М. 1869. Столбцы. 2250-2254.)
https://runivers.ru/lib/boo...
https://rusneb.ru/catalog/0...
Между прочим, ненавидя всё великорусское, Пётр I был очень расположен к малороссам. Так что и для этого случая он верно впоследствии был назван «первым большевиком».
Иноземцы в суждениях о нашем западничестве были гораздо резче. 1802-07 годы: «Александръ Булгаковъ разсказывалъ, что въ молодости, когда онъ служилъ въ Неаполѣ, одинъ Англичанинъ спросилъ его: есть-ли глупые люди въ Россiи? – Нѣсколько озадаченный такимъ вопросомъ, онъ отвѣчалъ: Вѣроятно, есть, и не менѣе, полагаю, нежели въ Англiи. – Не въ томъ дѣло, возразилъ Англичанинъ. Вы меня, кажется, не поняли; а мнѣ хотѣлось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземныхъ глупцовъ, когда имѣетъ своихъ?». (Полное собранiе сочиненiй князя П.А. Вяземскаго. Т. VIII. Старая записная книжка. СПб. 1883. С. 485.)
Здесь могут возразить, что иноземцев принимали на службу и прежде. Да, но была существенная разница. До Петра их приглашали для основательного ознакомления с каким-либо делом, например, рейтарским строем. А Пётр стремился уничтожить всё великорусское, заменив его северогерманским и желая превратить Россию в Немецкую слободу. Действенность для него значения не имела, главное, чтобы как в Европе: https://my.mail.ru/communit...
Из всего этого можно видеть, что с некоторого времени, особенно же с 1917 г., мы имеем внутренние трудности, которых не знали русские люди XVII века.
Антон Павлов,
04-06-2022 20:41
(ссылка)
Киев и Одесса. Из октября 1919 г.
10.10.1919 г. «Из газет я узнал, что с 1-го по 5-е красные занимали часть города Киева, бои происходили на Фундуклеевой улице, Бибиковском бульваре и пр. В настоящее время Киев очищен от красных».
«22.10.1919. Проснулся я уже в Феодосии. Море стихло. Накрапывал мелкий дождик. Стояли мы тут немного. Я успел вылезти, пройтись по главной улице и купить булок и винограду. Было ещё рано, всё по случаю праздника было закрыто и ничего горячего, даже чая несоленого не удалось хлебнуть. Напихался баранками и виноградом.
Город по внешнему впечатлению не интересный и особого внимания не заслуживает, по-моему. Расположена Феодосия у основания довольно высокой горы и по занимаемой ею площади очень невелика.
Часов в 8 с чем-то мы двинулись. Разговорился с пассажирами своей каюты. Почти все – одесситы и едут в «Одессу-маму». Любопытную вещь рассказывали про формирование в Одессе во времена большевиков одного занятного полка. Известный вор, громила и налётчик «Мишка Японец» (воровское прозвище) формировал для отправки на фронт для защиты советской власти полк из тёмных элементов, которых так много в Одессе, какой-то коммунистический полк. Два раза они садились в эшелоны, но сразу же разбегались. Даже большевички сами побаивались этого почтеннейшего собрания «честных» людей и старались как можно скорее отправить их на позицию. В конце концов, их было уже отправили, но больше половины в тот же день предпочли вернуться обратно и по-прежнему заняться «налётами» на частные квартиры. Сам же Мишка Японец всё-таки доехал до фронта и где-то был убит довольно скоро после отправки.
От лиц, едущих из Киева, узнали, что красные не жалели снарядов по городу. Основательно обложили они Фундуклеевскую улицу и Рейтарскую; говорят, что в редкий дом попало меньше 3–5 снарядов. К счастью, до 90% совершенно не рвалось». (Орлов Г.А. Дневник добровольца. Хроника гражданской войны. 1918–1921. М.: «Посев», 2019. С. 229, 241.)
https://docviewer.yandex.ru...
«22.10.1919. Проснулся я уже в Феодосии. Море стихло. Накрапывал мелкий дождик. Стояли мы тут немного. Я успел вылезти, пройтись по главной улице и купить булок и винограду. Было ещё рано, всё по случаю праздника было закрыто и ничего горячего, даже чая несоленого не удалось хлебнуть. Напихался баранками и виноградом.
Город по внешнему впечатлению не интересный и особого внимания не заслуживает, по-моему. Расположена Феодосия у основания довольно высокой горы и по занимаемой ею площади очень невелика.
Часов в 8 с чем-то мы двинулись. Разговорился с пассажирами своей каюты. Почти все – одесситы и едут в «Одессу-маму». Любопытную вещь рассказывали про формирование в Одессе во времена большевиков одного занятного полка. Известный вор, громила и налётчик «Мишка Японец» (воровское прозвище) формировал для отправки на фронт для защиты советской власти полк из тёмных элементов, которых так много в Одессе, какой-то коммунистический полк. Два раза они садились в эшелоны, но сразу же разбегались. Даже большевички сами побаивались этого почтеннейшего собрания «честных» людей и старались как можно скорее отправить их на позицию. В конце концов, их было уже отправили, но больше половины в тот же день предпочли вернуться обратно и по-прежнему заняться «налётами» на частные квартиры. Сам же Мишка Японец всё-таки доехал до фронта и где-то был убит довольно скоро после отправки.
От лиц, едущих из Киева, узнали, что красные не жалели снарядов по городу. Основательно обложили они Фундуклеевскую улицу и Рейтарскую; говорят, что в редкий дом попало меньше 3–5 снарядов. К счастью, до 90% совершенно не рвалось». (Орлов Г.А. Дневник добровольца. Хроника гражданской войны. 1918–1921. М.: «Посев», 2019. С. 229, 241.)
https://docviewer.yandex.ru...
Антон Павлов,
02-06-2022 01:52
(ссылка)
О взаимодействии артиллерии с пехотой.
https://t.me/aleksandr_skif...
«Он убрал все лишние звенья и закрепил армейские огневые средства напрямую за комбатами, и комбаты могли заказывать даже авиацию, правда, на плановые цели, - но тяжёлую арту вызывали, как скорую помощь. Этот принцип реализован у американцев - там даже сержант может вызвать огонь вплоть до авиации, если обстановка того требует».
Такой порядок был само собой разумеющимся в Царской Армии, где непосредственная связь с артиллерийской батареей имелась у ротных офицеров:
31 августа 1914 г., Восточная Пруссия. 1-я кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Василия Иосифовича Гурко, 1-й Сумской гусарский полк: «Нам предстояло прорвать немецкий заслон и углубиться примерно на шестьдесят километров, чтобы подойти к Алленштейну. Много небольших разведывательных отрядов были направлены для поиска разрывов в немецком заслоне. Вскоре разведчикам удалось найти неохраняемую дорогу, ведущую через лес. В 4.30 утра началась операция. Без единого выстрела мы проникли в немецкий тыл. Но вскоре мы натолкнулись на немецких пехотинцев, охранявших железную дорогу. Спешившийся головной отряд быстро уничтожил немцев, и мы продолжили движение. По мере продвижения взрывая железнодорожные пути, обрывая телефонные провода, примерно в полдень мы подошли к Алленштейну. Встретив сильное сопротивление, Гурко был вынужден развернуть полки. …
1-й эскадрон получил приказ прикрывать орудийную батарею. Разомкнутым строем, обнажив шпаги, мы прикрывали левый фланг занявшей позицию батареи. Меньшиков сильно сомневался в действенности подобной защиты, но никто из нас не мог предложить ничего лучше. Вскоре мы поняли, что были правы, когда не стали спешиваться. Наша батарея открыла огонь. В течение нескольких минут они стреляли одни, и единственный немецкий снаряд разорвался на безопасном для нас расстоянии. Гусары пришли в отличное расположение духа; «меткая» стрельба противника вызвала взрывы смеха. Однако наши артиллеристы думали иначе и были абсолютно правы. В следующую минуту немецкий снаряд пролетел над головами и взорвался за нами. Гусары уже рыдали от смеха, отпуская шуточки в адрес «метких» немцев. Но, в отличие от гусар, артиллеристы понимали, что немцы пристреливаются. Командир батареи отдал приказ оттащить орудия, и, не прекращая обстрел противника, с тревогой наблюдал за нашими перемещениями. Мы едва успели расположиться за батареей, как место, где мы только что стояли, было буквально вспахано немецкими снарядами». (Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911–1920. М.: «Центрполиграф», 2006. С. 157, 158-159.)
Другой пример, 1915 г.: https://my.mail.ru/communit...
Или, 6-й Финляндский стрелковый полк: «Пешими разведчиками заведывал прапорщик Сметанка. ... Однажды, глубокой осенью 1916 г., он с моими разведчиками выследил идеально замаскированную австрийскую батарею, стоявшую почти в линии пехотных окопов, соединился по телефону с нашей батареей, попросил выполнять его команду и вдребезги разбил австрийскую батарею». (Свечин А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914-18 гг. Т. 1. М.-Л. 1930. С. 42.)
Но русское военное дело уничтожено советской властью. Теперь армия у нас называется Российской, а наследие у неё по-прежнему советское.
1942-43 годы. 8-й отдельный гвардейский артиллерийский полк резерва верховного главнокомандования. Из воспоминаний офицера с ноября 1942 г., командира сначала взвода управления, потом огневого взвода:
«Какая была организация полка и вооружение?
152-мм пушка-гаубица, весь полк из них состоял. В батарее 2 пушки, огневой взвод. Были, как обычно, 3 дивизиона, в каждом дивизионе 3 батареи, всего в полку 18 пушек».
«Какие основные задачи Вы выполняли, будучи командиром взвода управления?
Разведка и обеспечение связи. Связь была линейная, рация была, но в качестве запасной.
Рацией не любили пользоваться?
Не то что не любили, а основная – проводная связь. О качестве связи трудно сказать. Когда нет боевых действий, связь работает. Обстрел начался, всё, её порвало, иди, ищи. А где её найти? Расстояния большие бывали, посылаешь солдат. Рации простые были, я уже не помню какие, РБ.
/.../
Как осуществлялась контрбатарейная борьба в полку? Кто определял цели?
Цели определяли – там работала полковая разведка и дивизионная. Они цели засекали; у них же взвод специальный артиллерийской разведки. Там они все виды данных, которые поступали, сосредотачивали у себя, засекали огневые позиции, нам давали только координаты. Мы просто по данным стреляли и всё».
«Когда Вы участвовали в артподготовке наступления, тогда был огневой вал?
Трудно сказать. Нам коррективы дают на уровне дивизиона, а мы непосредственно исполняем».
«Как правило, ваши позиции от передовой на каком расстоянии были?
Были километров за 5, за 7, за 8. У немцев как у артиллеристов не учились». (Белоглазов Савва Львович. // Артиллеристы. М.: «Яуза-Каталог», 2019. С. 16, 17-18, 28, 31.)
То есть, никакой связи с пехотой. Несмотря на то, что эти 152-мм (152,4-мм или 6-дюймовые) гаубицы-пушки обр. 1937 г. МЛ-20 (происходящие от 152-мм пушки обр. 1910/34 г.) располагались на той же дальности стрельбы, что и упоминавшиеся выше русские 3-дюймовые (76,2 мм) полевые пушки обр. 1902 г. Причём задачи эти пушки-гаубицы выполняли даже меньшие, несмотря на гораздо большие размеры и вдвое больший калибр:
«На прямую наводку ваши орудия там [против «линии Маннергейма» – А.П.] ставились?
Наши орудия тяжеловаты для этого. В основном ставились орудия более подвижные.
По отдельным ДОТам финским стреляли?
Мы – нет. Полк, может быть, я не знаю. А по укреплениям стреляли 203-мм тяжёлые гаубицы.
Вы ваши бетонобойные снаряды не применяли там?
Они не сильно пробивали, больше осколочного действия. Мы на открытых, кроме нашей стрельбы, не проводили». (Там же. С. 27-28.)
«Он убрал все лишние звенья и закрепил армейские огневые средства напрямую за комбатами, и комбаты могли заказывать даже авиацию, правда, на плановые цели, - но тяжёлую арту вызывали, как скорую помощь. Этот принцип реализован у американцев - там даже сержант может вызвать огонь вплоть до авиации, если обстановка того требует».
Такой порядок был само собой разумеющимся в Царской Армии, где непосредственная связь с артиллерийской батареей имелась у ротных офицеров:
31 августа 1914 г., Восточная Пруссия. 1-я кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Василия Иосифовича Гурко, 1-й Сумской гусарский полк: «Нам предстояло прорвать немецкий заслон и углубиться примерно на шестьдесят километров, чтобы подойти к Алленштейну. Много небольших разведывательных отрядов были направлены для поиска разрывов в немецком заслоне. Вскоре разведчикам удалось найти неохраняемую дорогу, ведущую через лес. В 4.30 утра началась операция. Без единого выстрела мы проникли в немецкий тыл. Но вскоре мы натолкнулись на немецких пехотинцев, охранявших железную дорогу. Спешившийся головной отряд быстро уничтожил немцев, и мы продолжили движение. По мере продвижения взрывая железнодорожные пути, обрывая телефонные провода, примерно в полдень мы подошли к Алленштейну. Встретив сильное сопротивление, Гурко был вынужден развернуть полки. …
1-й эскадрон получил приказ прикрывать орудийную батарею. Разомкнутым строем, обнажив шпаги, мы прикрывали левый фланг занявшей позицию батареи. Меньшиков сильно сомневался в действенности подобной защиты, но никто из нас не мог предложить ничего лучше. Вскоре мы поняли, что были правы, когда не стали спешиваться. Наша батарея открыла огонь. В течение нескольких минут они стреляли одни, и единственный немецкий снаряд разорвался на безопасном для нас расстоянии. Гусары пришли в отличное расположение духа; «меткая» стрельба противника вызвала взрывы смеха. Однако наши артиллеристы думали иначе и были абсолютно правы. В следующую минуту немецкий снаряд пролетел над головами и взорвался за нами. Гусары уже рыдали от смеха, отпуская шуточки в адрес «метких» немцев. Но, в отличие от гусар, артиллеристы понимали, что немцы пристреливаются. Командир батареи отдал приказ оттащить орудия, и, не прекращая обстрел противника, с тревогой наблюдал за нашими перемещениями. Мы едва успели расположиться за батареей, как место, где мы только что стояли, было буквально вспахано немецкими снарядами». (Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911–1920. М.: «Центрполиграф», 2006. С. 157, 158-159.)
Другой пример, 1915 г.: https://my.mail.ru/communit...
Или, 6-й Финляндский стрелковый полк: «Пешими разведчиками заведывал прапорщик Сметанка. ... Однажды, глубокой осенью 1916 г., он с моими разведчиками выследил идеально замаскированную австрийскую батарею, стоявшую почти в линии пехотных окопов, соединился по телефону с нашей батареей, попросил выполнять его команду и вдребезги разбил австрийскую батарею». (Свечин А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914-18 гг. Т. 1. М.-Л. 1930. С. 42.)
Но русское военное дело уничтожено советской властью. Теперь армия у нас называется Российской, а наследие у неё по-прежнему советское.
1942-43 годы. 8-й отдельный гвардейский артиллерийский полк резерва верховного главнокомандования. Из воспоминаний офицера с ноября 1942 г., командира сначала взвода управления, потом огневого взвода:
«Какая была организация полка и вооружение?
152-мм пушка-гаубица, весь полк из них состоял. В батарее 2 пушки, огневой взвод. Были, как обычно, 3 дивизиона, в каждом дивизионе 3 батареи, всего в полку 18 пушек».
«Какие основные задачи Вы выполняли, будучи командиром взвода управления?
Разведка и обеспечение связи. Связь была линейная, рация была, но в качестве запасной.
Рацией не любили пользоваться?
Не то что не любили, а основная – проводная связь. О качестве связи трудно сказать. Когда нет боевых действий, связь работает. Обстрел начался, всё, её порвало, иди, ищи. А где её найти? Расстояния большие бывали, посылаешь солдат. Рации простые были, я уже не помню какие, РБ.
/.../
Как осуществлялась контрбатарейная борьба в полку? Кто определял цели?
Цели определяли – там работала полковая разведка и дивизионная. Они цели засекали; у них же взвод специальный артиллерийской разведки. Там они все виды данных, которые поступали, сосредотачивали у себя, засекали огневые позиции, нам давали только координаты. Мы просто по данным стреляли и всё».
«Когда Вы участвовали в артподготовке наступления, тогда был огневой вал?
Трудно сказать. Нам коррективы дают на уровне дивизиона, а мы непосредственно исполняем».
«Как правило, ваши позиции от передовой на каком расстоянии были?
Были километров за 5, за 7, за 8. У немцев как у артиллеристов не учились». (Белоглазов Савва Львович. // Артиллеристы. М.: «Яуза-Каталог», 2019. С. 16, 17-18, 28, 31.)
То есть, никакой связи с пехотой. Несмотря на то, что эти 152-мм (152,4-мм или 6-дюймовые) гаубицы-пушки обр. 1937 г. МЛ-20 (происходящие от 152-мм пушки обр. 1910/34 г.) располагались на той же дальности стрельбы, что и упоминавшиеся выше русские 3-дюймовые (76,2 мм) полевые пушки обр. 1902 г. Причём задачи эти пушки-гаубицы выполняли даже меньшие, несмотря на гораздо большие размеры и вдвое больший калибр:
«На прямую наводку ваши орудия там [против «линии Маннергейма» – А.П.] ставились?
Наши орудия тяжеловаты для этого. В основном ставились орудия более подвижные.
По отдельным ДОТам финским стреляли?
Мы – нет. Полк, может быть, я не знаю. А по укреплениям стреляли 203-мм тяжёлые гаубицы.
Вы ваши бетонобойные снаряды не применяли там?
Они не сильно пробивали, больше осколочного действия. Мы на открытых, кроме нашей стрельбы, не проводили». (Там же. С. 27-28.)
Антон Павлов,
31-05-2022 02:14
(ссылка)
О самостийниках и украинстве.
1919 г., Кавказская добровольческая армия. 3 августа, Царицын: «А между тем Покровский смело и открыто заявил, что Кубанская армия – это ерунда, т.к. никаких технических сил у неё нет, а я добавлю «и управления», что есть только казаки и лошади, да и то первых самостийники сбивают с толку – значит остаются одни лошади. Да это и верно. Подражая Дону, Кубань забывает, что там людей больше и там стонут от недостатка офицерства, а высший командный состав (Наштарм [начальник штаба армии] Келчевский) приходится брать извне».
4 августа, Царицын: «В Екатеринодаре было заседание: Романовский (за Главкома), Плющевский (как наштаверх), Филимонов – атаман, Науменко – походный атаман и Врангель.
Предметом обсуждения было создание Кубанской армии. В ответ на требование Врангеля дать Кавказской армии пополнение и хлеб (мы на довольствии у Кубани) Науменко отвечал, что необходимо бросить кость Раде – дать ей игрушку в виде отдельной Кубанской армии. Никто существенно не возражал.
Тогда Романовский говорит Филимонову, что необходим генерал, кандидат на должность Командарма, вполне подготовленный о подходящий.
Филимонов говорит, что конечно может командовать Походный Атаман (Науменко честно заявляет, что он не подготовлен и никогда армией командовать не будет), но у них у всех намечен один кандидат – Врангель, который теперь почитается коренным казаком.
Все взоры обращаются на Врангеля – он заявляет, что командовал Кубанской дивизией, Кубанским корпусом, командует армией, где большинство кубанцев, и рад всегда ими командовать, но до сего времени он знал только стратегию и не знал политики, а при создании отдельной Кубанской армии ему придётся иметь дело с Правительством и Радой и как бы входить в кабинет, а тогда, учитывая политику, ему придётся подать своим войскам команду: налево кругом и разогнать самому ту сволочь, которая сидит в далёком тылу.
Картина...
Как компромисс решили, что Филимонов пошлёт Врангелю и всем крупным начальникам письма о целесообразности создания отдельной Кубанской армии и ответы послужат ему материалом для Рады.
Все ответы посланы, все высказались отрицательно!
Да эти нелепые самостийники могут думать о своей армии, не имея ни материальной части, ни технических войск, ни органов управления. А офицеров Генерального штаба у них, кажется, человек 5 – это желание подражать Дону, более богатому людьми, но всё же страдающему от недостатка в офицерстве».
8 августа, Царицын: «По-моему, Киевское направление надо бросить, смешно стремиться туда до назначения Драгомирова Главноначальствующим включительно – пусть Киев берёт Петлюра и ещё немного поукраинизирует его – тогда, отразив натиск на нашем и донском фронте – мы будем желанными гостями в Киеве, где даже большевиков встречали как освободителей от ненавистной украинизации. Надо выждать – направление на Валуйки – Ростов более важное». (фон Лампе А.А. Мой дневник. 1919. Пути верных. М.: «Вече», 2021. С. 64-65, 65-66, 69.)
В итоге при попустительстве либерала Деникина, враждовавшего с донским атаманом монархистом П.Н. Красновым, но терпевшего левых самостийников Кубанской рады, последние значительно разложили кубанцев, что сказалось на их боеспособности. Победившие большевики уничтожили Донское и Кубанское казачьи войска, но создали «Украину», передав ей обширные земли войска Донского (нынешние ДНР и ЛНР). Вот что получили «в благодарность» от советской власти поддерживавшие её рабочие Донбасса.
«Как и многие другие офицеры, я не раз задумывался над вопросом о причинах неудачи Белого движения. Основной причиной этой неудачи мне представлялись организационные ошибки руководителей Добровольческой Армии, которые и привели к проигрышу генерального сражения на путях к Москве в сентябре – октябре 1919 года. В дальнейшем, несмотря на весь блеск организационного таланта генерала Врангеля, сумевшего многое исправить, Русская армия в силу своей малочисленности, по существу, не имела шансов на успех». (Русский гарнизон в Болгарии. Примечания. I. // Раевский Н.А. Русский гарнизон в Болгарии. Охрание – София – Прага. М.: «Вече», 2021. С. 291.)
Впоследствии Деникин писал, обличая Временное правительство в развале армии, что сам имел «Неудачный опытъ «сознательной дисциплины». Да, господинъ Керенскiй, и это было въ молодости... Отмѣнилъ негласно дисциплинарныя взысканiя – «слѣдите другъ за другомъ, останавливайте малодушныхъ – вѣдь вы же хорошiе люди – докажите, что можно служить безъ палки». Кончилось командованiе: рота за годъ вела себя средне, училась плохо и лѣниво. Послѣ моего ухода старый сверхсрочный фельдфебель Сцепура собрал роту, поднял многозначительно кулакъ въ воздухъ и произнесъ внятно и раздѣльно
– Теперь вамъ – не капитанъ Деникинъ. Поняли?...
– Такъ точно, г. фельдфебель.
Рота, разсказывали потомъ, скоро поправилась». (Деникинъ А.И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. 2. Крушенiе власти и армiи. Февраль-Сентябрь 1917. Paris, [1921]. Стр. 220.)
При этом неудачный опыт главнокомандования и управления на Юге России Деникин не усмотрел. Он не признавал за собой ошибок.
Заблуждение считать, что либералы слабы во власти. Они весьма деятельно нетерпимы к монархистам и благосклонны ко всем, кто борется с историческими основами. Показательно в этом отношении Временное правительство, уничтожившее полицию, запретившее монархические партии и одновременно выпустившее на свободу большое число преступников. Затем между «Корниловским мятежом» и большевицким переворотом Керенский выбрал последний, хотя у Корнилова были законные войска, а у большевиков незаконная «красная гвардия». В борьбе с собственным верховным главнокомандующим глава правительства и министр юстиции опёрся на незаконные вооружённые формирования, пытавшиеся незадолго перед тем совершить переворот, от которого власть Керенского спасли тогда, как раз, военные. Почему либералы всегда поступают подобным образом? Потому что выбирают то, что им ближе: «ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». (Евангелие от Иоанна. Гл. 3, ст. 20-21.)
Большевики, Петлюра и кубанские самостийники придерживались левых взглядов. История показывает, что самостийность и украинство основаны на русских землях при либералах левыми и ими же развиты. Но у нас на все лады продолжают склонять «нацизм» и «фашизм», чтобы не говорить правду.
Часть нынешних украинцев играется в собственные представления о Третьем рейхе, но их происхождение другое. Это Речь Посполитая и Брестская уния 1596 г. У нас постоянно заявляют, что украинские военнослужащие ведут себя, «как фашисты». Нет, вот фашисты:
10 марта 1937 г., Испания. Сражение при Гвадалахаре, дорога от Тории к Бриуэге: «Произошла встреча дозоров – и с той и с другой стороны были итальянцы. Командир патруля «Чёрного пламени» спросил, почему итальянцы стреляют в них. «Это Батальон Гарибальди», – последовал ответ». (Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. М.: «Центрполиграф», 2003. С. 357.) Убийство соотечественников, немыслимое для чернорубашечников дивизии «Чёрное пламя», было желанным для «красных» из интербригады. (Здесь кстати заметить, что нынешнее левое испанское правительство, являющееся приверженцем республиканцев и ярым ненавистником испанских националистов Франко, поддерживает военными средствами «Украину» в войне против России.)
1943-44 г., Итальянская социальная республика: «Существование фашистского правительства и разделение Италии создавали угрозу полномасштабной гражданской войны, равно как и возможность столкновения итальянцев друг против друга на фронте. Эта перспектива постоянно держала Муссолини в страхе. Он отмечал на карте движение итальянских частей, сражавшихся с немцами, и постоянно требовал сообщать ему сведения о тех подразделениях, которые Бадольо предоставил союзникам. В Италии против союзников продолжали воевать три итальянских подразделения – батальон Барбариго в районе Анцио, батальон чернорубашечников – против Тито в Хорватии и батальон берсальеров – против партизан на Карсо. Другой батальон берсальеров вёл боевые действия против немцев, и Маццолини однажды стал свидетелем того, как Муссолини с удовлетворением прослушал коммюнике по радио Бари, содержание которого свидетельствовало, что дела у них идут хорошо.
«Но это же войска Бадольо! – воскликнул поражённый Маццолини, – они воюют с немцами».
«Они итальянцы и сражаются храбро, вот что главное», – с удовлетворением констатировал Муссолини». (Хибберт К. Бенито Муссолини. Ростов на Дону: «Феникс», 1998. Ч. III, конец гл. 10.)
«В недавнем интервью Альберто Моравиа рассказал о своей сатирической антифашистской книге «Маскарад», написанной им на Капри в 1940 году. «Мы вели настоящую войну – с фашизмом, цензурой и т.п. Готовую рукопись любой книги следовало отдавать в министерство народной культуры для получения одобрения на публикацию. В министерстве, скажу вам, сидели в основном учителя средних школ, получавшие по триста лир за каждую прочитанную ими книгу. Разумеется, чтобы сохранить за собой синекуру, они, когда для этого были основания, давали отрицательный отзыв. И вот я представляю рукопись на контроль. Но прочитавший её имярек, не желая высказывать своего суждения, передал её заместителю начальника управления, тот, обуянный сомнениями, передал её начальнику управления, этот министру, министр наконец-то – Муссолини».
– Думаю, – сказал корреспондент, – вас вызвали на ковер?
– Ничего подобного. Муссолини приказал опубликовать книгу.
– Ну?
– Он был неплохим человеком.
– Вы понимаете, что данное интервью будет опубликовано за границей. А там к Муссолини относятся совершенно по-другому.
– Но мы-то знаем, что представлял из себя Муссолини. Думаю, это не делает нас фашистами. Самой большой его ошибкой было дремучее непонимание внешнеполитических проблем. Если бы его внешняя политика была такой же умной, как внутренняя, то, думаю, он и сейчас был бы дуче». (Там же. Ч. I, гл. 5, конец радела 1.)
Современные представители украинства ведут себя, как их предшественники 2-й половины XVII века, приводившие иноземные иноверные войска и разорявшие вместе с ними земли тех малороссийских казачьих полков, которые выбрали присоединение к России. 8 января 1654 г., Переяславль (отчина великого князя Владимира Мономаха): «...весь народ возопил: волим под царя восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову поганину достати!» (Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. X. (Дополнение к III тому). СПб. 1878. № 4. Столбец 219.)
Незнающие истории люди думают, что сила Третьего рейха в национал-социализме. В действительности же национал-социалисты были одним из течений немецкой жизни, вследствие ряда обстоятельств оказавшимся во главе государства и воспользовавшимся историческими силами Германии. Последние заключались не только в военных и чиновниках. 6 апреля 1945 г.: «В Вальдхайме я вышел и отправился по южному берегу Машзее. Такое красивое в мирные времена озеро теперь в целях маскировки было покрыто зелёными плавающими матами. На них стояли искусственные деревья и кустарники. Эта маскировка помогала мало. Промышленные центры и жилые районы подвергались систематическим бомбардировкам. Целые районы города лежали в руинах. Потери среди гражданского населения были велики. У Лейне на южном берегу озера меня окликнул пожилой рабочий:
– Доброе утро, господин старший лейтенант! – В его голосе слышалась ирония. Он шёл на работу – на завод ГАНОМАГ.
Я спросил его:
– Почему же вы не едете на трамвае?
– Линии городского транспорта в городе разрушены. А шины моего велосипеда прохудились.
Я продолжал его допытывать:
– А почему тогда вы не остались дома?
И тут в ответ я услышал нечто примечательное:
– Я не коричневый, можете мне поверить, и война проиграна, но пока солдаты не сдались, я хожу на работу!
Я был смущён. Некоторое время мы молча шли рядом. Потом наши дороги разошлись. Рабочий пошёл на ГАНОМАГ, а я – домой». (Кноблаух К. Кровавый кошмар Восточного фронта. Откровения офицера парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг». М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 164.)
Этого не понимают современные поклонники Третьего рейха. Его сила была не в новом национал-социализме, а в старых многовековых немецких обычаях. Основу внутреннего мира даже убеждённых нацистов составляла история Германии. У Гитлера висел портрет прусского короля Фридриха II («Фридриха Великого»). А что у «Украины»? «Это узкое украинство исключительно продукт, привезённый нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет.
Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов 4 польского и немецкого происхождения». (Скоропадский П. Воспоминания: конец 1917 года по декабрь 1918 года // Скоропадський П. Спогади кiнець 1917 – грудень 1918. Киȉв – Фiладельфiя, 1995. С. 233.)
Поэтому «Украину» нужно не «денацифицировать», а разукраинизировать. Но кто будет это делать, когда власть РФ продолжает дерусификацию, уничтожая историческое наследие: https://vesti-k.ru/tv/2022/... Где же возмущение со словами, что памятник «пережил немецко-фашистскую оккупацию, времена независимой Украины, но...»?
Зато: https://sledcom.ru/news/ite...
4 августа, Царицын: «В Екатеринодаре было заседание: Романовский (за Главкома), Плющевский (как наштаверх), Филимонов – атаман, Науменко – походный атаман и Врангель.
Предметом обсуждения было создание Кубанской армии. В ответ на требование Врангеля дать Кавказской армии пополнение и хлеб (мы на довольствии у Кубани) Науменко отвечал, что необходимо бросить кость Раде – дать ей игрушку в виде отдельной Кубанской армии. Никто существенно не возражал.
Тогда Романовский говорит Филимонову, что необходим генерал, кандидат на должность Командарма, вполне подготовленный о подходящий.
Филимонов говорит, что конечно может командовать Походный Атаман (Науменко честно заявляет, что он не подготовлен и никогда армией командовать не будет), но у них у всех намечен один кандидат – Врангель, который теперь почитается коренным казаком.
Все взоры обращаются на Врангеля – он заявляет, что командовал Кубанской дивизией, Кубанским корпусом, командует армией, где большинство кубанцев, и рад всегда ими командовать, но до сего времени он знал только стратегию и не знал политики, а при создании отдельной Кубанской армии ему придётся иметь дело с Правительством и Радой и как бы входить в кабинет, а тогда, учитывая политику, ему придётся подать своим войскам команду: налево кругом и разогнать самому ту сволочь, которая сидит в далёком тылу.
Картина...
Как компромисс решили, что Филимонов пошлёт Врангелю и всем крупным начальникам письма о целесообразности создания отдельной Кубанской армии и ответы послужат ему материалом для Рады.
Все ответы посланы, все высказались отрицательно!
Да эти нелепые самостийники могут думать о своей армии, не имея ни материальной части, ни технических войск, ни органов управления. А офицеров Генерального штаба у них, кажется, человек 5 – это желание подражать Дону, более богатому людьми, но всё же страдающему от недостатка в офицерстве».
8 августа, Царицын: «По-моему, Киевское направление надо бросить, смешно стремиться туда до назначения Драгомирова Главноначальствующим включительно – пусть Киев берёт Петлюра и ещё немного поукраинизирует его – тогда, отразив натиск на нашем и донском фронте – мы будем желанными гостями в Киеве, где даже большевиков встречали как освободителей от ненавистной украинизации. Надо выждать – направление на Валуйки – Ростов более важное». (фон Лампе А.А. Мой дневник. 1919. Пути верных. М.: «Вече», 2021. С. 64-65, 65-66, 69.)
В итоге при попустительстве либерала Деникина, враждовавшего с донским атаманом монархистом П.Н. Красновым, но терпевшего левых самостийников Кубанской рады, последние значительно разложили кубанцев, что сказалось на их боеспособности. Победившие большевики уничтожили Донское и Кубанское казачьи войска, но создали «Украину», передав ей обширные земли войска Донского (нынешние ДНР и ЛНР). Вот что получили «в благодарность» от советской власти поддерживавшие её рабочие Донбасса.
«Как и многие другие офицеры, я не раз задумывался над вопросом о причинах неудачи Белого движения. Основной причиной этой неудачи мне представлялись организационные ошибки руководителей Добровольческой Армии, которые и привели к проигрышу генерального сражения на путях к Москве в сентябре – октябре 1919 года. В дальнейшем, несмотря на весь блеск организационного таланта генерала Врангеля, сумевшего многое исправить, Русская армия в силу своей малочисленности, по существу, не имела шансов на успех». (Русский гарнизон в Болгарии. Примечания. I. // Раевский Н.А. Русский гарнизон в Болгарии. Охрание – София – Прага. М.: «Вече», 2021. С. 291.)
Впоследствии Деникин писал, обличая Временное правительство в развале армии, что сам имел «Неудачный опытъ «сознательной дисциплины». Да, господинъ Керенскiй, и это было въ молодости... Отмѣнилъ негласно дисциплинарныя взысканiя – «слѣдите другъ за другомъ, останавливайте малодушныхъ – вѣдь вы же хорошiе люди – докажите, что можно служить безъ палки». Кончилось командованiе: рота за годъ вела себя средне, училась плохо и лѣниво. Послѣ моего ухода старый сверхсрочный фельдфебель Сцепура собрал роту, поднял многозначительно кулакъ въ воздухъ и произнесъ внятно и раздѣльно
– Теперь вамъ – не капитанъ Деникинъ. Поняли?...
– Такъ точно, г. фельдфебель.
Рота, разсказывали потомъ, скоро поправилась». (Деникинъ А.И. Очерки Русской Смуты. Т. I. Вып. 2. Крушенiе власти и армiи. Февраль-Сентябрь 1917. Paris, [1921]. Стр. 220.)
При этом неудачный опыт главнокомандования и управления на Юге России Деникин не усмотрел. Он не признавал за собой ошибок.
Заблуждение считать, что либералы слабы во власти. Они весьма деятельно нетерпимы к монархистам и благосклонны ко всем, кто борется с историческими основами. Показательно в этом отношении Временное правительство, уничтожившее полицию, запретившее монархические партии и одновременно выпустившее на свободу большое число преступников. Затем между «Корниловским мятежом» и большевицким переворотом Керенский выбрал последний, хотя у Корнилова были законные войска, а у большевиков незаконная «красная гвардия». В борьбе с собственным верховным главнокомандующим глава правительства и министр юстиции опёрся на незаконные вооружённые формирования, пытавшиеся незадолго перед тем совершить переворот, от которого власть Керенского спасли тогда, как раз, военные. Почему либералы всегда поступают подобным образом? Потому что выбирают то, что им ближе: «ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». (Евангелие от Иоанна. Гл. 3, ст. 20-21.)
Большевики, Петлюра и кубанские самостийники придерживались левых взглядов. История показывает, что самостийность и украинство основаны на русских землях при либералах левыми и ими же развиты. Но у нас на все лады продолжают склонять «нацизм» и «фашизм», чтобы не говорить правду.
Часть нынешних украинцев играется в собственные представления о Третьем рейхе, но их происхождение другое. Это Речь Посполитая и Брестская уния 1596 г. У нас постоянно заявляют, что украинские военнослужащие ведут себя, «как фашисты». Нет, вот фашисты:
10 марта 1937 г., Испания. Сражение при Гвадалахаре, дорога от Тории к Бриуэге: «Произошла встреча дозоров – и с той и с другой стороны были итальянцы. Командир патруля «Чёрного пламени» спросил, почему итальянцы стреляют в них. «Это Батальон Гарибальди», – последовал ответ». (Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. М.: «Центрполиграф», 2003. С. 357.) Убийство соотечественников, немыслимое для чернорубашечников дивизии «Чёрное пламя», было желанным для «красных» из интербригады. (Здесь кстати заметить, что нынешнее левое испанское правительство, являющееся приверженцем республиканцев и ярым ненавистником испанских националистов Франко, поддерживает военными средствами «Украину» в войне против России.)
1943-44 г., Итальянская социальная республика: «Существование фашистского правительства и разделение Италии создавали угрозу полномасштабной гражданской войны, равно как и возможность столкновения итальянцев друг против друга на фронте. Эта перспектива постоянно держала Муссолини в страхе. Он отмечал на карте движение итальянских частей, сражавшихся с немцами, и постоянно требовал сообщать ему сведения о тех подразделениях, которые Бадольо предоставил союзникам. В Италии против союзников продолжали воевать три итальянских подразделения – батальон Барбариго в районе Анцио, батальон чернорубашечников – против Тито в Хорватии и батальон берсальеров – против партизан на Карсо. Другой батальон берсальеров вёл боевые действия против немцев, и Маццолини однажды стал свидетелем того, как Муссолини с удовлетворением прослушал коммюнике по радио Бари, содержание которого свидетельствовало, что дела у них идут хорошо.
«Но это же войска Бадольо! – воскликнул поражённый Маццолини, – они воюют с немцами».
«Они итальянцы и сражаются храбро, вот что главное», – с удовлетворением констатировал Муссолини». (Хибберт К. Бенито Муссолини. Ростов на Дону: «Феникс», 1998. Ч. III, конец гл. 10.)
«В недавнем интервью Альберто Моравиа рассказал о своей сатирической антифашистской книге «Маскарад», написанной им на Капри в 1940 году. «Мы вели настоящую войну – с фашизмом, цензурой и т.п. Готовую рукопись любой книги следовало отдавать в министерство народной культуры для получения одобрения на публикацию. В министерстве, скажу вам, сидели в основном учителя средних школ, получавшие по триста лир за каждую прочитанную ими книгу. Разумеется, чтобы сохранить за собой синекуру, они, когда для этого были основания, давали отрицательный отзыв. И вот я представляю рукопись на контроль. Но прочитавший её имярек, не желая высказывать своего суждения, передал её заместителю начальника управления, тот, обуянный сомнениями, передал её начальнику управления, этот министру, министр наконец-то – Муссолини».
– Думаю, – сказал корреспондент, – вас вызвали на ковер?
– Ничего подобного. Муссолини приказал опубликовать книгу.
– Ну?
– Он был неплохим человеком.
– Вы понимаете, что данное интервью будет опубликовано за границей. А там к Муссолини относятся совершенно по-другому.
– Но мы-то знаем, что представлял из себя Муссолини. Думаю, это не делает нас фашистами. Самой большой его ошибкой было дремучее непонимание внешнеполитических проблем. Если бы его внешняя политика была такой же умной, как внутренняя, то, думаю, он и сейчас был бы дуче». (Там же. Ч. I, гл. 5, конец радела 1.)
Современные представители украинства ведут себя, как их предшественники 2-й половины XVII века, приводившие иноземные иноверные войска и разорявшие вместе с ними земли тех малороссийских казачьих полков, которые выбрали присоединение к России. 8 января 1654 г., Переяславль (отчина великого князя Владимира Мономаха): «...весь народ возопил: волим под царя восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову поганину достати!» (Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. X. (Дополнение к III тому). СПб. 1878. № 4. Столбец 219.)
Незнающие истории люди думают, что сила Третьего рейха в национал-социализме. В действительности же национал-социалисты были одним из течений немецкой жизни, вследствие ряда обстоятельств оказавшимся во главе государства и воспользовавшимся историческими силами Германии. Последние заключались не только в военных и чиновниках. 6 апреля 1945 г.: «В Вальдхайме я вышел и отправился по южному берегу Машзее. Такое красивое в мирные времена озеро теперь в целях маскировки было покрыто зелёными плавающими матами. На них стояли искусственные деревья и кустарники. Эта маскировка помогала мало. Промышленные центры и жилые районы подвергались систематическим бомбардировкам. Целые районы города лежали в руинах. Потери среди гражданского населения были велики. У Лейне на южном берегу озера меня окликнул пожилой рабочий:
– Доброе утро, господин старший лейтенант! – В его голосе слышалась ирония. Он шёл на работу – на завод ГАНОМАГ.
Я спросил его:
– Почему же вы не едете на трамвае?
– Линии городского транспорта в городе разрушены. А шины моего велосипеда прохудились.
Я продолжал его допытывать:
– А почему тогда вы не остались дома?
И тут в ответ я услышал нечто примечательное:
– Я не коричневый, можете мне поверить, и война проиграна, но пока солдаты не сдались, я хожу на работу!
Я был смущён. Некоторое время мы молча шли рядом. Потом наши дороги разошлись. Рабочий пошёл на ГАНОМАГ, а я – домой». (Кноблаух К. Кровавый кошмар Восточного фронта. Откровения офицера парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг». М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 164.)
Этого не понимают современные поклонники Третьего рейха. Его сила была не в новом национал-социализме, а в старых многовековых немецких обычаях. Основу внутреннего мира даже убеждённых нацистов составляла история Германии. У Гитлера висел портрет прусского короля Фридриха II («Фридриха Великого»). А что у «Украины»? «Это узкое украинство исключительно продукт, привезённый нам из Галиции, культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла: никаких данных на успех нет и является просто преступлением, так как там, собственно, и культуры нет.
Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов 4 польского и немецкого происхождения». (Скоропадский П. Воспоминания: конец 1917 года по декабрь 1918 года // Скоропадський П. Спогади кiнець 1917 – грудень 1918. Киȉв – Фiладельфiя, 1995. С. 233.)
Поэтому «Украину» нужно не «денацифицировать», а разукраинизировать. Но кто будет это делать, когда власть РФ продолжает дерусификацию, уничтожая историческое наследие: https://vesti-k.ru/tv/2022/... Где же возмущение со словами, что памятник «пережил немецко-фашистскую оккупацию, времена независимой Украины, но...»?
Зато: https://sledcom.ru/news/ite...
Антон Павлов,
28-05-2022 23:53
(ссылка)
Сталин и водка.
В начале 1913 г. Российская Императорская Армия (сухопутные силы) мирного времени насчитывала 1230000 человек. С 1913 г. были начаты 5-летние военные преобразования (Большая программа по усилению армии). К концу 1917 г. численность войск мирного времени должна была составить 1710000. Пехота увеличивалась на 274000 человек образованием новых 32-х пехотных и 6-ти стрелковых полков. Конница на 38000 образованием 26-ти полков. «В кавалерийских дивизиях должно было считаться 5-6 полков: 4 собственно в дивизии, а 1-2 (по очереди) в качестве войсковой конницы». «Особенно усиливалась артиллерия. Все полевые батареи приводились в 6-орудийный состав. В артиллерийскую бригаду включалось 9 пушечных и 2 мортирные батареи – всего 66 орудий, а каждому армейскому корпусу придавался тяжёлый дивизион в 4 батареи (42-линейные пушки и 6-дюймовые гаубицы). В корпусе, таким образом, к 1917 году должно было состоять 200 орудий (в Германии – 160), а в дивизии пропорция артиллерии с 3 орудий на батальон повышалась до 5,5». Таким образом, Германия лишалась единственного своего превосходства над русской армией – в численности артиллерии. К сожалению, из всего этого успели лишь образовать 4-ю стрелковую Финляндскую бригаду весной 1914 г. (Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. 1881-1915 гг. М.: «Голос», 1994. С. 166.)
Сталин в письме Молотову 1 сентября 1930 г.: «...нынешний мирный состав нашей армии с 640 тысяч придётся довести до 700 тысяч. … Но для «реформы» потребуются немаленькие суммы денег (большее количество «выстрелов», большее количество техники, дополнительное количество командного состава, дополнительные расходы на вещевое и продовольственное снабжение). Откуда взять деньги? Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьёзной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырьё для производства водки и формально закрепить его в госбюджете 30-31 года. Имей в виду, что серьёзное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, для чего опять же придётся аппелировать к водке1.
/.../
Примечания
1 2 июля 1930 г. П[олит]Б[юро] отклонило предложение Наркомфина о повышении цен на водку ([РЦХИДНИ.] Ф. 17. Оп. 3. Д. 788. Л. 5).
15 сентября 1930 г. ПБ приняло решение:
«а) Ввиду явного недостатка водки как в городе, так и в деревне, роста в связи с этим очередей и спекуляции, предложить СНК СССР принять необходимые меры к скорейшему увеличению выпуска водки. Возложить на т. Рыкова личное наблюдение за выполнением настоящего постановления.
б) Принять программу выкурки спирта в 90 мил. вёдер в 1930/31 году». (Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 31)». (Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925-1936 гг. (Сборник документов). М.: «Россия молодая», 1995. № 62. С. 209-211.)
Такое «развитие народного хозяйства» привело к тому, что во время войны оказывать помощь советской экономике пришлось даже Канаде. «Поставки из США в СССР оценивались правительством США в сумму свыше 11 млрд. долларов. Военные поставки из Великобритании в СССР с 1 октября 1941 по 31 марта 1946 г. составили 308 млн. ф. ст., а также сырьё, продовольствие, станки, лекарства на сумму 12 млн. ф. ст.
Одним из важных внешнеторговых партнёров СССР в годы Великой Отечественной войны являлась Канада. После установления прямых дипломатических отношений с Канадой (12 июня 1942 г.) СССР получил кредит в 10 млн. канадских долларов для закупки пшеницы и муки (продовольственные поставки за счёт этого кредита завершены в 1944 г.) С 1943 г. Канада перешла к прямым поставкам военных материалов и продовольствия в СССР (поставлялись бомбардировщики типа «Москито», грузовики «Додж», алюминий, станки, никель, пшеница)». (Быстрова И.В. Ленд-лиз для СССР: Экономика, техника, люди (1941–1945). М.: «Кучково поле», 2019. С. 7.)
«По данным Правительственной закупочной комиссии СССР в США по размещению заказов через Ленд-лиз по основным группам товаров за период с 1 октября 1941 по 1 сентября 1945 г., всего было отгружено из США товаров на сумму 9423,878 тыс. долл. Первое место по стоимости поставок занимало продовольствие – 1727,574 тыс. долл., второе – самолёты и авиационное оборудование – 1555,728 тыс. долл., третье – автомашины, мотоциклы и дорожные машины – 1082,873 тыс., четвёртое – промышленное оборудование – 1064,260 тыс. долл. В счёт британских поставок всего было отгружено из США в СССР товаров на суму 487404201 амер. долларов.
Таким образом, и по американским, и по советским данным, лидировали и по объёму, и по стоимости поставок продукты питания. Не случайно знаменитая американская тушёнка получила в народе название «второй фронт». (Там же. С. 197.) В частности, из поступивших в советские воинские части в 1941-45 годах 744400 автомобилей 410000 были американскими, то есть составляли 55 %. (Там же.)
Накануне войны в СССР количество денег в обращении составляло 18,4 млрд. рублей. На 1-е полугодие 1945 г. средняя денежная масса в обращении была 69 млрд. рублей. (По страницам архивных фондов Центрального банка Российской Федерации. Вып. 5. Денежное обращение в СССР периода Великой Отечественной войны в документах (1941-1945 годы). М. 2008. С. 6, 81.) http://www.cbr.ru/content/d...
СССР оплачивал золотом британские поставки, ленд-лиз из США во время войны был бесплатным.
«Официальный валютный курс, установленный в 1937 г., в 1940 г. равнялся 5,3 руб. за 1 долл.».
«На самом деле реальный валютный курс был иным. Н. Симонов, ссылаясь на архивные данные, пишет: специалисты Госплана СССР отмечали, что «за годы войны имело место значительное повышение цен, особенно на товары широкого потребления, при падении физического объёма производства продукции ниже довоенного уровня». По расчётам отдела сводного планирования, повышение цен в 1945 г. составило 33,3%. В то же время в Соединенных Штатах уровень инфляции в 1942 г. составил 10,9%. Это означает, что по состоянию на начало 1943 г. реальный валютный курс был не 5,3 руб. за 1 долл., а как минимум 6,27 руб. за 1 долл. (5,3 руб. х 1,202). Поправочный коэффициент 1,202 равен 1,333:1,109». (Бутенина Н.В. Ленд-лиз: сделка века. М. 2004. С. 183, 184.)
Если исходить из курса в 6,27 руб., то за поставки из США, оценивавшиеся их правительством в 11 с лишним миллиардов долларов, СССР пришлось бы заплатить всю свою среднюю денежную массу в обращении, имевшуюся на 1-е полугодие 1945 г.
В действительности всё было гораздо хуже. Едва ли возможно определить настоящий «валютный курс» того времени, потому что в международной торговле ничего на советские рубли купить было нельзя. Советские деньги имели цену только внутри СССР и, по-видимому, для Монголии. Так что британские поставки СССР приходилось оплачивать золотом. При этом крупные советские заводы и их оборудование были американскими, закупленными у США до войны или поставленными по ленд-лизу.
Как тут не вспомнить 1-ю Мировую войну, когда, наоборот, Российская Империя давала взаймы союзникам, а жизнь внутри России текла тем же порядком, что и в мирное время. Многовековые хозяйственные русские устои были так сильны, что сохранялись и при Временном правительстве. Продвижение немецких войск до черты С.-Петербург – Москва – Северный Кавказ было немыслимо.
«Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать.
И мы это сделаем, если захотим этого по-настоящему». (О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. Июль 1930 – январь 1934. М. 1951. С. 41-42.)
Из концовки этой речи исторически запомнились образно только слова: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». Хотя следовало уяснить прямой смысл сказанного. Главное для большевиков было захватить власть и уничтожить всё ненравящееся и несогласных. Вот что для них являлось «самым важным с точки зрения строительства». Когда после нахождения 13 лет у власти они добились этого в общих чертах, их «вождь» провозгласил, что «осталось немного»: получить знания и умение. Заключительные слова речи свидетельствуют, что после того, как большевики «разрушили до основанья» старое, трудящиеся всё ещё не «захотели по-настоящему» строить большевицкий «новый мир» (в котором кто был никем, тот стал ничем).
Нравственная разница между США и СССР в том, что первые лгут, дабы изменить действительность под себя. А СССР лгал, чтобы действительность не воспринимать. Поэтому ни «догнать», ни, тем более, «перегнать» США в хозяйственном отношении СССР не мог. Он не сообразовывался с прикладной стороной дела.
Теперь в РФ справедливо возмущаются, что вместо развития собственного хозяйства деньги откладывались на Западе. Но ведь советская власть делала то же самое: вместо выделения средств колхозам и совхоза тратилась на покупку зерна в США и Канаде. Многие в РФ справедливо негодуют, почему такое преклонение перед долларом и евро, а рубль в пренебрежении у собственного правительства. Но ведь и в СССР главной составляющей экономической политики была «добыча валюты» для государства. (Уже забылось положение с сетью магазинов «Берёзка», когда советский гражданин оказывался в своей стране человеком второго сорта по сравнению с иностранцем.) Ради получения иностранной валюты Сталин продавал зерно в ущерб собственному населению, что привело к гибели миллионов граждан СССР от голода в 1932-33 годах. (Вот и «Украина» поступает теперь так же.)
Это советское наследие и поныне имеет у нас место, когда главными являются идеологические прихоти, а не правда. В итоге до сих пор зависим от США и доллара, ничего не значивших для Царской России.
«Не знаю, какъ будетъ при васъ, а при насъ ни одна пушка въ Европѣ безъ позволенiя нашего выпалить не смѣла». (Канцлер светлейший князь Александр Андреевич Безбородко). С 1945 г. в Европе господствуют США.
Сталин в письме Молотову 1 сентября 1930 г.: «...нынешний мирный состав нашей армии с 640 тысяч придётся довести до 700 тысяч. … Но для «реформы» потребуются немаленькие суммы денег (большее количество «выстрелов», большее количество техники, дополнительное количество командного состава, дополнительные расходы на вещевое и продовольственное снабжение). Откуда взять деньги? Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьёзной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырьё для производства водки и формально закрепить его в госбюджете 30-31 года. Имей в виду, что серьёзное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, для чего опять же придётся аппелировать к водке1.
/.../
Примечания
1 2 июля 1930 г. П[олит]Б[юро] отклонило предложение Наркомфина о повышении цен на водку ([РЦХИДНИ.] Ф. 17. Оп. 3. Д. 788. Л. 5).
15 сентября 1930 г. ПБ приняло решение:
«а) Ввиду явного недостатка водки как в городе, так и в деревне, роста в связи с этим очередей и спекуляции, предложить СНК СССР принять необходимые меры к скорейшему увеличению выпуска водки. Возложить на т. Рыкова личное наблюдение за выполнением настоящего постановления.
б) Принять программу выкурки спирта в 90 мил. вёдер в 1930/31 году». (Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 31)». (Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925-1936 гг. (Сборник документов). М.: «Россия молодая», 1995. № 62. С. 209-211.)
Такое «развитие народного хозяйства» привело к тому, что во время войны оказывать помощь советской экономике пришлось даже Канаде. «Поставки из США в СССР оценивались правительством США в сумму свыше 11 млрд. долларов. Военные поставки из Великобритании в СССР с 1 октября 1941 по 31 марта 1946 г. составили 308 млн. ф. ст., а также сырьё, продовольствие, станки, лекарства на сумму 12 млн. ф. ст.
Одним из важных внешнеторговых партнёров СССР в годы Великой Отечественной войны являлась Канада. После установления прямых дипломатических отношений с Канадой (12 июня 1942 г.) СССР получил кредит в 10 млн. канадских долларов для закупки пшеницы и муки (продовольственные поставки за счёт этого кредита завершены в 1944 г.) С 1943 г. Канада перешла к прямым поставкам военных материалов и продовольствия в СССР (поставлялись бомбардировщики типа «Москито», грузовики «Додж», алюминий, станки, никель, пшеница)». (Быстрова И.В. Ленд-лиз для СССР: Экономика, техника, люди (1941–1945). М.: «Кучково поле», 2019. С. 7.)
«По данным Правительственной закупочной комиссии СССР в США по размещению заказов через Ленд-лиз по основным группам товаров за период с 1 октября 1941 по 1 сентября 1945 г., всего было отгружено из США товаров на сумму 9423,878 тыс. долл. Первое место по стоимости поставок занимало продовольствие – 1727,574 тыс. долл., второе – самолёты и авиационное оборудование – 1555,728 тыс. долл., третье – автомашины, мотоциклы и дорожные машины – 1082,873 тыс., четвёртое – промышленное оборудование – 1064,260 тыс. долл. В счёт британских поставок всего было отгружено из США в СССР товаров на суму 487404201 амер. долларов.
Таким образом, и по американским, и по советским данным, лидировали и по объёму, и по стоимости поставок продукты питания. Не случайно знаменитая американская тушёнка получила в народе название «второй фронт». (Там же. С. 197.) В частности, из поступивших в советские воинские части в 1941-45 годах 744400 автомобилей 410000 были американскими, то есть составляли 55 %. (Там же.)
Накануне войны в СССР количество денег в обращении составляло 18,4 млрд. рублей. На 1-е полугодие 1945 г. средняя денежная масса в обращении была 69 млрд. рублей. (По страницам архивных фондов Центрального банка Российской Федерации. Вып. 5. Денежное обращение в СССР периода Великой Отечественной войны в документах (1941-1945 годы). М. 2008. С. 6, 81.) http://www.cbr.ru/content/d...
СССР оплачивал золотом британские поставки, ленд-лиз из США во время войны был бесплатным.
«Официальный валютный курс, установленный в 1937 г., в 1940 г. равнялся 5,3 руб. за 1 долл.».
«На самом деле реальный валютный курс был иным. Н. Симонов, ссылаясь на архивные данные, пишет: специалисты Госплана СССР отмечали, что «за годы войны имело место значительное повышение цен, особенно на товары широкого потребления, при падении физического объёма производства продукции ниже довоенного уровня». По расчётам отдела сводного планирования, повышение цен в 1945 г. составило 33,3%. В то же время в Соединенных Штатах уровень инфляции в 1942 г. составил 10,9%. Это означает, что по состоянию на начало 1943 г. реальный валютный курс был не 5,3 руб. за 1 долл., а как минимум 6,27 руб. за 1 долл. (5,3 руб. х 1,202). Поправочный коэффициент 1,202 равен 1,333:1,109». (Бутенина Н.В. Ленд-лиз: сделка века. М. 2004. С. 183, 184.)
Если исходить из курса в 6,27 руб., то за поставки из США, оценивавшиеся их правительством в 11 с лишним миллиардов долларов, СССР пришлось бы заплатить всю свою среднюю денежную массу в обращении, имевшуюся на 1-е полугодие 1945 г.
В действительности всё было гораздо хуже. Едва ли возможно определить настоящий «валютный курс» того времени, потому что в международной торговле ничего на советские рубли купить было нельзя. Советские деньги имели цену только внутри СССР и, по-видимому, для Монголии. Так что британские поставки СССР приходилось оплачивать золотом. При этом крупные советские заводы и их оборудование были американскими, закупленными у США до войны или поставленными по ленд-лизу.
Как тут не вспомнить 1-ю Мировую войну, когда, наоборот, Российская Империя давала взаймы союзникам, а жизнь внутри России текла тем же порядком, что и в мирное время. Многовековые хозяйственные русские устои были так сильны, что сохранялись и при Временном правительстве. Продвижение немецких войск до черты С.-Петербург – Москва – Северный Кавказ было немыслимо.
«Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать.
И мы это сделаем, если захотим этого по-настоящему». (О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. Июль 1930 – январь 1934. М. 1951. С. 41-42.)
Из концовки этой речи исторически запомнились образно только слова: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». Хотя следовало уяснить прямой смысл сказанного. Главное для большевиков было захватить власть и уничтожить всё ненравящееся и несогласных. Вот что для них являлось «самым важным с точки зрения строительства». Когда после нахождения 13 лет у власти они добились этого в общих чертах, их «вождь» провозгласил, что «осталось немного»: получить знания и умение. Заключительные слова речи свидетельствуют, что после того, как большевики «разрушили до основанья» старое, трудящиеся всё ещё не «захотели по-настоящему» строить большевицкий «новый мир» (в котором кто был никем, тот стал ничем).
Нравственная разница между США и СССР в том, что первые лгут, дабы изменить действительность под себя. А СССР лгал, чтобы действительность не воспринимать. Поэтому ни «догнать», ни, тем более, «перегнать» США в хозяйственном отношении СССР не мог. Он не сообразовывался с прикладной стороной дела.
Теперь в РФ справедливо возмущаются, что вместо развития собственного хозяйства деньги откладывались на Западе. Но ведь советская власть делала то же самое: вместо выделения средств колхозам и совхоза тратилась на покупку зерна в США и Канаде. Многие в РФ справедливо негодуют, почему такое преклонение перед долларом и евро, а рубль в пренебрежении у собственного правительства. Но ведь и в СССР главной составляющей экономической политики была «добыча валюты» для государства. (Уже забылось положение с сетью магазинов «Берёзка», когда советский гражданин оказывался в своей стране человеком второго сорта по сравнению с иностранцем.) Ради получения иностранной валюты Сталин продавал зерно в ущерб собственному населению, что привело к гибели миллионов граждан СССР от голода в 1932-33 годах. (Вот и «Украина» поступает теперь так же.)
Это советское наследие и поныне имеет у нас место, когда главными являются идеологические прихоти, а не правда. В итоге до сих пор зависим от США и доллара, ничего не значивших для Царской России.
«Не знаю, какъ будетъ при васъ, а при насъ ни одна пушка въ Европѣ безъ позволенiя нашего выпалить не смѣла». (Канцлер светлейший князь Александр Андреевич Безбородко). С 1945 г. в Европе господствуют США.
Антон Павлов,
25-05-2022 00:23
(ссылка)
Русская и советская артиллерия.
В 1-ю Мировую войну главной обеспечивающей силой наступления была артиллерия. Во 2-ю броневые войска. Теперь из-за развития противотанковых средств пехоты вновь возросло значение артиллерии.
Русская артиллерия стреляла по целям.
В Царской России артиллерия всегда была отборным родом оружия. Уже во 2-й половине XVII века наряд (артиллерия) действовал гораздо современнее, чем во многих случаях нынешняя артиллерия XX-XXI веков. Например, во время 1-го Чигиринского похода, 26 августа 1677 г., пушечным огнём была обеспечена ночная переправа с боем через Днепр. При этом русские пушкари вели прицельный огонь с другого берега Днепра на слух: «Августа [26]. ...другой берег, они решительно напали на турецкие дозоры, согнали их с постов и, отрядив некоторых на схватку с врагом, немедля взялись за лопаты и заступы, чтобы окопаться. Татар, наседавших с ужасным криком и усиливших своё "Ольда!" и "Алла!", так приветствовали с другого берега пушками, стрелявшими на шум, что те предпочли умолкнуть, и [турецкая] пехота (около 200 стоявших там дозорных) после получасовой перестрелки при своём отходе, тоже замолчала. Так, с потерей 8 или 10 человек, эта позиция была взята.
Остаток ночи был использован для переправы других солдат. Кое-кто из них, наполнив большую лодку, едва не погиб; она дала огромную течь и затонула, однако находившиеся там люди и 2 орудия были спасены другими лодками, что оказались рядом. Боярин [и воевода князь Григорий Григорьевич Ромодановский – А.П.] не покидал берега реки и не отводил полков, пока не убедился, что на другой стороне обезопасили себя от внезапной атаки или приступа, приспособив траншеи к обороне с помощью габионов, фашин и всего, что обычно на такой песчаной почве». (Гордон П. Дневник 1677-1678. М.: «Наука», 2005. С. 13.)
В Германии исторически было иначе: «По своему социальному происхождению офицеры, служившие в инженерных войсках и тем более в артиллерии, отличались от офицеров пехоты и кавалерии так же сильно, как и в XVIII веке. В последней группе преобладали аристократы, а в первую чаще всего попадали «сыновья почтмейстеров, сборщиков налогов, студентов-переростков и т.д. Артиллерия была благодатной питательной средой для всех, кто не мог попасть на какую-либо другую службу». Фон Хана, генерального инспектора артиллерии, такая ситуация очень огорчала, и он считал себя обязанным попытаться поднять социальный престиж артиллерии. Для этого он дал своим подчинённым приказ ужесточить требования к кандидатам в офицеры, включая и социальное происхождение. Эти усилия принесли свои плоды, и в последние годы перед Первой мировой войной артиллерия стала одним из самых уважаемых родов войск. Артиллеристы считали себя гораздо умнее и образованнее пехотных офицеров». (Деметр К. Германский офицерский корпус в обществе и государстве 1650-1945. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 31-32.)
Перед 1-й Мировой войной в России: «В артиллерии больного генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Николаевича заменил его сын – великий князь Сергей Михайлович, ставший с 1905 года генерал-инспектором всей артиллерии. ... Знаток своего дела, чрезвычайно требовательный и часто неприятный начальник, он знал достоинства и недостатки каждого из сотен дивизионных и батарейных командиров, а зачастую и старших офицеров. От всех их он сумел добиться подлинной виртуозности в стрельбе – и наши виленские бригады своим огнём на полях Гумбиннена изменили ход Мировой войны». (Керсновский А.А. История Русской Армии. М.: «Голос». Т. 3. 1881–1915 г.г. 1994. С. 139.)
7/20 августа 1914 г.: «Гyмбиннен родил Марну – геройские полки и батареи 25-й и 27-й дивизий своей блестящей работой на гумбинненском поле решили участь всей Мировой войны!». (Там же. С. 187.)
Во время Великой войны: «В равных силах германская артиллерия ничего не значила перед нашей. В полуторном получалось устойчивое равновесие. В двойном – что было обычным явлением – наша артиллерия выходила с честью из неравного и тяжёлого поединка. Для решительного успеха немцам надо было сосредоточивать по меньшей мере тройное количество батарей». (Керсновский А.А. История Русской Армии. М.: «Голос». Т. 4. 1915–1917 г.г. 1994. С. 231.)
9 сентября 1914 г., Восточная Пруссия. 1-й Сумской гусарский полк 1-й кавалерийской дивизии генерала В.И. Гурко: «За нашим эскадроном стояла пехотная батарея из восьми трёхдюймовых орудий. Бой шёл, не затрагивая нас, исключительно на правом фланге. Пренебрегая традициями «славной школы» [Николаевского кавалерийского училища – А.П.], я крутился на батарее, с интересом наблюдая за действиями орудийного расчёта и командира. В какой-то момент немцы, очевидно, решили, что «нащупали» нашу батарею, и открыли ураганный огонь. Их расчёт не оправдался: снаряды улетали метров на четыреста дальше цели. Командир батареи мгновенно воспользовался оплошностью немцев и скомандовал:
– Три орудия, пли!
Три орудия вели огонь, три молчали. Немцы «заглотили наживку». Они решили, что три орудия вышли из строя, и принялись с ещё большим энтузиазмом стрелять в том же направлении. Через пару минут командир батареи приказал замолчать ещё двум орудиям. Теперь только одно орудие продолжало стрелять, а скоро и оно замолчало. Немцы решили, что уничтожили батарею, и, даже если у русских осталось одно орудие, они уже не могут представлять серьёзную опасность.
Тут меня позвали в эскадрон. Наши разведчики сообщили о сосредоточении напротив нас немецкой кавалерии и пехоты. Предполагалось, что наступление нацеливается на наш левый фланг. Действительно, не прошло и десяти минут, как замолчала наша батарея, а перед нами появились два немецких эскадрона. Возможно, они не подозревали о нашем присутствии и собирались захватить то, что осталось от замолчавшей батареи. Мы подпустили их поближе и открыли огонь. Немцы в панике бежали, оставляя на земле солдат и лошадей. Однако немецкая пехота тут же начала наступательный марш на наши позиции, но тут «умершая» батарея вернулась к жизни и с нашей помощью заставила немцев отступить». (Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911–1920. М.: «Центрполиграф», 2006. С. 164-165.)
1914 г., Кавказский фронт: «Воспользовавшись ещё не совсем рассеявшимся туманом, противник на участке елизаветпольцев подошёл вплотную, но после штыковой схватки был отброшен на своё исходное положение.
Кубинцы хотя на сей раз ограничились только огнём, но потери их были большие. Как весь день 25 октября, так и утром 26 октября они опять расстреливались противником с командующей над нами высоты. Как бы в отместку за неудачу, противник, казалось, ещё сильнее развил огонь артиллерии.
Наши две горные пушки геройски оборонялись. Находясь немного ниже цепей на небольшой площадке у самой пропасти, они беспрестанно подскакивали, выбрасывая снаряды. Но что могли они поделать, когда артиллерия противника превосходила их во много раз.
Чтобы понаблюдать за полем противника, я поднялся на артиллерийский наблюдательный пункт, расположенный также невдалеке от нас. Признаюсь, удовольствие было не из приятных. Очевидно, противник, заметив пункт, всё время держал его под огнём.
Ответив на моё приветствие, командир батареи полковник Роде пробормотал:
– Черти всегда найдут – уже третий раз меняю пункт, – и дальше спокойным голосом подавал команды через телефониста.
– Ваше высокоблагородие, нет связи, опять турок порвал, – проговорил телефонист.
– Старая история, беги поправь, да поживей, – сказал подполковник. Через несколько минут связь восстановлена, и опять среди гула и треска разрывов то же спокойствие, те же команды.
«Фаталист или железные нервы, – подумал я, – но такие люди нужны войне». (Левицкий В.Л. На Кавказском фронте Первой мировой. Воспоминания капитана 155-го пехотного Кубинского полка. 1914–1917. М.: «Кучково поле», 2014. С. 35-36.)
Для возможности навьючивания на лошадь русские 3-дюймовые (76,2 мм) горные пушки образца 1909 г. были короче и легче русской 3-дюймовой скорострельной лёгкой полевой пушки обр. 1902 г. Оба орудия стреляли одинаковыми боеприпасами.
Из воспоминаний генерала Петра Николаевича Краснова, командовавшего в указанное время 3-й бригадой (полки Черкесский и Ингушский) Кавказской Туземной дивизии (она же «Дикая дивизия»). 29 мая 1915 г., левый берег Днестра: «Въ двѣнадцать часовъ, далеко за рощей ударила пушка и бѣло-оранжевымъ мячикомъ разорвалась шрапнель нѣсколько дальше окоповъ съ ополченцами. За нею сейчасъ же другая, третья, четвертая. Двѣ батареи Австрiйцевъ съ того берега Днѣстра сосредоточили огонь по окопамъ. И было видно, что онъ не наносилъ намъ вреда, потому что трудно было попасть въ еле примѣтную линiю окопа.
— «Смотрите, смотрите... ополченiе... Ахъ, подлецы» — услышалъ я взволнованный крикъ на перронѣ [ж.-д. станции Дзвиняч – А.П.].
Длинная цѣпь сѣрыхъ рубахъ поднялась изъ окопа и, колеблясь въ солнечныхъ лучахъ, быстро шла къ станцiи.
Не помня себя, я вскочилъ на лошадь и въ сопровожденiи браваго черкеса-урядника, поскакалъ къ нимъ.
— «Что вы дѣлаете! назадъ! Въ окопы, въ окопы!
— «Шалишь, Ваше превосходительство, вишь, какъ палитъ. Рази-жъ можно!» — проговорилъ блѣдный широкоплечiй мужикъ, подходившiй ко мнѣ.
— «Назадъ! Великiй Князь [Михаил Александрович, брат Императора – А.П.] за вами! Какъ вамъ не стыдно! Негодяи!»
Не помню уже, что я кричалъ имъ. Но кричалъ что-то и о присягѣ, и ближайшiе повернули назадъ.
— «Господа офицеры, впередъ!»
Вся цѣпь повернулась и пошла въ окопы. Я постоялъ на полѣ, пока всѣ не легли въ окопъ. Мнѣ предстояла болѣе трудная задача — шагомъ уѣхать назадъ. Такъ требовали долгъ и приличiе военной службы. И выучка помогла въ этомъ. На перронѣ ожидало прiятное извѣстiе. Юзефовичъ [начальник штаба дивизии – А.П.] прислалъ конногорную батарею. Звуки ея выстреловъ скоро ободрили ополченцевъ. Но наше горе было въ томъ, что снаряды горныхъ пушекъ не долетали до Австрiйских батарей, а пѣхотныхъ цѣлей не было видно.
Я сообщилъ объ этомъ Юзефовичу по телефону.
— «Сейчасъ посылаю 17-ую конную батарею».
Прошло около часу. Изъ ополченческихъ окоповъ все время неслись по телефону жалобы, что ополченцы не могутъ держаться. У нихъ появились раненные и убитые. Я посылалъ къ нимъ пешкомъ полковника Мерчуле и князя Грузинскаго успокаивать ихъ, но понималъ, что лежать въ окопахъ, когда васъ безнаказанно обстрѣливаютъ артиллерiйскимъ огнемъ, — не легко.
Во второмъ часу дня показалась и конная батарея.
Остановивъ орудiя за станционнымъ зданiемъ, на ржаномъ полѣ, командиръ батареи выѣхалъ ко мнѣ, чтобы получить задачу.
Очень жаль, что память не сохранила фамилiю этого лихого, типичнаго, русскаго конноартиллериста. Стройный, худощавый, съ маленькой черной бородкой, со смѣлыми, умными глазами, изящно одѣтый, онъ явился съ уставнымъ рапортомъ о прибытiи «въ распоряженiе».
Я указалъ ему, что для того, чтобы удержать ополченцевъ въ окопахъ, необходимо остановить огонь Австрiйскихъ батарей.
Блестки выстрѣловъ Австрiйскихъ пушекъ были отчетливо видны. Командиръ осмотрѣлся. Выѣзжать приходилось открыто, но маленькiй логъ давалъ возможность поставить батарею, по два орудiя, въ двухъ мѣстахъ.
Едва батарея показалась изъ-за станцiи, какъ противникъ сосредоточилъ по ней огонь. И здѣсь я своими глазами увидѣлъ то, о чемъ читалъ когда-то и училъ въ Русской военной исторiи, и что многiе считали теперь невозможнымъ. Подъ сосредоточеннымъ огнемъ австрiйских батарей, осыпаемые шрапнельными пулями, какъ на какомъ то лихомъ смотру мирнаго времени, пыля и гремя, полнымъ карьеромъ понеслась впередъ батарея, разворачиваясь на два взвода. Видно было въ облакахъ пыли и въ дыму низко рвущихся непрiятельскихъ шрапнелей, какъ круто заворачивали уносы, чисто равняясь, и прыгали за ящиками наклонившiяся пушки. Слѣзали на ходу номера. Сверкала въ пыли на воздухѣ чья то шашка, подававшая знаки, и сейчасъ же тяжело, вѣско грянулъ выстрѣлъ, загудѣлъ нашъ снарядъ и разорвался надъ австрiйской батареей.
Австрiйския пушки примолкли, и только наши грозно гремѣли, заставляя непрiятельскую орудiйную прислугу прятаться.
Между нашихъ орудiй валялись убитыя лошади, отъ нихъ рысью отходили передки и коноводы съ лошадьми номерныхъ, и нѣсколько солдатъ несли накрытые палатками тѣла убитыхъ командира батареи и фейерверкера перваго орудiя.
Прочно лежали ободрившiеся окончательно ополченцы.
«Сам погибай, а товарища выручай».
Этотъ принципъ былъ въ Русской Армiи прочно усвоенъ. Войска щеголяли другъ передъ другомъ, соперничая во взаимной поддержкѣ, а прекрасная выучка частей дѣлала то, что и невозможное становилось возможнымъ». (Красновъ П.Н. Памяти Императорской Русской Армiи. // Русская лѣтопись. Кн. V. Парижъ. 1923. Стр. 40-42.)
«177 Петръ КРАСНОВЪ
Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя 29 Мая 1915 г. въ аріергардномъ бою у г. Залещики, отрядомъ изъ 214 и 215 ополченскихъ дружинъ, одной роты 211 дружины, Черкесскимъ, Ингушскимъ, Дагестанскимъ и Кабардинскимъ Конными полками, одной сотней Татарскаго Коннаго полка, 3-имъ и 4-ымъ Заамурскими конными полками 1-ымъ Уральскимъ полкомъ, при 7 конныхъ и 4 Конно-горныхъ орудіяхъ, весь день сдерживалъ натискъ превосходныхъ силъ непріятеля, а когда вечеромъ непріятель прорвалъ расположеніе наше, атаковалъ прорвавшія части въ конномъ строю 4-мя сотнями Заамурцевъ, смялъ и опрокинулъ ихъ и прогналъ за Днѣстръ, при чемъ около 100 человѣк взялъ въ плѣнъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 1 Августа 1914 г. у г. Лобича личнымъ примѣром, подъ огнемъ противника увлекая спѣшенныя сотни 10-го Донского Казачьяго полка, выбилъ непріятеля изъ Ж. — Д станціи, занялъ станцію Любича, взорвалъ Ж. — Д. мостъ и уничтожилъ станціонныя постройки». (Альбомъ кавалеровъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгiя и Георгiевскаго оружiя. Бѣлградъ. 1935. Стр. 119.)
https://cloud.mail.ru/publi...
Даже в Великую войну, когда значительно увеличилось число офицеров военного времени, в русской артиллерии требования к военно-техническому образованию оставались по-прежнему очень высоки. «В полку [6-м Финляндском стрелковом — А.П.] имелась ещё третья категория офицеров, произведённых из фельдфебелей и сверхсрочных унтер-офицеров. Пешими разведчиками заведывал прапорщик Сметанка. Лет двадцать он прослужил фельдфебелем гвардейской батареи, прекрасно знал артиллерийскую стрельбу, вел себя в боях блестяще, был лично известен многим высоким особам мира сего. Все к нему благоволили, но этика не только гвардейской, но и армейской артиллерии почему-то исключала возможность производства в артиллерийские офицеры этого очень достойного, но лишенного «манер» и внешнего культурного лоска бойца. В результате мне предложили, не возьму ли я Сметанку в свой полк, с производством в прапорщики. Я согласился; потеряла только артиллерия, в которой многие командиры батарей были значительно слабее Сметанки. Однажды, глубокой осенью 1916 г., он с моими разведчиками выследил идеально замаскированную австрийскую батарею, стоявшую почти в линии пехотных окопов, соединился по телефону с нашей батареей, попросил выполнять его команду и вдребезги разбил австрийскую батарею. Когда этот разгром совершился и остатки разбитой батареи стали ясны и нашим артиллеристам, они поражались искусству офицеров 6-го полка даже в артиллерийской стрельбе». (Свечин А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914-18 гг. Т. 1. М.-Л. 1930. С. 42.)
1918 г., Кубань: «Я решил пробиваться через Ставропольскую губернию на соединение с генералом Деникиным. Тут я получил известие о том, что из Баталпащинской, с целью окружения меня, движутся два отряда. Один идёт прямо на Бекешевскую, другой, по лесным дорогам, через станицу Усть-Джегутинскую и Белый ключ. Я решил разбить каждый отряд порознь, атаковав первоначально Усть-Джегутинскую колонну; оставив с этой целью пластунскую бригаду на позиции у Белого ключа, выслал казачью лесными тропинками в тыл приближающейся красной колонне.
Утром 20 июня разъезды донесли, что красные подходят. Два батальона пластунов я оставил в резерве, а два других в боевой линии. Большевики открыли сильный артиллерийский огонь и пошли пехотой в атаку. Мои бомбомёты, расположенные на горах, метко били по красным цепям, как только они приближались шагов на тысячу. Не будучи в состоянии добиться успеха фронтальной атакой, большевики пробовали принимать охватывающее положение, что не представляло особых трудностей, ибо местность была весьма лесистая и овражистая. Имея резерв, я отвечал им тем же. С переменным успехом бой длился уже более полудня. Я начал волноваться, ибо, как действующий по внутренним операционным линиям, не мог держать свои руки связанными. Вдруг, около двух часов дня, красные стали отступать, предупреждённые, видимо, кем-то о движении на их тыл, предпринятый моей конницей. Взяв горский конный дивизион и в сопровождении своего конвоя, я бросился лесными тропами на поиски дивизии. Нашел её стоящей и спешенной в лесу. Оказывается, что Солоцкий заблудился. Выслав тотчас же разъезды, я обнаружил, что артиллерия противника уже проскочила обратно; пехота же как раз в это время двигалась мимо дивизии, в 2-3 верстах от её стоянки. Я бросил тотчас же один конный полк к станице Джегутинской для захвата обозов колонны, остальные же три полка направил в пешем строю в атаку, во фланг проходившей мимо красной пехоты. Атакованные внезапно красноармейцы бросились врассыпную; многие были перебиты, однако значительной части пехотинцев удалось рассеяться по лесам. Как я узнал впоследствии, в Баталпашинскую после этого боя прибыло до 400 раненых.
Ворвавшийся в Усть-Джегутинскую мой конный полк захватил все обозы и зарядные ящики; нам досталось порядочное количество хлеба, фуража и до 30000 патронов». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Глава 13. С. 145-146.)
27-28, 29 сентября 1919 г., Саратовская губерния: «Вечеромъ мы оставили Ерзовку и двинулись впередъ безъ дорогъ, въ направленiи высоты съ отмѣткой 471, что на линiи Пичужинскихъ хуторовъ. Ночевали мы на каких-то высотахъ въ старыхъ, но прекрасно выбранныхъ окопахъ. Утромъ из нашихъ окоповъ видно было буквально на 8–10 верстъ. Зато и насъ было хорошо видно съ Волги.
Начался день такъ: группа нашихъ офицеровъ, во главѣ съ командиромъ полка, полковникомъ Ивановым, стояла съ двумя командирами батарей — легкой и гаубичной. О чемъ то спорили, шутили. Батареи наши стояли тутъ же за скатомъ. Кто то обратилъ вниманiе, что съ высотъ со стороны противника спускается группа конныхъ. Конные приближались. Когда сомнѣнiй не было, что это красные, сила которыхъ оцѣнивалась въ полуэскадронъ, рѣшено было дать выйти имъ на гладкое мѣсто. Командиръ гаубичной батареи на минуту скрылся. Вдругъ прогремѣлъ первый выстрѣлъ. Бомба разорвалась очень удачно, но красные не обратили на это особеннаго вниманiя и продолжали идти шагомъ. Тогда бѣгло заговорила вся батарея. Картина получилась рѣдкая. Какъ пыль разлетѣлись всадники, а между ними то тамъ, то тутъ грозными черными столбами взметались рвущiеся снаряды. Обезумѣвшiе кони, потерявъ сѣдоковъ, неслись во всѣ стороны. Это зрѣлище промелькнуло и исчезло. Началось болѣе внушительное. Весь крутой и высокiй берегъ рѣчки Пичуги вдругъ покрылся людьми. Насколько хватало глазъ, можно было видѣть ряды густыхъ цѣпей, сопровождаемыхъ безконечнымъ количествомъ тачанокъ. Я досчиталъ до сорока и бросилъ считать, ибо появлялись все новыя и новыя. Всѣ наши батареи открыли огонь. Справа въ 100 саженях примостился наблюдательный пунктъ какой то Кубанской батареи и пошла канонада. Мы въ этомъ ужасномъ для красныхъ бою были только зрителями. Работала исключительно артиллерiя. Красные ложились, вставали, сбивались въ кучу, то бросались назадъ, а артиллерiя, не переставая, поддерживала губительный огонь. И трудно было сказать, что нужно было: радоваться или плакать... Ведь гибли русскiе. Красные тоже въ долгу не оставались и ихъ судовая артиллерiя все время старалась поддержать свои наступающiя части. Наши артиллеристы въ этотъ день понесли потери, мы же отдѣлались только „испугомъ“: подъ одну из наших тачанокъ попалъ снарядъ, но не разорвался.
Въ этотъ день бой выиграла наша отличная артиллерiя. Ночью намъ было приказано перейти еще лѣвѣе, и остановиться на высоте 471. Накрапывалъ осенний дождь; утро было столь туманно, что въ 20 шагахъ ничего не было видно.
/.../
Въ полдень, когда туманъ немного разсѣялся, противникъ пытался нерѣшительно наступать, но тотчасъ былъ отбитъ нашей артиллерiей. Простояли мы на этомъ памятномъ мѣстѣ три дня. Холода давали себя чувствовать». (Поповъ К. Воспоминанiя Кавказскаго гренадера 1914–1920. Бѣлградъ. 1925. Стр. 261-262, 264-265.)
Здесь могут сказать, что артиллерия естественно должна была взять верх в подобном случае. Как показывает история, русская – да, но не любой страны:
«27 † Баронъ Петръ ВРАНГЕЛЬ
Генерал-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Ротмистромъ Л.-Гв. Коннаго полка, въ бою 6 Августа 1914 г. подъ Краупиштеномъ выпросивъ разрѣшеніе бросился съ эскадрономъ на батарею противника, стремительно произвелъ конную атаку и несмотря на значительныя потери, захватилъ 2 орудія, при чемъ послѣднимъ выстрѣломъ одного изъ орудій подъ нимъ была убита лошадь,
Награжденъ Георгіевскимъ оружіемъ». (Альбомъ кавалеровъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгiя и Георгiевскаго оружiя. Бѣлградъ. 1935. Стр. 100.)

1914 г.: «В начале ноября под Радомом я, вместе с донцами, взял много пленных, орудия, пулемёты, и получил за это Георгиевское оружие». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Глава 2. С. 59.) «Приказом войскам 4-й армии Юго-Западного фронта за № 413 от 29 января 1915 г. подъесаул Шкуро «за то, что 5 и 6 ноября 1914 года у дер. Сямошице, подвергая свою жизнь явной опасности, установил связь между 21-й и 75-й пехотными дивизиями, а с 7 по 10 – между 21-й пехотной и 1-й Донской казачьей дивизиями», согласно Георгиевскому статусу, был награждён Георгиевским оружием». (Дерябин А.И. Крестный путь казака Андрея Шкуро. // Там же. С. 7-8.)
1917 г.: «В начале августа я прибыл в Сенэ, в распоряжение начальника Курдистанского отряда генерала Гартмана и получил от него приказание выбить турецкие таборы, успевшие занять позиции восточнее Гаранского перевала; турки старались сбить нас с него. Я выдвинул разведку, которая, путём расспросов местных жителей, выяснила, что существует горная тропинка, обходящая турецкие позиции. На рассвете 15 августа 1-я сотня моего отряда, под командой подъесаула Прощенко, двинутая по этой тропинке, успешно обошла турок и сбила их заставы. Следовавшие за сотней на вьюках горные орудия изрядно обстреляли турок; пользуясь их переполохом, я развернул свой батальон в атаку. Турки в панике бежали, бросая пулемёты и пушки. Казаки преследовали их до ночи, забирая пленных и трофеи, и вышли в Мериванскую долину. Мы укрепились на отвоёванных позициях...
/.../
Явившись в Хамадан, в штаб корпуса, я узнал, что за Гаранское дело произведён в полковники и назначен командиром 2-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, оставаясь одновременно командиром своего партизанского отряда. Кроме того, Кавказская георгиевская дума присудила мне офицерский Георгиевский крест, но я не ношу его, ибо награждение это не могло до сего времени быть санкционировано Всероссийской георгиевской думой. Мои партизаны, в свою очередь, пользуясь новыми правилами, присудили мне солдатские георгиевские кресты 4-й и 3-й степени». (Шкуро... Записки белого партизана. Глава 6. С. 79, 81.)
Большевики разрушили и эту часть старого мира «до основания». (Заодно расстреляли пошедшего к ним на службу цитировавшегося выше Свечина. Как заявлено в татуировке вышедшего с «Азовстали» укра: «Всех убить. Все отнять».).
Лётчик Тхор Г.И. в записке от 8 февраля 1937 г. о действиях советских и республиканских частей в Испании указывал: «Под хорошей организацией боя я понимаю своевременное, смелое и тактически правильное введение в действие всех средств борьбы при чётком их взаимодействии, чтобы не получалось то, что каждый род оружия воюет как бы для себя, часто изолированно один от другого. К примеру, авиация громит позиции противника, а пехота восхищается этим и ни шагу вперёд; или авиация бомбит морские силы противника, а своих морских сил и близко нет. И ещё хуже, когда такое, с позволения сказать, взаимодействие получается у пехоты с танками и артиллерией». (РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. Сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА. Т. 2. Сборники № 16–31. М.: РОССПЭН, 2020. С. 112.)
В отчёте «товарища Воронова» о боевых действиях артиллерии на харамском участке в феврале 1937 г. указывалось: «Опыт последних боёв показал, что при хорошей дисциплине у противника его огневые средства быстро зарываются в землю, хорошо маскируются и не выдают себя до начала боевых действий. Особенно трудно найти и подавить противотанковые орудия – грозное оружие, умело применяемое противником против республиканских танков. Подавление орудий ПТО у противника во время артиллерийской подготовки в таких условиях является делом случая, танки сами бороться с этими орудиями, хорошо зарытыми в землю на пересечённой местности, бессильны. Выдвигать за танками отдельные орудия сопровождения полевой артиллерии невозможно из-за сильного пулемётного огня и огня отдельных орудий ПТО противника. Представляется странным, что танк в броне бороться с орудиями ПТО бессилен, а орудия сопровождения без брони в зоне действительного пулемётного огня действовать должны, и в теории это как будто возможно.
Проблема обеспечения артиллерийским огнём танковой атаки огневым валом должна быть проверена в будущих операциях. Проверить это на р. Харама не удалось из-за неподготовленности к этому артиллерии.
Я лично считаю на основе последних боёв, что и огневой вал полностью задачи обеспечения танковой атаки не разрешит, особенно на пересечённой местности.
Считаю, что понижение видимости орудий ПТО противника может обеспечить боевую работу танков, что и имело место в туманные дни и вечерние сумерки. В наших же условиях эту задачу может успешно разрешить дымовая завеса, поднимаемая после окончания артиллерийской подготовки с началом атаки пехоты с танками.
/.../
Проблему наблюдения за стрельбой по батареям противника приходится признать неразрешённой. Массовые воздушные бои и работа зенитной артиллерии показали всю трудность и невозможность работы самолёта-корректировщика, в лётные дни также невозможна работа и аэростатов. Прикрытие их истребителями – дело весьма условное при существующей технике авиации и тактике действий авиации противника.
/.../
Для подавления батарей противника, скрытых от наземного наблюдения, видимо, в значительной мере придётся рассчитывать на звукометрию со стрельбой по площади и с большим расходом боевых выстрелов». (Там же. С. 185- 187.)
То есть, по советскому обычаю, отсутствие качества предлагается заместить количеством.
Здесь, забегая вперёд, следует сказать о распространённом заблуждении, будто в 1941 г. Красная армия ещё не умела хорошо воевать, но потом научилась и стала «громить врага». Это неверно. Советская система ни при каких обстоятельствах не поддаётся улучшению, свои пороки она возмещает их количеством. Во-первых вообще, самые большие безвозвратные потери танков, САУ и самолётов Красная армия понесла в 1944 г. Во-вторых в частности, из следующего примера можно видеть, что с февраля 1937 г. по весну 1945 г. по сути ничего не изменилось: «В это время заговорила наша полковая артиллерия. Шурша над головами, снаряды летели в сторону фольварка. Было хорошо видно разрывы. Они ложились близко друг от друга сплошной стеной, как раз по той полосе, где у немцев были сосредоточены огневые точки. Такая «симфония» радовала и придавала нам больше уверенности в том, что немцы не смогут устоять перед нашим натиском. Верилось, что атака будет успешной. Эти последние минуты тянулись так долго, что это мучительное ожидание переходило в нетерпение.
Наконец, я услышал в шлемофон условный сигнал атаки: «Клены-777». Это означало, что настало время двигаться вперёд.
В триплекс я видел, что наши снаряды изрядно перепахали окраину фольварка, но что уничтожено, а что осталось и может заговорить – это было ещё под вопросом. ...
Меняя позиции скачками от одного укрытия к другому, сделали несколько удачных выстрелов.
Ребята из стрелковой роты, которые действовали вместе с нами, а точнее, мы их поддерживали, жались к самоходке и, ободренные нашим удачным огнём, рванулись вперёд. Справа тоже дела шли успешно. До фольварка оставалось не более двухсот метров.
В этот момент сильный удар по броне остановил самоходку, и пламя из бензиновых баков охватило всю машину. Силой вспышки меня вышвырнуло на обочину дороги, рядом с которой тянулась небольшая канава.
/.../
Мое лицо тоже горело, и я ощущал, что мне как будто на голову, и особенно на лицо, всё время кто-то льёт горячий кипяток. Руки были все в грязи, и, может быть, поэтому они не ощущали ожогов, холодная грязь в какой-то мере успокаивала боль. Меня мучила одна мысль: откуда же по нас выстрелили из пушки? А в том, что это было именно из пушки, сомнений не было. Неужели не все высмотрели? Было обидно и стыдно. Обидно, что так глупо и нелепо получили болванку, а стыдно – что не могли оправдать доверие командира». (Горский Г. Записки наводчика СУ-76. Освободители Польши 1944–1945. М.: «Центрполиграф», 2010. С. 160-161, 163.)
То есть, невыявленные и неподавленные противотанковые орудия по-прежнему, как и в Испании, поражали наступавшую советскую бронетехнику, несмотря на предварительную артиллерийскую подготовку по, вроде бы, разведанным целям. Отличие было в том, что теперь с советской стороны наступали миллионы людей и десятки тысяч единиц техники.
1937 г. внутри СССР (ОКДВА – отдельная краснознамённая дальневосточная армия, КВО – киевский военный округ, БВО – белорусский). Командиры и штабы:
Для первой половины 1937 г. их выучка источниками подробно освещается лишь по ОКДВА. Поэтому ниже речь пойдёт прежде всего о ней.
Стрелково-артиллерийская выучка. Согласно «Материалам по боевой подготовке артиллерии», подготовленным в апреле 1937 г. в штабе ОКДВА или в аппарате начальника её артиллерии для составления отчёта начальника штаба армии от 18 мая, стрелково-артиллерийская выучка комсостава артиллерии ОКДВА весной 1937-го была «удовлетворительной», но «чрезвычайно элементарной». Командиры справлялись лишь с теми стрелковыми упражнениями, которые проводились в простых условиях, при хорошей видимости и «терялись» в сложных (плохое наблюдение, крестящий веер, отрыв одного снаряда и т.д.)». Стрельба на поражение по ненаблюдаемым целям, добавлял июльский приказ Блюхера об итогах зимнего периода обучения 1936/37 учебного года, вообще не была отработана (и неудивительно: применяемыми здесь аналитическими методами подготовки исходных данных овладело лишь «незначительное количество командиров»). Соответственно, артиллерия Блюхера не могла метко стрелять на том театре, на котором ей предстояло действовать: ведь в горно-таёжных районах Приамурья, Приморья, Маньчжурии и Кореи хорошие условия наблюдения целей, ориентиров и разрывов встречались крайне редко... Кроме того, командиры не умели стрелять ночью. Проводившиеся на учениях ночные стрельбы на средние и близкие дистанции, отмечал 26 мая 1937 г. на 3-й партконференции ОКДВА заместитель Блюхера комкор М.В. Сагнурский, «показали достаточную, выражаясь мягко, неподготовленность наших артиллеристов к этому делу».
Не было отработано и огневое сопровождение атаки танков, а ведь война в Испании, подчеркнул Сангурский, уже показала, что без артиллерийской поддержки атакующие танки несут очень крупные потери и терпят неудачу.
Младший комсостав полковой артиллерии, продолжали опровергать выставленную ими «тройку» составители «Материалов по боевой подготовке артиллерии», подготовлен слабо (из-за чего неудовлетворительно подготовлена и полковая артиллерия в целом: ведь «основной контингент стреляющих» в ней составляют именно младшие командиры).
В приказе же командующего Приморской группой командарма 2 ранга Федько № 075 от 8 марта 1937 г. отмечалось, что на проведённом в группе состязании батарей слабую стрелково-артиллерийскую выучку выказал и комсостав (не только младший) всей остальной артиллерии – и дивизионной, и корпусной, и артиллерии РГК. (Напомним, что бòльшая часть артиллерии ОКДВА входила именно в Примгруппу). А в июльском приказе Блюхера утверждение о «тройке», якобы заработанной здесь к маю командирами-артиллеристами ОКДВА, дезавуировалось уже прямо: «Большинство комсостава (в том числе и командиров батарей) в стрелковом отношении подготовлены слабо».
В справедливости этой последней оценки нас убеждают, в частности, те же результаты мартовского состязания батарей Примгруппы. Из участвовавших в нём трёх батарей артиллерии РГК с пристрелкой комсостав справился только в одной (выставленной 187-м артиллерийским полком РГК). Стрелково-тактические задачи из примерно 40 батарей даже на «тройку» сумели решить только в трёх (выставленных артдивизионом 78-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии и 165-м и 199-м артполками РГК); все остальные показали «неудовлетворительные результаты». Ни одна из пушечных батарей дивизионной артиллерии – в том числе и из-за слабой стрелково-артиллерийской выучки комсостава – не справилась ни с одной из стрельб (уступив здесь даже полковой артиллерии, где из 27 батарей одна – из состава артдивизиона 94-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии – выполнила все три стрельбы, а ещё две батареи – по одной из трёх). За глазомерное определение расстояний (этот «важнейший вид подготовки артиллерии») всего лишь «приближающиеся к удовлетворительным» оценки и то смог получить комсостав только трёх батарей – из состава артдивизиона 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, 26-го артполка 26-й стрелковой дивизии и 199-го артполка РГК.
В 21-м артполку 21-й стрелковой дивизии той весной служили и такие командиры, которые и за полную и за сокращённую подготовку данных для стрельбы ухитрялись получать 0 баллов – притом что даже «тройку» ставили только при 60.
«Артиллерия армии, – отмечалось в упомянутых выше «Материалах по боевой подготовке артиллерии» ОКДВА, – отстаёт от артиллерии европейских округов РККА в вопросах стрелково-артиллерийской культуры». Однако, ознакомившись летом 1937 г. со вновь вверенными ему войсками КВО, бывший командующий Примгруппой ОКДВА Федько выявил факты, указывавшие на то, что, по крайней мере, в Киевском округе эта культура была тогда не выше, чем у дальневосточников. Из выступления Федько на заседании Военного совета при наркоме обороны 21 ноября 1937 г. следовало, что при Якире артиллерия КВО, так же, как и в ОКДВА, была «приучена» стрелять только «по прекрасно видимым мишеням» (которых в боевой обстановке встретиться почти не может) и не умела стрелять ночью. А работа комсостава якировской артиллерии на дивизионных учениях в июне 1937-го? Когда, рассказывал на Военном совете Федько, проверяешь перед их началом, как артиллерия подготовилась к поддержке танков и пехоты, то обнаруживаешь «сплошь и рядом, что пушки смотрят не в ту сторону, куда нужно, что артиллеристы не могут ориентироваться на местности по тем схемам разведданных, которые получены от разведывательных батальонов, наблюдательные пункты выбраны так, что они прекрасно видны со стороны противника», что «все артданные для поддержки пехоты и танков оказываются очковтирательными, показаны лишь на бумаге и не соответствуют действительной обстановке, поставленным задачам и местности». Столь наплевательское отношение к своим обязанностям никак не сочетается с высокой стрелково-артиллерийской культурой!
О стрелково-артиллерийской выучке комсостава артиллерии БВО за первую половину 1937 г. сведений обнаружить не удалось.
Тактическая выучка. Что до ОКДВА, то на сей раз составители «Материалов по боевой подготовке артиллерии» не стали ничего смягчать и прямо указали, что тактическую выучку комсостава артиллерии «следует признать неудовлетворительной».
На уровне командиров орудий это было особенно заметно в полковой, батальонной и противотанковой артиллерии – которой часто приходилось действовать поорудийно. «Младший комсостав не готовится к самостоятельным действиям, – отмечалось в посвящённом выучке этих видов артиллерии приказе командующего Примгруппой № 048 от 16 февраля 1937 г. – Слабы знания вопросов боевого применения отдельного орудия в различных видах пехотного боя. [...] Не удивляюсь, что вопросы взаимодействия до сих пор остаются слабым местом всех отрядных учений». О том же говорилось и в отчёте штаба ОКДВА от 18 мая 1937 г.: наиболее слабым местом взаимодействия родов войск являются действия орудий сопровождения танков и пехоты в наступлении. Слабость тактической подготовки младшего комсостава и полковой, и дивизионной, и корпусной артиллерии, и артиллерии РГК констатировал и приказ Федько № 075 от 8 марта об итогах состязания батарей Примруппы.
Об уровне тактической выучки командиров батарей весьма красноречиво, на наш взгляд, говорит факт, отмеченный в мае или июне 1937 г. в 181-м артиллерийском полку РГК: комбатры там не знали условного знака, обозначающего на карте батарею! Вместо нанесения двух поперечных чёрточек на знак, обозначающий отдельное орудие, «некоторые просто ставили» на карте «подряд 4 орудия». И это притом что в частях РГК служили наиболее подготовленные из командиров-артиллеристов.
Штабы дивизионов, артиллерийских групп и артиллерийских полков, прямо констатировалось в отчёте штаба ОКДВА от 18 мая, подготовлены неудовлетворительно; не подготовлены для управления боем и штабы начальников артиллерии 11 из 13 стрелковых дивизий ОКДВА (всех, кроме 12-й и 34-й). Соответственно, от артиллерии Блюхера и перед началом чистки РККА нельзя было ожидать умелого и своевременного массированного огня, да и вообще умелого управления огнём масс артиллерии.
Приказ нового комвойсками КВО Федько № 0100 от 22 июня 1937 г. (отнюдь, как мы видели, не преувеличивавший недостатков, имевшихся при прежнем командующем) позволяет заключить, что в первой половине 1937-го командиры-артиллеристы были тактически слабы и в КВО. «Комсостав всех степеней, – значилось в приказе, – не отработал главнейших вопросов взаимодействия с пехотой (конницей), танками и авиацией. Не отработаны вопросы организации и ведения разведки в процессе боя всеми средствами в условиях незнакомой местности. Слабо отработаны вопросы планирования и управления топографической разведкой и слаба подготовка по управлению огнём». Иными словами, артиллерия Якира даже перед началом чистки РККА не могла:
– ни во время боя обнаружить цели в динамично развивающемся современном бою;
– ни стрелять по ненаблюдаемым целям из-за неумения обеспечить стреляющего командира сведениями, позволяющими подготовить данные для стрельбы по карте);
– ни умело массировать огонь и маневрировать траекториями.
В документах частей и соединений удалось обнаружить лишь три свидетельства, проливающих свет на тактическую выучку комсостава артиллерии КВО в первой половине 1937-го, и все они вполне согласуются с нашим выводом о слабости этой выучки. Проэкзаменовав (соответственно 14–17 октября и 22–23 декабря 1936 г.) курсантов учебных дивизионов 15-го корпусного артиллерийского полка, поверочные комиссии (соответственно командира 15-го полка полковника И.И. Кушнира и помощника начальника артиллерии 15-го стрелкового корпуса майора В.И. Черниловского) обнаружили одно и то же: курсантам «недостаточно привиты навыки командования орудием и взводом»; «недостаточен практический опыт в [...] командовании отделением». А ведь в начале 1937-го проэкзаменованные были уже младшими командирами. Приказ же по 17-му стрелковому корпусу № 056 от 10 июля 1937 г. констатировал «особенно низкий уровень» подготовки штабов артдивизионов, этого важнейшего инструмента организации взаимодействия с пехотой и танками и массирования артиллерийского огня.
Осенью 1937-го точно такая же картина была и в БВО. «Командный состав артиллерии, – признавалось в годовом отчёте этого округа от 15 октября 1937 г., – в тактическом отношении подготовлен недостаточно.
Взаимодействие артиллерии с другими родами всех войск отработано слабо.
Недоработана техника и практика сосредоточения массированного огня.
На низком уровне разведка ненаблюдаемых целей, плохо с артиллерийским наблюдениям и разведкой». Поскольку, как мы видели в предыдущих разделах этой главы, все эти недостатки в БВО существовали и в 1936-м (а плохое умение массировать огонь и в 1935-м), следует считать, что описанная в отчёте тактическая немощь комсостава артиллерии отличала БВО не только во второй, но и в первой половине 1937-го.
Техническая выучка. «Техническая подготовка комсостава и в первую очередь знание своей материальной части, – констатировалось в подготовленных в апреле 37-го «Материалах по боевой подготовке артиллерии» ОКДВА, – лучше, чем в прошлом году, но ещё слабы». Осенью то же самое отмечалось осенью и в БВО: знания в области ухода за техникой, указывалось в годовом отчёте этого округа, у комсостава «ещё во многих случаях неудовлетворительны». Поскольку это явление, обусловленное прежде всего плохим знанием командирами своей матчасти, в артиллерии Уборевича было распространено ещё в 1936-м, техническая подготовленность комсостава артиллерии БВО явно была слабой и в первой половине 1937-го.
Сведениями об уровне технической грамотности командиров-артиллеристов КВО для этого времени мы не располагаем.
/.../
Уровень выучки, достигнутый в первой половине 1937-го рядовыми артиллеристами и артиллерийскими подразделениями, в обнаруженных нами источниках освещён почти исключительно для ОКДВА, с которой мы поэтому и начнём.
«Во всех частях одиночная подготовка упущена, и выправлять сейчас трудно», – откровенно заявлялось в «Материалах по боевой подготовке артиллерии», подготовленных в апреле 1937 г. в штабе ОКДВА или в аппарате начальника артиллерии ОКДВА комбрига В.Л. Леоновича. О том, что стояло за словом «упущена», можно судить по результатам весенних инспекторских проверок, обнаруживших, например:
– что в 4-й батарее 35-го артиллерийского полка 35-й стрелковой дивизии один из 9 проверенных номеров орудийного расчёта совсем не умеет устанавливать угломер, а четверо устанавливают с такими ошибками, что об использовании их в качестве наводчиков не может быть и речи;
– что в 6-й батарее того же полка установить угломер не могут 3 из 5 проверенных номеров (60 %).
– а в 4, 10-й и 5-й батареях 69-го артполка 69-й стрелковой дивизии – соответственно 3 из 4 (75 %), 9 из 11 (81,8 %) и 12 из 13 (92,3 %)...
В 39-м артиллерийском полку 39-й стрелковой дивизии, докладывал 26 марта 1937 г. Блюхеру начштаба ОКДВА комкор Богомяков, «орудийный расчёт, за исключением наводчиков, не имеет самых элементарных и необходимейших знаний для работы орудий. Случайное выбытие наводчика в этом случае делает небоеспособным всё орудие». «Молодые бойцы моего подразделения не обучены», – сетовал один из командиров батарей 39-го артполка ещё и месяц спустя, на дивизионной партконференции... Ещё в марте неудовлетворительной одиночная подготовка бойца была и в 21, 32-м и 66-м артиллерийских полках (соответственно 21, 32-й и 66-й стрелковых дивизий).
Соответственно, плохо подготовленными, неслаженными были тогда в ОКДВА и орудийные расчёты. Подводя в своём приказе № 075 от 8 марта 1937 г. итоги проведённого в Приморской группе состязания батарей, командующий Примгруппой Федько особо отметил низкую подготовленность орудийных расчётов полковой артиллерии (и, в частности, чрезвычайно опасное отсутствие «сработанности командира орудия с наводчиком»). А из содержащейся в приказе оговорки, согласно которой батареи дивизионной артиллерии стреляли плохо по тем же причинам, что и полковые, вытекает, что слабо подготовленными в Примгруппе были тогда и расчёты орудий дивизионной артиллерии. Это отчасти подтверждается оценкой, которую ещё 21 апреля на дивпартконференции дал своей артиллерии командир59-й стрелковой дивизии комбриг Соломатин: «Огневой расчёт очень плохо работает [...] Не маскируется». Явно слабостью выучки расчётов объяснялось и явление, зафиксированное на тактических учениях 28 марта – 2 апреля 1937 г. в 69-м артполку командиром 69-й стрелковой дивизии комдивом Глуховым: «В массе своей точность работы огневых взводов всё ещё отсутствует».
Что же касается выучки артиллерийских подразделений в ОКДВА в целом, то в документах высших штабов армий Блюхера нет разногласий по поводу неудовлетворительной подготовленности полковой артиллерии. И специальная артиллерийская подготовка, и конное дело, констатировалось в приказе командующего Приморской группой № 048 от 16 февраля 1937 г., полковой артиллерией освоены слабо; одну из основных задач – стрельбу по танкам – она не отработала. Как уже отмечалось выше, из 27 полковых батарей Примгруппы, состязавшихся между собой в начале марта, все три стрельбы сумела выполнить только одна, ещё две – по одной стрельбе из трёх, – а 24 (т.е. 88,8 %) не справились ни с одной. Кроме того, батареи медленно развёртывались на огневых позициях, медленно же изготавливались к стрельбе и слабо маскировались.
За зимние боевые стрельбы полковая артиллерия ОКДВА заработала «неуд», получив 40,7 баллов из 100 (для «тройки» их требовалось набрать хотя бы 60). Данных по 12, 59-й и 69-й дивизиям нет, а из десяти остальных на «хорошо» (на 80–104,9 балла) подразделения полковой артиллерии отстрелялись только в 32-й (86,2 балла), а на «удовлетворительно» (на 60–84,9 балла) – лишь в 34-й (70 баллов) и 35-й (76 баллов). В остальных семи они выполнили стрельбы на чистую «двойку»: в 26-й – на 29,7 балла, в 21-й и 40-й – на 27,5; в 105-й – на 25; в 92-й – на 12,5; в 39-й – на 11,2; в 66-й – на... 0 баллов! Судя по тому, что к показавшим худшие результаты штаб ОКДВА (или аппарат начарта ОКДВА) отнёс и 59-ю стрелковую дивизию, на «неуд» отстрелялась тогда и полковая артиллерия 59-й.
Подразделения дивизионной артиллерии, значилось в апрельских «Материалах по боевой подготовке артиллерии» ОКДВА, зимние боевые стрельбы выполнили на «хорошо» (среди лучших оказались 32, 34, 35-й и 40-й артполки, а среди худших – 21-й и 59-й). Это, однако, никак не согласуется с безобразными результатами стрельб батарей дивизионной артиллерии на состязаниях в Примгруппе в начале марта (напомним, что ни одна из них не справилась тогда ни с одной из стрельб) и с тем обстоятельством, что эти батареи (как и полковые) слишком медленно развёртывались и изготавливались к стрельбе и плохо маскировались. Характерно, что ещё между 17 и 27 мая 1937 г., состязаясь между собой, батареи 40-гоартполка 40й стрелковой дивизии – признанного зимой одним из лучших! – получили (по 5-балльной системе) лишь от 3 до 3,7 балла. По всей видимости, на зимних стрельбах дивизионной артиллерии подразделения, как это практиковалось (см. выше) в тогдашней ОКДВА, были поставлены в облегчённые условия, а результаты стрельб ещё и сфальсифицированы (насколько широко была распространена тогда эта практика, хорошо видно, например, из «Справки-доклада по боевой подготовке артиллерии ОКДВА в 1937 г.», составленной «за начальника артиллерии армии» майором Н.С. Касаткиным)...
Не исключено, что подобным же образом были обставлены в ОКДВА и зимние боевые стрельбы корпусной артиллерии РГК (чьи подразделения, согласно «Материалам по боевой подготовке артиллерии», тоже получили «хорошо»). Впрочем, то, что в дивизионной, и в корпусной и в артиллерии РГК в ОКДВА были тогда и очень слабые части (и, соответственно, подразделения. – А. С.), что «подготовка частей артиллерии крайне неравномерна», – это прямо указывалось в том же самом документе, в котором значилось, что зимние боевые стрельбы проведены на «хорошо».
Подразделения батальонной и противотанковой артиллерии Примгруппы (т.е. примерно три четверти таких подразделений ОКДВА) ещё к февралю были подготовлены откровенно плохо. Всё то, что говорилось в приказе командующего Примгруппой № 048 от 16 февраля 1937 г. о полковой артиллерии, относилось и к батальонной и противотанковой – приказ был посвящён боевой подготовке всех трёх этих видов артиллерии и оценки давал всем сразу.
Документы частей и соединений свидетельствуют, что такое положение с выучкой батальонной и противотанковой артиллерии сохранялось в ОКДВА и позднее. Так, входе проверки, проведённой 15–22 февраля 1937 г., обнаружилось, что все батальонные орудия 2-го батальона 6-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии (45-мм противотанковые пушки образца 1932 г.) требуют войскового ремонта. Виной тому были именно расчёты: при предыдущей проверке (21–27 января) начарт 21-й дивизии полковник Н.С. Иванов обнаружил, что в стволах «сорокопяток» 61-го полка имеются и пыль и песок, что прицельные линии у всех 45-мм пушек (как, кстати, и в 62-м, и в 63-м стрелковых полках) не выверены и что расчёты не соблюдают правил ухода за штоками накатника. В политдонесении начальника политотдела 40-й стрелковой дивизии дивизионного комиссара К.Г. Руденко от 10 марта 1937 г. прямо указывалось, что в ротах тяжёлого оружия (включавших и подразделения батальонной артиллерии. – А. С.) подготовка «стоит на низком качественном уровне». Явно не лучше была она там (а также и в противотанковых батареях полков) и через полтора месяца: при проверке 21 апреля вооружения 120-го стрелкового полка 40-й дивизии требующими войскового ремонта оказались 50 % его 45-мм пушек (т.е. 50 % его батальонных противотанковых орудий) и все пять осмотренных 76-мм полковых пушек образца 1927 г.
«Огневая подготовка артиллерии тоже неудовлетворительная, нормы не выполняются [...]», – констатировал ещё 9 мая 1937 г. на партсобрании командир 62-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии полковник Заикин. Он имел в виду и полковую, и батальонную, и противотанковую – но в последних двух дела, по-видимому, обстояли совсем скверно: у их 45-мм пушек даже стволы были «неисправны».
В общем, выучка рядовых артиллеристов и подготовленность артиллерийских подразделений ОКДВА в первой половине 1937 г. должна быть признана в целом неудовлетворительной.
Формулировки приказа комвойсками КВО Федько № 0100 от 22 июня 1937 г. («огневая подготовка во всех родах войск на низком уровне», «неудовлетворительно знание материальной части своего оружия») позволяют предположить, что неудовлетворительной к середине 1937-го эта выучка была и в Киевском округе. Относительно полковой артиллерии – с учётом того, что мы знаем о тогдашних полковых артиллеристах ОКДВА – это можно сказать почти уверенно. Ведь в единственном сохранившемся из документов, проливающих свет на уровень выучки тогдашней полковой артиллерии КВО - приказе командира 45-й стрелковой дивизии полковника Ф.Н. Ремезова № 0122 от 25 августа 1937 г. – мы читаем: «В тактической подготовке полковой артиллерии не отработана выучка бойца-артиллериста». Проверка, показавшая это, состоялась 8–12 августа, но одиночная подготовка осуществлялась ещё в зимнем периоде обучения.
С учётом того, что нам известно о тогдашних батальонной и противотанковой артиллерии ОКДВА, можно уверенно предположить, что выучка бойцов и подразделений этих видов артиллерии в первой половине 1937-го была низка и в БВО. Вряд ли случайно единственным дошедшим до нас документом, хоть как-то освещающим этот вопрос, оказался приказ командира 23-го стрелкового корпуса комдива Подласа № 028 от 22 июня 1937 г., где констатировалось, что на тактических учениях 1–3 июня личный состав рот тяжёлого оружия выказал незнание своей материальной части и неумение установить 82-мм миномёт на огневой позиции... (Выучку бойцов и подразделений других видов артиллерии тогдашнего БВО имеющиеся у нас источники не освещают вовсе)». (Смирнов А.А. Боевая выучка Красной армии накануне репрессий 1937–1938 гг. (1935 – первая половина 1937 года). Т. 1. М. 2013. С. 323-328, 362-366.)
Качество других родов войск РККА было тоже плохим.
Советско-финская война 1939–40 г.: «Артиллерия в царской армии в техническом и тактическом отношении была элитным родом войск. Сейчас уровень, естественно, опустился в связи с недостаточной общей подготовкой офицерского состава...
Как уже было сказано раньше, техника стрельбы и тактика, особенно в начале войны, оставляли желать лучшего. Артиллерия своим огнём плохо взаимодействовала с пехотой. В начальных боях на Карельском перешейке редко случалось, чтобы артиллерия вела огонь концентрированно и при необходимости быстро переносила его на другие участки. В январе дело значительно изменилось в положительную сторону, да и прицельный огонь стал гораздо лучшим. ...Несмотря на недостатки в тактике, именно обилие артиллерии являлось на перешейке основным фактором военных действий русских, но в таком виде она не отвечала требованиям маневренной войны». (Маннергейм К.Г. Мемуары. М.: «Вагриус», 2003. С. 313.)
Три примера, показывающие, почему советская авиация не могла возместить недостатки советской артиллерии взаимодействием с ней. I) Начало мая 1941 г., Запорожье, 131-й истребительный авиаполк: «Среди молодых лётчиков были хорошие пилоты, но многие не понимали серьёзности положения. Помню, как после одного воздушного боя старший лейтенант Щербинин в приангарном здании, где висели силуэты самолётов вероятного противника, это были немецкие самолеты, глядя на Ме‑109, на «Мессершмитт», сказал: «Я бы схватился с ним. Я бы ему!» Я посмотрел на Токарева. Его лицо, обычно доброжелательное, стало суровым, он перебил Щербинина и сказал: «Что вы „мессеру“?! Что вы можете ему противопоставить? Вы виражите, в лучшем случае, на тройку. А стреляете? Как вы стреляете? Норматив на 120 патронов три попадания по конусу — удовлетворительно, до 10 — хорошо, свыше 10 — отлично. Вы же из 10 не выходите! Если бы вы стреляли, как Сигов (а Сигов делал 60 пробоин), вот тогда вы могли бы говорить. Да научитесь ещё виражить, как Сигов. Что вы можете противопоставить «мессеру»? У «мессера» пушка, у «мессера» крупнокалиберные пулеметы, «мессер» бронирован, он не легко уязвим, скорость его на 100 километров больше, чем у И‑16. Что вы ему противопоставите? Бросьте вы это самохвальство! Меня возмущает вся эта трепотня по радио и в кино. Война — это не игрушка. Будем бить малой кровью! Посмотрим, какая будет малая кровь. Надо учиться воевать, учиться воевать… Вот мы столкнулись с Финляндией. Вы знаете, что мы не смогли сбить «Бристоль‑Бленхейм»? Вы что думаете, что вы легко собьёте «Юнкерс» или «Хейнкель»? Что там сидят дураки?! Вы знаете, что немецкие пилоты, пожалуй, лучшие в мире. Они уже имеют военный опыт в Испании. Что вы можете им противопоставить? Бросьте вы эту похвальбу!». (Синайский Виктор Михайлович. // Драбкин А. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942. М.: «Яуза», «Эксмо», 2006.)
Здесь показательно: 1) И СССР уже имел военный опыт в Испании, но ему он впрок не пошёл. 2) «Вся эта трепотня по радио и в кино» продолжается до сих пор.
II) Конец июня или начало июля 1941 г., части группы армий Север после переправы через Двину: «Во время необходимых остановок мы на машинах съезжали в придорожный лес и маскировали их от воздушной разведки противника. Уважение к русским ВВС было очень велико, так как нам говорили, что численно они превосходят нас в несколько раз.
Едва мы хотели продолжить марш, как пришло сообщение о приближении крупного соединения русских бомбардировщиков. Мотоциклист, доставивший это сообщение, одновременно передал приказ, что в случае атаки бомбардировщиков марш не должен останавливаться ни в коем случае.
Когда появилось около 30 двухмоторных бомбардировщиков, они атаковали нас в поперечном направлении к нашему движению. Все бомбы попадали в болотистые луга справа от дороги. Никаких потерь у нас не было. Если бомбардировщики противника всегда будут так атаковать, то немецким истребителям и появляться не надо. Пока мы думали о том, не перестать ли нам уважать вражеские ВВС, эскадрилья «мессершмиттов» атаковала улетающее соединение и подбила почти все бомбардировщики. Превосходство нашей авиации было подавляющим». (Крафт Г. Фронтовой дневник эсэсовца. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 145.)
III) С 19 на 20 апреля 1945 г., западнее Аренсдорфа: «Я получил приказ «собраться в Хагельсбергском лесу». Это юго-западнее от нас. Проходя по возвышенности, мы видели отходящие немецкие войска, преследуемые или окружённые русскими. Я избегал идти по открытым пространствам. Когда нам тем не менее пришлось переходить широкое поле, нас внезапно обогнали шесть танков Т-34. Три танка мы подбили фаустпатронами. И тут вдруг откуда ни возьмись появились три «Штуки», уничтожившие три остальных танка». (Там же. С. 317.)
Пикирующие бомбардировщики Ю-87 «Штука» к концу войны стали слишком тихоходными, и поэтому не могли применяться на Западном фронте. Но на Восточном, как видно, успешно действовали до последнего. И снова к выше упоминавшемуся отчёту «товарища Воронова» от февраля 1937 г. о Харамском сражении в Испании: «Проблему наблюдения за стрельбой по батареям противника приходится признать неразрешённой. Массовые воздушные бои и работа зенитной артиллерии показали всю трудность и невозможность работы самолёта-корректировщика, в лётные дни также невозможна работа и аэростатов. Прикрытие их истребителями – дело весьма условное при существующей технике авиации и тактике действий авиации противника». К 1945 г. советских самолётов стало гораздо больше, но по сути дела ничего не изменилось.
Снарядный голод в русской армии 1915 г.: «Месяцами находившиеся на боевых позициях батареи получали не более четырёх снарядов на орудие [в день – А.П.]. В то время на фронт прибывали артиллерийские парки, вообще не имевшие боеприпасов. …Армейский корпус не мог получить в один приём более тысячи снарядов, и никто не мог знать, когда прибудет следующая партия». (Гурко Василий Иосифович. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914–1917. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 128.)
Советское контрнаступление под Москвой 1942 г.: «В феврале и марте Ставка требовала усилить наступательные действия на западном направлении, но у фронтов к этому времени истощились силы и средства.
Вообще ресурсы нашей страны в то время были крайне ограниченны. Потребности войск ещё не могли удовлетворяться так, как этого требовали задачи и обстановка. Дело доходило до того, что каждый раз, когда нас вызывали в Ставку, мы буквально выпрашивали у Верховного Главнокомандующего противотанковые ружья, автоматы ППШ, 10–15 орудий ПТО [противотанковой обороны – А.П.], минимально необходимое количество снарядов и мин. Всё, что удавалось таким образом получить, тотчас же грузилось в автомашины и направлялось в наиболее нуждающиеся армии.
Особенно плохо обстояло дело с боеприпасами. Так, из запланированных на первую декаду января боеприпасов нашему Западному фронту было предоставлено: 82-миллиметровых мин – 1 процент; артиллерийских выстрелов – 20-30 процентов. А в целом за январь 50-миллиметровых мин – 2,7 процента, 120-миллиметровых мин – 36 процентов, 82-миллиметровых мин – 55 процентов, артиллерийских выстрелов – 44 процента. (Архив МО СССР [ныне Центральный архив Министерства обороны или ЦАМО – А.П.], Ф. 208, оп. 2513, д. 204, л. 169.) Февральский план совсем не выполнялся. Из запланированных 316 вагонов на первую декаду не было получено ни одного. Из-за отсутствия боеприпасов для реактивной артиллерии её пришлось частично отводить в тыл. (Там же. л. 207, л. 210.)
Вероятно, трудно поверить, что нам приходилось устанавливать норму расхода... [отточие Жукова – А.П.] боеприпасов 1-2 выстрела на орудие в сутки. И это, заметьте, в период наступления! В донесении Западного фронта на имя Верховного Главнокомандующего от 14 февраля 1942 года говорилось:
«Как показал опыт боёв, недостаток снарядов не даёт возможности проводить артиллерийское наступление. В результате система огня противника не уничтожается, и наши части, атакуя малоподавленную оборону противника, несут очень большие потери, не добившись надлежащего успеха». (Там же.)». (Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Т. 2. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. М.: Издательство Агентства печати Новости, 1990. Конец главы «Битва за Москву». С. 264-265. Этот отрывок был и в предшествовавших советских изданиях.)
То есть, в Красной армии дневная норма снарядов на орудие в день была в 2-4 раза меньше самого тяжёлого времени в Российской Императорской Армии 1915 г. Только в 1915 г. это происходило у границы Российской Империи, на огромном фронте от Балтийского моря до Карпат, а в начале 1942 г. под Москвой, являвшейся промышленным и железнодорожным центром страны ещё с дореволюционных времён.
Выше приведённые слова в донесении Западного фронта от 14 февраля 1942 года, что «недостаток снарядов не даёт возможности проводить артиллерийское наступление. В результате система огня противника не уничтожается, и наши части, атакуя малоподавленную оборону противника, несут очень большие потери, не добившись надлежащего успеха» – лукавы. На протяжении всей войны случалось, что, имея по несколько сотен орудий на километр фронта и проведя массированную артиллерийскую подготовку, переходя затем в наступление, Красная армия сталкивалась с боеспособной немецкой обороной. Происходило это от указанного низкого качества артиллеристов, усугублявшегося упрощённой конструкцией советских орудий.
Поэтому стрельба по площадям даже при огромной численности советских орудий и боеприпасов не наносила желаемого поражения.
1942 г.:
Северный Кавказ, 27 сентября: «Сижу в кустах и не спускаю глаз с крутого, поросшего кустарником откоса. А тем временем хорошо знакомому завыванию «катюш», похоже, и конца не видно.
И тут же вижу разрывы, ложатся снаряды один за другим в том самом фруктовом саду, где ещё вчера вечером стояли наши машины. Разрывы гремят постоянно, я насчитал не менее 80 разрывов. Наверняка это старые знакомые – те самые 4 русских «катюши». (Кубек В. Передовой отряд смерти. Фронтовой дневник разведчика Вермахта 1942–1945. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 119-120.)
4 декабря: «А около 9 утра начинается светопреставление. Первыми заговорили «катюши», потом раздались глухие залпы обычной артиллерии, завыли миномётные мины.
Русские, видимо, решили сровнять Ардон с землей. Не раз совсем неподалеку от нашего убежища разорвалось несколько мин и снарядов. Решаем всё же убраться в дом. Только добегаем туда, как снова крик: «Воздух!» Приходится снова мчаться в нашу крытую брезентом траншею.
В полдень нам предстоит ещё одна вылазка к русским на передовую. Ничего доброго это не сулит. Простреливается буквально всё. Неподалеку разрывается снаряд, и оконные стекла снова вдребезги.
Время отъезжать. Вскакиваем на груженный дровами кузов и едем. Артогонь немного поутих. В полукилометре от Ардона на кукурузном поле полным-полно постов охранения и резервных подразделений». (Там же. С. 169.)
На успешное наступление группы армий А на Кавказе советская власть ответила, в числе прочего, изданием наставления: 76-мм горная пушка обр. 1909 г. Краткое руководство службы. М.: Военное издательство Народного комиссариата обороны, 1942. («Подписано к печати 17.12.42».)
1944 г.:
«Полк, в котором мы с Юргиным оказались, входил в состав гаубичной бригады, являвшейся соединением артиллерийской дивизии.
Мы располагались в нескольких километрах от Коломны, в лесу, на правом берегу Оки. Полк состоял из двух дивизионов, включающих пять батарей. В каждой из них было по два огневых взвода и по одному взводу управления. Огневой взвод представлял собой две 122-мм гаубицы, обслуживаемые расчётом из семи человек орудийной прислуги и шофера.
За посёлком на открытой площадке располагались гаубицы и американские «Студебекеры», полученные по ленд-лизу и недавно прибывшие своим ходом из Ирана.
Формированию дивизии предшествовала амнистия, и в нашу батарею в течение нескольких недель каждый день поступали бывшие заключённые. В моем расчёте, например, из восьми человек пятеро прибыли прямо из тюрьмы, где отбывали наказание за кражи нескольких килограммов зерна, ведра картошки и других, чаще всего продовольственных товаров. Уже через месяц, на фронте, когда мы ближе познакомились, я понял, что большинство этих ребят оказались хорошими людьми, добросовестно несущими нелегкую солдатскую службу». (Стопалов С.Г. Фронтовые будни артиллериста. С гаубицей от Сожа до Эльбы. М.: «Центрполиграф», 2015. С. 84.)
Балканы, 1944 г. «16-го октября, не доходя до Мокрого Луга, колонна остановилась. Передовые немецкие части донесли, что Белград занят моторизованными советскими частями, с большим количеством танков, артиллерии и «Катюш».
Немецкое командование решило бросить всю моторизованную часть колонны и повернуть проселочными дорогами на Авалу.
К Авале подошли 17-го октября со стороны железной дороги Белград-Пожаревац, которая обстреливалась продольным огнем бомбометов и пулеметов. Не обращая внимания на жесточайший огонь, наши части, потеряв несколько человек убитыми, перекатились через полотно жел. дороги и по глубокому оврагу вышли на поле перед Авалой. По всему полю, насколько охватывал глаз, шли немецкие цепи. Огонь советских бомбометов не причинял почти никакого вреда. Но опушка леса у подножия Авалы опоясалась дымовой завесой – строчили советские автоматы и пулеметы. Во что бы то ни стало, нужно было прорвать эту линию и уйти в лес. На нашем участке, например, цепи двигались перебежками, не стреляя, молча. И это было страшно. Люди решили идти на смерть, но добиться своей цели.
Советская пехота не выдержала. Наши части вошли в лес, но вошли разрозненно, вкрапленные между немецкими частями. Также разрозненно действовали и дальше. От Авалы повернули влево через шоссе и под сильным обстрелом танков спустились в узкое ущелье. Здесь соединились вместе штаб III-го батальона 2-го полка, во главе с ген. Ивановым, 4-я учебная рота и остатки 1-го взвода 9-ой роты 2-го полка и Тяжелый взвод I-го б-на 2-го полка.
Маленький отряд ген. Иванова лежал в выемке дороги, обсаженной кустами. Подходили автоматчики, танки, обстреливала «Катюша», бомбили аэропланы. Отряд не сдвинулся с места в течение всего дня. Зато с левой стороны обойти ущелье советским частям не удалось. В этом бою был ранен ген. Иванов. С правой стороны выдерживали натиск бранденбуржцы и с ними наш Тяжелый взвод. Общая немецкая группа отходила по ущелью.
Наши и немецкие части, хотя и значительно поредели, но, оставив далеко за собой Авалу и ведя беспрерывные бои с наседавшими со всех сторон новыми советскими и партизанскими частями, всё же дошли до Шабца и перешли мост через реку Саву, в Кленак, охранявшийся 1-м полком Русского Корпуса». (Черниченко Г. Крестный путь Русского корпуса (I-й б-н 2 полка. Д. Милановац–Белград–Шабац. // Русский Корпус на Балканах во время II Великой войны 1941–1945 г.г. Нью Йорк. 1963. С. 262-263.)
Вторая половина октября 1944 г.: «На участке моей роты стояло три немецких батареи. В ответ на огонь нашей артиллерии, Советы усилили свой натиск двумя «Катюшами», обстреливавшими нас каждые пол часа. Действие этого страшного 36-ти зарядного, орудия нам пришлось испытать на себе в течение 15 дней. Звуков выстрела «Катюши» слышно не было. Не было видно и вспышки при выстреле, но самый полет очереди снарядов производил какой-то непонятный дьявольский гул. Приближение выпущенной по вас очереди снарядов создавало впечатление приближения какого-то страшного урагана. Каждый снаряд, разрываясь, выпускал целую серию маленьких снарядиков, покрывая всю площадь грохотом разрывов и вспышек, что и производило впечатление огненной площади. Всё это производило огромное действие на моральное состояние, но поражаемость была не велика». (Янковский Е. Запасная рота. // Там же. С. 272-273.)
Окончивший в 1907 г. Александровское военное училище (Москва), полковник Лейб-Гвардии Кексгольмского полка Евгений Львович Янковский участвовал в 1-й Мировой и Гражданской войнах. (Волков С.В. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Чины Русского Корпуса: Биографический справочник в фотографиях. М. 2009. С. 501.) Ему было, с чем сравнивать.
1945 г.:
«При разработке Берлинской операции командующий фронтом и командиры соединений прорабатывали варианты наступления, направленного на ошеломление и подавление противника. В процессе этой работы и родилось предложение ночной атаки с прожекторами. Решено было обрушить на немцев удар 16 апреля за два часа до рассвета. Зенитные прожекторы должны были внезапно осветить позиции противника и объекты атаки.
О предстоящей операции шоферов дивизиона предупредили лишь за несколько часов, в течение которых они должны были подготовить свои машины к маршу.
Ночью в полной темноте наш полк 122-мм гаубиц по понтонной переправе форсировал Одер, вышел на автостраду и занял место в войсковой колонне. Днём отсюда просматривалась вся приодерская местность. Но сейчас она была скрыта предутренним туманом.
Перед нами стояло множество машин с зенитными прожекторами, а рядом расположились танки и БТРы [бронетранспортёры в Красной армии были из США – А.П.] с пехотой.
Ровно в назначенное время в небо взлетели тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули сто сорок прожекторов, расположенных на шоссе. И тотчас же началась артподготовка.
Раздался потрясающей силы грохот выстрелов и разрывов снарядов и мин. По статистическим данным, на линии главного удара было сосредоточено почти 15 тысяч орудий, да ещё в воздухе гудели бомбардировщики. В течение только первого дня наступления артиллерией было сделано более миллиона выстрелов, на изготовление снарядов для которых потребовалось почти 100 тысяч тонн металла, а для их доставки на фронт две с половиной тысячи железнодорожных вагонов.
В течение тридцатиминутного артиллерийского огня противник не сделал ни единого выстрела, что свидетельствовало о его полной подавленности и разрушении системы обороны.
Потом началась следующая атака с прожекторами. Мы ещё больше усилили огонь, а пехота и танки дружно бросились вперед, сопровождаемые огневым валом.
К рассвету первая оборонительная линия обороны противника была преодолена и начата атака второй линии.
Гитлеровские войска были буквально потоплены в море огня и металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, которую даже мощные лучи прожекторов не могли пробить. Но это нас не смущало. Мы упорно преодолевали сопротивление немцев и шли вперёд, ежедневно продвигаясь в среднем на 8 километров, а на некоторых участках и на 10–12 километров.
Тяжелейшие бои за овладение Зееловскими высотами продолжались несколько дней, но прожекторы в них уже не применялись. В этот период наша бригада поддерживала 8-ю армию генерала Чуйкова...». (Стопалов С.Г. Фронтовые будни артиллериста. С гаубицей от Сожа до Эльбы. М.: «Центрполиграф», 2015. С. 160-161.)
16 апреля: «...в направлении Кюстрина в пойме Одера. Ночное небо на востоке было светлым от всполохов пламени. Там, по-видимому, на узком участке фронта вели огонь тысячи орудий.
/.../
Утром населённые пункты западнее Одера начали превращаться в пепел и руины. Хайнерсдорфу тоже досталось. Снова и снова удары бомб будили меня, после чего я снова проваливался в глубокий сон.
К полудню потерь от бомбардировок у нас не было – сказалось то, что мы поставили палатки в высоком кустарнике. По дороге пошли транспорты с ранеными. Мы получили возможность узнать, что творится «на передке». Русские несущественно продвинулись вперёд. Удар их огневой подготовки пришёлся в основном на оставленные позиции. А прожекторы, которые они выставили вдоль фронта, чтобы осветить поле боя и ослепить обороняющихся, очень помогли немцам. В то время как советские танки постоянно ехали по своей тени и, не разбирая дороги, вязли в болотах поймы, немецкая артиллерия с новых позиций с господствующих Зееловских высот имела перед собой освещённые цели и наносила противнику тяжёлые потери.
17 апреля: всё небо в штурмовиках и бомбардировщиках. Они атакуют позиции нашей артиллерии и всё, что видят. Под их прикрытием русские наступают дальше.
/.../
Температура не проходит. Выполняю служебные обязанности. Хожу днём и ночью в мокрой одежде.
18 апреля. Санитар передал мне плоскую бутылку со своим «лекарственным пойлом». Если инъекции и таблетки не помогали, другого средства он уже не знал.
Попали под сильный артиллерийский обстрел. Ну, вот и началось. Изрядно захмелевший, в прекрасном настроении, как только закончилась артподготовка, я вышел вперёд к двум окопавшимся взводам. Противника пока я не видел и вышел далеко за позицию, чтобы осмотреть местность с возвышенности. Там я увидел оставленную позицию и присел за бруствером. Вдалеке я увидел отходящие немецкие войска, никакой паники и бегства. Наверное, займут новую позицию. Из-за облаков появилось солнце. Оно припекало так приятно, что я задремал. Разбудил меня лязг гусениц. Три Т-34, без пехоты, проезжали мимо, не обращая внимания на меня, ничтожного червя, хотя я, находясь в прекрасном настроении, приветливо махал им рукой. Они немного задержались на моей высоте, повернули правее и исчезли в направлении Мюнхберга. «Разведка», – подумал я. Мне было известно, что Т-34 из-за того, что командир совмещает обязанности наводчика, почти слеп. А ведь эти экипажи разведки могли бы посмотреть, что делается по сторонам.
Русские не заставили себя долго ждать. Немного придя в себя от случившегося, я вернулся назад к роте и принял необходимые меры. Когда иваны после полудня, ничего не подозревая, массами пошли по открытой местности, со среднего расстояния по ним внезапно открыли огонь двадцать пулемётов. Те, в кого не попали, прижались к земле. Я знал, что за этим последует, и приказал незаметно перейти на второй оборонительный рубеж на окраине Хайнерсдорфа». (Крафт Г. Фронтовой дневник эсэсовца. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 314-315.)
Естественно возникает вопрос, кто наводил предваряющий наступление огонь советской артиллерии, если командовавший передовой немецкой ротой обершарфюрер, даже пройдя далеко за свой передний край, не обнаружил никакого присутствия советских войск, поспал и только после этого встретился с советской разведкой? И это не в 1941, а в 1945 г., с 611 орудиями на км фронта. Всё как обычно: артиллерия отчиталась о проведённой артподготовке, три танка о разведке (вдали от немецких окопов). Остальное трудности тех, кого пошлют в наступление.
Ответ на вопрос, в каких из двух приведённых воспоминаний вернее изложены события, дают официальные данные о советских потерях в «Берлинской стратегической наступательной операции 1945 г.». За две недели из 2062100 чел. безвозвратные потери составили 81116, санитарные 280251, общие 361367. Потери в технике: стрелкового оружия 215900, танков и САУ 1997, орудий и миномётов 2108, самолётов 917. (Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. М.: «Вече», 2010. С. 171, 348.) http://militera.lib.ru/h/sb...
Немецкие силы на Одере составляли не более 250 тыс. После прорыва их позиций, в Берлине оборонялись около 115 тыс. (Куби Э. Русские в Берлине. Сражения за столицу Третьего рейха и оккупация. 1945. М.: «Центрполиграф», 2018. С. 41-43, 102-104.) https://vk.com/wall-5661108... При этом в Берлине на 27-е апреля 1945 г.: «Две трети, если не три четверти, бойцов оставляли члены гитлерюгенда и фольксштурма, необученные и вооружённые тем, что попалось под руку. ...Регулярные части армии и войск СС насчитывали менее 20 тысяч человек при менее чем 100 танках, а артиллерия уже расстреляла почти все снаряды». (Фей В. Танковые сражения войск СС. Новый перевод. М.: «Яуза», «Эксмо», 2009. С. 380.)
Во что попали 16 апреля 1945 г. выше упомянутые более миллиона советских снарядов?
В сознании позднесоветского человека действительная история начиналась с 1917 г., а до того была неисправимо отсталая царская Россия. Самой великой и единственно настоящей войной признавалась 2-я Мировая, а все бывшие до неё (кроме Гражданской) считались малосерьёзными или вовсе ничтожными в военном отношении. Соответственно исторически верхом европейского военного дела и мощи выставлялся Третий рейх.
Естественно, в самой Германии на дело смотрели иначе. В начале войны начальник штаба её сухопутных сил записал в дневнике 24 сентября 1939 года (воскресенье): «3. Боевой опыт в Польской кампании; после подробных совещаний с командирами впечатление изменилось. Той пехоты, которая была в 1914 году, мы даже приблизительно не имеем. У солдат нет наступательного порыва и не хватает инициативы. Всё базируется на командном составе, а отсюда — потери в офицерах. Пулемёты на переднем крае молчат, так как пулемётчики боятся себя обнаружить». (Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939-1942 гг. Т. I. От начала войны с Польшей до конца наступления на Западном фронте (14.8.1939 г. — 30.6.1940 г.). М.: «Воениздат», 1968. С. 130.)
Знаменитый генерал-полковник Хайнц Гудериан вспоминал после войны: «Пока война на Западе не пришла к завершению, любое новое военное предприятие означало открытие войны на два фронта, а к этому Германия Адольфа Гитлера была готова ещё меньше, чем Германия образа 1914 года». (Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. М.: «Центрполиграф», 2005. Глава 6. Россия, 1941 год. Подготовка. С. 162.)
В сталинском СССР тоже ещё хорошо помнили «старорежимные» времена. Даже сам Сталин проговорился в своём известном выступлении по радио 3 июля 1941 г.: «Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо‑французских войск и, наконец, была разбита англо‑французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко‑фашистской армии Гитлера».
Правда, кто считал немецкие войска 1-й Мировой войны непобедимыми, неизвестно. Если не большевики, то это явно было сказано «для красного словца». Но 1-ю и 2-ю Мировые войны, конечно, сопоставляли.
Поэтому неудивительно, что после 2-й Мировой войны был выпущен военно-научный труд на полутора тысячах страницах не о советской, а о русской артиллерии: Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). Т. I–IV. М.: Военное издательство Министерства Вооружённых Сил Союза ССР, 1948–1949.
Наследие советского артиллерийского дела можно наблюдать до сих пор: после выстрела подпрыгивающие орудия и раскачивающиеся многотонные самоходные установки, сделанные по правилу «дёшево и сердито».
Что касается других родов войск. Те, кто теперь объявляют себя «наследниками победителей», должны взять в руки Мосинские винтовки, до сих пор выдающиеся ополченцам в ДНР, и бежать с криками «ура!» на неподавленные украинские огневые точки. Если они не станут этого делать, то не могут считаться наследниками Красной армии, в которой не принимались во внимание собственные потери. ВСУ надеялись на советские способы ведения войны с нашей стороны, когда густые массы пехоты и танков волнами отправляют на проламывание обороны противника. В действительности же самой «Украине» приходится затыкать дыры в обороне человеческими жизнями. Кроме этого укры ещё собрались устроить «голодомор», вывозя зерно для продажи на Запад подобно Сталину в 1932-33 годах, не взирая на потребности собственного населения.
Русская.
Русская артиллерия стреляла по целям.
В Царской России артиллерия всегда была отборным родом оружия. Уже во 2-й половине XVII века наряд (артиллерия) действовал гораздо современнее, чем во многих случаях нынешняя артиллерия XX-XXI веков. Например, во время 1-го Чигиринского похода, 26 августа 1677 г., пушечным огнём была обеспечена ночная переправа с боем через Днепр. При этом русские пушкари вели прицельный огонь с другого берега Днепра на слух: «Августа [26]. ...другой берег, они решительно напали на турецкие дозоры, согнали их с постов и, отрядив некоторых на схватку с врагом, немедля взялись за лопаты и заступы, чтобы окопаться. Татар, наседавших с ужасным криком и усиливших своё "Ольда!" и "Алла!", так приветствовали с другого берега пушками, стрелявшими на шум, что те предпочли умолкнуть, и [турецкая] пехота (около 200 стоявших там дозорных) после получасовой перестрелки при своём отходе, тоже замолчала. Так, с потерей 8 или 10 человек, эта позиция была взята.
Остаток ночи был использован для переправы других солдат. Кое-кто из них, наполнив большую лодку, едва не погиб; она дала огромную течь и затонула, однако находившиеся там люди и 2 орудия были спасены другими лодками, что оказались рядом. Боярин [и воевода князь Григорий Григорьевич Ромодановский – А.П.] не покидал берега реки и не отводил полков, пока не убедился, что на другой стороне обезопасили себя от внезапной атаки или приступа, приспособив траншеи к обороне с помощью габионов, фашин и всего, что обычно на такой песчаной почве». (Гордон П. Дневник 1677-1678. М.: «Наука», 2005. С. 13.)
В Германии исторически было иначе: «По своему социальному происхождению офицеры, служившие в инженерных войсках и тем более в артиллерии, отличались от офицеров пехоты и кавалерии так же сильно, как и в XVIII веке. В последней группе преобладали аристократы, а в первую чаще всего попадали «сыновья почтмейстеров, сборщиков налогов, студентов-переростков и т.д. Артиллерия была благодатной питательной средой для всех, кто не мог попасть на какую-либо другую службу». Фон Хана, генерального инспектора артиллерии, такая ситуация очень огорчала, и он считал себя обязанным попытаться поднять социальный престиж артиллерии. Для этого он дал своим подчинённым приказ ужесточить требования к кандидатам в офицеры, включая и социальное происхождение. Эти усилия принесли свои плоды, и в последние годы перед Первой мировой войной артиллерия стала одним из самых уважаемых родов войск. Артиллеристы считали себя гораздо умнее и образованнее пехотных офицеров». (Деметр К. Германский офицерский корпус в обществе и государстве 1650-1945. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 31-32.)
Перед 1-й Мировой войной в России: «В артиллерии больного генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Николаевича заменил его сын – великий князь Сергей Михайлович, ставший с 1905 года генерал-инспектором всей артиллерии. ... Знаток своего дела, чрезвычайно требовательный и часто неприятный начальник, он знал достоинства и недостатки каждого из сотен дивизионных и батарейных командиров, а зачастую и старших офицеров. От всех их он сумел добиться подлинной виртуозности в стрельбе – и наши виленские бригады своим огнём на полях Гумбиннена изменили ход Мировой войны». (Керсновский А.А. История Русской Армии. М.: «Голос». Т. 3. 1881–1915 г.г. 1994. С. 139.)
7/20 августа 1914 г.: «Гyмбиннен родил Марну – геройские полки и батареи 25-й и 27-й дивизий своей блестящей работой на гумбинненском поле решили участь всей Мировой войны!». (Там же. С. 187.)
Во время Великой войны: «В равных силах германская артиллерия ничего не значила перед нашей. В полуторном получалось устойчивое равновесие. В двойном – что было обычным явлением – наша артиллерия выходила с честью из неравного и тяжёлого поединка. Для решительного успеха немцам надо было сосредоточивать по меньшей мере тройное количество батарей». (Керсновский А.А. История Русской Армии. М.: «Голос». Т. 4. 1915–1917 г.г. 1994. С. 231.)
9 сентября 1914 г., Восточная Пруссия. 1-й Сумской гусарский полк 1-й кавалерийской дивизии генерала В.И. Гурко: «За нашим эскадроном стояла пехотная батарея из восьми трёхдюймовых орудий. Бой шёл, не затрагивая нас, исключительно на правом фланге. Пренебрегая традициями «славной школы» [Николаевского кавалерийского училища – А.П.], я крутился на батарее, с интересом наблюдая за действиями орудийного расчёта и командира. В какой-то момент немцы, очевидно, решили, что «нащупали» нашу батарею, и открыли ураганный огонь. Их расчёт не оправдался: снаряды улетали метров на четыреста дальше цели. Командир батареи мгновенно воспользовался оплошностью немцев и скомандовал:
– Три орудия, пли!
Три орудия вели огонь, три молчали. Немцы «заглотили наживку». Они решили, что три орудия вышли из строя, и принялись с ещё большим энтузиазмом стрелять в том же направлении. Через пару минут командир батареи приказал замолчать ещё двум орудиям. Теперь только одно орудие продолжало стрелять, а скоро и оно замолчало. Немцы решили, что уничтожили батарею, и, даже если у русских осталось одно орудие, они уже не могут представлять серьёзную опасность.
Тут меня позвали в эскадрон. Наши разведчики сообщили о сосредоточении напротив нас немецкой кавалерии и пехоты. Предполагалось, что наступление нацеливается на наш левый фланг. Действительно, не прошло и десяти минут, как замолчала наша батарея, а перед нами появились два немецких эскадрона. Возможно, они не подозревали о нашем присутствии и собирались захватить то, что осталось от замолчавшей батареи. Мы подпустили их поближе и открыли огонь. Немцы в панике бежали, оставляя на земле солдат и лошадей. Однако немецкая пехота тут же начала наступательный марш на наши позиции, но тут «умершая» батарея вернулась к жизни и с нашей помощью заставила немцев отступить». (Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911–1920. М.: «Центрполиграф», 2006. С. 164-165.)
1914 г., Кавказский фронт: «Воспользовавшись ещё не совсем рассеявшимся туманом, противник на участке елизаветпольцев подошёл вплотную, но после штыковой схватки был отброшен на своё исходное положение.
Кубинцы хотя на сей раз ограничились только огнём, но потери их были большие. Как весь день 25 октября, так и утром 26 октября они опять расстреливались противником с командующей над нами высоты. Как бы в отместку за неудачу, противник, казалось, ещё сильнее развил огонь артиллерии.
Наши две горные пушки геройски оборонялись. Находясь немного ниже цепей на небольшой площадке у самой пропасти, они беспрестанно подскакивали, выбрасывая снаряды. Но что могли они поделать, когда артиллерия противника превосходила их во много раз.
Чтобы понаблюдать за полем противника, я поднялся на артиллерийский наблюдательный пункт, расположенный также невдалеке от нас. Признаюсь, удовольствие было не из приятных. Очевидно, противник, заметив пункт, всё время держал его под огнём.
Ответив на моё приветствие, командир батареи полковник Роде пробормотал:
– Черти всегда найдут – уже третий раз меняю пункт, – и дальше спокойным голосом подавал команды через телефониста.
– Ваше высокоблагородие, нет связи, опять турок порвал, – проговорил телефонист.
– Старая история, беги поправь, да поживей, – сказал подполковник. Через несколько минут связь восстановлена, и опять среди гула и треска разрывов то же спокойствие, те же команды.
«Фаталист или железные нервы, – подумал я, – но такие люди нужны войне». (Левицкий В.Л. На Кавказском фронте Первой мировой. Воспоминания капитана 155-го пехотного Кубинского полка. 1914–1917. М.: «Кучково поле», 2014. С. 35-36.)
Для возможности навьючивания на лошадь русские 3-дюймовые (76,2 мм) горные пушки образца 1909 г. были короче и легче русской 3-дюймовой скорострельной лёгкой полевой пушки обр. 1902 г. Оба орудия стреляли одинаковыми боеприпасами.
Из воспоминаний генерала Петра Николаевича Краснова, командовавшего в указанное время 3-й бригадой (полки Черкесский и Ингушский) Кавказской Туземной дивизии (она же «Дикая дивизия»). 29 мая 1915 г., левый берег Днестра: «Въ двѣнадцать часовъ, далеко за рощей ударила пушка и бѣло-оранжевымъ мячикомъ разорвалась шрапнель нѣсколько дальше окоповъ съ ополченцами. За нею сейчасъ же другая, третья, четвертая. Двѣ батареи Австрiйцевъ съ того берега Днѣстра сосредоточили огонь по окопамъ. И было видно, что онъ не наносилъ намъ вреда, потому что трудно было попасть въ еле примѣтную линiю окопа.
— «Смотрите, смотрите... ополченiе... Ахъ, подлецы» — услышалъ я взволнованный крикъ на перронѣ [ж.-д. станции Дзвиняч – А.П.].
Длинная цѣпь сѣрыхъ рубахъ поднялась изъ окопа и, колеблясь въ солнечныхъ лучахъ, быстро шла къ станцiи.
Не помня себя, я вскочилъ на лошадь и въ сопровожденiи браваго черкеса-урядника, поскакалъ къ нимъ.
— «Что вы дѣлаете! назадъ! Въ окопы, въ окопы!
— «Шалишь, Ваше превосходительство, вишь, какъ палитъ. Рази-жъ можно!» — проговорилъ блѣдный широкоплечiй мужикъ, подходившiй ко мнѣ.
— «Назадъ! Великiй Князь [Михаил Александрович, брат Императора – А.П.] за вами! Какъ вамъ не стыдно! Негодяи!»
Не помню уже, что я кричалъ имъ. Но кричалъ что-то и о присягѣ, и ближайшiе повернули назадъ.
— «Господа офицеры, впередъ!»
Вся цѣпь повернулась и пошла въ окопы. Я постоялъ на полѣ, пока всѣ не легли въ окопъ. Мнѣ предстояла болѣе трудная задача — шагомъ уѣхать назадъ. Такъ требовали долгъ и приличiе военной службы. И выучка помогла въ этомъ. На перронѣ ожидало прiятное извѣстiе. Юзефовичъ [начальник штаба дивизии – А.П.] прислалъ конногорную батарею. Звуки ея выстреловъ скоро ободрили ополченцевъ. Но наше горе было въ томъ, что снаряды горныхъ пушекъ не долетали до Австрiйских батарей, а пѣхотныхъ цѣлей не было видно.
Я сообщилъ объ этомъ Юзефовичу по телефону.
— «Сейчасъ посылаю 17-ую конную батарею».
Прошло около часу. Изъ ополченческихъ окоповъ все время неслись по телефону жалобы, что ополченцы не могутъ держаться. У нихъ появились раненные и убитые. Я посылалъ къ нимъ пешкомъ полковника Мерчуле и князя Грузинскаго успокаивать ихъ, но понималъ, что лежать въ окопахъ, когда васъ безнаказанно обстрѣливаютъ артиллерiйскимъ огнемъ, — не легко.
Во второмъ часу дня показалась и конная батарея.
Остановивъ орудiя за станционнымъ зданiемъ, на ржаномъ полѣ, командиръ батареи выѣхалъ ко мнѣ, чтобы получить задачу.
Очень жаль, что память не сохранила фамилiю этого лихого, типичнаго, русскаго конноартиллериста. Стройный, худощавый, съ маленькой черной бородкой, со смѣлыми, умными глазами, изящно одѣтый, онъ явился съ уставнымъ рапортомъ о прибытiи «въ распоряженiе».
Я указалъ ему, что для того, чтобы удержать ополченцевъ въ окопахъ, необходимо остановить огонь Австрiйскихъ батарей.
Блестки выстрѣловъ Австрiйскихъ пушекъ были отчетливо видны. Командиръ осмотрѣлся. Выѣзжать приходилось открыто, но маленькiй логъ давалъ возможность поставить батарею, по два орудiя, въ двухъ мѣстахъ.
Едва батарея показалась изъ-за станцiи, какъ противникъ сосредоточилъ по ней огонь. И здѣсь я своими глазами увидѣлъ то, о чемъ читалъ когда-то и училъ въ Русской военной исторiи, и что многiе считали теперь невозможнымъ. Подъ сосредоточеннымъ огнемъ австрiйских батарей, осыпаемые шрапнельными пулями, какъ на какомъ то лихомъ смотру мирнаго времени, пыля и гремя, полнымъ карьеромъ понеслась впередъ батарея, разворачиваясь на два взвода. Видно было въ облакахъ пыли и въ дыму низко рвущихся непрiятельскихъ шрапнелей, какъ круто заворачивали уносы, чисто равняясь, и прыгали за ящиками наклонившiяся пушки. Слѣзали на ходу номера. Сверкала въ пыли на воздухѣ чья то шашка, подававшая знаки, и сейчасъ же тяжело, вѣско грянулъ выстрѣлъ, загудѣлъ нашъ снарядъ и разорвался надъ австрiйской батареей.
Австрiйския пушки примолкли, и только наши грозно гремѣли, заставляя непрiятельскую орудiйную прислугу прятаться.
Между нашихъ орудiй валялись убитыя лошади, отъ нихъ рысью отходили передки и коноводы съ лошадьми номерныхъ, и нѣсколько солдатъ несли накрытые палатками тѣла убитыхъ командира батареи и фейерверкера перваго орудiя.
Прочно лежали ободрившiеся окончательно ополченцы.
«Сам погибай, а товарища выручай».
Этотъ принципъ былъ въ Русской Армiи прочно усвоенъ. Войска щеголяли другъ передъ другомъ, соперничая во взаимной поддержкѣ, а прекрасная выучка частей дѣлала то, что и невозможное становилось возможнымъ». (Красновъ П.Н. Памяти Императорской Русской Армiи. // Русская лѣтопись. Кн. V. Парижъ. 1923. Стр. 40-42.)
«177 Петръ КРАСНОВЪ
Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя 29 Мая 1915 г. въ аріергардномъ бою у г. Залещики, отрядомъ изъ 214 и 215 ополченскихъ дружинъ, одной роты 211 дружины, Черкесскимъ, Ингушскимъ, Дагестанскимъ и Кабардинскимъ Конными полками, одной сотней Татарскаго Коннаго полка, 3-имъ и 4-ымъ Заамурскими конными полками 1-ымъ Уральскимъ полкомъ, при 7 конныхъ и 4 Конно-горныхъ орудіяхъ, весь день сдерживалъ натискъ превосходныхъ силъ непріятеля, а когда вечеромъ непріятель прорвалъ расположеніе наше, атаковалъ прорвавшія части въ конномъ строю 4-мя сотнями Заамурцевъ, смялъ и опрокинулъ ихъ и прогналъ за Днѣстръ, при чемъ около 100 человѣк взялъ въ плѣнъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 1 Августа 1914 г. у г. Лобича личнымъ примѣром, подъ огнемъ противника увлекая спѣшенныя сотни 10-го Донского Казачьяго полка, выбилъ непріятеля изъ Ж. — Д станціи, занялъ станцію Любича, взорвалъ Ж. — Д. мостъ и уничтожилъ станціонныя постройки». (Альбомъ кавалеровъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгiя и Георгiевскаго оружiя. Бѣлградъ. 1935. Стр. 119.)
https://cloud.mail.ru/publi...
Даже в Великую войну, когда значительно увеличилось число офицеров военного времени, в русской артиллерии требования к военно-техническому образованию оставались по-прежнему очень высоки. «В полку [6-м Финляндском стрелковом — А.П.] имелась ещё третья категория офицеров, произведённых из фельдфебелей и сверхсрочных унтер-офицеров. Пешими разведчиками заведывал прапорщик Сметанка. Лет двадцать он прослужил фельдфебелем гвардейской батареи, прекрасно знал артиллерийскую стрельбу, вел себя в боях блестяще, был лично известен многим высоким особам мира сего. Все к нему благоволили, но этика не только гвардейской, но и армейской артиллерии почему-то исключала возможность производства в артиллерийские офицеры этого очень достойного, но лишенного «манер» и внешнего культурного лоска бойца. В результате мне предложили, не возьму ли я Сметанку в свой полк, с производством в прапорщики. Я согласился; потеряла только артиллерия, в которой многие командиры батарей были значительно слабее Сметанки. Однажды, глубокой осенью 1916 г., он с моими разведчиками выследил идеально замаскированную австрийскую батарею, стоявшую почти в линии пехотных окопов, соединился по телефону с нашей батареей, попросил выполнять его команду и вдребезги разбил австрийскую батарею. Когда этот разгром совершился и остатки разбитой батареи стали ясны и нашим артиллеристам, они поражались искусству офицеров 6-го полка даже в артиллерийской стрельбе». (Свечин А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914-18 гг. Т. 1. М.-Л. 1930. С. 42.)
1918 г., Кубань: «Я решил пробиваться через Ставропольскую губернию на соединение с генералом Деникиным. Тут я получил известие о том, что из Баталпащинской, с целью окружения меня, движутся два отряда. Один идёт прямо на Бекешевскую, другой, по лесным дорогам, через станицу Усть-Джегутинскую и Белый ключ. Я решил разбить каждый отряд порознь, атаковав первоначально Усть-Джегутинскую колонну; оставив с этой целью пластунскую бригаду на позиции у Белого ключа, выслал казачью лесными тропинками в тыл приближающейся красной колонне.
Утром 20 июня разъезды донесли, что красные подходят. Два батальона пластунов я оставил в резерве, а два других в боевой линии. Большевики открыли сильный артиллерийский огонь и пошли пехотой в атаку. Мои бомбомёты, расположенные на горах, метко били по красным цепям, как только они приближались шагов на тысячу. Не будучи в состоянии добиться успеха фронтальной атакой, большевики пробовали принимать охватывающее положение, что не представляло особых трудностей, ибо местность была весьма лесистая и овражистая. Имея резерв, я отвечал им тем же. С переменным успехом бой длился уже более полудня. Я начал волноваться, ибо, как действующий по внутренним операционным линиям, не мог держать свои руки связанными. Вдруг, около двух часов дня, красные стали отступать, предупреждённые, видимо, кем-то о движении на их тыл, предпринятый моей конницей. Взяв горский конный дивизион и в сопровождении своего конвоя, я бросился лесными тропами на поиски дивизии. Нашел её стоящей и спешенной в лесу. Оказывается, что Солоцкий заблудился. Выслав тотчас же разъезды, я обнаружил, что артиллерия противника уже проскочила обратно; пехота же как раз в это время двигалась мимо дивизии, в 2-3 верстах от её стоянки. Я бросил тотчас же один конный полк к станице Джегутинской для захвата обозов колонны, остальные же три полка направил в пешем строю в атаку, во фланг проходившей мимо красной пехоты. Атакованные внезапно красноармейцы бросились врассыпную; многие были перебиты, однако значительной части пехотинцев удалось рассеяться по лесам. Как я узнал впоследствии, в Баталпашинскую после этого боя прибыло до 400 раненых.
Ворвавшийся в Усть-Джегутинскую мой конный полк захватил все обозы и зарядные ящики; нам досталось порядочное количество хлеба, фуража и до 30000 патронов». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Глава 13. С. 145-146.)
27-28, 29 сентября 1919 г., Саратовская губерния: «Вечеромъ мы оставили Ерзовку и двинулись впередъ безъ дорогъ, въ направленiи высоты съ отмѣткой 471, что на линiи Пичужинскихъ хуторовъ. Ночевали мы на каких-то высотахъ въ старыхъ, но прекрасно выбранныхъ окопахъ. Утромъ из нашихъ окоповъ видно было буквально на 8–10 верстъ. Зато и насъ было хорошо видно съ Волги.
Начался день такъ: группа нашихъ офицеровъ, во главѣ съ командиромъ полка, полковникомъ Ивановым, стояла съ двумя командирами батарей — легкой и гаубичной. О чемъ то спорили, шутили. Батареи наши стояли тутъ же за скатомъ. Кто то обратилъ вниманiе, что съ высотъ со стороны противника спускается группа конныхъ. Конные приближались. Когда сомнѣнiй не было, что это красные, сила которыхъ оцѣнивалась въ полуэскадронъ, рѣшено было дать выйти имъ на гладкое мѣсто. Командиръ гаубичной батареи на минуту скрылся. Вдругъ прогремѣлъ первый выстрѣлъ. Бомба разорвалась очень удачно, но красные не обратили на это особеннаго вниманiя и продолжали идти шагомъ. Тогда бѣгло заговорила вся батарея. Картина получилась рѣдкая. Какъ пыль разлетѣлись всадники, а между ними то тамъ, то тутъ грозными черными столбами взметались рвущiеся снаряды. Обезумѣвшiе кони, потерявъ сѣдоковъ, неслись во всѣ стороны. Это зрѣлище промелькнуло и исчезло. Началось болѣе внушительное. Весь крутой и высокiй берегъ рѣчки Пичуги вдругъ покрылся людьми. Насколько хватало глазъ, можно было видѣть ряды густыхъ цѣпей, сопровождаемыхъ безконечнымъ количествомъ тачанокъ. Я досчиталъ до сорока и бросилъ считать, ибо появлялись все новыя и новыя. Всѣ наши батареи открыли огонь. Справа въ 100 саженях примостился наблюдательный пунктъ какой то Кубанской батареи и пошла канонада. Мы въ этомъ ужасномъ для красныхъ бою были только зрителями. Работала исключительно артиллерiя. Красные ложились, вставали, сбивались въ кучу, то бросались назадъ, а артиллерiя, не переставая, поддерживала губительный огонь. И трудно было сказать, что нужно было: радоваться или плакать... Ведь гибли русскiе. Красные тоже въ долгу не оставались и ихъ судовая артиллерiя все время старалась поддержать свои наступающiя части. Наши артиллеристы въ этотъ день понесли потери, мы же отдѣлались только „испугомъ“: подъ одну из наших тачанокъ попалъ снарядъ, но не разорвался.
Въ этотъ день бой выиграла наша отличная артиллерiя. Ночью намъ было приказано перейти еще лѣвѣе, и остановиться на высоте 471. Накрапывалъ осенний дождь; утро было столь туманно, что въ 20 шагахъ ничего не было видно.
/.../
Въ полдень, когда туманъ немного разсѣялся, противникъ пытался нерѣшительно наступать, но тотчасъ былъ отбитъ нашей артиллерiей. Простояли мы на этомъ памятномъ мѣстѣ три дня. Холода давали себя чувствовать». (Поповъ К. Воспоминанiя Кавказскаго гренадера 1914–1920. Бѣлградъ. 1925. Стр. 261-262, 264-265.)
Здесь могут сказать, что артиллерия естественно должна была взять верх в подобном случае. Как показывает история, русская – да, но не любой страны:
«27 † Баронъ Петръ ВРАНГЕЛЬ
Генерал-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Ротмистромъ Л.-Гв. Коннаго полка, въ бою 6 Августа 1914 г. подъ Краупиштеномъ выпросивъ разрѣшеніе бросился съ эскадрономъ на батарею противника, стремительно произвелъ конную атаку и несмотря на значительныя потери, захватилъ 2 орудія, при чемъ послѣднимъ выстрѣломъ одного изъ орудій подъ нимъ была убита лошадь,
Награжденъ Георгіевскимъ оружіемъ». (Альбомъ кавалеровъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгiя и Георгiевскаго оружiя. Бѣлградъ. 1935. Стр. 100.)

1914 г.: «В начале ноября под Радомом я, вместе с донцами, взял много пленных, орудия, пулемёты, и получил за это Георгиевское оружие». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Глава 2. С. 59.) «Приказом войскам 4-й армии Юго-Западного фронта за № 413 от 29 января 1915 г. подъесаул Шкуро «за то, что 5 и 6 ноября 1914 года у дер. Сямошице, подвергая свою жизнь явной опасности, установил связь между 21-й и 75-й пехотными дивизиями, а с 7 по 10 – между 21-й пехотной и 1-й Донской казачьей дивизиями», согласно Георгиевскому статусу, был награждён Георгиевским оружием». (Дерябин А.И. Крестный путь казака Андрея Шкуро. // Там же. С. 7-8.)
1917 г.: «В начале августа я прибыл в Сенэ, в распоряжение начальника Курдистанского отряда генерала Гартмана и получил от него приказание выбить турецкие таборы, успевшие занять позиции восточнее Гаранского перевала; турки старались сбить нас с него. Я выдвинул разведку, которая, путём расспросов местных жителей, выяснила, что существует горная тропинка, обходящая турецкие позиции. На рассвете 15 августа 1-я сотня моего отряда, под командой подъесаула Прощенко, двинутая по этой тропинке, успешно обошла турок и сбила их заставы. Следовавшие за сотней на вьюках горные орудия изрядно обстреляли турок; пользуясь их переполохом, я развернул свой батальон в атаку. Турки в панике бежали, бросая пулемёты и пушки. Казаки преследовали их до ночи, забирая пленных и трофеи, и вышли в Мериванскую долину. Мы укрепились на отвоёванных позициях...
/.../
Явившись в Хамадан, в штаб корпуса, я узнал, что за Гаранское дело произведён в полковники и назначен командиром 2-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, оставаясь одновременно командиром своего партизанского отряда. Кроме того, Кавказская георгиевская дума присудила мне офицерский Георгиевский крест, но я не ношу его, ибо награждение это не могло до сего времени быть санкционировано Всероссийской георгиевской думой. Мои партизаны, в свою очередь, пользуясь новыми правилами, присудили мне солдатские георгиевские кресты 4-й и 3-й степени». (Шкуро... Записки белого партизана. Глава 6. С. 79, 81.)
Большевики разрушили и эту часть старого мира «до основания». (Заодно расстреляли пошедшего к ним на службу цитировавшегося выше Свечина. Как заявлено в татуировке вышедшего с «Азовстали» укра: «Всех убить. Все отнять».).
Советская.
1930-е годы.
Лётчик Тхор Г.И. в записке от 8 февраля 1937 г. о действиях советских и республиканских частей в Испании указывал: «Под хорошей организацией боя я понимаю своевременное, смелое и тактически правильное введение в действие всех средств борьбы при чётком их взаимодействии, чтобы не получалось то, что каждый род оружия воюет как бы для себя, часто изолированно один от другого. К примеру, авиация громит позиции противника, а пехота восхищается этим и ни шагу вперёд; или авиация бомбит морские силы противника, а своих морских сил и близко нет. И ещё хуже, когда такое, с позволения сказать, взаимодействие получается у пехоты с танками и артиллерией». (РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. Сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА. Т. 2. Сборники № 16–31. М.: РОССПЭН, 2020. С. 112.)
В отчёте «товарища Воронова» о боевых действиях артиллерии на харамском участке в феврале 1937 г. указывалось: «Опыт последних боёв показал, что при хорошей дисциплине у противника его огневые средства быстро зарываются в землю, хорошо маскируются и не выдают себя до начала боевых действий. Особенно трудно найти и подавить противотанковые орудия – грозное оружие, умело применяемое противником против республиканских танков. Подавление орудий ПТО у противника во время артиллерийской подготовки в таких условиях является делом случая, танки сами бороться с этими орудиями, хорошо зарытыми в землю на пересечённой местности, бессильны. Выдвигать за танками отдельные орудия сопровождения полевой артиллерии невозможно из-за сильного пулемётного огня и огня отдельных орудий ПТО противника. Представляется странным, что танк в броне бороться с орудиями ПТО бессилен, а орудия сопровождения без брони в зоне действительного пулемётного огня действовать должны, и в теории это как будто возможно.
Проблема обеспечения артиллерийским огнём танковой атаки огневым валом должна быть проверена в будущих операциях. Проверить это на р. Харама не удалось из-за неподготовленности к этому артиллерии.
Я лично считаю на основе последних боёв, что и огневой вал полностью задачи обеспечения танковой атаки не разрешит, особенно на пересечённой местности.
Считаю, что понижение видимости орудий ПТО противника может обеспечить боевую работу танков, что и имело место в туманные дни и вечерние сумерки. В наших же условиях эту задачу может успешно разрешить дымовая завеса, поднимаемая после окончания артиллерийской подготовки с началом атаки пехоты с танками.
/.../
Проблему наблюдения за стрельбой по батареям противника приходится признать неразрешённой. Массовые воздушные бои и работа зенитной артиллерии показали всю трудность и невозможность работы самолёта-корректировщика, в лётные дни также невозможна работа и аэростатов. Прикрытие их истребителями – дело весьма условное при существующей технике авиации и тактике действий авиации противника.
/.../
Для подавления батарей противника, скрытых от наземного наблюдения, видимо, в значительной мере придётся рассчитывать на звукометрию со стрельбой по площади и с большим расходом боевых выстрелов». (Там же. С. 185- 187.)
То есть, по советскому обычаю, отсутствие качества предлагается заместить количеством.
Здесь, забегая вперёд, следует сказать о распространённом заблуждении, будто в 1941 г. Красная армия ещё не умела хорошо воевать, но потом научилась и стала «громить врага». Это неверно. Советская система ни при каких обстоятельствах не поддаётся улучшению, свои пороки она возмещает их количеством. Во-первых вообще, самые большие безвозвратные потери танков, САУ и самолётов Красная армия понесла в 1944 г. Во-вторых в частности, из следующего примера можно видеть, что с февраля 1937 г. по весну 1945 г. по сути ничего не изменилось: «В это время заговорила наша полковая артиллерия. Шурша над головами, снаряды летели в сторону фольварка. Было хорошо видно разрывы. Они ложились близко друг от друга сплошной стеной, как раз по той полосе, где у немцев были сосредоточены огневые точки. Такая «симфония» радовала и придавала нам больше уверенности в том, что немцы не смогут устоять перед нашим натиском. Верилось, что атака будет успешной. Эти последние минуты тянулись так долго, что это мучительное ожидание переходило в нетерпение.
Наконец, я услышал в шлемофон условный сигнал атаки: «Клены-777». Это означало, что настало время двигаться вперёд.
В триплекс я видел, что наши снаряды изрядно перепахали окраину фольварка, но что уничтожено, а что осталось и может заговорить – это было ещё под вопросом. ...
Меняя позиции скачками от одного укрытия к другому, сделали несколько удачных выстрелов.
Ребята из стрелковой роты, которые действовали вместе с нами, а точнее, мы их поддерживали, жались к самоходке и, ободренные нашим удачным огнём, рванулись вперёд. Справа тоже дела шли успешно. До фольварка оставалось не более двухсот метров.
В этот момент сильный удар по броне остановил самоходку, и пламя из бензиновых баков охватило всю машину. Силой вспышки меня вышвырнуло на обочину дороги, рядом с которой тянулась небольшая канава.
/.../
Мое лицо тоже горело, и я ощущал, что мне как будто на голову, и особенно на лицо, всё время кто-то льёт горячий кипяток. Руки были все в грязи, и, может быть, поэтому они не ощущали ожогов, холодная грязь в какой-то мере успокаивала боль. Меня мучила одна мысль: откуда же по нас выстрелили из пушки? А в том, что это было именно из пушки, сомнений не было. Неужели не все высмотрели? Было обидно и стыдно. Обидно, что так глупо и нелепо получили болванку, а стыдно – что не могли оправдать доверие командира». (Горский Г. Записки наводчика СУ-76. Освободители Польши 1944–1945. М.: «Центрполиграф», 2010. С. 160-161, 163.)
То есть, невыявленные и неподавленные противотанковые орудия по-прежнему, как и в Испании, поражали наступавшую советскую бронетехнику, несмотря на предварительную артиллерийскую подготовку по, вроде бы, разведанным целям. Отличие было в том, что теперь с советской стороны наступали миллионы людей и десятки тысяч единиц техники.
1937 г. внутри СССР (ОКДВА – отдельная краснознамённая дальневосточная армия, КВО – киевский военный округ, БВО – белорусский). Командиры и штабы:
«Б. Артиллерийские
Для первой половины 1937 г. их выучка источниками подробно освещается лишь по ОКДВА. Поэтому ниже речь пойдёт прежде всего о ней.
Стрелково-артиллерийская выучка. Согласно «Материалам по боевой подготовке артиллерии», подготовленным в апреле 1937 г. в штабе ОКДВА или в аппарате начальника её артиллерии для составления отчёта начальника штаба армии от 18 мая, стрелково-артиллерийская выучка комсостава артиллерии ОКДВА весной 1937-го была «удовлетворительной», но «чрезвычайно элементарной». Командиры справлялись лишь с теми стрелковыми упражнениями, которые проводились в простых условиях, при хорошей видимости и «терялись» в сложных (плохое наблюдение, крестящий веер, отрыв одного снаряда и т.д.)». Стрельба на поражение по ненаблюдаемым целям, добавлял июльский приказ Блюхера об итогах зимнего периода обучения 1936/37 учебного года, вообще не была отработана (и неудивительно: применяемыми здесь аналитическими методами подготовки исходных данных овладело лишь «незначительное количество командиров»). Соответственно, артиллерия Блюхера не могла метко стрелять на том театре, на котором ей предстояло действовать: ведь в горно-таёжных районах Приамурья, Приморья, Маньчжурии и Кореи хорошие условия наблюдения целей, ориентиров и разрывов встречались крайне редко... Кроме того, командиры не умели стрелять ночью. Проводившиеся на учениях ночные стрельбы на средние и близкие дистанции, отмечал 26 мая 1937 г. на 3-й партконференции ОКДВА заместитель Блюхера комкор М.В. Сагнурский, «показали достаточную, выражаясь мягко, неподготовленность наших артиллеристов к этому делу».
Не было отработано и огневое сопровождение атаки танков, а ведь война в Испании, подчеркнул Сангурский, уже показала, что без артиллерийской поддержки атакующие танки несут очень крупные потери и терпят неудачу.
Младший комсостав полковой артиллерии, продолжали опровергать выставленную ими «тройку» составители «Материалов по боевой подготовке артиллерии», подготовлен слабо (из-за чего неудовлетворительно подготовлена и полковая артиллерия в целом: ведь «основной контингент стреляющих» в ней составляют именно младшие командиры).
В приказе же командующего Приморской группой командарма 2 ранга Федько № 075 от 8 марта 1937 г. отмечалось, что на проведённом в группе состязании батарей слабую стрелково-артиллерийскую выучку выказал и комсостав (не только младший) всей остальной артиллерии – и дивизионной, и корпусной, и артиллерии РГК. (Напомним, что бòльшая часть артиллерии ОКДВА входила именно в Примгруппу). А в июльском приказе Блюхера утверждение о «тройке», якобы заработанной здесь к маю командирами-артиллеристами ОКДВА, дезавуировалось уже прямо: «Большинство комсостава (в том числе и командиров батарей) в стрелковом отношении подготовлены слабо».
В справедливости этой последней оценки нас убеждают, в частности, те же результаты мартовского состязания батарей Примгруппы. Из участвовавших в нём трёх батарей артиллерии РГК с пристрелкой комсостав справился только в одной (выставленной 187-м артиллерийским полком РГК). Стрелково-тактические задачи из примерно 40 батарей даже на «тройку» сумели решить только в трёх (выставленных артдивизионом 78-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии и 165-м и 199-м артполками РГК); все остальные показали «неудовлетворительные результаты». Ни одна из пушечных батарей дивизионной артиллерии – в том числе и из-за слабой стрелково-артиллерийской выучки комсостава – не справилась ни с одной из стрельб (уступив здесь даже полковой артиллерии, где из 27 батарей одна – из состава артдивизиона 94-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии – выполнила все три стрельбы, а ещё две батареи – по одной из трёх). За глазомерное определение расстояний (этот «важнейший вид подготовки артиллерии») всего лишь «приближающиеся к удовлетворительным» оценки и то смог получить комсостав только трёх батарей – из состава артдивизиона 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, 26-го артполка 26-й стрелковой дивизии и 199-го артполка РГК.
В 21-м артполку 21-й стрелковой дивизии той весной служили и такие командиры, которые и за полную и за сокращённую подготовку данных для стрельбы ухитрялись получать 0 баллов – притом что даже «тройку» ставили только при 60.
«Артиллерия армии, – отмечалось в упомянутых выше «Материалах по боевой подготовке артиллерии» ОКДВА, – отстаёт от артиллерии европейских округов РККА в вопросах стрелково-артиллерийской культуры». Однако, ознакомившись летом 1937 г. со вновь вверенными ему войсками КВО, бывший командующий Примгруппой ОКДВА Федько выявил факты, указывавшие на то, что, по крайней мере, в Киевском округе эта культура была тогда не выше, чем у дальневосточников. Из выступления Федько на заседании Военного совета при наркоме обороны 21 ноября 1937 г. следовало, что при Якире артиллерия КВО, так же, как и в ОКДВА, была «приучена» стрелять только «по прекрасно видимым мишеням» (которых в боевой обстановке встретиться почти не может) и не умела стрелять ночью. А работа комсостава якировской артиллерии на дивизионных учениях в июне 1937-го? Когда, рассказывал на Военном совете Федько, проверяешь перед их началом, как артиллерия подготовилась к поддержке танков и пехоты, то обнаруживаешь «сплошь и рядом, что пушки смотрят не в ту сторону, куда нужно, что артиллеристы не могут ориентироваться на местности по тем схемам разведданных, которые получены от разведывательных батальонов, наблюдательные пункты выбраны так, что они прекрасно видны со стороны противника», что «все артданные для поддержки пехоты и танков оказываются очковтирательными, показаны лишь на бумаге и не соответствуют действительной обстановке, поставленным задачам и местности». Столь наплевательское отношение к своим обязанностям никак не сочетается с высокой стрелково-артиллерийской культурой!
О стрелково-артиллерийской выучке комсостава артиллерии БВО за первую половину 1937 г. сведений обнаружить не удалось.
Тактическая выучка. Что до ОКДВА, то на сей раз составители «Материалов по боевой подготовке артиллерии» не стали ничего смягчать и прямо указали, что тактическую выучку комсостава артиллерии «следует признать неудовлетворительной».
На уровне командиров орудий это было особенно заметно в полковой, батальонной и противотанковой артиллерии – которой часто приходилось действовать поорудийно. «Младший комсостав не готовится к самостоятельным действиям, – отмечалось в посвящённом выучке этих видов артиллерии приказе командующего Примгруппой № 048 от 16 февраля 1937 г. – Слабы знания вопросов боевого применения отдельного орудия в различных видах пехотного боя. [...] Не удивляюсь, что вопросы взаимодействия до сих пор остаются слабым местом всех отрядных учений». О том же говорилось и в отчёте штаба ОКДВА от 18 мая 1937 г.: наиболее слабым местом взаимодействия родов войск являются действия орудий сопровождения танков и пехоты в наступлении. Слабость тактической подготовки младшего комсостава и полковой, и дивизионной, и корпусной артиллерии, и артиллерии РГК констатировал и приказ Федько № 075 от 8 марта об итогах состязания батарей Примруппы.
Об уровне тактической выучки командиров батарей весьма красноречиво, на наш взгляд, говорит факт, отмеченный в мае или июне 1937 г. в 181-м артиллерийском полку РГК: комбатры там не знали условного знака, обозначающего на карте батарею! Вместо нанесения двух поперечных чёрточек на знак, обозначающий отдельное орудие, «некоторые просто ставили» на карте «подряд 4 орудия». И это притом что в частях РГК служили наиболее подготовленные из командиров-артиллеристов.
Штабы дивизионов, артиллерийских групп и артиллерийских полков, прямо констатировалось в отчёте штаба ОКДВА от 18 мая, подготовлены неудовлетворительно; не подготовлены для управления боем и штабы начальников артиллерии 11 из 13 стрелковых дивизий ОКДВА (всех, кроме 12-й и 34-й). Соответственно, от артиллерии Блюхера и перед началом чистки РККА нельзя было ожидать умелого и своевременного массированного огня, да и вообще умелого управления огнём масс артиллерии.
Приказ нового комвойсками КВО Федько № 0100 от 22 июня 1937 г. (отнюдь, как мы видели, не преувеличивавший недостатков, имевшихся при прежнем командующем) позволяет заключить, что в первой половине 1937-го командиры-артиллеристы были тактически слабы и в КВО. «Комсостав всех степеней, – значилось в приказе, – не отработал главнейших вопросов взаимодействия с пехотой (конницей), танками и авиацией. Не отработаны вопросы организации и ведения разведки в процессе боя всеми средствами в условиях незнакомой местности. Слабо отработаны вопросы планирования и управления топографической разведкой и слаба подготовка по управлению огнём». Иными словами, артиллерия Якира даже перед началом чистки РККА не могла:
– ни во время боя обнаружить цели в динамично развивающемся современном бою;
– ни стрелять по ненаблюдаемым целям из-за неумения обеспечить стреляющего командира сведениями, позволяющими подготовить данные для стрельбы по карте);
– ни умело массировать огонь и маневрировать траекториями.
В документах частей и соединений удалось обнаружить лишь три свидетельства, проливающих свет на тактическую выучку комсостава артиллерии КВО в первой половине 1937-го, и все они вполне согласуются с нашим выводом о слабости этой выучки. Проэкзаменовав (соответственно 14–17 октября и 22–23 декабря 1936 г.) курсантов учебных дивизионов 15-го корпусного артиллерийского полка, поверочные комиссии (соответственно командира 15-го полка полковника И.И. Кушнира и помощника начальника артиллерии 15-го стрелкового корпуса майора В.И. Черниловского) обнаружили одно и то же: курсантам «недостаточно привиты навыки командования орудием и взводом»; «недостаточен практический опыт в [...] командовании отделением». А ведь в начале 1937-го проэкзаменованные были уже младшими командирами. Приказ же по 17-му стрелковому корпусу № 056 от 10 июля 1937 г. констатировал «особенно низкий уровень» подготовки штабов артдивизионов, этого важнейшего инструмента организации взаимодействия с пехотой и танками и массирования артиллерийского огня.
Осенью 1937-го точно такая же картина была и в БВО. «Командный состав артиллерии, – признавалось в годовом отчёте этого округа от 15 октября 1937 г., – в тактическом отношении подготовлен недостаточно.
Взаимодействие артиллерии с другими родами всех войск отработано слабо.
Недоработана техника и практика сосредоточения массированного огня.
На низком уровне разведка ненаблюдаемых целей, плохо с артиллерийским наблюдениям и разведкой». Поскольку, как мы видели в предыдущих разделах этой главы, все эти недостатки в БВО существовали и в 1936-м (а плохое умение массировать огонь и в 1935-м), следует считать, что описанная в отчёте тактическая немощь комсостава артиллерии отличала БВО не только во второй, но и в первой половине 1937-го.
Техническая выучка. «Техническая подготовка комсостава и в первую очередь знание своей материальной части, – констатировалось в подготовленных в апреле 37-го «Материалах по боевой подготовке артиллерии» ОКДВА, – лучше, чем в прошлом году, но ещё слабы». Осенью то же самое отмечалось осенью и в БВО: знания в области ухода за техникой, указывалось в годовом отчёте этого округа, у комсостава «ещё во многих случаях неудовлетворительны». Поскольку это явление, обусловленное прежде всего плохим знанием командирами своей матчасти, в артиллерии Уборевича было распространено ещё в 1936-м, техническая подготовленность комсостава артиллерии БВО явно была слабой и в первой половине 1937-го.
Сведениями об уровне технической грамотности командиров-артиллеристов КВО для этого времени мы не располагаем.
/.../
В. Артиллеристы
Уровень выучки, достигнутый в первой половине 1937-го рядовыми артиллеристами и артиллерийскими подразделениями, в обнаруженных нами источниках освещён почти исключительно для ОКДВА, с которой мы поэтому и начнём.
«Во всех частях одиночная подготовка упущена, и выправлять сейчас трудно», – откровенно заявлялось в «Материалах по боевой подготовке артиллерии», подготовленных в апреле 1937 г. в штабе ОКДВА или в аппарате начальника артиллерии ОКДВА комбрига В.Л. Леоновича. О том, что стояло за словом «упущена», можно судить по результатам весенних инспекторских проверок, обнаруживших, например:
– что в 4-й батарее 35-го артиллерийского полка 35-й стрелковой дивизии один из 9 проверенных номеров орудийного расчёта совсем не умеет устанавливать угломер, а четверо устанавливают с такими ошибками, что об использовании их в качестве наводчиков не может быть и речи;
– что в 6-й батарее того же полка установить угломер не могут 3 из 5 проверенных номеров (60 %).
– а в 4, 10-й и 5-й батареях 69-го артполка 69-й стрелковой дивизии – соответственно 3 из 4 (75 %), 9 из 11 (81,8 %) и 12 из 13 (92,3 %)...
В 39-м артиллерийском полку 39-й стрелковой дивизии, докладывал 26 марта 1937 г. Блюхеру начштаба ОКДВА комкор Богомяков, «орудийный расчёт, за исключением наводчиков, не имеет самых элементарных и необходимейших знаний для работы орудий. Случайное выбытие наводчика в этом случае делает небоеспособным всё орудие». «Молодые бойцы моего подразделения не обучены», – сетовал один из командиров батарей 39-го артполка ещё и месяц спустя, на дивизионной партконференции... Ещё в марте неудовлетворительной одиночная подготовка бойца была и в 21, 32-м и 66-м артиллерийских полках (соответственно 21, 32-й и 66-й стрелковых дивизий).
Соответственно, плохо подготовленными, неслаженными были тогда в ОКДВА и орудийные расчёты. Подводя в своём приказе № 075 от 8 марта 1937 г. итоги проведённого в Приморской группе состязания батарей, командующий Примгруппой Федько особо отметил низкую подготовленность орудийных расчётов полковой артиллерии (и, в частности, чрезвычайно опасное отсутствие «сработанности командира орудия с наводчиком»). А из содержащейся в приказе оговорки, согласно которой батареи дивизионной артиллерии стреляли плохо по тем же причинам, что и полковые, вытекает, что слабо подготовленными в Примгруппе были тогда и расчёты орудий дивизионной артиллерии. Это отчасти подтверждается оценкой, которую ещё 21 апреля на дивпартконференции дал своей артиллерии командир59-й стрелковой дивизии комбриг Соломатин: «Огневой расчёт очень плохо работает [...] Не маскируется». Явно слабостью выучки расчётов объяснялось и явление, зафиксированное на тактических учениях 28 марта – 2 апреля 1937 г. в 69-м артполку командиром 69-й стрелковой дивизии комдивом Глуховым: «В массе своей точность работы огневых взводов всё ещё отсутствует».
Что же касается выучки артиллерийских подразделений в ОКДВА в целом, то в документах высших штабов армий Блюхера нет разногласий по поводу неудовлетворительной подготовленности полковой артиллерии. И специальная артиллерийская подготовка, и конное дело, констатировалось в приказе командующего Приморской группой № 048 от 16 февраля 1937 г., полковой артиллерией освоены слабо; одну из основных задач – стрельбу по танкам – она не отработала. Как уже отмечалось выше, из 27 полковых батарей Примгруппы, состязавшихся между собой в начале марта, все три стрельбы сумела выполнить только одна, ещё две – по одной стрельбе из трёх, – а 24 (т.е. 88,8 %) не справились ни с одной. Кроме того, батареи медленно развёртывались на огневых позициях, медленно же изготавливались к стрельбе и слабо маскировались.
За зимние боевые стрельбы полковая артиллерия ОКДВА заработала «неуд», получив 40,7 баллов из 100 (для «тройки» их требовалось набрать хотя бы 60). Данных по 12, 59-й и 69-й дивизиям нет, а из десяти остальных на «хорошо» (на 80–104,9 балла) подразделения полковой артиллерии отстрелялись только в 32-й (86,2 балла), а на «удовлетворительно» (на 60–84,9 балла) – лишь в 34-й (70 баллов) и 35-й (76 баллов). В остальных семи они выполнили стрельбы на чистую «двойку»: в 26-й – на 29,7 балла, в 21-й и 40-й – на 27,5; в 105-й – на 25; в 92-й – на 12,5; в 39-й – на 11,2; в 66-й – на... 0 баллов! Судя по тому, что к показавшим худшие результаты штаб ОКДВА (или аппарат начарта ОКДВА) отнёс и 59-ю стрелковую дивизию, на «неуд» отстрелялась тогда и полковая артиллерия 59-й.
Подразделения дивизионной артиллерии, значилось в апрельских «Материалах по боевой подготовке артиллерии» ОКДВА, зимние боевые стрельбы выполнили на «хорошо» (среди лучших оказались 32, 34, 35-й и 40-й артполки, а среди худших – 21-й и 59-й). Это, однако, никак не согласуется с безобразными результатами стрельб батарей дивизионной артиллерии на состязаниях в Примгруппе в начале марта (напомним, что ни одна из них не справилась тогда ни с одной из стрельб) и с тем обстоятельством, что эти батареи (как и полковые) слишком медленно развёртывались и изготавливались к стрельбе и плохо маскировались. Характерно, что ещё между 17 и 27 мая 1937 г., состязаясь между собой, батареи 40-гоартполка 40й стрелковой дивизии – признанного зимой одним из лучших! – получили (по 5-балльной системе) лишь от 3 до 3,7 балла. По всей видимости, на зимних стрельбах дивизионной артиллерии подразделения, как это практиковалось (см. выше) в тогдашней ОКДВА, были поставлены в облегчённые условия, а результаты стрельб ещё и сфальсифицированы (насколько широко была распространена тогда эта практика, хорошо видно, например, из «Справки-доклада по боевой подготовке артиллерии ОКДВА в 1937 г.», составленной «за начальника артиллерии армии» майором Н.С. Касаткиным)...
Не исключено, что подобным же образом были обставлены в ОКДВА и зимние боевые стрельбы корпусной артиллерии РГК (чьи подразделения, согласно «Материалам по боевой подготовке артиллерии», тоже получили «хорошо»). Впрочем, то, что в дивизионной, и в корпусной и в артиллерии РГК в ОКДВА были тогда и очень слабые части (и, соответственно, подразделения. – А. С.), что «подготовка частей артиллерии крайне неравномерна», – это прямо указывалось в том же самом документе, в котором значилось, что зимние боевые стрельбы проведены на «хорошо».
Подразделения батальонной и противотанковой артиллерии Примгруппы (т.е. примерно три четверти таких подразделений ОКДВА) ещё к февралю были подготовлены откровенно плохо. Всё то, что говорилось в приказе командующего Примгруппой № 048 от 16 февраля 1937 г. о полковой артиллерии, относилось и к батальонной и противотанковой – приказ был посвящён боевой подготовке всех трёх этих видов артиллерии и оценки давал всем сразу.
Документы частей и соединений свидетельствуют, что такое положение с выучкой батальонной и противотанковой артиллерии сохранялось в ОКДВА и позднее. Так, входе проверки, проведённой 15–22 февраля 1937 г., обнаружилось, что все батальонные орудия 2-го батальона 6-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии (45-мм противотанковые пушки образца 1932 г.) требуют войскового ремонта. Виной тому были именно расчёты: при предыдущей проверке (21–27 января) начарт 21-й дивизии полковник Н.С. Иванов обнаружил, что в стволах «сорокопяток» 61-го полка имеются и пыль и песок, что прицельные линии у всех 45-мм пушек (как, кстати, и в 62-м, и в 63-м стрелковых полках) не выверены и что расчёты не соблюдают правил ухода за штоками накатника. В политдонесении начальника политотдела 40-й стрелковой дивизии дивизионного комиссара К.Г. Руденко от 10 марта 1937 г. прямо указывалось, что в ротах тяжёлого оружия (включавших и подразделения батальонной артиллерии. – А. С.) подготовка «стоит на низком качественном уровне». Явно не лучше была она там (а также и в противотанковых батареях полков) и через полтора месяца: при проверке 21 апреля вооружения 120-го стрелкового полка 40-й дивизии требующими войскового ремонта оказались 50 % его 45-мм пушек (т.е. 50 % его батальонных противотанковых орудий) и все пять осмотренных 76-мм полковых пушек образца 1927 г.
«Огневая подготовка артиллерии тоже неудовлетворительная, нормы не выполняются [...]», – констатировал ещё 9 мая 1937 г. на партсобрании командир 62-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии полковник Заикин. Он имел в виду и полковую, и батальонную, и противотанковую – но в последних двух дела, по-видимому, обстояли совсем скверно: у их 45-мм пушек даже стволы были «неисправны».
В общем, выучка рядовых артиллеристов и подготовленность артиллерийских подразделений ОКДВА в первой половине 1937 г. должна быть признана в целом неудовлетворительной.
Формулировки приказа комвойсками КВО Федько № 0100 от 22 июня 1937 г. («огневая подготовка во всех родах войск на низком уровне», «неудовлетворительно знание материальной части своего оружия») позволяют предположить, что неудовлетворительной к середине 1937-го эта выучка была и в Киевском округе. Относительно полковой артиллерии – с учётом того, что мы знаем о тогдашних полковых артиллеристах ОКДВА – это можно сказать почти уверенно. Ведь в единственном сохранившемся из документов, проливающих свет на уровень выучки тогдашней полковой артиллерии КВО - приказе командира 45-й стрелковой дивизии полковника Ф.Н. Ремезова № 0122 от 25 августа 1937 г. – мы читаем: «В тактической подготовке полковой артиллерии не отработана выучка бойца-артиллериста». Проверка, показавшая это, состоялась 8–12 августа, но одиночная подготовка осуществлялась ещё в зимнем периоде обучения.
С учётом того, что нам известно о тогдашних батальонной и противотанковой артиллерии ОКДВА, можно уверенно предположить, что выучка бойцов и подразделений этих видов артиллерии в первой половине 1937-го была низка и в БВО. Вряд ли случайно единственным дошедшим до нас документом, хоть как-то освещающим этот вопрос, оказался приказ командира 23-го стрелкового корпуса комдива Подласа № 028 от 22 июня 1937 г., где констатировалось, что на тактических учениях 1–3 июня личный состав рот тяжёлого оружия выказал незнание своей материальной части и неумение установить 82-мм миномёт на огневой позиции... (Выучку бойцов и подразделений других видов артиллерии тогдашнего БВО имеющиеся у нас источники не освещают вовсе)». (Смирнов А.А. Боевая выучка Красной армии накануне репрессий 1937–1938 гг. (1935 – первая половина 1937 года). Т. 1. М. 2013. С. 323-328, 362-366.)
Качество других родов войск РККА было тоже плохим.
Советско-финская война 1939–40 г.: «Артиллерия в царской армии в техническом и тактическом отношении была элитным родом войск. Сейчас уровень, естественно, опустился в связи с недостаточной общей подготовкой офицерского состава...
Как уже было сказано раньше, техника стрельбы и тактика, особенно в начале войны, оставляли желать лучшего. Артиллерия своим огнём плохо взаимодействовала с пехотой. В начальных боях на Карельском перешейке редко случалось, чтобы артиллерия вела огонь концентрированно и при необходимости быстро переносила его на другие участки. В январе дело значительно изменилось в положительную сторону, да и прицельный огонь стал гораздо лучшим. ...Несмотря на недостатки в тактике, именно обилие артиллерии являлось на перешейке основным фактором военных действий русских, но в таком виде она не отвечала требованиям маневренной войны». (Маннергейм К.Г. Мемуары. М.: «Вагриус», 2003. С. 313.)
Три примера, показывающие, почему советская авиация не могла возместить недостатки советской артиллерии взаимодействием с ней. I) Начало мая 1941 г., Запорожье, 131-й истребительный авиаполк: «Среди молодых лётчиков были хорошие пилоты, но многие не понимали серьёзности положения. Помню, как после одного воздушного боя старший лейтенант Щербинин в приангарном здании, где висели силуэты самолётов вероятного противника, это были немецкие самолеты, глядя на Ме‑109, на «Мессершмитт», сказал: «Я бы схватился с ним. Я бы ему!» Я посмотрел на Токарева. Его лицо, обычно доброжелательное, стало суровым, он перебил Щербинина и сказал: «Что вы „мессеру“?! Что вы можете ему противопоставить? Вы виражите, в лучшем случае, на тройку. А стреляете? Как вы стреляете? Норматив на 120 патронов три попадания по конусу — удовлетворительно, до 10 — хорошо, свыше 10 — отлично. Вы же из 10 не выходите! Если бы вы стреляли, как Сигов (а Сигов делал 60 пробоин), вот тогда вы могли бы говорить. Да научитесь ещё виражить, как Сигов. Что вы можете противопоставить «мессеру»? У «мессера» пушка, у «мессера» крупнокалиберные пулеметы, «мессер» бронирован, он не легко уязвим, скорость его на 100 километров больше, чем у И‑16. Что вы ему противопоставите? Бросьте вы это самохвальство! Меня возмущает вся эта трепотня по радио и в кино. Война — это не игрушка. Будем бить малой кровью! Посмотрим, какая будет малая кровь. Надо учиться воевать, учиться воевать… Вот мы столкнулись с Финляндией. Вы знаете, что мы не смогли сбить «Бристоль‑Бленхейм»? Вы что думаете, что вы легко собьёте «Юнкерс» или «Хейнкель»? Что там сидят дураки?! Вы знаете, что немецкие пилоты, пожалуй, лучшие в мире. Они уже имеют военный опыт в Испании. Что вы можете им противопоставить? Бросьте вы эту похвальбу!». (Синайский Виктор Михайлович. // Драбкин А. Я дрался на истребителе. Принявшие первый удар. 1941-1942. М.: «Яуза», «Эксмо», 2006.)
Здесь показательно: 1) И СССР уже имел военный опыт в Испании, но ему он впрок не пошёл. 2) «Вся эта трепотня по радио и в кино» продолжается до сих пор.
II) Конец июня или начало июля 1941 г., части группы армий Север после переправы через Двину: «Во время необходимых остановок мы на машинах съезжали в придорожный лес и маскировали их от воздушной разведки противника. Уважение к русским ВВС было очень велико, так как нам говорили, что численно они превосходят нас в несколько раз.
Едва мы хотели продолжить марш, как пришло сообщение о приближении крупного соединения русских бомбардировщиков. Мотоциклист, доставивший это сообщение, одновременно передал приказ, что в случае атаки бомбардировщиков марш не должен останавливаться ни в коем случае.
Когда появилось около 30 двухмоторных бомбардировщиков, они атаковали нас в поперечном направлении к нашему движению. Все бомбы попадали в болотистые луга справа от дороги. Никаких потерь у нас не было. Если бомбардировщики противника всегда будут так атаковать, то немецким истребителям и появляться не надо. Пока мы думали о том, не перестать ли нам уважать вражеские ВВС, эскадрилья «мессершмиттов» атаковала улетающее соединение и подбила почти все бомбардировщики. Превосходство нашей авиации было подавляющим». (Крафт Г. Фронтовой дневник эсэсовца. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 145.)
III) С 19 на 20 апреля 1945 г., западнее Аренсдорфа: «Я получил приказ «собраться в Хагельсбергском лесу». Это юго-западнее от нас. Проходя по возвышенности, мы видели отходящие немецкие войска, преследуемые или окружённые русскими. Я избегал идти по открытым пространствам. Когда нам тем не менее пришлось переходить широкое поле, нас внезапно обогнали шесть танков Т-34. Три танка мы подбили фаустпатронами. И тут вдруг откуда ни возьмись появились три «Штуки», уничтожившие три остальных танка». (Там же. С. 317.)
Пикирующие бомбардировщики Ю-87 «Штука» к концу войны стали слишком тихоходными, и поэтому не могли применяться на Западном фронте. Но на Восточном, как видно, успешно действовали до последнего. И снова к выше упоминавшемуся отчёту «товарища Воронова» от февраля 1937 г. о Харамском сражении в Испании: «Проблему наблюдения за стрельбой по батареям противника приходится признать неразрешённой. Массовые воздушные бои и работа зенитной артиллерии показали всю трудность и невозможность работы самолёта-корректировщика, в лётные дни также невозможна работа и аэростатов. Прикрытие их истребителями – дело весьма условное при существующей технике авиации и тактике действий авиации противника». К 1945 г. советских самолётов стало гораздо больше, но по сути дела ничего не изменилось.
2-я Мировая война.
Снарядный голод в русской армии 1915 г.: «Месяцами находившиеся на боевых позициях батареи получали не более четырёх снарядов на орудие [в день – А.П.]. В то время на фронт прибывали артиллерийские парки, вообще не имевшие боеприпасов. …Армейский корпус не мог получить в один приём более тысячи снарядов, и никто не мог знать, когда прибудет следующая партия». (Гурко Василий Иосифович. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914–1917. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 128.)
Советское контрнаступление под Москвой 1942 г.: «В феврале и марте Ставка требовала усилить наступательные действия на западном направлении, но у фронтов к этому времени истощились силы и средства.
Вообще ресурсы нашей страны в то время были крайне ограниченны. Потребности войск ещё не могли удовлетворяться так, как этого требовали задачи и обстановка. Дело доходило до того, что каждый раз, когда нас вызывали в Ставку, мы буквально выпрашивали у Верховного Главнокомандующего противотанковые ружья, автоматы ППШ, 10–15 орудий ПТО [противотанковой обороны – А.П.], минимально необходимое количество снарядов и мин. Всё, что удавалось таким образом получить, тотчас же грузилось в автомашины и направлялось в наиболее нуждающиеся армии.
Особенно плохо обстояло дело с боеприпасами. Так, из запланированных на первую декаду января боеприпасов нашему Западному фронту было предоставлено: 82-миллиметровых мин – 1 процент; артиллерийских выстрелов – 20-30 процентов. А в целом за январь 50-миллиметровых мин – 2,7 процента, 120-миллиметровых мин – 36 процентов, 82-миллиметровых мин – 55 процентов, артиллерийских выстрелов – 44 процента. (Архив МО СССР [ныне Центральный архив Министерства обороны или ЦАМО – А.П.], Ф. 208, оп. 2513, д. 204, л. 169.) Февральский план совсем не выполнялся. Из запланированных 316 вагонов на первую декаду не было получено ни одного. Из-за отсутствия боеприпасов для реактивной артиллерии её пришлось частично отводить в тыл. (Там же. л. 207, л. 210.)
Вероятно, трудно поверить, что нам приходилось устанавливать норму расхода... [отточие Жукова – А.П.] боеприпасов 1-2 выстрела на орудие в сутки. И это, заметьте, в период наступления! В донесении Западного фронта на имя Верховного Главнокомандующего от 14 февраля 1942 года говорилось:
«Как показал опыт боёв, недостаток снарядов не даёт возможности проводить артиллерийское наступление. В результате система огня противника не уничтожается, и наши части, атакуя малоподавленную оборону противника, несут очень большие потери, не добившись надлежащего успеха». (Там же.)». (Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Т. 2. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. М.: Издательство Агентства печати Новости, 1990. Конец главы «Битва за Москву». С. 264-265. Этот отрывок был и в предшествовавших советских изданиях.)
То есть, в Красной армии дневная норма снарядов на орудие в день была в 2-4 раза меньше самого тяжёлого времени в Российской Императорской Армии 1915 г. Только в 1915 г. это происходило у границы Российской Империи, на огромном фронте от Балтийского моря до Карпат, а в начале 1942 г. под Москвой, являвшейся промышленным и железнодорожным центром страны ещё с дореволюционных времён.
Выше приведённые слова в донесении Западного фронта от 14 февраля 1942 года, что «недостаток снарядов не даёт возможности проводить артиллерийское наступление. В результате система огня противника не уничтожается, и наши части, атакуя малоподавленную оборону противника, несут очень большие потери, не добившись надлежащего успеха» – лукавы. На протяжении всей войны случалось, что, имея по несколько сотен орудий на километр фронта и проведя массированную артиллерийскую подготовку, переходя затем в наступление, Красная армия сталкивалась с боеспособной немецкой обороной. Происходило это от указанного низкого качества артиллеристов, усугублявшегося упрощённой конструкцией советских орудий.
Поэтому стрельба по площадям даже при огромной численности советских орудий и боеприпасов не наносила желаемого поражения.
1942 г.:
Северный Кавказ, 27 сентября: «Сижу в кустах и не спускаю глаз с крутого, поросшего кустарником откоса. А тем временем хорошо знакомому завыванию «катюш», похоже, и конца не видно.
И тут же вижу разрывы, ложатся снаряды один за другим в том самом фруктовом саду, где ещё вчера вечером стояли наши машины. Разрывы гремят постоянно, я насчитал не менее 80 разрывов. Наверняка это старые знакомые – те самые 4 русских «катюши». (Кубек В. Передовой отряд смерти. Фронтовой дневник разведчика Вермахта 1942–1945. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 119-120.)
4 декабря: «А около 9 утра начинается светопреставление. Первыми заговорили «катюши», потом раздались глухие залпы обычной артиллерии, завыли миномётные мины.
Русские, видимо, решили сровнять Ардон с землей. Не раз совсем неподалеку от нашего убежища разорвалось несколько мин и снарядов. Решаем всё же убраться в дом. Только добегаем туда, как снова крик: «Воздух!» Приходится снова мчаться в нашу крытую брезентом траншею.
В полдень нам предстоит ещё одна вылазка к русским на передовую. Ничего доброго это не сулит. Простреливается буквально всё. Неподалеку разрывается снаряд, и оконные стекла снова вдребезги.
Время отъезжать. Вскакиваем на груженный дровами кузов и едем. Артогонь немного поутих. В полукилометре от Ардона на кукурузном поле полным-полно постов охранения и резервных подразделений». (Там же. С. 169.)
На успешное наступление группы армий А на Кавказе советская власть ответила, в числе прочего, изданием наставления: 76-мм горная пушка обр. 1909 г. Краткое руководство службы. М.: Военное издательство Народного комиссариата обороны, 1942. («Подписано к печати 17.12.42».)
1944 г.:
«Полк, в котором мы с Юргиным оказались, входил в состав гаубичной бригады, являвшейся соединением артиллерийской дивизии.
Мы располагались в нескольких километрах от Коломны, в лесу, на правом берегу Оки. Полк состоял из двух дивизионов, включающих пять батарей. В каждой из них было по два огневых взвода и по одному взводу управления. Огневой взвод представлял собой две 122-мм гаубицы, обслуживаемые расчётом из семи человек орудийной прислуги и шофера.
За посёлком на открытой площадке располагались гаубицы и американские «Студебекеры», полученные по ленд-лизу и недавно прибывшие своим ходом из Ирана.
Формированию дивизии предшествовала амнистия, и в нашу батарею в течение нескольких недель каждый день поступали бывшие заключённые. В моем расчёте, например, из восьми человек пятеро прибыли прямо из тюрьмы, где отбывали наказание за кражи нескольких килограммов зерна, ведра картошки и других, чаще всего продовольственных товаров. Уже через месяц, на фронте, когда мы ближе познакомились, я понял, что большинство этих ребят оказались хорошими людьми, добросовестно несущими нелегкую солдатскую службу». (Стопалов С.Г. Фронтовые будни артиллериста. С гаубицей от Сожа до Эльбы. М.: «Центрполиграф», 2015. С. 84.)
Балканы, 1944 г. «16-го октября, не доходя до Мокрого Луга, колонна остановилась. Передовые немецкие части донесли, что Белград занят моторизованными советскими частями, с большим количеством танков, артиллерии и «Катюш».
Немецкое командование решило бросить всю моторизованную часть колонны и повернуть проселочными дорогами на Авалу.
К Авале подошли 17-го октября со стороны железной дороги Белград-Пожаревац, которая обстреливалась продольным огнем бомбометов и пулеметов. Не обращая внимания на жесточайший огонь, наши части, потеряв несколько человек убитыми, перекатились через полотно жел. дороги и по глубокому оврагу вышли на поле перед Авалой. По всему полю, насколько охватывал глаз, шли немецкие цепи. Огонь советских бомбометов не причинял почти никакого вреда. Но опушка леса у подножия Авалы опоясалась дымовой завесой – строчили советские автоматы и пулеметы. Во что бы то ни стало, нужно было прорвать эту линию и уйти в лес. На нашем участке, например, цепи двигались перебежками, не стреляя, молча. И это было страшно. Люди решили идти на смерть, но добиться своей цели.
Советская пехота не выдержала. Наши части вошли в лес, но вошли разрозненно, вкрапленные между немецкими частями. Также разрозненно действовали и дальше. От Авалы повернули влево через шоссе и под сильным обстрелом танков спустились в узкое ущелье. Здесь соединились вместе штаб III-го батальона 2-го полка, во главе с ген. Ивановым, 4-я учебная рота и остатки 1-го взвода 9-ой роты 2-го полка и Тяжелый взвод I-го б-на 2-го полка.
Маленький отряд ген. Иванова лежал в выемке дороги, обсаженной кустами. Подходили автоматчики, танки, обстреливала «Катюша», бомбили аэропланы. Отряд не сдвинулся с места в течение всего дня. Зато с левой стороны обойти ущелье советским частям не удалось. В этом бою был ранен ген. Иванов. С правой стороны выдерживали натиск бранденбуржцы и с ними наш Тяжелый взвод. Общая немецкая группа отходила по ущелью.
Наши и немецкие части, хотя и значительно поредели, но, оставив далеко за собой Авалу и ведя беспрерывные бои с наседавшими со всех сторон новыми советскими и партизанскими частями, всё же дошли до Шабца и перешли мост через реку Саву, в Кленак, охранявшийся 1-м полком Русского Корпуса». (Черниченко Г. Крестный путь Русского корпуса (I-й б-н 2 полка. Д. Милановац–Белград–Шабац. // Русский Корпус на Балканах во время II Великой войны 1941–1945 г.г. Нью Йорк. 1963. С. 262-263.)
Вторая половина октября 1944 г.: «На участке моей роты стояло три немецких батареи. В ответ на огонь нашей артиллерии, Советы усилили свой натиск двумя «Катюшами», обстреливавшими нас каждые пол часа. Действие этого страшного 36-ти зарядного, орудия нам пришлось испытать на себе в течение 15 дней. Звуков выстрела «Катюши» слышно не было. Не было видно и вспышки при выстреле, но самый полет очереди снарядов производил какой-то непонятный дьявольский гул. Приближение выпущенной по вас очереди снарядов создавало впечатление приближения какого-то страшного урагана. Каждый снаряд, разрываясь, выпускал целую серию маленьких снарядиков, покрывая всю площадь грохотом разрывов и вспышек, что и производило впечатление огненной площади. Всё это производило огромное действие на моральное состояние, но поражаемость была не велика». (Янковский Е. Запасная рота. // Там же. С. 272-273.)
Окончивший в 1907 г. Александровское военное училище (Москва), полковник Лейб-Гвардии Кексгольмского полка Евгений Львович Янковский участвовал в 1-й Мировой и Гражданской войнах. (Волков С.В. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Чины Русского Корпуса: Биографический справочник в фотографиях. М. 2009. С. 501.) Ему было, с чем сравнивать.
1945 г.:
«При разработке Берлинской операции командующий фронтом и командиры соединений прорабатывали варианты наступления, направленного на ошеломление и подавление противника. В процессе этой работы и родилось предложение ночной атаки с прожекторами. Решено было обрушить на немцев удар 16 апреля за два часа до рассвета. Зенитные прожекторы должны были внезапно осветить позиции противника и объекты атаки.
О предстоящей операции шоферов дивизиона предупредили лишь за несколько часов, в течение которых они должны были подготовить свои машины к маршу.
Ночью в полной темноте наш полк 122-мм гаубиц по понтонной переправе форсировал Одер, вышел на автостраду и занял место в войсковой колонне. Днём отсюда просматривалась вся приодерская местность. Но сейчас она была скрыта предутренним туманом.
Перед нами стояло множество машин с зенитными прожекторами, а рядом расположились танки и БТРы [бронетранспортёры в Красной армии были из США – А.П.] с пехотой.
Ровно в назначенное время в небо взлетели тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули сто сорок прожекторов, расположенных на шоссе. И тотчас же началась артподготовка.
Раздался потрясающей силы грохот выстрелов и разрывов снарядов и мин. По статистическим данным, на линии главного удара было сосредоточено почти 15 тысяч орудий, да ещё в воздухе гудели бомбардировщики. В течение только первого дня наступления артиллерией было сделано более миллиона выстрелов, на изготовление снарядов для которых потребовалось почти 100 тысяч тонн металла, а для их доставки на фронт две с половиной тысячи железнодорожных вагонов.
В течение тридцатиминутного артиллерийского огня противник не сделал ни единого выстрела, что свидетельствовало о его полной подавленности и разрушении системы обороны.
Потом началась следующая атака с прожекторами. Мы ещё больше усилили огонь, а пехота и танки дружно бросились вперед, сопровождаемые огневым валом.
К рассвету первая оборонительная линия обороны противника была преодолена и начата атака второй линии.
Гитлеровские войска были буквально потоплены в море огня и металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, которую даже мощные лучи прожекторов не могли пробить. Но это нас не смущало. Мы упорно преодолевали сопротивление немцев и шли вперёд, ежедневно продвигаясь в среднем на 8 километров, а на некоторых участках и на 10–12 километров.
Тяжелейшие бои за овладение Зееловскими высотами продолжались несколько дней, но прожекторы в них уже не применялись. В этот период наша бригада поддерживала 8-ю армию генерала Чуйкова...». (Стопалов С.Г. Фронтовые будни артиллериста. С гаубицей от Сожа до Эльбы. М.: «Центрполиграф», 2015. С. 160-161.)
16 апреля: «...в направлении Кюстрина в пойме Одера. Ночное небо на востоке было светлым от всполохов пламени. Там, по-видимому, на узком участке фронта вели огонь тысячи орудий.
/.../
Утром населённые пункты западнее Одера начали превращаться в пепел и руины. Хайнерсдорфу тоже досталось. Снова и снова удары бомб будили меня, после чего я снова проваливался в глубокий сон.
К полудню потерь от бомбардировок у нас не было – сказалось то, что мы поставили палатки в высоком кустарнике. По дороге пошли транспорты с ранеными. Мы получили возможность узнать, что творится «на передке». Русские несущественно продвинулись вперёд. Удар их огневой подготовки пришёлся в основном на оставленные позиции. А прожекторы, которые они выставили вдоль фронта, чтобы осветить поле боя и ослепить обороняющихся, очень помогли немцам. В то время как советские танки постоянно ехали по своей тени и, не разбирая дороги, вязли в болотах поймы, немецкая артиллерия с новых позиций с господствующих Зееловских высот имела перед собой освещённые цели и наносила противнику тяжёлые потери.
17 апреля: всё небо в штурмовиках и бомбардировщиках. Они атакуют позиции нашей артиллерии и всё, что видят. Под их прикрытием русские наступают дальше.
/.../
Температура не проходит. Выполняю служебные обязанности. Хожу днём и ночью в мокрой одежде.
18 апреля. Санитар передал мне плоскую бутылку со своим «лекарственным пойлом». Если инъекции и таблетки не помогали, другого средства он уже не знал.
Попали под сильный артиллерийский обстрел. Ну, вот и началось. Изрядно захмелевший, в прекрасном настроении, как только закончилась артподготовка, я вышел вперёд к двум окопавшимся взводам. Противника пока я не видел и вышел далеко за позицию, чтобы осмотреть местность с возвышенности. Там я увидел оставленную позицию и присел за бруствером. Вдалеке я увидел отходящие немецкие войска, никакой паники и бегства. Наверное, займут новую позицию. Из-за облаков появилось солнце. Оно припекало так приятно, что я задремал. Разбудил меня лязг гусениц. Три Т-34, без пехоты, проезжали мимо, не обращая внимания на меня, ничтожного червя, хотя я, находясь в прекрасном настроении, приветливо махал им рукой. Они немного задержались на моей высоте, повернули правее и исчезли в направлении Мюнхберга. «Разведка», – подумал я. Мне было известно, что Т-34 из-за того, что командир совмещает обязанности наводчика, почти слеп. А ведь эти экипажи разведки могли бы посмотреть, что делается по сторонам.
Русские не заставили себя долго ждать. Немного придя в себя от случившегося, я вернулся назад к роте и принял необходимые меры. Когда иваны после полудня, ничего не подозревая, массами пошли по открытой местности, со среднего расстояния по ним внезапно открыли огонь двадцать пулемётов. Те, в кого не попали, прижались к земле. Я знал, что за этим последует, и приказал незаметно перейти на второй оборонительный рубеж на окраине Хайнерсдорфа». (Крафт Г. Фронтовой дневник эсэсовца. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 314-315.)
Естественно возникает вопрос, кто наводил предваряющий наступление огонь советской артиллерии, если командовавший передовой немецкой ротой обершарфюрер, даже пройдя далеко за свой передний край, не обнаружил никакого присутствия советских войск, поспал и только после этого встретился с советской разведкой? И это не в 1941, а в 1945 г., с 611 орудиями на км фронта. Всё как обычно: артиллерия отчиталась о проведённой артподготовке, три танка о разведке (вдали от немецких окопов). Остальное трудности тех, кого пошлют в наступление.
Ответ на вопрос, в каких из двух приведённых воспоминаний вернее изложены события, дают официальные данные о советских потерях в «Берлинской стратегической наступательной операции 1945 г.». За две недели из 2062100 чел. безвозвратные потери составили 81116, санитарные 280251, общие 361367. Потери в технике: стрелкового оружия 215900, танков и САУ 1997, орудий и миномётов 2108, самолётов 917. (Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. М.: «Вече», 2010. С. 171, 348.) http://militera.lib.ru/h/sb...
Немецкие силы на Одере составляли не более 250 тыс. После прорыва их позиций, в Берлине оборонялись около 115 тыс. (Куби Э. Русские в Берлине. Сражения за столицу Третьего рейха и оккупация. 1945. М.: «Центрполиграф», 2018. С. 41-43, 102-104.) https://vk.com/wall-5661108... При этом в Берлине на 27-е апреля 1945 г.: «Две трети, если не три четверти, бойцов оставляли члены гитлерюгенда и фольксштурма, необученные и вооружённые тем, что попалось под руку. ...Регулярные части армии и войск СС насчитывали менее 20 тысяч человек при менее чем 100 танках, а артиллерия уже расстреляла почти все снаряды». (Фей В. Танковые сражения войск СС. Новый перевод. М.: «Яуза», «Эксмо», 2009. С. 380.)
Во что попали 16 апреля 1945 г. выше упомянутые более миллиона советских снарядов?
В сознании позднесоветского человека действительная история начиналась с 1917 г., а до того была неисправимо отсталая царская Россия. Самой великой и единственно настоящей войной признавалась 2-я Мировая, а все бывшие до неё (кроме Гражданской) считались малосерьёзными или вовсе ничтожными в военном отношении. Соответственно исторически верхом европейского военного дела и мощи выставлялся Третий рейх.
Естественно, в самой Германии на дело смотрели иначе. В начале войны начальник штаба её сухопутных сил записал в дневнике 24 сентября 1939 года (воскресенье): «3. Боевой опыт в Польской кампании; после подробных совещаний с командирами впечатление изменилось. Той пехоты, которая была в 1914 году, мы даже приблизительно не имеем. У солдат нет наступательного порыва и не хватает инициативы. Всё базируется на командном составе, а отсюда — потери в офицерах. Пулемёты на переднем крае молчат, так как пулемётчики боятся себя обнаружить». (Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939-1942 гг. Т. I. От начала войны с Польшей до конца наступления на Западном фронте (14.8.1939 г. — 30.6.1940 г.). М.: «Воениздат», 1968. С. 130.)
Знаменитый генерал-полковник Хайнц Гудериан вспоминал после войны: «Пока война на Западе не пришла к завершению, любое новое военное предприятие означало открытие войны на два фронта, а к этому Германия Адольфа Гитлера была готова ещё меньше, чем Германия образа 1914 года». (Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. М.: «Центрполиграф», 2005. Глава 6. Россия, 1941 год. Подготовка. С. 162.)
В сталинском СССР тоже ещё хорошо помнили «старорежимные» времена. Даже сам Сталин проговорился в своём известном выступлении по радио 3 июля 1941 г.: «Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо‑французских войск и, наконец, была разбита англо‑французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко‑фашистской армии Гитлера».
Правда, кто считал немецкие войска 1-й Мировой войны непобедимыми, неизвестно. Если не большевики, то это явно было сказано «для красного словца». Но 1-ю и 2-ю Мировые войны, конечно, сопоставляли.
Поэтому неудивительно, что после 2-й Мировой войны был выпущен военно-научный труд на полутора тысячах страницах не о советской, а о русской артиллерии: Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). Т. I–IV. М.: Военное издательство Министерства Вооружённых Сил Союза ССР, 1948–1949.
Наследие советского артиллерийского дела можно наблюдать до сих пор: после выстрела подпрыгивающие орудия и раскачивающиеся многотонные самоходные установки, сделанные по правилу «дёшево и сердито».
Что касается других родов войск. Те, кто теперь объявляют себя «наследниками победителей», должны взять в руки Мосинские винтовки, до сих пор выдающиеся ополченцам в ДНР, и бежать с криками «ура!» на неподавленные украинские огневые точки. Если они не станут этого делать, то не могут считаться наследниками Красной армии, в которой не принимались во внимание собственные потери. ВСУ надеялись на советские способы ведения войны с нашей стороны, когда густые массы пехоты и танков волнами отправляют на проламывание обороны противника. В действительности же самой «Украине» приходится затыкать дыры в обороне человеческими жизнями. Кроме этого укры ещё собрались устроить «голодомор», вывозя зерно для продажи на Запад подобно Сталину в 1932-33 годах, не взирая на потребности собственного населения.
Антон Павлов,
20-05-2022 02:31
(ссылка)
Иносказательность в Византийском временнике 1953 года.
«В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, – у народа, у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость». (О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. Июль 1930 — январь 1934. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. С. 39.)
Белоэмигрант Иван Лукьянович Солоневич: «Въ 1918 году въ германскомъ Кіевѣ мнѣ какъ-то пришлось этакъ "по душамъ" разговаривать съ Мануильскимъ — нынѣшнимъ генеральнымъ секретаремъ Коминтерна, а тогда представителемъ красной Москвы въ весьма неопредѣленнаго цвѣта Кіевѣ. Я доказывалъ Мануильскому, что большевизмъ обреченъ — ибо сочувствіе массъ не на его сторонѣ.
Я помню, какъ сейчасъ, съ какимъ искреннимъ пренебреженіемъ посмотрѣлъ на меня Мануильскій... Точно хотѣлъ сказать: — вотъ поди-жъ ты, даже міровая война — и та не всѣхъ еще дураковъ вывела...
— Послушайте, дорогой мой, — усмѣхнулся онъ весьма презрительно, — да на какого же намъ чорта сочувствіе массъ? Намъ нуженъ аппаратъ власти. И онъ у насъ будетъ. А сочувствіе массъ? Въ конечномъ счетѣ — наплевать намъ на сочувствіе массъ...
Очень много лѣтъ спустя, пройдя всю суровую, снимающую всякія иллюзіи, школу совѣтской власти, я, такъ сказать, своей шкурой прощупалъ этотъ, уже реализованный, аппаратъ власти въ городахъ и въ деревняхъ, на заводахъ и въ аулахъ, въ ВЦСПС и въ лагерѣ, и въ тюрьмахъ. Только послѣ всего этого мнѣ сталъ ясенъ отвѣтъ на мой давнишній вопросъ: изъ кого же можно сколотить аппаратъ власти при условіи отсутствія сочувствія массъ?
Отвѣтъ заключался въ томъ, что аппаратъ можно сколотить изъ сволочи, и, сколоченный изъ сволочи, онъ оказался непреоборимымъ; ибо для сволочи нѣтъ ни сомнѣнія, ни мысли, ни сожалѣнія, ни состраданія. Твердой души прохвосты.
/.../
Реалистичность большевизма выразилась, въ частности, въ томъ, что ставка на сволочь была поставлена прямо и безтрепетно». (Солоневичъ Ив. Россiя въ Концлагерѣ. Софiя. 1938. Глава «Ставка на сволочь».)
Народный комиссар ВМФ, военно-морской министр, главнокомандующий ВМФ СССР, член ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов, «герой Советского Союза», адмирал флота Кузнецов Николай Герасимович («легендарный нарком»): «Занимая различные посты, я, по мере продвижения вверх по служебной лестнице, ожидал встретить там ещё более идеальных, если можно так выразиться, людей-коммунистов. В этом меня не раз постигало разочарование. Жизнь на практике оказалась совсем не такой идеальной, как я её себе представлял. Самое большое разочарование меня постигло, когда я, встречаясь с высокими руководителями, в первый же период своей работы получил несколько тумаков за искреннее изложение своей точки зрения. Я был уверен, что, как коммунист, не могу кривить душой перед своим начальством, а на практике оказалось, что подобная моя позиция — всего лишь «простодушие», никому не нужная наивность, и не более того. Это заставило меня присмотреться, как же поступают люди, более искушенные по работе в высших сферах. Я с горечью констатировал, что они не так уж щепетильны насчёт искренности.
Никогда не забуду разговор на квартире у Сталина, когда я откровенно поделился с Молотовым своим сожалением по поводу того, что далеко не всегда мне удается удачно выразиться, попадая, как говорится в точку, но что делаю я это в любом случае искренне, как понимаю тот или другой вопрос. А он мне на это как бы в поучение молодому человеку: «Только «шляпа» высказывает то, что думает». Я, конечно, понимал, что в разговоре с врагами или в дипломатических переговорах с иностранцами не следует простодушничать, но никак не мог усвоить, зачем нужно хитрить также и в разговорах со своими руководителями. Потом, не раз оказываясь в соответствующих ситуациях, я наблюдал за разговорами окружающих, думая, в какой степени их разговоры откровенны, и в некоторых случаях становился свидетелем того, как вот, например, товарищ Н. теперь говорит совсем не то, что думает, а соглашается с тем, с чем всего несколько часов тому назад он был не согласен.
Не раз битый, я и сам, конечно, научился не вылезать со своим мнением, не узнав мнения начальства. Но преуспеть в этом деле я не мог. Так до конца своей службы, как будто кто-нибудь тянул меня за язык, мне хотелось сказать то, что я думаю, а не то, что полезно лично для меня. А сколько образцов преуспевания имел я перед собой, чтобы освоить этот стиль работы!» (Кузнецов Н.Г. Крутые повороты: Из записок адмирала. М.: «Молодая гвардия», 1995. С. 90-91.)
«Окончание войны до сих пор живёт в моей памяти как грандиозное событие, разом смывшее все мои сомнения относительно мудрости руководства страны. Героические и трагические события минувшего, людские потери и даже массовые репрессии – всё это казалось оправданным перед лицом Великой Победы над Гитлером. Помню большой приём в Георгиевском зале Кремля... Помню, как Сталин подошёл к нашему столу... Мы чувствовали себя его детьми и наследниками. Подчеркнутое внимание Сталина к молодым генералам и адмиралам показывало, что будущее страны он связывал с нашим поколением». (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1998. С. 271-272.)
Но когда сам Судоплатов получил в сталинское наследство вместо власти репрессии, он не признал это ни мудрым, ни оправданным.
Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя. Речь к молодому императору Аркадию, после 17 января 395 г. после Р.Х.:
«5. /.../
Хорошо старое изречение, что не количество подданных делает императором, а не тираном, точно так же как количество овец не делает пастухом мясника, который гонит их на бойню, чтобы не только утолить свой голод, но и другим продать на обед.
6. Этим-то, полагаю, отличается император от тирана, пусть даже судьба у них одинакова. И как тот, так и другой господствуют над множеством людей. Тот, кто соединяет свои интересы с благом подданных, кто готов страдать, чтобы оградить их от страданий, кто подвергается за них опасности, лишь бы только они жили в мире и безопасности, кто бодрствует днём и ночью, чтобы им не было причинено никакого вреда, тот – пастух для овец, государь для людей. Но кто пользуется властью неумеренно, употребляет её на удовольствия и забавы, думая, что она должна служить к удовлетворению всех его страстей, кто считает выгодным начальствовать над многими, если они служат его прихотям, кто, коротко говоря, хочет не стадо кормить, но самому от стада кормиться, того я назову мясником для скота, того я назову тираном, если он начальствует над разумными людьми. Вот тебе единственная возможная норма царственного поведения. ... Разным добродетелям близки разные пороки, и отступив от стези добродетели [ты приходишь] к соответствующему пороку. Императорской власти близка тирания и почти с ней соприкасается, так же как безрассудство соприкасается с храбростью, расточительность со щедростью. Гордый, если не удерживается философией в должных границах, если несколько выходит из рамок, становится заносчивым и умственно неполноценным. Не страшись никакого другого порока для царской добродетели, кроме тирании, и различай [эти понятия], пользуясь указаниями данной речи, а в особенности тем, что император свои склонности подчиняет законам [божественным – А.П.], а для тирана его склонности служат законом. Власть – вот то, что у них общего, а [образ] жизни – противоположный».
«24. И прежде всего нужно приказать воинам, чтобы они щадили горожан и деревенских жителей и отнюдь не были им в тягость, помня о трудах, которые те приняли ради них. Император воюет для защиты достояния городов и деревень и [для этого] набирает воинов. Поэтому тот, кто отгоняет от меня чужестранного врага, а сам обходится со мной дурно, тот, по моему мнению, не отличается от собаки, которая в течение долгого времени отгоняла волков, помышляя на досуге без помех растерзать стадо вместо того, чтобы получить в награду молоко». (Синезий Киренский. О царстве. (Перевод с греческого М.В. Левченко). // Византийский временник. Т. VI. М. 1953. С. 340, 354.)
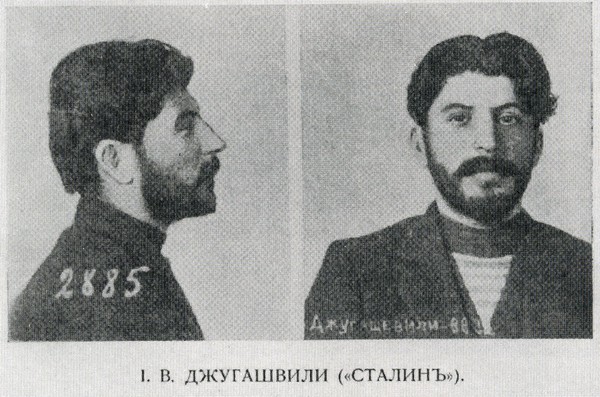
Белоэмигрант Иван Лукьянович Солоневич: «Въ 1918 году въ германскомъ Кіевѣ мнѣ какъ-то пришлось этакъ "по душамъ" разговаривать съ Мануильскимъ — нынѣшнимъ генеральнымъ секретаремъ Коминтерна, а тогда представителемъ красной Москвы въ весьма неопредѣленнаго цвѣта Кіевѣ. Я доказывалъ Мануильскому, что большевизмъ обреченъ — ибо сочувствіе массъ не на его сторонѣ.
Я помню, какъ сейчасъ, съ какимъ искреннимъ пренебреженіемъ посмотрѣлъ на меня Мануильскій... Точно хотѣлъ сказать: — вотъ поди-жъ ты, даже міровая война — и та не всѣхъ еще дураковъ вывела...
— Послушайте, дорогой мой, — усмѣхнулся онъ весьма презрительно, — да на какого же намъ чорта сочувствіе массъ? Намъ нуженъ аппаратъ власти. И онъ у насъ будетъ. А сочувствіе массъ? Въ конечномъ счетѣ — наплевать намъ на сочувствіе массъ...
Очень много лѣтъ спустя, пройдя всю суровую, снимающую всякія иллюзіи, школу совѣтской власти, я, такъ сказать, своей шкурой прощупалъ этотъ, уже реализованный, аппаратъ власти въ городахъ и въ деревняхъ, на заводахъ и въ аулахъ, въ ВЦСПС и въ лагерѣ, и въ тюрьмахъ. Только послѣ всего этого мнѣ сталъ ясенъ отвѣтъ на мой давнишній вопросъ: изъ кого же можно сколотить аппаратъ власти при условіи отсутствія сочувствія массъ?
Отвѣтъ заключался въ томъ, что аппаратъ можно сколотить изъ сволочи, и, сколоченный изъ сволочи, онъ оказался непреоборимымъ; ибо для сволочи нѣтъ ни сомнѣнія, ни мысли, ни сожалѣнія, ни состраданія. Твердой души прохвосты.
/.../
Реалистичность большевизма выразилась, въ частности, въ томъ, что ставка на сволочь была поставлена прямо и безтрепетно». (Солоневичъ Ив. Россiя въ Концлагерѣ. Софiя. 1938. Глава «Ставка на сволочь».)
Народный комиссар ВМФ, военно-морской министр, главнокомандующий ВМФ СССР, член ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов, «герой Советского Союза», адмирал флота Кузнецов Николай Герасимович («легендарный нарком»): «Занимая различные посты, я, по мере продвижения вверх по служебной лестнице, ожидал встретить там ещё более идеальных, если можно так выразиться, людей-коммунистов. В этом меня не раз постигало разочарование. Жизнь на практике оказалась совсем не такой идеальной, как я её себе представлял. Самое большое разочарование меня постигло, когда я, встречаясь с высокими руководителями, в первый же период своей работы получил несколько тумаков за искреннее изложение своей точки зрения. Я был уверен, что, как коммунист, не могу кривить душой перед своим начальством, а на практике оказалось, что подобная моя позиция — всего лишь «простодушие», никому не нужная наивность, и не более того. Это заставило меня присмотреться, как же поступают люди, более искушенные по работе в высших сферах. Я с горечью констатировал, что они не так уж щепетильны насчёт искренности.
Никогда не забуду разговор на квартире у Сталина, когда я откровенно поделился с Молотовым своим сожалением по поводу того, что далеко не всегда мне удается удачно выразиться, попадая, как говорится в точку, но что делаю я это в любом случае искренне, как понимаю тот или другой вопрос. А он мне на это как бы в поучение молодому человеку: «Только «шляпа» высказывает то, что думает». Я, конечно, понимал, что в разговоре с врагами или в дипломатических переговорах с иностранцами не следует простодушничать, но никак не мог усвоить, зачем нужно хитрить также и в разговорах со своими руководителями. Потом, не раз оказываясь в соответствующих ситуациях, я наблюдал за разговорами окружающих, думая, в какой степени их разговоры откровенны, и в некоторых случаях становился свидетелем того, как вот, например, товарищ Н. теперь говорит совсем не то, что думает, а соглашается с тем, с чем всего несколько часов тому назад он был не согласен.
Не раз битый, я и сам, конечно, научился не вылезать со своим мнением, не узнав мнения начальства. Но преуспеть в этом деле я не мог. Так до конца своей службы, как будто кто-нибудь тянул меня за язык, мне хотелось сказать то, что я думаю, а не то, что полезно лично для меня. А сколько образцов преуспевания имел я перед собой, чтобы освоить этот стиль работы!» (Кузнецов Н.Г. Крутые повороты: Из записок адмирала. М.: «Молодая гвардия», 1995. С. 90-91.)
«Окончание войны до сих пор живёт в моей памяти как грандиозное событие, разом смывшее все мои сомнения относительно мудрости руководства страны. Героические и трагические события минувшего, людские потери и даже массовые репрессии – всё это казалось оправданным перед лицом Великой Победы над Гитлером. Помню большой приём в Георгиевском зале Кремля... Помню, как Сталин подошёл к нашему столу... Мы чувствовали себя его детьми и наследниками. Подчеркнутое внимание Сталина к молодым генералам и адмиралам показывало, что будущее страны он связывал с нашим поколением». (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1998. С. 271-272.)
Но когда сам Судоплатов получил в сталинское наследство вместо власти репрессии, он не признал это ни мудрым, ни оправданным.
Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя. Речь к молодому императору Аркадию, после 17 января 395 г. после Р.Х.:
«5. /.../
Хорошо старое изречение, что не количество подданных делает императором, а не тираном, точно так же как количество овец не делает пастухом мясника, который гонит их на бойню, чтобы не только утолить свой голод, но и другим продать на обед.
6. Этим-то, полагаю, отличается император от тирана, пусть даже судьба у них одинакова. И как тот, так и другой господствуют над множеством людей. Тот, кто соединяет свои интересы с благом подданных, кто готов страдать, чтобы оградить их от страданий, кто подвергается за них опасности, лишь бы только они жили в мире и безопасности, кто бодрствует днём и ночью, чтобы им не было причинено никакого вреда, тот – пастух для овец, государь для людей. Но кто пользуется властью неумеренно, употребляет её на удовольствия и забавы, думая, что она должна служить к удовлетворению всех его страстей, кто считает выгодным начальствовать над многими, если они служат его прихотям, кто, коротко говоря, хочет не стадо кормить, но самому от стада кормиться, того я назову мясником для скота, того я назову тираном, если он начальствует над разумными людьми. Вот тебе единственная возможная норма царственного поведения. ... Разным добродетелям близки разные пороки, и отступив от стези добродетели [ты приходишь] к соответствующему пороку. Императорской власти близка тирания и почти с ней соприкасается, так же как безрассудство соприкасается с храбростью, расточительность со щедростью. Гордый, если не удерживается философией в должных границах, если несколько выходит из рамок, становится заносчивым и умственно неполноценным. Не страшись никакого другого порока для царской добродетели, кроме тирании, и различай [эти понятия], пользуясь указаниями данной речи, а в особенности тем, что император свои склонности подчиняет законам [божественным – А.П.], а для тирана его склонности служат законом. Власть – вот то, что у них общего, а [образ] жизни – противоположный».
«24. И прежде всего нужно приказать воинам, чтобы они щадили горожан и деревенских жителей и отнюдь не были им в тягость, помня о трудах, которые те приняли ради них. Император воюет для защиты достояния городов и деревень и [для этого] набирает воинов. Поэтому тот, кто отгоняет от меня чужестранного врага, а сам обходится со мной дурно, тот, по моему мнению, не отличается от собаки, которая в течение долгого времени отгоняла волков, помышляя на досуге без помех растерзать стадо вместо того, чтобы получить в награду молоко». (Синезий Киренский. О царстве. (Перевод с греческого М.В. Левченко). // Византийский временник. Т. VI. М. 1953. С. 340, 354.)
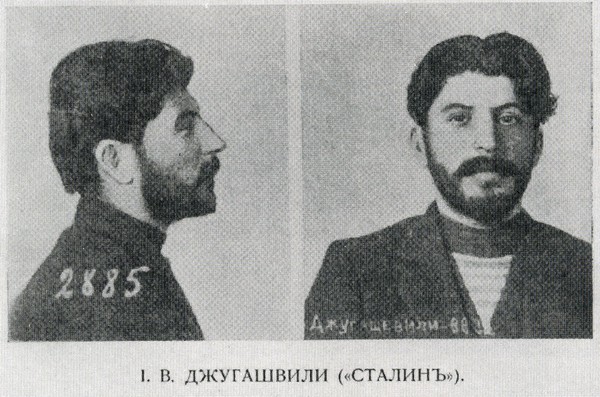
Антон Павлов,
17-05-2022 22:18
(ссылка)
Офицер в Царской, Германской и Красной армиях.
Российская Императорская Армия.
1907-10 годы, командующий войсками Казанского военного округа генерал-лейтенант (генерал от инфантерии со старшинством с 18 апреля 1910 г., за отличие) Александр Генрихович: «Сандецкий был весьма чувствителен к тому, что писалось о жизни округа, опасаясь огласки и зная, что в Петербурге уже накоплялось неудовольствие против него.
Однажды на каком-то совещании ген. Сандецкий разразился громовой речью против офицерства:
— Наши офицеры — дрянь! Ничего не знают, ничего не хотят делать. Я буду гнать их без всякого милосердия, хотя бы пришлось остаться с одними унтерами.
Командир Инсарского полка, стоявшего в Пензе, полковник Рейнбот, вернувшись с совещания, собрал своих офицеров и нашел уместным передать им в осуждение и назидание слова командующего. Мне рассказывали потом, что в собрании после его речи наступило жуткое, подавленное молчание. Забитое офицерство мучительно переживало незаслуженное оскорбление. Только один подполковник взволнованно обратился к Рейнботу:
— Господин полковник, неужели это правда? Неужели командующий мог это сказать?
— Да, я передал буквально слова командующего.
На другой день один из офицеров полка, штабс-капитан Вернер отправил военному министру жалобу по поводу нанесенного ему лично отзывом командующего оскорбления. (Закон не допускал жалоб коллективных или «за других».)
Вскоре приехал в Пензу генерал от военного министра, произвел дознание и уехал. Штаб округа в свою очередь обрушился на полк угрозами и дознаниями. Вокруг инцидента росло возбуждение. Толки шли по всему округу.
Я горячо заинтересовался этим делом и собирался откликнуться в печати очередной «Армейской заметкой», как вдруг получаю из Казани тяжеловесный пакет «секретно, в собственные руки». В нем весь материал по пензенскому делу и приказание Сандецкого отправиться в Пензу и произвести дознание по частному поводу: о подполковнике, реплика которого, приведенная выше, по мнению командующего, подрывала авторитет командира полка... недоверием к его словам. Назначение именно меня для этого дела не вытекало совершенно из моего служебного положения, а само «преступление» было до нелепости придуманным. Но придумано не без остроумия: я был обезоружен, так как говорить в печати о пензенском деле, доверенном мне в секретном служебном порядке, я уже не имел права.
Я сделал единственное, что мог: доказал правоту штаб-офицера и дал о нем самый лучший отзыв, которого он вполне заслуживал.
В результате подполковник и капитан были переведены военным министром в другие части, а ген. Сандецкий получил «в собственные руки» синий пакет с высочайшим выговором». (Деникин А.И. Путь русского офицера. Нью-Йорк. 1953. Часть пятая, глава «В Варшавском и в Казанском военных округах». С. 268-269.)
Штабс-капитан Александр Робертович Вернер, фотография в чине поручика: https://www.ria1914.info/in...
Германская.
1943 г.:
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ДУЭЛИ
В первый период существования Русского Корпуса, Германское Командование назначило начальником штаба связи майора летчика Л., с высоким партийным стажем.
Соблюдая внешне сравнительно корректные отношения с командиром Корпуса и его штабом, этот майор всячески старался подвести Корпус под общую партийную линию. Будучи человеком, вышедшим из кругов, далеких от воинских традиций, общих для армий всего мира, он естественно, в Русском Корпусе, состоящем на 60% из старых офицеров, популярностью не пользовался.
Командир Корпуса, желая точно определить взаимоотношения Корпуса с Германской Армией и германских чинов связи с Корпусом, давно настаивал на необходимости создания Положения или Устава о Русском Корпусе.
С согласия Главнокомандующего был выработан целый ряд проэктов этого Устава. После неоднократных перередактировок, Устав был написан и должен был быть предложен Главнокомандующему через германский штаб связи на утверждение. Вышеупомянутый майор Л. счел нужным со своей стороны в параграф, касающийся обязанностей германского штаба связи внести дополнение, смысл которого сводился к тому, что задачей штаба связи является, между прочим, воспитание офицеров Корпуса в понятиях офицерской чести, долга и дисциплины.
Можно себе представить удивление и возмущение командира Корпуса, получившего окончательный проэкт Устава с подобным дополнением!
Созвав офицеров своего штаба, покойный ген. Штейфон прочел им это дополнение и спросил их мнение. Негодование было всеобщее и решение единогласное: — Такое дополнение является оскорблением всего русского офицерства, нуждающегося, якобы, в воспитании в понятиях чести, долга и дисциплины. Русские офицеры, являющиеся носителями идей и традиций более славных, чем традиции даже Германской Армии, не могут оставить безнаказанным этот факт, считая, что в их лице оскорблено всё русское офицерство.
На этом же совещании единственным выходом был признан вызов всеми офицерами штаба Русского Корпуса, начиная с младшего и кончая старшим, майора Л., на дуэль.
Для этого командир Корпуса приказал своему адъютанту немедленно отправиться к начальнику отдела Личного состава штаба Главнокомандующего в Сербии (II А.), чтобы узнать официально, какое положение о дуэлях во время войны существует в Германской Армии. Неофициально же, если начальник II-А его спросит о причинах такого вопроса, рассказать ему в частном порядке о случившемся.
Предупрежденный по телефону начальник Отдела Личного Состава выразил согласие немедленно принять адъютанта командира Корпуса, который, явившись к нему и принятый, как всегда, очень любезно, официально передал ему желание командира Корпуса узнать, какое Положение о дуэлях существует в Германской Армии во время войны.
Весьма озадаченный, начальник Отдела ответил, что всякие дуэли воспрещены и возможны лишь по личному разрешению фюрера.
Получив этот ответ, адъютант поблагодарил и стал уходить. Когда он был уже в дверях, старый полковник его задержал и, взяв за плечи, спросил, не может ли он, в частном порядке, сообщить ему о причинах столь своеобразного вопроса, на что адъютант, следуя инструкциям ген. Штейфона, рассказал ему о происшедшем.
На следующий день начальник штаба Связи, майор Л. просил всех офицеров штаба Русского Корпуса собраться, имея им сделать сообщение.
Красный, взволнованный и сильно нервничающий, он сказал собравшимся, что ему стало известно, что внесенное им в Устав о Русском Корпусе дополнение, вызвало возбуждение в офицерском составе Корпуса, считающим себя оскорбленным; не имея намерения оскорбить русское офицерство, он приносит ему свои извинения.
Через несколько дней майор Л. приказом Главнокомандующего был освобожден от обязанностей начальника штаба Связи при Русском Корпусе и назначен командиром тылового аэродрома в Банате. На его же место был вскоре назначен старый кадровый офицер германской армии, бывший в I Великую войну в России, прекрасно владеющий русским языком и начавший свою деятельность с того, что через Главное Командование добился полного приравнения офицеров Русского Корпуса к офицерам Германской Армии.
Урок, данный майору Л. был одновременно уроком и самому Германскому Командованию, к чести которого нужно сказать, что оно его правильно поняло. С этого дня начался новый период в жизни Русского Корпуса.
А. Раевский».
(Русский корпус на Балканах во время II Великой войны 1941-1945 г.г. Нью Йорк. 1963. С. 128-130.) https://archive.org/details...
25 августа 1944 г.: «После провалившегося покушения 20 июля фюрер постарался как можно быстрее ликвидировать всех заговорщиков и тех, кто был даже косвенно с ними связан. Начатый Гитлером террор отразился на изменившейся атмосфере Волчьего Логова. Эрих отметил это, когда прибыл туда получать Бриллианты. Страх и подозрительность были видны повсюду. Служба безопасности просто свирепствовала. Помощники фюрера разделили ставку на 3 зоны. В третью, внутреннюю, зону было запрещено входить с оружием. Чтобы получить Бриллианты, Эрих должен был зайти именно в третью зону.
Большинство солдат, прибывших получить высшие награды из рук Гитлера, охотно подчинилось требованиям службы безопасности и отдало свои пистолеты. Эрих почувствовал себя оскорблённым. Он решил, что будет просто унизительным подчиниться правилам, продиктованным болезненной подозрительностью. Постаравшись подавить волну гнева, поднимающуюся внутри, Эрих холодно сказал офицеру СС из службы безопасности:
«Пожалуйста, передайте фюреру, что я не желаю получать Бриллианты, если он не верит в честность фронтовых офицеров».
Офицер службы безопасности побелел.
«Вы хотите, чтобы я передал, что вы отказываетесь получать Бриллианты? Из-за приказа снять пистолет?»
«Да. Передайте ему, что я сказал».
«Пожалуйста, подождите, Хартманн. Я поговорю с полковником фон Беловым».
«Хорошо».
Адъютант Гитлера от Люфтваффе полковник фон Белов уже встречался с Хартманном ранее. Он уже был вынужден приводить в себя Белокурого Рыцаря, когда тот в прошлом году прибыл в Зальцбург полупьяным. Он встречался с Эрихом перед вручением тому Мечей. Многострадальный фон Белов имел богатый опыт общения с молодыми пилотами-истребителями. И теперь для этого белокурого отважного юнца старому офицеру пришлось изменять требования безопасности. Если Хартманн откажется получать Бриллианты, Гитлер придёт в бешенство.
Высокий белокурый полковник фон Белов вошёл в помещение службы безопасности с крайне утомлённым видом.
«Хартманн, вы можете оставить себе пистолет, если настаиваете. Входите и получайте свои Бриллианты».
Эрих почувствовал, как остывает, когда входил в приёмную фюрера. Как обычно, он снял фуражку и портупею с кобурой и передал их сопровождающим.
Вошёл Гитлер и не заметил отсутствия оружия. Эрих отметил, что фюрер стал выглядеть гораздо хуже. Его правая рука безвольно висела.
Глаза Гитлера были тусклыми и полузакрытыми. Его лицо было измождённым и крайне усталым. Этот усталый старик, который держал в страхе и покорности весь мир, вручил Эриху бриллианты. Белокурый Рыцарь отметил, что рука фюрера трясется.
«Я хотел бы, чтобы у нас было побольше таких, как вы и Рудель», — сказал Гитлер.
После чашки кофе и короткой беседы о семье Эриха, фюрер сказал, что они должны перейти в соседнее здание для завтрака. Эрих пересек комнату и снова надел портупею с пистолетом. Фюрер не сказал ничего. Вместе они перешли в другое здание, где находилась столовая. Они сели, и Гитлер начал обсуждать ход войны. На сей раз он использовал совсем другие выражения, чем во время двух предыдущих встреч с Эрихом.
«С военной точки зрения война проиграна, Хартманн. Вы должны знать это. Однако существуют такие крупные политические разногласия между союзниками — англичанами и американцами с одной стороны и русскими с другой — что мы должны держаться и ждать. Скоро русские будут сражаться с англичанами и американцами так же, как сейчас они дерутся с нами. Это единственная альтернатива для нас. Иначе нас захлестнут большевистские орды, и вы знаете, что это будет значить для фатерланда». (Толивер Р.Ф. Констебль Т.Дж. Лучший ас Второй мировой. М.: «АСТ», 2001. С. 208-210.) http://prussia.online/books...
Причастным к заговору и покушению на Гитлера 20 июля 1944 г. был начальник криминальной полиции (5-е управление Главного управления имперской безопасности СС) СС группенфюрер и генерал-лейтенант полиции Артур Небе. 24 июля 1944 г. начальник Тайной государственной полиции (Гестапо — 4-е управление РСХА) СС группенфюрер и генерал-лейтенант полиции Хайнрих Мюллер предупредил своего друга Небе, что его имя упомянуто на допросах заговорщиков, и если эти показания подтвердятся, он должен будет арестовать его. (Зегер А. Гестапо-Мюллер. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. С. 264-265.) Небе скрылся. Тайная и криминальная полиции составляли полицию безопасности, поэтому многие её офицеры были сослуживцами Небе и считали невозможным с нравственной стороны разыскивать своего товарища. Сменилось много человек, ответственных за его поимку: 1) СС оберфюрер доктор Ахамер-Пифрадер 2) высший чиновник и криминальный советник Курт Лишка 3) «комиссия по Небе», состоявшая исключительно из чинов Гестапо 4) криминальный советник Вилли Литценберг. (Там же. С. 266-267.) Доходило до таких откровенных служебных разговоров в ноябре 1944 г.: «Литценберг не ждал для себя ничего хорошего от вызова Мюллера.
— Я понимаю причины, по которым вы хотели уклониться от дела. Теперь я уже больше не могу проявлять снисхождение. Лишка нисколько не продвинулся, а существует предписание Гиммлера. Мы обязаны найти Небе! — Когда Литценберг покачал головой, Мюллер раздражённо заметил: — Вы просто обязаны взять на себя расследование, хотите вы этого или нет!
Литценберг мрачно берётся за дело». (Бартц К. Трагедия Абвера. 1935-1944 гг. М.: «Центрполиграф», 2002. С. 229.)
Небе оказался арестован 16 января 1945 г. только вследствие того, что был выдан покинутой им любовницей Найди Гоббин. (Зегер. Гестапо-Мюллер. С. 267.)
1944 г.: «20 декабря
Я приехал из 4-го полка. Водитель как раз успел поставить свой вездеход в окоп, когда русские начали тяжёлой артиллерией обстреливать наш командный пункт. Я спрыгнул в укрытие. После того как я поднялся, отряхнулся от комьев земли и хотел уже доложить о прибытии, услышал, что командир сказал начальнику связи:
— Группа армий «Центр» была бы разгромлена и в том случае, если бы не было 20 июля!
Я был удивлён. О 20 июля, его причинах и последствиях в штабе до сих пор ничего не говорили. Слишком мало друг друга знали.
Начальник связи вышел с командного пункта и отправился на позиции. Капитан Вольф посмотрел на меня. Я чувствовал, что он ждёт от меня высказывания по поводу только что услышанных мною слов.
— Господин капитан, я считаю, что у нас слишком мало информации, чтобы прийти к соответствующему выводу. Для себя лично я этим и ограничиваюсь. И всё же меня в этом беспокоит тот факт, что военные из старых прусских фамилий нарушили присягу. Предки Трескова, Штюльпнагеля и всех остальных служили ещё Фридриху Великому. Я не могу припомнить, чтобы из них кто-нибудь когда-нибудь нарушил присягу. Они служили, как могли, и ради своего короля шли на смерть!
— Господин Кноблаух, как бы мы ни оценивали мотивы покушения, одно всё же неоспоримо: прусский король и фюрер — несопоставимые величины. Прусские офицеры считают себя личными распорядителями своего господина. Они чувствуют себя представителями своего короля независимо от времени и места. Дело их короля было их делом, и наоборот. Это касалось и молодого лейтенанта, и фельдмаршала в равной мере. Но фюрер не является представителем офицерского корпуса. Офицерский корпус, за некоторыми исключениями, считает себя обязанным рейху. Осмелюсь сказать, что принесённые до сих пор огромные жертвы были принесены не ради фюрера, а ради существования рейха. Это относится и к последующим месяцам. Рейх, господин Кноблаух, является нашей величиной, а не что другое! И ещё одно я вижу: в королевстве Пруссия офицер был первым человеком в государстве, а в сегодняшнем — партиец. Это сместило качество связи с главой государства и не в последнюю очередь оказало влияние на качество клятвы. Делать нам нечего, русские здесь в Восточной Пруссии через пару недель дадут нам последний бой. И мы его примем, несмотря на то, что большинство из нас не выживет. И наши действия определяются не присягой, которой мы обязаны Гитлеру. Мы будем стоять здесь, в Восточной Пруссии, и, наверное, погибнем, потому что попытаемся защитить рейх и его население от русских, выполняя последний солдатский долг. Это не вопрос присяги, а исключительно вопрос самоуважения. И последнее: мне всё равно, чем руководствовался Штауфенберг, когда шёл на покушение. Но меня сильно задевает то, что он пожертвовал жизнью своих товарищей-офицеров, а сам ушёл. Это всё равно, как если бы лейтенант Шнайдер, чтобы отключить меня, сделает это ценой вашей смерти. Вы считаете это возможным?
— Нет, господин капитан. В отношении личности лейтенанта Шнайдера — нет. Но с 20 июля происходят события, которые раньше невозможно было себе представить. У меня такое впечатление, что прусский офицерский корпус получил тяжёлый удар, быть может, смертельный. Будущее это покажет.
— Быть может, вы и правы. Закончим эту тему и будем вести себя так, как будто этого разговора не было.
— А ничего и не было, господин капитан!
Я приступил к своей бумажной работе. Поступили ежедневные донесения от рот. Разговор с командиром батальона настроил меня на размышления. И я не мог освободиться от своих мыслей». (Кноблаух К. Кровавый кошмар Восточного фронта. Откровения офицера парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг». М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 79-81.)
СССР.
Из речи Ежова Н.И. на заседании военной коллегии верховного суда СССР 3 февраля 1940 г.: «Никакого заговора против партии и правительства я не организовывал, — заявил Ежов, — а, наоборот, всё зависящее от меня я принимал к раскрытию заговора. В 1934 году, когда я начал вести дело о кировских событиях, я не побоялся доложить в Центральном комитете о Ягоде и других предателях ЧК. Эти враги, сидевшие в ЧК, как Агранов и др., нас обводили и ссылались на то, что это дело рук латвийской разведки. Мы этим чекистам не поверили и заставили их открыть нам правду и участие в этом деле правотроцкистской организации. Будучи в Ленинграде в момент расследования дела об убийстве Кирова, я видел, как чекисты хотели замазать это дело. По приезде в Москву я написал обстоятельный доклад по этому вопросу на имя Сталина, который немедленно после этого собрал совещание.
При проверке партдокументов по линии КПК и ЦК ВКП(б) мы много выявили врагов и шпиков разных мастей и разведок. Об этом мы сообщали в ЧК, но там почему-то не производили арестов. Тогда я доложил Сталину, который, вызвав к себе Ягоду, приказал ему немедленно заняться этими делами. Ягода этим был очень недоволен, но был вынужден производить аресты лиц, на которых мы дали материалы.
Спрашивается, для чего бы я ставил неоднократно вопрос перед Сталиным о плохой работе ЧК, если бы я был участником антисоветского заговора...
Придя в органы НКВД, я первоначально был один. Помощника у меня не было. Я вначале присматривался к работе, а затем уже начал свою работу с разгрома польских шпионов, которые пролезли во все отделы органов ЧК. В их руках была советская разведка. Таким образом я, «польский шпион», начал свою работу с разгрома польских шпионов. После разгрома польских шпионов я сразу же взялся за чистку контингента перебежчиков. Вот так я начал свою работу в органах НКВД...
Я почистил 14000 чекистов. Но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил. У меня было такое положение. Я давал задание тому или иному начальнику отдела произвести допрос арестованного и в то же время сам думал: «Ты сегодня допрашивай его, а завтра я арестую тебя». Кругом меня были враги народа, мои враги. Везде я чистил чекистов. Не чистил только лишь в Москве, Ленинграде и на Северном Кавказе. Я считал их честными, а на деле же получилось, что я под своим крылышком укрывал диверсантов, вредителей, шпионов и других мастей врагов народа...
Меня обвиняют в морально-бытовом разложении. Но где же факты? Я 25 лет на виду в партии. В течение этих 25 лет все меня видели, любили за скромность, за честность. Я не отрицаю, что я пьянствовал, но я работал как вол. Где же моё разложение?» (Павлюков А.Е. Ежов. Биография. М.: «Захаров», 2007. С. 533-534.) http://militera.lib.ru/bio/...
«Надо ещё сказать и о Константине Матвеевиче Кузнецове. Весной 1939 года я приехал во Владивосток из Москвы вместе с А. А. Ждановым. Мы сидели в бывшем моём кабинете. Его хозяином стал уже И. С. Юмашев, принявший командование Тихоокеанским флотом после моего назначения в наркомат.
Адъютант доложил:
— К вам просится на приём капитан первого ранга Кузнецов.
— Какой Кузнецов? Подводник? — с изумлением спросил я.
— Он самый.
Я прервал разговор и, даже не спросив разрешения Жданова, сказал:
— Немедленно пустите!
Константин Матвеевич тут же вошёл в кабинет. За год он сильно изменился, выглядел бледным, осунувшимся. Но я ведь знал, откуда он.
— Разрешите доложить, освобождённый и реабилитированный капитан первого ранга, командир бригады Кузнецов явился, — отрапортовал он.
Жданов с недоумением посмотрел на него, потом на меня.
«К чему такая спешка?» — прочитал я в его глазах.
— Вы подписывали показания, что являетесь врагом народа? — спросил я Кузнецова.
— Да, там подпишешь. — Кузнецов показал свой рот, в котором почти не осталось зубов.
— Вот что творится, — обратился я к Жданову. В моей памяти разом ожило всё, связанное с этим делом.
— Да, действительно, обнаружилось много безобразий. Это дело Ежова, — сухо отозвался Жданов и, добавив, что всё будет исправлено, не стал продолжать разговор.
Прошли годы. Теперь, после XX и XXII съездов партии, всё стало на свои места. Решительно вскрыты преступления времён культа личности Сталина, но мы не можем о них забывать. Вновь и вновь возвращаюсь к тому, как мы воспринимали эти репрессии в своё время. Проще всего сказать: «Я ничего не знал, полностью верил высокому начальству». Так и было в первое время. Но чем больше становилось жертв, тем сильнее мучили сомнения. Вера в непогрешимость органов, которым Сталин так доверял, да и вера в непогрешимость самого Сталина постепенно пропадала. Удары обрушивались на всё более близких мне людей, на тех, кого я очень хорошо знал, в ком был уверен. Г. М. Штерн, Я. В. Смушкевич, П. В. Рычагов, И. И. Проскуров... Разве я мог допустить, что и они враги народа?
Помню, я был в кабинете Сталина, когда он вдруг сказал:
— Штерн оказался подлецом.
Все, конечно, сразу поняли, что это значит: арестован. Трудно допустить, что бывшие там люди, которые Штерна отлично знали, дружили с ним, поверили в его виновность. Но никто не хотел показать и тени сомнения. Такова уж тогда была обстановка. Про себя, пожалуй, думали: сегодня его, завтра, быть может, меня. Помню, как вслух, громко сидевший рядом со мной Н. А. Вознесенский произнёс по адресу Штерна лишь одно слово: «Сволочь!»
Не раз вспоминал я этот эпизод, когда Николая Алексеевича Вознесенского постигла та же участь, что и Г. М. Штерна. После войны я и сам оказался на скамье подсудимых. Мне тоже пришлось испытать произвол времён культа личности, когда «суд, закон и правда молчали»...
Судьба всех пострадавших людей различна, но в очень многих случаях печальна, с роковым исходом уже в то время. Произвол, ломавший судьбы людей, наносил тяжёлый ущерб всему нашему делу, ослаблял могущество нашей Родины. Одно неотделимо от другого.
С упомянутым Я. В. Волковым связано ещё одно воспоминание, которое говорит о том, как мало мы оказывали сопротивления творившимся безобразиям. Вот послушайте. В 1939 году (а может быть, в 1940-м), когда я уже был наркомом, я получил бумажку из НКВД, в которой говорилось, что арестованный Волков ссылается на меня, как хорошо знавшего его по Дальнему Востоку. Спрашивалось мое мнение. Происходило это уже тогда, когда многие были выпущены и когда массовые «ошибки» нельзя было отрицать, но машина ещё вертелась в том же направлении. Подумав и не опасаясь за свою судьбу, я тут же написал ответ, в котором указал, что за время совместной работы с Я. В. Волковым на Тихоокеанском флоте я о нём ничего плохого сказать не могу. Несколько позже я узнал, что такая же бумага была послана и Ворошилову. Когда через пару дней мы встретились с ним, он спросил, какой я дал ответ, и очень удивился, что я, во-первых, его дал, а во-вторых, именно такого содержания, добавив, что он на подобные запросы не отвечает.
Теперь мне ясен и исход дела. Я, молодой, без всякого политического веса нарком, не смог оказать какого-нибудь влияния на судьбу Волкова, и он был осуждён. Иное дело — Ворошилов. Он своим более решающим ответом смог бы спасти человека. К тому же Волков был подчинённый в течение многих лет и знакомый ему человек, и поэтому его обязанностью было сказать своё мнение. Его положение наркома обороны, у которого были посажены сотни больших руководителей, обязывало задуматься и сказать своё мнение. (Потому даже сейчас он должен нести ответственность за это вместе со Сталиным и другими.)
К этому же времени относится и другой факт, заставивший меня серьёзно задуматься о роли Ворошилова в верхах. До тех пор я просто представлял, как и все мы, небольшие командиры, что Сталин и Ворошилов — это дружно и согласованно работающие люди и то, что делается в Вооружённых Силах, делается, безусловно, с ведома и после совета с Ворошиловым. Вот какой случай заставил меня пересмотреть свои весьма наивные взгляды, хотя я был уже наркомом, и убедиться, что всё происходит совсем не так, как я думал.
Однажды после совещания в Кремле он (Ворошилов) спросил меня, считаю ли я моего бывшего командующего Черноморским флотом Кожанова, с которым много лет служил, врагом народа. Вопрос этот был задан в осторожной форме. Поэтому не менее осторожно и я ответил, предоставив возможность высказаться ему самому. «Я не верю, чтобы он был врагом народа», — сказал Ворошилов, чем просто ошеломил меня. Я был подчинённым Кожанова (командовал крейсером и не больше), а Ворошилов был много лет наркомом и его ближайшим начальником. Теперь он сказал, что не верит в его виновность, а мне казалось, что он знает обстоятельно, за что посадили Кожанова. Кому же как не ему твёрдо знать и ответственно сказать: «Да, он виновен, я в этом убежден». Или: «Нельзя сажать, пока не доказана виновность».
Я старался разобраться, что к чему. Со временем убедился, что Сталин не только не считался с Ворошиловым, но и держал его в страхе, и последний, видимо, побаивался за свою судьбу. «Вас подводили ваши помощники, вроде Гамарника», — сказал ему как-то при мне Сталин. И сказано это было таким тоном, что, дескать, он, Ворошилов, тоже несёт ответственность.
В небольшом влиянии Ворошилова на дела уже в тот период я убедился потом окончательно. Как-то в 1940 году, докладывая флотские вопросы, я сослался на его мнение, думая, что это мне поможет. Тогда Сталин встал и сердито одёрнул меня: «Что понимает Ворошилов в делах флота? Он понимает только, как корабли идут полным ходом и песок летит из-под винтов». (Кузнецов Н.Г. Крутые повороты: Из записок адмирала. М.: «Молодая гвардия», 1995. С. 73-76.)
Скачать: https://www.rulit.me/downlo...
https://na5ballov.pro/lib/v...
http://militera.lib.ru/memo...
«Ясно помню последние предвоенные дни. ...Хозяин (так между собой мы называли Сталина)...». (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1997. С. 182, 183.) https://imwerden.de/publ-10...
1941-45: «Особые отделы на фронте, я помню, и офицеры, и солдаты старались обходить стороной, забыть об их существовании, но, увы, это «учреждение» не давало жить спокойно фронтовикам и часто напоминало им о себе.
Если комиссары призывали нас, фронтовиков, вступать в партию и вести за собой людей в бой, то особисты, как правило, призывали солдата или офицера продать душу дьяволу, ссылались на стремление не позволить врагам подорвать мощь нашей страны. И эти слова срабатывали, пожалуй, посильней, чем патриотические слова о служении Отечеству, о повторении сталинских слов: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»
Вся фронтовая жизнь особого отдела, как правило, проходила втайне от всех подразделений дивизии. Начальник особого отдела, а затем СМЕРШа подчинялся своему начальству, но иногда существовала негласная договорённость между комдивом и особым отделом. К примеру, в 331-й дивизии, где я служил — я знаю об этом — генерал просил без его санкций офицеров не трогать.
Прилюдно особисты-офицеры, как правило, «выходили в народ» трижды. Обычно, как только войска захватывали населённый пункт, они шли за ними. И первым делом считали: надо успеть арестовать бургомистров, старост, полицаев, и самых разных помощников немцев, в том числе переводчиков, кухарок и официанток в офицерских столовых, предателей, выдавших коммунистов и подпольщиков.
/.../
Поводом для второго появления офицеров-особистов служило прибытие очередного пополнения в дивизию. Они приходили в наш 673-й стрелковый полк и выхватывали из строя солдат, забирали их с собой подальше от людских глаз. И там «вербовали» в осведомители. Всё обговаривалось скоро, и боже упаси произнести слово «предатель». Весь разговор между особистом и солдатом состоял примерно из такого диалога:
1. Мы служим одному делу — Победе над врагом. Но среди нас есть люди, думающие иначе, и их настроения носят пораженческий характер. Вы должны выявить их, а значит, укреплять мощь нашей армии.
2. А что, извините, я могу сделать?
Кто-то сразу же соглашался, а кто-то, как кремневый камень, молчал, тяжело вздыхал и пытался найти аргументы против вербовки, которая занимала важное место, я бы сказал первостепенное, в работе особого отдела. Ведь от особистов требовало начальство иметь в каждом отделении своего осведомителя, а это выходит на батальон не менее 30 помощников. Здесь постоянно возникали трудности — после каждого боя от первоначального состава осведомителей оставалась половина, а то и меньше. И приходилось «бедняжкам»-особистам вновь и вновь заниматься вербовкой. Существовала ещё высшая категория помощников — «агенты». Эта братия выполняла уже непосредственно исходящие от чекистов указания. Они устанавливали слежку за определённым лицом. К сожалению, случалось, что и агенты, и осведомители убегали к немцам и рассказывали по радио нам, как их вербовали в НКВД и что от них требовали. Постыдные истории, но о них все молчали.
Со мной тоже доверительно «беседовали», но я, к счастью, отбился:
— Поймите меня, я же вожак молодежи полка, и если выйдет какая-то промашка, моя или ваша, мне конец, вернее, моему авторитету. Я потеряю всякое доверие молодых солдат. И в бой за мной не пойдут.
В ответ майор усмехнулся и сказал:
— Хитришь, лейтенант! Но учти, друг любезный, с нами лучше дружить, чем учить нас морали.
Обычно в каждом стрелковом полку служили три особиста, особый отдел дивизии состоял из 21 офицера, включая начальника и его заместителя, следователей, шифровальщика, коменданта. В его распоряжении находился взвод автоматчиков.
Третья встреча, правда не всегда, происходила лично начальника отдела с офицером, начиная от командира батальона.
Как-то подо Ржевом я поднял с земли немецкую листовку. Прочитал её, посмеялся, уж больно примитивна и смешна она была, и не выдержал, прочитал её вслух в присутствии двух офицеров из полкового штаба. Обычно мы вместе принимали пополнение и хорошо знали друг друга.
На следующий день меня вызвал полковник Разумовский, командир 673 полка. Он велел всем присутствующим в то время выйти из блиндажа и, попросив меня сесть, тихо сказал:
— Как вы могли так легкомысленно поступить — подобрали вражескую листовку и прочитали её вслух. Растиражировали. За такое следует трибунал. Вам повезло, что ваш знакомый офицер написал рапорт мне, а не в особый отдел.
Зная, что полковник Разумовский служил ещё в русской армии до 1917 года, я спросил его:
— Можно ли представить подобную ситуацию, товарищ полковник, в русской армии?
— Лейтенант, — ответил командир полка, — тогда ещё не был придуман особый отдел. Раз они существуют, мы обязаны быть осторожнее и учить этому солдат. Я знаю как боевого офицера и на первый раз прощаю вас, учитывая вашу молодость. — Кажется, на этом и расстались.
Не прошло и двух недель, как меня вызвали в особый отдел дивизии. Встретил меня верзила — о таких, как он, говорят: «Семь пудов сала и дерьма». Посадив меня перед собой, он долго впивался в меня глазами, пытаясь вызвать на разговор.
— Это что же, вы учите солдат переходить к немцам: они кормят перебежчиков шоколадом и голландским сыром, отпускают в деревню к своим бабам?
— Простите, товарищ майор, я отвечу.
— Ну, говори, говори, лейтенант.
— Вы ведь читаете газету «Красная Звезда»? Там была напечатана большая статья о контрпропаганде.
— Ну читал, только ты мне зубы не заговаривай!
— Да это же статья Ильи Эренбурга, и я поступил по совести! Призывал солдат не верить перебежчикам.
— Знаешь, есть старая русская пословица: «Орел мух не ловит».
— Товарищ майор, это что вы сравниваете меня с мухой? Я же офицер Красной Армии!
— Был, да сплыл.
— Как понимать вас, товарищ майор?
— А так, что ты поступил, как самый настоящий вражеский пропагандист.
— Не понимаю вас?
— Сейчас поймёшь. Вот я тебе прочту, что пишут о тебе твои же солдаты.
Особист надел очки и зачитал донос на меня: мол, я повторял в беседе с солдатами то, что с противоположного берега рассказывали перебежчики на следующий день после побега.
— Товарищ майор, хреновый у вас помощник, балбес. Я повторил слова мерзавцев, но призывал солдат — не верить! Вот об этом не написал доносчик, или, как вы называете, «осведомитель».
— Проверим, — завершил разговор со мной майор, — проверим!
Из особого отдела я вышел весь мокрый, с тяжёлым чувством, как следует быть осторожным. «Выходит, вокруг тебя уши. Малейший промах, и попадёшь в дьявольские лапы. Я уже слышал, как кто-то из офицеров так называл особый отдел». Вот я увидел в человеческом обличье самого настоящего дьявола. Откуда он взялся на мою голову?
С того памятного дня и до конца войны, так же как и многие мои товарищи, я старался быть в стороне от особого отдела, а с 1943 года от — СМЕРШа. Однако дважды ещё попадал на их крючок, и слава богу, удавалось сорваться. Об этих историях я рассказал в вышедших книгах «Ржевская мясорубка» (Москва) и «Через водоворот» (США).
/.../
Какой бы ты ни был герой, сколько раз ранен, сколько получил наград, нет тебе никакой защиты от дьявола. Я не помнил ни одного случая, чтобы солдаты защитили своего товарища, попавшего в его лапы. Об офицерах говорить не приходится. В подобных ситуациях они старались не вмешиваться в события, происходящие на их глазах. Значит, фактически отдавали на заклание особистам своих солдат.
Как странно — победа нас, фронтовиков, ослепила. Многие из нас вновь оказались простаками. Мы забыли о негласной слежке за каждым из нас, о доносительстве. Сколько погибло честных фронтовиков, забыв всю эту гнусность, которой нас окружали сталинские опричники». (Горбачевский Б.С. Победа вопреки Сталину. Фронтовик против сталинистов. Опровержение мифа о «военном гении вождя». М.: «Яуза», Эксмо», 2011. С. 275-280.) https://ru.usa1lib.org/book...
«Особенно события в армии приобрели роковой характер с весны 1943 года, а точнее с 19 апреля, когда стало известно, что Сталин придумал — создать новый орган устрашения: и своих, и чужих. Назвал этот орган наш отец родной — военной контрразведкой СМЕРШ (смерть шпионам) — знай наших!
Чтобы ни у кого в Красной Армии, за линией фронта, на оккупированной территории не возникало ни малейших сомнений в зловещем названии нового органа и в его действиях, нарком обороны поставил во главе СМЕРШа проверенного палача В.С. Абакумова.
К моменту своего назначения начальником СМЕРШа Абакумов дослужился в НКВД до должности заместителя Берии». (Там же. С. 295.)
«Политические репрессии в Красной Армии в первом периоде в большинстве своём велись по статье 58-1б, что означает «Измена Родине». По исследованным уголовным делам около 90 % арестованных особыми отделами попадали под названную статью. Заметим, впоследствии многие из них были реабилитированы. К сожалению, расстрелянных не вернёшь.
Реабилитация составила около 60 % уголовных дел, показала, что все эти дела были сфальсифицированы. (Звягинцев В. Война на весах Фемиды, война 1941-1945 годов в материалах следственно-служебных дел. М.: Терра-инкогнита клуб, 2006.)
В следующем периоде, начиная со второй половины 1943 года по конец войны, в деятельности СМЕРШа тактические установки карательных органов в Красной Армии приобрели новый характер. К измене Родине прибавилось обвинение в вербовке германской разведкой плюс старая версия: диверсия и терроризм.
Практически все следственные дела, относящиеся ко второму периоду, показывают, что отделы СМЕРШ любыми способами стремились выполнить поставленные задачи — выбить у арестованных военнослужащих признание в том, что они завербованы немецкой разведкой. То же самое происходило в партизанских отрядах, о чём сохранилось много свидетельств.
Показательно дело, возбуждённое буквально в последний месяц Отечественной войны, когда наши войска уже вели бои на территории Германии. Сами события, послужившие материалом для возбуждения СМЕРШем дела, произошли ещё в конце 1944 года. Причём под подозрение попали военные разведчики — люди уже не раз, казалось бы, проверенные. 17 сентября 1944 года группа военных разведчиков Резервного фронта на транспортном самолёте была переброшена из уже освобождённой Литвы в тыл противника на территорию Германии. Почти четыре месяца разведчики (в штатской одежде) успешно действовали в тылу немецких войск, передавали важную информацию командованию фронта. Однако в январе 1945 года двое разведчиков из этой группы, Т.Е. Лопатин и А.А. Зайцев, были задержаны немецкой жандармерией в лесу около города Инстербурга. После нескольких допросов их поместили в концлагерь в городе Зольдава.
На восьмой день опытным разведчикам — один был сержантом, другой старшиной — удалось из лагеря бежать. Через сутки они вышли к наступающим частям Красной Армии. Но недельный плен обошёлся им очень дорого. Более трёх месяцев разведчиков держали в фильтрационном лагере, а затем все-таки арестовали. 8 апреля постановления на арест Лопатина и Зайцева утвердил начальник управления СМЕРШ Резервного фронта генерал-лейтенант Ханников. Текст каждого постановления завершался словами: «При сомнительных обстоятельствах бежал из концлагеря... Есть основания подозревать в причастности к немецким разведорганам... Подвергнуть аресту и обыску».
До конца апреля следователь СМЕРШа трижды допрашивал каждого из арестованных. Всякий раз после рассказа разведчика о кратковременном пребывании в плену и побеге из немецкого концлагеря он говорил: «Вы лжёте. Дайте показания, когда и кем вы были завербованы, какие получили задания...» Однако никаких признательных показаний следователю получить не удалось: разведчикам не в чем было признаваться. Обвинение в шпионской деятельности рассыпалось. Думаю, что в этом немалую роль сыграли два необычных документа, подшитых в архивноследственное дело: доносы тайных осведомителей СМЕРШа. Как правило, подобного рода документы не подшиваются в архивно-следственное дело, а хранятся в личном деле самого осведомителя — как характеристика его активной (или неактивной) деятельности. Но в редких случаях такие доносы попадают (видимо, ошибочно) в дела обвиняемых. Оказалось, что в группе разведчиков (она носила кодовое название «Хорон») из 11 человек двое были по совместительству тайными осведомителями СМЕРШа. По возвращении с задания из немецкого тыла они написали в отдел СМЕРШа подробные докладные о своих наблюдениях за поведением и разговорами со всеми разведчиками». (Там же. С. 299-301.)
«Часто задают вопрос: так был ли СМЕРШ эффективной системой, оправдала ли жизнь создание этой организации? Насчёт эффективности существует много мнений, а вот никаких нет сомнений, что это была страшно жёсткая система. Не только к чужим, но в первую очередь к своим. Любые, самые незначительные, промахи карались жесточайшим образом. Сталин держал СМЕРШ в своих руках и давил со страшной силой на смершевцев». (Там же. С. 304-305.)
12 июля 1951 года министр государственной безопасности СССР генерал-полковник Абакумов В.С. был арестован по обвинению в государственной измене и сионистском заговоре в МГБ. Берия и Абакумов кончили подобно своим предшественникам Ягоде и Ежову.
«Задумывался я потом и над тем, в какой степени подобные люди несут ответственность за допущенное нарушение законности. Могут ли они говорить, что это не зависело от них, что они только выполняли приказ? Приходил к выводу, что они должны нести ответственность наряду с теми, кто им приказывал. В военных уставах говорится, что любой военнослужащий, видя преступность полученного приказа, обязан доложить своё мнение и, только получив вторичное подтверждение, должен исполнять распоряжение. Конечно, вина Сталина несоизмеримо больше, чем вина Ульриха и ему подобных, но оставлять их безнаказанными означает поощрять и впредь единовластие и бездумное выполнение приказов. Мне думается, в назидание потомству следует привлекать к ответственности и прямых пособников беззакония.
Ульрихи должны отвечать за правильность всех вынесенных ими приговоров. Ворошилова полезно спросить, как могло случиться, что сотни, тысячи военачальников не без его ведома были репрессированы. Только в этом случае можно выкорчевать все вредные корни этого бурьяна — культа личности. Иначе он может вырасти вновь». (Кузнецов. Крутые повороты. С. 30.)
«Конечно, самым простым является свалить всё только на «культ личности» Сталина и после смерти всю вину возложить на него одного. Но я был в своё время удивлён заявлением Ворошилова, что он «не верит в виновность И. К. Кожанова», как будто он не несёт ответственности за его гибель.
Я считаю опасным стремление всю вину свалить на Сталина, и совсем не потому, что боюсь приписать ему что-либо лишнее. Опасность кроется в том, что, обвиняя одного Сталина, мы можем не обнаружить многих других ошибок и не принять меры к их недопущению в будущем». (Там же. С. 59.)
«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». (Евангелие от Матфея. Гл. 7, ст. 18).
Антон Павлов,
16-05-2022 01:21
(ссылка)
Западная «Украина» в военном отношении.
Исторические примеры.
22 апреля 1915 г. «Штаб 78-й дивизии докладывал вышестоящему командованию: «Захваченные при взятии Макувки пленные показали, что после штурма Макувки Овручским полком, когда был разбит батальон Дрозда, состоявший из 7 рот, от которого осталось в общем около 2 рот, к Макувке были стянуты противником все резервы не только общие, но и частные. В общем на Макувке было около 30 австрийских рот. 7-й маршевый батальон 1-го гонведного полка (3 роты) пришёл 17 апреля из Будапешта в Славско, оттуда, после первого штурма и разгрома австрийцев на Макувке, пришёл на Макувку с пулемётным отделением 6-го имперского пехотного полка. На Макувке были также: 1-го гонведного полка 8-го маршевого батальона 2 роты и 9-го маршевого батальона 1 рота с пулемётным отделением, бывшим в Лавочне с 15 марта. 19-го ландверного полка участие принимали: 6-го маршевого батальона все 4 роты и 8-го маршевого батальона 2 роты, пришедшие с позиции и из резерва из района Татарувка (высота 1151) и Рожанки. 6-й батальон весь разбит, пленён и уничтожен окончательно. Кроме того, 1 рота 9-го маршевого батальона 12-го гонведного полка, одна 33-го ландштурменного полка, 2 роты 9-го ландштурменного полка, часть 6-го маршевого батальона 35-го ландверного полка, рота 217-го ландштурменного батальона, 2-я маршевая рота 7-го ландштурменного полка, 1 маршевая рота 35-го ландштурменного полка, две маршевые роты 29-го полка». (РГВИА. Ф. 2222. Оп. 1. Ед. хр. 649. Л. 406–410. Соколов — Матвееву, Зарину, Фалееву, Маркодееву, Белоусову. Телеграмма. Из Тухлы. 22 апреля 1915. 3 час. дня. № 21 / а.)
Таким образом, становилось ясно, что после первого взятия русскими войсками Маковки 18 апреля австрийское командование нагнало на эту гору многочисленные разношёрстные подкрепления отовсюду, откуда только могло их набрать. Достойно упоминания, что среди взятых на Маковке пленных из 19-го ландверного пехотного полка был и молодой галичанин Евген Коновалец (1891–1938), в будущем — командир частей и соединений сечевых стрельцов на службе Центральной Рады, гетмана П. П. Скоропадского и Директории Украинской народной республики (УНР). (Головацький, Іван. Сторінки істориї Українських січових стрільців. Василь Дідушок. Полковник, отаман; хроніка життя і діяльності (1889–1937). Львів, 1998. С. 22.) Находясь в эмиграции, с 1929 года он возглавлял созданную им Организацию украинских националистов (ОУН) и 23 мая 1938 года был ликвидирован в Роттердаме в результате спецоперации, осуществленной советским чекистом П. А. Судоплатовым. По иронии судьбы, на Маковке Евген Коновалец, будущий вождь галицийских националистов, сражался не в рядах Легиона УСС, а в одном из маршевых батальонов львовского 19-го ландверного пехотного полка, в который он попал по призыву. Затем до осени 1917 года Коновалец находился в русских лагерях военнопленных, где к тому времени оказалось много бывших украинских легионеров австро-венгерской армии и иных галичан. Эрнст Рутковский в своём исследовании сообщает, что во время русского штурма 21 апреля (4 мая) 4 роты 19-го ландверного полка были брошены на подмогу защитникам Маковки, однако практически без боя сдались в плен русским войскам. (Rutkowski, Ernst. Die k. k. Ukrainische Legion 1914–1918. Wien, 2009. S. 31.)
Уцелевшие при штурме Маковки 21 апреля её защитники были деморализованы. К утру 22 апреля разведчиками Самарского полка в северной части Цу-Головецко были захвачены (видимо, без сопротивления) 1 офицер и 44 нижних чина противника. (РГВИА. Ф. 2408. Оп. 3. Ед. хр. 58. Л. 402. Шелехов — Матвееву. Телефонограмма. С Макувки. 22 апреля 1915. 9 час. утра. № 320 / а.) Сводка сведений о противнике штаба XXII армейского корпуса к 24 апреля 1915 года отмечала: «Захватом пленных и их показаниями устанавливается, что из числа австрийских частей, защищавших Макувку, батальон Дрозда, состоявший, как доносилось номером 3062, из 7 маршевых рот полков 14-го, 22-го, 24-го, 33-го и 35-го ландверных, 9-го и 51-го пехотных, уничтожен, и так как сам Дрозд ранен, то надо полагать, что батальон этот не будет восстановлен в качестве отдельной части 130-й ландштурменной бригады. Уничтоженными надо считать также: 7-й маршевый батальон 1-го гонведного полка, пришедший на Макувку за 2 дня до атаки из Славско, 6-й и 8-й маршевые батальоны 19-го ландверного полка, пришедшие туда же из района Татарувки (1151) и 6-й и 7-й маршевые батальоны 35-го ландверного полка. […] По показаниям пленных, настроение в войсках тяжёлое. Галичане поголовно хотят сдаваться в плен. В окопах их удерживает только страх перед мадьярами (курсив мой. — В. К.). В общем же все ждут с нетерпением мира, офицеры постоянно обещают нижним чинам сроки заключения перемирия». (РГВИА. Ф. 2222. Оп. 1. Ед. хр. 696. Л. 165–166. Иванов. Сводка сведений о противнике к 24 апреля 1915. № 3063.)». (Каширин В.Б. Взятие горы Маковка. Неизвестная победа русских войск весной 1915 года. М.: «Regnum», 2010. С. 143-145.)
https://inslav.ru/publicati...
https://my.mail.ru/communit...
Но для этого надо показать качество русских войск.
Либо подавляющее численное превосходство не считающихся с собственными потерями советских: https://my.mail.ru/communit...
1.
22 апреля 1915 г. «Штаб 78-й дивизии докладывал вышестоящему командованию: «Захваченные при взятии Макувки пленные показали, что после штурма Макувки Овручским полком, когда был разбит батальон Дрозда, состоявший из 7 рот, от которого осталось в общем около 2 рот, к Макувке были стянуты противником все резервы не только общие, но и частные. В общем на Макувке было около 30 австрийских рот. 7-й маршевый батальон 1-го гонведного полка (3 роты) пришёл 17 апреля из Будапешта в Славско, оттуда, после первого штурма и разгрома австрийцев на Макувке, пришёл на Макувку с пулемётным отделением 6-го имперского пехотного полка. На Макувке были также: 1-го гонведного полка 8-го маршевого батальона 2 роты и 9-го маршевого батальона 1 рота с пулемётным отделением, бывшим в Лавочне с 15 марта. 19-го ландверного полка участие принимали: 6-го маршевого батальона все 4 роты и 8-го маршевого батальона 2 роты, пришедшие с позиции и из резерва из района Татарувка (высота 1151) и Рожанки. 6-й батальон весь разбит, пленён и уничтожен окончательно. Кроме того, 1 рота 9-го маршевого батальона 12-го гонведного полка, одна 33-го ландштурменного полка, 2 роты 9-го ландштурменного полка, часть 6-го маршевого батальона 35-го ландверного полка, рота 217-го ландштурменного батальона, 2-я маршевая рота 7-го ландштурменного полка, 1 маршевая рота 35-го ландштурменного полка, две маршевые роты 29-го полка». (РГВИА. Ф. 2222. Оп. 1. Ед. хр. 649. Л. 406–410. Соколов — Матвееву, Зарину, Фалееву, Маркодееву, Белоусову. Телеграмма. Из Тухлы. 22 апреля 1915. 3 час. дня. № 21 / а.)
Таким образом, становилось ясно, что после первого взятия русскими войсками Маковки 18 апреля австрийское командование нагнало на эту гору многочисленные разношёрстные подкрепления отовсюду, откуда только могло их набрать. Достойно упоминания, что среди взятых на Маковке пленных из 19-го ландверного пехотного полка был и молодой галичанин Евген Коновалец (1891–1938), в будущем — командир частей и соединений сечевых стрельцов на службе Центральной Рады, гетмана П. П. Скоропадского и Директории Украинской народной республики (УНР). (Головацький, Іван. Сторінки істориї Українських січових стрільців. Василь Дідушок. Полковник, отаман; хроніка життя і діяльності (1889–1937). Львів, 1998. С. 22.) Находясь в эмиграции, с 1929 года он возглавлял созданную им Организацию украинских националистов (ОУН) и 23 мая 1938 года был ликвидирован в Роттердаме в результате спецоперации, осуществленной советским чекистом П. А. Судоплатовым. По иронии судьбы, на Маковке Евген Коновалец, будущий вождь галицийских националистов, сражался не в рядах Легиона УСС, а в одном из маршевых батальонов львовского 19-го ландверного пехотного полка, в который он попал по призыву. Затем до осени 1917 года Коновалец находился в русских лагерях военнопленных, где к тому времени оказалось много бывших украинских легионеров австро-венгерской армии и иных галичан. Эрнст Рутковский в своём исследовании сообщает, что во время русского штурма 21 апреля (4 мая) 4 роты 19-го ландверного полка были брошены на подмогу защитникам Маковки, однако практически без боя сдались в плен русским войскам. (Rutkowski, Ernst. Die k. k. Ukrainische Legion 1914–1918. Wien, 2009. S. 31.)
Уцелевшие при штурме Маковки 21 апреля её защитники были деморализованы. К утру 22 апреля разведчиками Самарского полка в северной части Цу-Головецко были захвачены (видимо, без сопротивления) 1 офицер и 44 нижних чина противника. (РГВИА. Ф. 2408. Оп. 3. Ед. хр. 58. Л. 402. Шелехов — Матвееву. Телефонограмма. С Макувки. 22 апреля 1915. 9 час. утра. № 320 / а.) Сводка сведений о противнике штаба XXII армейского корпуса к 24 апреля 1915 года отмечала: «Захватом пленных и их показаниями устанавливается, что из числа австрийских частей, защищавших Макувку, батальон Дрозда, состоявший, как доносилось номером 3062, из 7 маршевых рот полков 14-го, 22-го, 24-го, 33-го и 35-го ландверных, 9-го и 51-го пехотных, уничтожен, и так как сам Дрозд ранен, то надо полагать, что батальон этот не будет восстановлен в качестве отдельной части 130-й ландштурменной бригады. Уничтоженными надо считать также: 7-й маршевый батальон 1-го гонведного полка, пришедший на Макувку за 2 дня до атаки из Славско, 6-й и 8-й маршевые батальоны 19-го ландверного полка, пришедшие туда же из района Татарувки (1151) и 6-й и 7-й маршевые батальоны 35-го ландверного полка. […] По показаниям пленных, настроение в войсках тяжёлое. Галичане поголовно хотят сдаваться в плен. В окопах их удерживает только страх перед мадьярами (курсив мой. — В. К.). В общем же все ждут с нетерпением мира, офицеры постоянно обещают нижним чинам сроки заключения перемирия». (РГВИА. Ф. 2222. Оп. 1. Ед. хр. 696. Л. 165–166. Иванов. Сводка сведений о противнике к 24 апреля 1915. № 3063.)». (Каширин В.Б. Взятие горы Маковка. Неизвестная победа русских войск весной 1915 года. М.: «Regnum», 2010. С. 143-145.)
https://inslav.ru/publicati...
2.
https://my.mail.ru/communit...
Но для этого надо показать качество русских войск.
Либо подавляющее численное превосходство не считающихся с собственными потерями советских: https://my.mail.ru/communit...
Антон Павлов,
15-05-2022 00:25
(ссылка)
Ленин умер, а дело его живёт.
И не только на «Украине»: https://vesti-k.ru/tv/2022/...
А в это время: https://sledcom.ru/news/ite...
А в это время: https://sledcom.ru/news/ite...
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

