Антон Павлов,
18-07-2022 01:37
(ссылка)
Противостояние ВВС на Восточном фронте 1-й и 2-й Мировых войн.
Германская империя.
«1) Зенитной артиллерией во время войны было сбито:
1915 г. 51 самолет 1 дирижабль.
1916 „ 392 „ 1 „
1917 „ 467 „
1918 „ 748 „
Всего 1588 самолётов и 2 дирижабля, в том числе 51 самолёт уничтожен при помощи прожекторов».
«1) Всего за время войны германские лётчики одержали 7425 воздушных побед, из них 358 на восточном фронте; в это число сбитых летательных аппаратов входят 614 привязных аэростатов».
1918 г.: «На одном только западном фронте мы потеряли с января по сентябрь 1099 самолётов, тогда как противник за тот же период времени потерял 3732».
(фон Геппнер Э. Война Германии в воздухе. М. 1924. С. 171, 177, 178.)
«Начав войну с 232 машинами, Германия имела после 1918 года на всех фронтах 5000действующих самолётов, построив всего за время войны 47.637 машин. Потребление бензина с 600.000 кгр. в 1914 году возросло в 1918 г. до 7.000.000. Бомб за время войны было сброшено немцами 1.077.957 шт., общим весом в 27.386.010 кгр. На фронте находилось 7.000 пулемётов в частях воздушного флота. В 1918 году ежедневно производилось, в среднем, по 4.000 аэрофотоснимков, при чём еженедельно снималась площадь в 24.000 кв. клм. К концу войны фронте было 5.000 человек воздушников, в тылу работало 80.000 человек на воздушный флот. В последний год воины требовалось ежемесячно 750 человек для пополнения только лётного состава (лётчики, наблюдатели, пулемётчики).
/.../
Имея за время войны свыше 7000 успешных боёв в воздухе, потеряв свыше 15.000 человек личного состава, из коих летчиков и наблюдателей было убито около 5000, Германия проиграла и лишилась, согласно Версальского договора, права иметь военный воздушный флот»». (Лапчинский А. Предисловие. // Там же. С. 6.)
http://militera.lib.ru/h/ho...
Российская Империя.
Основой советской пропаганды являлось утверждение, что царская армия была совершенно отсталой по сравнению с европейскими. Но даже в СССР правда иногда прорывалась. Например, учебник советского министерства обороны: «К началу войны в составе вооружённых сил России насчитывалось 263 самолёта, Германии – 232, Англии – 258, Франции – 156. … К 1914 г. в составе вооружённых сил Германии было около 4000 автомашин, России – 4500, Англии – 900, Франции – 6000». (Военная история. Учебник. М.: Воениздат, 1984. С. 72.)
«Накануне Октябрьского переворота воздушный флот России представлял собой внушительную силу. В него входило свыше 300 различных частей и подразделений, в том числе 14 авиационных дивизионов, 91 авиаотряд, эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец» (4 боевых отряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 32 гидроотряда, 11 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизион корабельной авиации, восемь авиапарков, а также многочисленные поезда-мастерские, авиабазы, воздухоплавательные парки и т.д. В этих частях насчитывалось до 35000 солдат и офицеров и около 1500 аэропланов различных типов». (Хайрулин М. Кондратьев В. Военлёты погибшей Империи. Авиация в Гражданской войне. М.: «Яуза», «Эксмо», 2008. С. 7.)
Когда речь заходит о 1-й Мировой войне, от французов и англичан можно много слышать об их доблестных лётчиках и их постоянных сражениях (успешных, конечно же) с германскими. Напротив, о действиях русского воздушного флота, из-за гибели России, долгое время не было надлежащего представления. В СССР, по умолчанию, всё царское считалось совершенно негодным. На самом же деле: «За лето 1916 года немцы сбили 182 англо-французских самолёта и потеряли 75. На русском фронте, сбив 23, потеряли 20». (Керсновский А.А. История Русской Армии. Т. 4. 1915-1917 г.г. М.: «Голос», 1994. С. 233.)
По данным русского штаба верховного главнокомандующего на Восточном фронте:
1914 г. Сухопутные войска уничтожили или захватили 19 (по другим данным, 16) аэропланов и 2 дирижабля, взяв в плен 80 лётчиков. Лётчики сбили 3 аэроплана.
1915 г. 12 летательных аппаратов сбито лётчиками, 72 зенитными средствами, 18 захвачены. Всего 102.
1916 г. 56 самолётов и аэростатов сбито лётчиками, 53 зенитчиками, 7 аппаратов захвачены в исправном состоянии. Всего 116.
1917 г. 137 сбито лётчиками, 57 аэропланов и аэростатов зенитчики, 11 воздушных судов захвачены. Всего 205.
Итого до марта 1918 г. противник потерял 451 летательный аппарат (включая 4 дирижабля).
(Лашков А.Ю. Воздушный фронт Первой мировой. Борьба за господство в воздухе на русско-германском фронте (1914-1918). М.: «Центрполиграф», 2022. С. 18, 61, 178, 187.)
Какая-то часть захваченных исправных самолётов должны быть отнесены к воздушным победам. Например, будущий известный Белый генерал-лейтенант Виктор Леонидович Покровский Высочайшим приказом от 29 июля 1915 г. был награждён орденом Св. Георгия IV ст. за то, что, будучи поручиком 3-й авиационной роты, вместе с лётчиком-наблюдателем корнетом М.Н. Полонским в боях за г. Холм: «15 июля 1915 г., производя разведку на аэроплане и увидев издали австрийский аэроплан, догнал его и, поднявшись над ним, начал обстреливать из маузеров, постепенно прижимая его к земле. Неприятельский аэроплан пытался ускользнуть, но неудачно, и после непродолжительной перестрелки опустился на землю. В свою очередь наши летчики опустились рядом с неприятельским, после чего с маузерами в руках бросились на австрийцев, которых и взяли в плен в числе двух человек вместе с совершенно новым аппаратом в 120 сил типа „Авиатик“, с полным оборудованием». (Авиаторы – кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914-1918 годов. Биографический справочник. М.: РОССПЭН, 2006. С. 233.)
СССР.
О потерях советских ВВС: https://my.mail.ru/communit...
«Итак, немецкие истребители сбили на советско-германском фронте значительно (по сделанным в первом приближении подсчётам, примерно в 2,5-3 раза) больше самолётов противника, чем советские. При этом немецких истребителей там постоянно действовало значительно меньше, чем советских, временами – на порядок меньше!
/.../
Таким образом, на один действовавший на советско-германском фронте немецкий истребитель приходится на порядок больше сбитых самолётов противника, чем на один советский. Даже в конце войны, в ходе Петсамо-Киркенесской операции, с 7 октября по 1 ноября 1944 г., 468 истребителей 7-й воздушной армии и ВВС Северного флота («Аэрокобры», «Киттихауки», Як-1, Як-7б, Як-9, Ла-5 и ЛаГГ-3) сумели сбить (или уничтожить) 25 немецких самолётов, а 66 истребителей III и IV групп 5-й истребительной эскадры люфтваффе (Вf109G) – 66 советских машин (цифры потерь установлены по документам понесшей их стороны). Т.е. немецкие истребители, которых было в 7,09 раза меньше, чем советских, сумели сбить (или уничтожить) в 2,64 раза больше самолётов, чем советские; на один немецкий истребитель пришелся 1 сбитый самолёт противника, а на один советский – лишь 0,05 или в 19 раз меньше!
При этом, как мы видели, боевые безвозвратные потери советских истребителей на советско-германском фронте оказались примерно в 6,3 раза меньше, чем немецких. Согласно расчётам Р. Ларинцева и А. Заблотского, в 1944 г. боевые безвозвратные потери немецких самолётов на Восточном фронте составили 2715 машин (в том числе 839 истребителей), а сбили они примерно 4200 советских; с учётом того, что из 2715 несколько десятков стали жертвой появлявшихся над тыловыми районами Восточного фронта американцев, а из 4200 часть сбили не истребители, а штурмовики, бомбардировщики и ВВС Венгрии и Румынии, можно заключить, что в 1944 г. немецкие истребители, безвозвратно потеряв от воздействия советского оружия примерно 800 машин, сбили порядка 3500 советских самолётов, а советские истребители (чьи боевые безвозвратные потери в 1944-м составили около 4100 машин) сбили значительно меньше 2700 немецких (не менее половины которых – на счету зениток и стрелков Ил-2 и бомбардировщиков). Иными словами, даже в 1944 г. на один безвозвратно потерянный по боевым причинам истребитель у немцев на советско-германском фронте приходилось около 4,4 уничтоженного самолёта противника, а у советских ВВС – значительно меньше 0,66 (скорее всего, около 0,3), т.е. опять-таки на порядок меньше. Такая результативность с лихвой компенсирует даже более высокий, чем у советских, уровень относительных потерь немецких истребителей на советско-германском фронте в 1944 г. (одна боевая безвозвратная потеря приходилась у них на 83 боевых вылета, тогда как у советских, к ноябрю 1944-го – на 127).
Итак, советские истребители, числом значительно превосходя немецкие, сбили на советско-германском фронте примерно в 2,5-3 раза меньше самолётов, чем немецкие, а потерь понесли в 6,3 раза больше. При этом действия немецкой дневной бомбардировочной авиации они сумели парализовать только в 1944 г. (да и то лишь благодаря ставшему подавляющим количественному перевесу), а действия немецкой штурмовой авиации только в 1944-м же сумели лишь затруднить. Немецкие же истребители, численно значительно уступая советским, сбили на советско- германcкoм фронте примерно в 2,5-3 раза больше самолётов, чем советские, а потерь понесли в 6,3 раза меньше. При этом они вплоть до 1944 г. оказывались в состоянии обеспечить эффективную работу свой ударной авиации. Все эти обстоятельства в сумме позволяют нам заключить, что действия немецкой истребительной авиации на советско-германском фронте оказались более эффективными, чем действия советской». (Смирнов А.А. «Соколы», умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе. М.: «Яуза», «Эксмо», 2010. С. 74-76.)
«Анализ советских и немецких источников, введённых в научный оборот за последние 15-20 лет, подводит нас к однозначному выводу: советская авиация действовала в Великой Отечественной войне менее эффективно, чем немецкая. Будучи куда более многочисленными, чем люфтваффе, советские ВВС добились меньших успехов и понесли несравненно бóльшие потери. Да и успехов советские ВВС добивались в большей степени числом, нежели умением.
Столь же ясной представляется и первопричина меньшей эффективности краснозвездной авиации; это – общая культурная отсталость тогдашнего СССР по сравнению с Германией.
Это и нехватка культуры производства – не позволявшая, наряду с другими причинами, наладить качественное изготовление современных для Второй мировой войны самолётов, авиадвигателей и авиационного оборудования.
Это и нехватка культуры проектирования – делавшая советские самолёты не столь технически законченными, как немецкие, лишёнными целого ряда «мелочей», которые повышают летно-тактические характеристики и облегчают эксплуатацию техники.
Это и нехватка технической культуры – обусловившая слабость научно-экспериментальной базы самолёто-, двигателе- и приборостроения, нехватку технического опыта и дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров.
Это, наконец, и нехватка культуры управления, принятия решений и интеллектуальной деятельности – когда из всех возможных вариантов решения проблемы выбирается не наиболее эффективный, а требующий наименьших интеллектуальных усилий. Отсюда, в частности, «количественное» мышление советского руководства, заботившегося больше о наращивании темпов «штамповки» самолётов, лётчиков, штурманов и т.д., чем об улучшении качества подготовки личного состава ВВС. Ведь «количественный» вариант решения проблемы лежит, что называется, на поверхности, напрашивается прежде, чем какой -либо другой. Но «(авиация, – подчёркивал легендарный лётчик, командовавший в 1942-1944 гг. l-й и 3-й воздушными армиям, а в 1944-1945 гг. возглавлявший Главное управление боевой подготовки фронтовой авиации, М.М. Громов, – это такой вид оружия, в котором особенно большую роль играет качество, а не количество. Это относится и к технике, и к выучке людей...». И то, что у нас, продолжает Михаил Михайлович, «важным считалась массовость в противовес качеству», свидетельствовало «о слабости нашей авиационной культуры» (читай: культуры принятия решений у руководства страны и ВВС). От нехватки культуры интеллектуальной деятельности шёл и воинствующий непрофессионализм многих советских фронтовых авиационных командиров, не желавших планировать действия своей группы в ходе боевого вылета, заставлявших подчинённых летать на невыгодной высоте и в неэффективных боевых порядках, взлетать под огнём блокирующих аэродром «мессеров» и т.п. – в общем, демонстрировавших самую настоящую, говоря словами И.В. Сталина, «работу на Гитлера». Ведь игнорировать боевой опыт, пренебрегать азами военного искусства и лётного дела проще, нежели учитывать всё это в принимаемых решениях... От нехватки культуры интеллектуальной деятельности шла и тактическая неграмотность многих рядовых пилотов, делавших в бою ставку «на грубую силу вместо тонкого расчёта», т.е. попросту не желавших думать – да ещё и бравировавших этим, смеявшихся над «писаниной» А.И. Покрышкина и третировавших расчётливых немецких лётчиков как «трусов»…
В конечном счёте всё упиралось в отставание тогдашнего СССР от Запада по уровню общей культуры населения. «Я бы сказал, там грамотный народ, культурный, – отмечал, например, весной 1936 г., вернувшись из поездки по Западной Европе, командующий войсками Белорусского военного округа ил. Уборевич. – Хотя мы их культуру называем буржуазной, но я думаю, что знать хорошо математику, географию, естественные науки – неплохо». «Испытания интеллигентности», проведённые в годы войны немцами среди советских военнопленных, показали, что, хотя группа с интеллектуальным развитием выше среднего обнаружила «выдающиеся знания и одарённость, превосходящие западноевропейский уровень», группы с развитием средним и ниже среднего (а к ним, как и у других народов, принадлежало около 75% испытуемых) «оказались значительно ниже германского уровню»... Советским вузам неоткуда было получать человеческий материал для того, чтобы готовить в необходимых количествах высококвалифицированных инженеров; школам ФЗУ, техникумам, школам младших авиационных специалистов неоткуда было получать человеческий материал, чтобы выпускать в необходимых количествах высококвалифицированных рабочих, мастеров, техников, мотористов, воздушных стрелков и т.п. Лётным школам ВВС неоткуда было получать человеческий материал для подготовки в необходимых количествах по-настоящему грамотных командиров, лётчиков и штурманов – людей, не только получивших специальные знания, но и привыкших эти знания применять на nрактике, т.е. привыкших анализировать вновь сложившуюся ситуацию и подбирать (опираясь на свои теоретические познания) оптимальный для этой ситуации вариант решения задачи – привыкших, иначе говоря, думать, заниматься интеллектуальной деятельностью. Ведь культуру мышления формирует общее образование: учась в общеобразовательной школе, человек постоянно сталкивается с новой информацией (в виде нового учебного материала) и постоянно же пытается использовать эту информацию в своих интересах, запоминая и анализируя учебный материал – если и не для овладения знаниями, то хотя бы для того, чтобы не иметь неприятностей в школе и дома, получить документ об образовании и т.п. А в СССР только в 1935 г. было принято твёрдое решение принимать в военные школы (с 16 марта 1937 г. – военные училища) лиц с общим образованием не менее 7 классов; только год спустя, в 1936-м, это решение воплотили в жизнь и только ещё через год, в 1937-м, повысили общеобразовательный ценз для кандидатов в курсанты до 8 классов. Значительная часть советских авиационных командиров Великой Отечественной – те, кто командовал в ней воздушными армиями, авиакорпусами, авиадивизиями, авиаполками и даже частью эскадрилий – получала военное образование до конца 30-х. А, например, на 15 июля 1933 г. среди курсантов военных школ Воздушных Сил РККА окончившие 9 классов (т.е. полную среднюю школу) составляли лишь 12,4%, окончившие 7 классов (т.е. неполную среднюю школу) – лишь 26,1%; у 58,1% было лишь низшее (1-6 классов) общее образование, а 3,4% вообще никогда не учились в общеобразовательной школе! В военных академиях РККА ещё на 1 января 1930 г. 44,4% слушателей имели лишь низшее общее образование, а у 0,3% не было никакого. Общеобразовательная подготовка, осуществлявшаяся в военных школах и академиях, могла дать кое-какие знания, но нехватку умственной тренировки, полученной в наиболее восприимчивом детском возрасте, – той тренировки, которая приучает знания nрименять! – компенсировать уже не могла...
Да и 7-8 классов советской школы 20-30-х гг. – которая только в 1932-1934 гг. отказалась от «революционных» экспериментов вроде бригадного метода обучения, отмены требований заучивать теоретический материал, учебников, экзаменов и прочего «наследия царской школы» – очень часто были лишь фикцией неполного среднего образования. «Даже лица, формально имеющие 7-летку, – отмечал, например, в 1933 г. начальник Главного управления и (sic!) военно-учебных заведений РККА Б.М. Фельдман, – фактически имеют очень низкие знания»; «большое количество формально окончивших 7 и больше классов средней школы, а фактически не обладающих достаточной и удовлетворительной подготовкой» было принято в советские военные школы и в 1935-м. «У нас имеются инженеры, техники, – констатировал весной 1936 г. И.П. Уборевич, которые не знают, под каким соусом едят термодинамику, не знают простых дробей, потому что в средней школе чёрт знает что делалось»...
Поэтому и военное образование, полученное многими советскими авиационными командирами Великой Отечественной, оказывалось зачастую тоже лишь формальным. «Наши слушатели всех академий, – отмечал 9 декабря 1935 г. на заседании Военного совета при наркоме обороны К.Е. Ворошилов, – воют, что им такими темпами преподают, что они не успевают воспринимать, и поэтому движение вперёд идёт на холостом ходу». Ведь мы, пояснил нарком, «принимаем людей неподготовленных», вот они и «не успевают переваривать то, что им дают»... Отсутствие привычки к умственной работе мешало не только усваивать знания, но и применять их на практике. Закономерный результат такого положения дел зафиксировал в феврале 1941 г. германский военно-воздушный атташе в СССР Г. Ашенбреннер: «Командование советских ВВС косно [...]».
/.../
Здесь нам укажут, что большевицкое руководство просто не могло комплектовать командный состав вооружённых сил и лётно-подъёмный состав ВВС лицами с хорошим общим образованием, но «социально чуждыми» – иначе ему не удалось бы обеспечить лояльность армии. Действительно, в ситуации, когда политика перекройки всей жизни России по марксистской схеме ущемляла интересы большинства населения страны – крестьянства, городских средних слоёв, интеллигенции, – другого выхода у большевицкого руководства не было. Что ж, тем с большей уверенностью мы можем утверждать, что затеянный большевиками в 1917 г. грандиозный социальный эксперимент стал одной из главных причин недостаточной эффективности действий советских ВВС в Великой Отечественной войне». (Там же. С. 597-602.)
https://ru.usa1lib.org/book...
https://ru.eg1lib.org/book/...
Чему удивляться, если, например, лётчик 15-го разведотряда «рабоче-крестьянского красного воздушного флота» Петренко А.К. в Гражданскую войну на всех своих самолётах изображал большого демона. (Хайрулин М. Кондратьев В. Военлёты погибшей Империи. Авиация в Гражданской войне. М.: «Яуза», «Эксмо», 2008. 5-я и 6-я фотографии между с. 128 и 129.)
Так что главная причина, как и во всех человеческих делах, в нравственном состоянии.
Свято-Николаевский кафедральный собор. Днепродзержинск, лето 1941 г. Вместо креста на церкви пентаграмма:

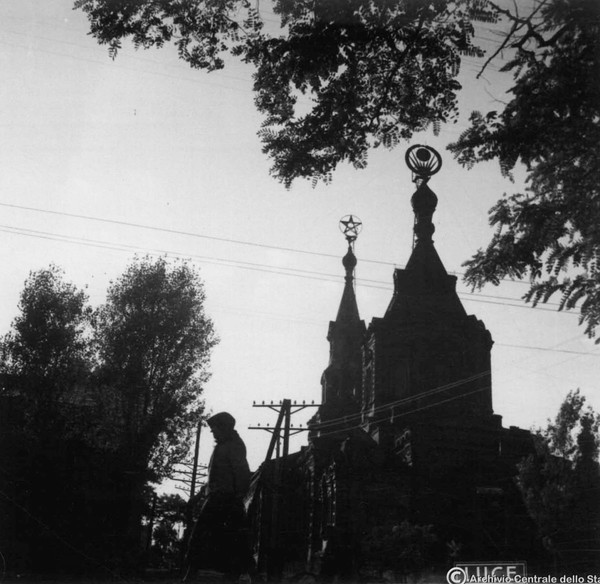
Антон Павлов,
15-07-2022 02:26
(ссылка)
Уральское казачье войско в апреле 1918 г.
Из воспоминаний генерал-майора Сергея Арефьевича Щепихина, бывшего в чине полковника начальником штаба Уральского казачьего войска с 5 февраля по 23 мая 1918 г. Апрель: «Наши силы, между тем, растут.
Призвано три срока молодежи. Это, кроме дружин по станицам, преимущественно из фронтовиков. Молодежь пошла на формирование регулярных частей. Перевести и дружины на регулярное положение не удается, т. к. нет на это ни средств материальных (денег, оружия, снаряжения), ни людских, т. е. командного состава. Главное препятствие – это приверженность депутатов Круга и некоторых членов правительства именно к дружинным формированиям милиционного характера, всегда более близкого сердцу каждого демократического правительства!
Главным моим оппонентом в правительстве является инициатор дружинных формирований, наш главный хозяин – интендант Д. И. Щапов.
Сколько часов мы с ним убили во взаимных интимных беседах.
Милиция хороша, если она формируется достаточными средствами и из населения более высокоразвитого, главное, если на ее выучку есть достаточное время, кадры и планомерная организация.
Наша уральская милиционная организация – организация вчерашнего дня. Правда, подъем духа в казаках, надежная и прочная выучка контингента, прошедшего Великую войну, – это плюсы. Но недостаток средств, в сущности, приводит к тому, что мы имеем на бумаге много людей (до 10000 – 12000) вооруженных, но вооруженных и снабженных и недостаточно, и разнообразно.
Ружей не хватает – все задние шеренги при шашках. Пик недостаточно – но это, б[ыть] м[ожет], восполнимо. Но главное, нет боевых припасов. Войско вырабатывать порох и изготовлять ружейные патроны не может – значит, расчета никакого нельзя произвести: все дело случая – достанем от неприятеля или откуда-то от союзников, с которыми, к слову сказать, и связь никак не удается.
К моему удивлению, Д. И. Щапов меня старается бить тем же доводом: вот потому мы и не можем перевести дружины на регулярное положение, что у нас нет средств. То есть Д. И. Щапов вводит новое отличительное свойство милиции от регулярной армии, худшее снабжение. Это для меня новость.
Я, как представитель и сторонник регулярной армии, всегда стою за малое количество, но хорошее качество.
Последний довод Д. И. Щапова, что без дружин все равно мы не обойдемся: они необходимы для самозащиты, самообороны станиц. Ведь не может же всюду поспевать регулярная часть на помощь. А настроение жителей, населения, особенно приграничных станиц, каково будет, если мы оголим совершенно эти районы?
Так, путем долгих переговоров, и пришли к двойственной организации: ядро, кулак – это несколько полков из молодежи, сформированных на принципах старой армии, и наряду с этим дружинные формирования, призываемые на любой фронт в минуту необходимости.
Что я пережил, и пережил в полном одиночестве, за этот подготовительный период, одному Богу известно: всюду недостаток самого насущного, всюду непонимание самых азбучных истин; масса советчиков – мало исполнителей; советники все безответственны, но их официальное положение обязывает быть к ним внимательным. Исполнители с огромным рвением, но малыми знаниями и опытом. Наше офицерство имело много положительных качеств, но организатором может быть не всякий.
А я сам кто? Вчерашний старший адъютант штаба армии, специализировавшийся на узкой отрасли огромного армейского механизма. Правда, эта специальность выработала во мне некоторые организаторские навыки, но для масштаба гражданской войны всего этого слишком недостаточно.
Гражданская война во многих районах ее, очагах, призвала к руководящей роли сравнительно молодой класс бывшего кадрового офицерства.
Офицеры старших возрастов, уже впитавшие прочно принципы и вкусы прежнего организованного уклада армии, естественно, не могли просто подойти к хаотическому подчас положению начала гражданской войны.
Простой вопрос – как воевать без артиллерии, без боевых припасов, без обоза и вообще без признаков почти организации тыла?
А воевали же. Надо было, и воевали.
Отказываться, как это зачастую делали старшие офицеры, было не к лицу для полной сил молодежи.
И вот в результате на плечи сваливается огромная работа, преимущественно организационная, т. е. самая неблагодарная, невидная, но самая в то же время ответственная.
Промахи неизбежны. Возможно, что я ошибаюсь, – останемся при решении вопроса коренного на двойственности формирований.
Но с условием – до первого, даст Бог и судьба, удачного опыта.
А там посмотрим.
Средина апреля.
В жизни не забуду день 13 апреля, понедельник Страстной недели.
В 12 часов уполномоченный от Круга А. А. Михеев должен дать окончательный ответ Антонову на целый ряд ультимативных вопросов последнего.
Ответ уже известен, и в городе надежд на мирное разрешение почти никаких, но точка над «I» еще не поставлена.
Итак, война, война гражданская – не на живот, а на смерть.
Траурным флером покрылись все лица.
Как-то судьба вынесет Яик из надвинувшейся свалки.
Приближается канун Пасхи. В церквях всюду службы и масса народа.
На заутреню и я урвал время пойти в собор: служба торжественная, лица все серьезные, изнутри освещенные огнем какой-то особой, вдохновенной решимости.
Пропели «Христос Воскресе»!
Можно идти разговляться!
Вдруг вызов – меня экстренно требуют с передовых разведывательных линий к аппарату... Оставляю семью, говоря, что не знаю, когда удастся вернуться...
Разговор короткий, говорит из поселка Зеленого – ближайший крупный населенный пункт к границе войска, где находится начальник передового участка, - говорит мой однокашник по кадетскому корпусу и ровесник, член в[ойскового] правительства, вызвавшийся сам в строй, храбрейший офицер Влад[имир] Горшков: красные перешли границу войска!
Жребий брошен – сомнений больше никаких. Испытания тяжкие для родного войска начались.
Вряд ли кто в Уральске спал в эту святую ночь. И вряд ли у кого было светло и радостно в этот великий день...
Припомнился фронт Великой войны, когда немцы (германцы) всегда приурочивали свои нападения к нашим большим праздникам, с учетом (такое внимание!) старого стиля.
Вот и большевики не упустили психологический момент: навреное, казачки празднуют, а мы им тут и сюрприз.
Противник отброшен. Надо было посчитать прибыль и убыток с полной откровенностью и тщательно.
Я этим занялся в срочном порядке и сделал доклад Кругу:
1) Наши дружины ниже критики. Надо их организовать по регулярному образцу, распустить излишки; пусть не хватает оружия, но надо это сделать, введя регулярную дисциплину, и совершенно забраковать систему уговора.
2) Все средства наличные дать на молодые регулярные формирования; туда же и лучших офицеров по моему выбору.
3) Кругу надо серьезно заняться вопросами снабжения и вообще устройства тыла вдаль.
Наши дружины изображали лишь завесу, лавой по преимуществу, и не проявили никакой стойкости. А при преследовании противника выказали полную недисциплинированность.
Оправданий никаких, как бы ни было грустно и стыдно казачьему сердцу!
Противник отброшен, но не разбит. Средства у него, при умении и энергии, неисчерпаемы.
Но бороться надо!» (Щепихин С.А. Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом. М.: «Посев», 2021. С. 191-194.)
Кажется, отчасти схожие обстоятельства были у Донбасса в 2014 году.
Призвано три срока молодежи. Это, кроме дружин по станицам, преимущественно из фронтовиков. Молодежь пошла на формирование регулярных частей. Перевести и дружины на регулярное положение не удается, т. к. нет на это ни средств материальных (денег, оружия, снаряжения), ни людских, т. е. командного состава. Главное препятствие – это приверженность депутатов Круга и некоторых членов правительства именно к дружинным формированиям милиционного характера, всегда более близкого сердцу каждого демократического правительства!
Главным моим оппонентом в правительстве является инициатор дружинных формирований, наш главный хозяин – интендант Д. И. Щапов.
Сколько часов мы с ним убили во взаимных интимных беседах.
Милиция хороша, если она формируется достаточными средствами и из населения более высокоразвитого, главное, если на ее выучку есть достаточное время, кадры и планомерная организация.
Наша уральская милиционная организация – организация вчерашнего дня. Правда, подъем духа в казаках, надежная и прочная выучка контингента, прошедшего Великую войну, – это плюсы. Но недостаток средств, в сущности, приводит к тому, что мы имеем на бумаге много людей (до 10000 – 12000) вооруженных, но вооруженных и снабженных и недостаточно, и разнообразно.
Ружей не хватает – все задние шеренги при шашках. Пик недостаточно – но это, б[ыть] м[ожет], восполнимо. Но главное, нет боевых припасов. Войско вырабатывать порох и изготовлять ружейные патроны не может – значит, расчета никакого нельзя произвести: все дело случая – достанем от неприятеля или откуда-то от союзников, с которыми, к слову сказать, и связь никак не удается.
К моему удивлению, Д. И. Щапов меня старается бить тем же доводом: вот потому мы и не можем перевести дружины на регулярное положение, что у нас нет средств. То есть Д. И. Щапов вводит новое отличительное свойство милиции от регулярной армии, худшее снабжение. Это для меня новость.
Я, как представитель и сторонник регулярной армии, всегда стою за малое количество, но хорошее качество.
Последний довод Д. И. Щапова, что без дружин все равно мы не обойдемся: они необходимы для самозащиты, самообороны станиц. Ведь не может же всюду поспевать регулярная часть на помощь. А настроение жителей, населения, особенно приграничных станиц, каково будет, если мы оголим совершенно эти районы?
Так, путем долгих переговоров, и пришли к двойственной организации: ядро, кулак – это несколько полков из молодежи, сформированных на принципах старой армии, и наряду с этим дружинные формирования, призываемые на любой фронт в минуту необходимости.
Что я пережил, и пережил в полном одиночестве, за этот подготовительный период, одному Богу известно: всюду недостаток самого насущного, всюду непонимание самых азбучных истин; масса советчиков – мало исполнителей; советники все безответственны, но их официальное положение обязывает быть к ним внимательным. Исполнители с огромным рвением, но малыми знаниями и опытом. Наше офицерство имело много положительных качеств, но организатором может быть не всякий.
А я сам кто? Вчерашний старший адъютант штаба армии, специализировавшийся на узкой отрасли огромного армейского механизма. Правда, эта специальность выработала во мне некоторые организаторские навыки, но для масштаба гражданской войны всего этого слишком недостаточно.
Гражданская война во многих районах ее, очагах, призвала к руководящей роли сравнительно молодой класс бывшего кадрового офицерства.
Офицеры старших возрастов, уже впитавшие прочно принципы и вкусы прежнего организованного уклада армии, естественно, не могли просто подойти к хаотическому подчас положению начала гражданской войны.
Простой вопрос – как воевать без артиллерии, без боевых припасов, без обоза и вообще без признаков почти организации тыла?
А воевали же. Надо было, и воевали.
Отказываться, как это зачастую делали старшие офицеры, было не к лицу для полной сил молодежи.
И вот в результате на плечи сваливается огромная работа, преимущественно организационная, т. е. самая неблагодарная, невидная, но самая в то же время ответственная.
Промахи неизбежны. Возможно, что я ошибаюсь, – останемся при решении вопроса коренного на двойственности формирований.
Но с условием – до первого, даст Бог и судьба, удачного опыта.
А там посмотрим.
Средина апреля.
В жизни не забуду день 13 апреля, понедельник Страстной недели.
В 12 часов уполномоченный от Круга А. А. Михеев должен дать окончательный ответ Антонову на целый ряд ультимативных вопросов последнего.
Ответ уже известен, и в городе надежд на мирное разрешение почти никаких, но точка над «I» еще не поставлена.
Итак, война, война гражданская – не на живот, а на смерть.
Траурным флером покрылись все лица.
Как-то судьба вынесет Яик из надвинувшейся свалки.
Приближается канун Пасхи. В церквях всюду службы и масса народа.
На заутреню и я урвал время пойти в собор: служба торжественная, лица все серьезные, изнутри освещенные огнем какой-то особой, вдохновенной решимости.
Пропели «Христос Воскресе»!
Можно идти разговляться!
Вдруг вызов – меня экстренно требуют с передовых разведывательных линий к аппарату... Оставляю семью, говоря, что не знаю, когда удастся вернуться...
Разговор короткий, говорит из поселка Зеленого – ближайший крупный населенный пункт к границе войска, где находится начальник передового участка, - говорит мой однокашник по кадетскому корпусу и ровесник, член в[ойскового] правительства, вызвавшийся сам в строй, храбрейший офицер Влад[имир] Горшков: красные перешли границу войска!
Жребий брошен – сомнений больше никаких. Испытания тяжкие для родного войска начались.
Вряд ли кто в Уральске спал в эту святую ночь. И вряд ли у кого было светло и радостно в этот великий день...
Припомнился фронт Великой войны, когда немцы (германцы) всегда приурочивали свои нападения к нашим большим праздникам, с учетом (такое внимание!) старого стиля.
Вот и большевики не упустили психологический момент: навреное, казачки празднуют, а мы им тут и сюрприз.
Противник отброшен. Надо было посчитать прибыль и убыток с полной откровенностью и тщательно.
Я этим занялся в срочном порядке и сделал доклад Кругу:
1) Наши дружины ниже критики. Надо их организовать по регулярному образцу, распустить излишки; пусть не хватает оружия, но надо это сделать, введя регулярную дисциплину, и совершенно забраковать систему уговора.
2) Все средства наличные дать на молодые регулярные формирования; туда же и лучших офицеров по моему выбору.
3) Кругу надо серьезно заняться вопросами снабжения и вообще устройства тыла вдаль.
Наши дружины изображали лишь завесу, лавой по преимуществу, и не проявили никакой стойкости. А при преследовании противника выказали полную недисциплинированность.
Оправданий никаких, как бы ни было грустно и стыдно казачьему сердцу!
Противник отброшен, но не разбит. Средства у него, при умении и энергии, неисчерпаемы.
Но бороться надо!» (Щепихин С.А. Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом. М.: «Посев», 2021. С. 191-194.)
Кажется, отчасти схожие обстоятельства были у Донбасса в 2014 году.
Антон Павлов,
14-07-2022 03:54
(ссылка)
Отряды особого назначения 1-й Мировой войны.
Дореволюционным партизанам соответствуют нынешние войска специального назначения. Существенное отличие в том, что в царской армии рода оружия различались по своему назначению, а не качеству подготовки личного состава. Например, Юго-Западный фронт, 7-я армия, XXXIII армейский корпус, 23-я пехотная дивизия, около 13.30 3 сентября 1916 г. на подступах к Галичу: «Спустя около 30 минут после начала атаки, преодолев наконец отделявшие их от проволочного заграждения пространство в 300-500 шагов, атакующие роты дружным напором начали врываться в проходы.
В этот момент, одновременно с внезапным обрывом доведенного до крайнего напряжения ружейного и пулеметного огня, из окопов противника поднялась серо-синяя стена прусской гвардии. Легко одетые, без всякого снаряжения, молодые, рослые как на подбор люди, движениями гимнастов перескочили бруствер и с ружьями наперевес и криками ярости бросились в контр-атаку. Последняя принята была частями полка с изумительной стойкостью. Не рассчитывая на легко гнущиеся от удара и часто сваливавшиеся штыки находившихся на вооружении полка австрийских винтовок, большинство нижних чинов, мгновенно перевернув ружья, заработали прикладами – и в несколько минут беспощадного с обеих сторон рукопашного боя, представители 3-й германской гвардейской дивизии – Фузилерный и Учебный полки оказались сломленными и опрокинутыми 92-м пехотным Печорским полком. Одна часть их устлала своими трупами и телами раненых всю широкую полосу ожесточеннейшего из штыковых боев. Другая, преследуемая нашим огнем, спаслась бегством во вторую линию своих траншей.
В наши руки достались при этом 7 действующих пулеметов, вся прислуга которых была переколота, и 140 здоровых германцев.
На доклад начальнику дивизии о взятии первых линий окопов, получено было приказание самым энергичным образом развивать уже достигнутый успех посредством еще оставшихся рот полкового резерва, на пополнение которого придан еще и 3-й батальон 90 Онежского полка. (РГВИА, Ф. 2706 оп. 2 д. 54 л.л. 4, 5.)
Вторая линия неприятельских окопов была взята в 14 часов 30 минут под сильнейшим фланговым пулемётным огнем противника с соседних высот 348 и 347. Во второй линии вражеских укреплений частями полка было захвачено еще 3 действующих пулемета. После чего штыковой атакой рот правого боевого участка во главе с командиром 1-го батальона Подполковником Кудрявцевым противник сброшен был с укрепленной высоты 348, а в центре Капитаном Глебовичем выбит из фольварка Баков. На левом фланге, теснимый ротами Подполковника Фитермана, неприятель начал уходить с высоты 347». (Лыков И.П. 92-й пехотный Печорский полк и его участие в Первой мировой войне. М.; «Спецкнига», 2011. С. 104-105.)
Непосредственными предшественниками русских отрядов особого назначения 1-й Мировой войны были партизаны 1812 года.
«Первая мысль употребить сей способъ войны, польза коей уже доказана была примѣромъ Испанiи, принадлежитъ Подполковнику Денису Давыдову. Сей отличный офицеръ справедливо заключилъ, что въ землѣ, гдѣ непрiязненное расположенiе поселянъ къ врагамъ отечества не подвержено было сомнѣнiю, дѣйствiя партизановъ долженствовали быть весьма важными. Даже можно было надѣяться на бòльшiя послѣдствiя, нежели въ Испанiи; ибо Французы, находясь въ семъ Королевствѣ, сохраняли болѣе сообщенiй со своею землею, нежели углубясь внутрь Россiи, гдѣ Наполеонъ имѣлъ путемъ дѣйствiй одну только большую дорогу изъ Смоленска въ Москву; слѣдовательно, отъ пресѣченiя сей дороги долженствовали произойти и слѣдствiя, тѣмъ гибельнѣйшiя для непрiятеля. Къ тому жъ, если Испанскiе гверилласы (ратники), состоявшiе только изъ вооруженныхъ поселянъ, дѣйствовали съ успѣхомъ, то чего жъ должно было ожидать отъ партiй, составленныхъ изъ регулярныхъ войскъ, или изъ того воинственнаго и неутомимаго ополченiя, которое берега Дона доставляютъ Россiйским армiямъ, и которое, по устройству и обычаямъ своимъ, столь удивительно сродно къ сему способу войны? — Убеждаясь сими причинами, Подполковникъ Давыдовъ, за нѣсколько дней до битвы Бородинской, просилъ Генерала Князя Багратиона, дабы поручилъ ему легкiй отрядъ для дѣйствiя въ тылу непрiятеля. Просьба его была уважена, и въ распоряженiе его отдано 50 человѣкъ гусаръ и 80 казаковъ. Не смотря на слабость сего отряда, Подполковникъ Давыдовъ не замедлилъ оправдать довѣренность, оказанную ему начальствомъ. Принявъ городъ Юхновъ за опору дѣйствiй, онъ дѣлалъ набѣги партiями своими на дорогу изъ города Гжатска въ Вязьму, и разбивалъ идущiе по ней непрiятельские подвозы и отдѣльные отряды. Успѣхи, имъ одержанные, обративъ на себя вниманiе Фельдмаршала Князя Кутузова, побудили его сдѣлать обширнѣйшее приспособленiе сего рода войны (1); а какъ положенiе главной Россiйской армiи на старой Калужской дорогѣ весьма облегчало распространенiе оной, то Подполковникъ Давыдовъ получилъ подкрѣпленiе, и новые партизанскiе отряды, въ каждомъ отъ 500 до тысячи человѣкъ легкой кавалерiи, съ нѣсколькими орудiями конной артиллерiи, выступили въ поле. Къ сожалѣнiю, предначертанiе, принятое нами для сего сочиненiя, не позволяетъ подробно описывать дѣйствiя сихъ легкихъ отрядовъ, которые, подъ начальствомъ достойныхъ офицеровъ, каковы Генералъ-Маiоръ Дороховъ, Полковники Ефремовъ и Князь Кудашевъ, гвардiи Капитан Сеславинъ и Капитанъ Фигнеръ, ревновали въ усердiи и дѣятельности съ отрядомъ Подполковника Давыдова. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винценгероде равномѣрно составилъ два партизанскiе отряда, подъ начальствомъ Полковника Бенкендорфа и Маiора Пренделя, которые обезпокоивали сообщенiя непрiятельскiя по лѣвую сторону дороги, ведущей изъ Смоленска въ Москву.
(1) Примѣчанiе Переводчика. 10-го Сентября, Фельдмаршалъ Князь Кутузовъ отрядилъ Генералъ-Маiора Дорохова съ 2,000 человѣкъ кавалерiи на Можайскую дорогу, и въ то же время на дорогахъ: Владимiрской, Рязанской, Тульской и новой Калужской оставлены были партизанскiе отряды, имѣвшiе предметомъ не токмо прикрывать страну отъ набѣговъ непрiятеля, но чтобы, при удобныхъ случаяхъ, соединенно съ поселянами, наносить ему возможнѣйшiй вредъ. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винцингероде, съ своей стороны, также выслалъ партизановъ, безспрестанно тревожившихъ непрiятеля по Тверской, Дмитровской, Ярославской и Рузской дорогамъ. Сей род войны, не подвергая Россiйскую армiю ни трудамъ, ни опасности, причинялъ столько вреда Французамъ, что въ теченiе одной недѣли, то есть, с 10-го по 17-е Сентября, число плѣнныхъ, взятыхъ партизанами, простиралось до 4,000 человѣкъ. Сверхъ того, непрiятель убитыми безъ сомнѣния потерялъ еще болѣе; ибо поселяне, ободренные присутствiем партизановъ, вездѣ нападали на него». (Исторiя нашествiя Императора Наполеона на Россiю въ 1812-мъ году. Съ оффицiяльныхъ документовъ и другихъ достовѣрныхъ бумагъ Россiйскаго и Французскаго Генералъ-Штабовъ, сочиненная ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Флигель-Адъютантомъ, Полковникомъ Д. Бутурлинымъ. Съ Французскаго же на Россiйскiй языкъ переведена Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Квартирмейстерской части, Генералъ-Маiоромъ А. Хатовымъ. Часть вторая. Изданiе второе. СПб. 1838. Стр. 4-7.)
«ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА, представляетъ самост-ныя дѣйствiя выдѣленныхъ армiей отрядовъ, прервавшихъ съ нею связь, хотя бы временно, и наносящихъ вредъ прот-ку, преимущ-но въ тылу. Между П. войной и малой войной (см. это) есть существ. разница: хотя каждое отдѣльн. дѣйствiе партизана принадлежитъ къ области малой войны, но онъ прерываетъ связь со своей армiей, тогда какъ войска, назначенныя для малой войны, всегда эту связь сохраняютъ. Точно также и народн. война, хотя бы и веденная въ тылу непр-ля, отличается отъ П-ской, п. ч. шайки возставшаго народа привязаны къ своимъ родн. мѣстамъ, ведут войну на свой рискъ и страхъ. П. война, по самому ея существу, м. возникнуть только тогда, когда тылъ прот-ка уязвимъ, и чѣмъ болѣе онъ уязвимъ, тѣмъ благопрiятнѣе условiя для развитiя этой войны. Слово партизанъ происходитъ отъ французскаго parti, отрядъ, партiя». (Военная энциклопеiя. Т. XVII. Нитроглицеринъ – Патруль. Пг. 1914. Стр. 303.)
Указание, что не состоящие на службе местные жители воюют «на свой риск и страх», имеет правовой смысл, потому что такие действия нарушают общепринятые законы ведения войны.
Начало действий партизан относится к 1915 г.
3 мая 1915 г. была образована Маньчжурская партизанская конная сотня. Её штат: командир (мог быть штаб-офицером), 2 обер-офицера, 1 вахмистр, 5 старших урядников (взводные), 1 старший урядник – каптенармус, 10 младших урядников, 3 трубача, 12 приказных (в их числе один кузнец), 128 рядовых партизан (в их числе а) старший писарь, б) сотенный медицинский и младший ветеринарный фельдшеры, в) оружейный подмастерье, г) 12 вожатых рядовых с вьюками). В августе на Юго-Западном фронте действовали уже 12 партизанских отрядов. (Хорошилова О.А. Всадники особого назначения. М.: «Русские Витязи», 2013. С. 17, 222.)
«В сентябре линия фронта стабилизировалась, армии начали окапываться, строить укрепления и проволочные заграждения. Кавалерия осталась без работы, и офицеры буквально засыпали Ставку прошениями. Они убеждали командование в пользе «летучих сотен» и важном значении «специальной работы». Были даже предложения сформировать национальные партизанские отряды из сочувствующего славянского населения. К примеру, подъесаул 3-го Хопёрского полка Андрей Григорьевич Шкура хотел организовать группу из охотников-чехов, владевших немецким и польским языками. Он предлагал «заменить казачьи винтовки германскими и австрийскими, и не подводить партизан ни под какие уставы и законы, не ограничивать их районом действий <...> забыть о них совершенно; они о себе должны сами напоминать, но только своими лихими действиями, оставляя после себя смертельный ужас». (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 508.) В Ставке эту идею одобрили, но хода ей не дали. Тогда подъесаул атаковал штабных генералов новыми проектами. Он предлагал сформировать партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Настойчивость и талант убеждения возымели действие. В декабре–январе Шкура собрал Кубанский отряд особого назначения в 600 коней и отправился с ним на реку Шару, где группа приняла боевое крещение». (Там же. С. 18, 28.)
30 октября 1915 г. последовал приказ № 2 походного атамана всех казачьих войск генерал-майора великого князя Бориса Владимировича: «На основании п. 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного “Положения о Походном Атамане при ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ ВЕЛИЧЕСТВЕˮ (приказ начальника Штаба Верховного Главнокомандующего от 4 октября 1915 года № 3 секретно) объявляю прилагаемое при сем “Наставление для организации партизанских отрядовˮ.
Предлагаю теперь же приступить к организации этих отрядов с тем, чтобы, где это по местным условиям окажется возможным, безотлагательно начать партизанские действия; в противном же случае – держать выбранных партизанов на учете в своих частях, не собирая их в отдельные отряды, до первого подходящего случая, когда можно будет их пустить в дело.
Что же касается самой деятельности партизанов, то, в виду крайнего разнообразия обстановки и местных условий, в которых им придется действовать – дать какие-либо категорические указания не представляется возможным; все будет зависеть от находчивости, отваги и ловкости как начальника отряда, так и его подчиненных... Главная цель – держать врага в постоянной тревоге за безопасность своего тыла, заставив его оттянуть с фронта для охраны тыловых учреждений возможно больше войск.
Бессмертные примеры деятельности Давыдова, Фигнера, Сеславина, донских казаков-партизанов 1812 года, да будут образцом для подвигов их правнуков.
Наставление для организации партизанских отрядов:
«В каждом конном отряде (дивизии, отдельной бригаде), распоряжением начальника выбираются охотники-партизаны (не более 5-10 человек от сотни и эскадрона, во избежание ослабления частей).
Выбор должен быть произведен особенно тщательно, отдавая преимущество людям, уже доказавшим в боях свою отвагу и находчивость.
Выбранные партии сводятся в отдельные отряды, силою 100-150 человек. Каждый отряд называется по фамилии своего начальника и для удобства управления делится по строевому расчету.
Начальником партизанского отряда назначается офицер, также охотник, обладающий необходимыми для партизана качествами. При выборе его главное внимание обращается не на старшинство в чине, а на доказанную выдающуюся боевую пригодность. Ему предоставляется выбор себе помощников из числа офицеров-охотников, а также и лично известных ему нижних чинов.
Партизанский отряд, составленный из охотников разных частей, может быть прикомандирован для денежного и других видов довольствия к одному из полков конного отряда, во избежание обременения начальника партизан сложной отчетностью.
Вооружить партизан желательно германскими и австрийскими винтовками со штыками, ввиду того, что, действуя в тылу неприятеля, они легче могут добывать себе патроны. Кроме того, им могут быть приданы подрывные средства, пулеметы и даже конно-горные орудия, хотя по роду их деятельности партизан, едва ли желательно обременять артиллерией.
Кроме денежного аванса на покупку положенного от казны продовольствия людям и лошадям, начальник партизан должен быть снабжен также денежным авансом в размере 1000-2000 рублей из полковых экономий для найма лазутчиков, проводников и другие непредвиденные расходы, необходимые для пользы дела. При первой возможности он представляет отчет об израсходовании этих денег.
Ввиду той громадной пользы, какую могут принести отважные партизаны, и крайней трудности и опасности их службы, все начальники частей, в районе которых они будут действовать, должны оказывать им полное содействие как боевой помощью, так и необходимыми сведениями о противнике и продовольствием для людей и лошадей.
Сведения о партизанских отрядах представить по прилагаемой форме в Ставку на имя Походного Атамана немедленно по сформировании отряда. Каждому начальнику партизанского отряда будет выдано особое удостоверение за подписью Походного Атамана.
Во время своей специальной деятельности партизаны подчиняются только Походному Атаману. Никто не должен задерживать их для исполнения задач, не соответствующих их назначению.
О своей деятельности, выдающихся подвигах партизан, трофеях и потерях начальники партизанских отрядов доносят Походному Атаману одновременно с донесением прямому своему начальству.
Отступления от настоящего постановления, ввиду местных условий, допускаются, имея целью лишь пользу делу партизанской войны». (Там же. Приложение № 3. С. 223-224.)
Отряды особого назначения были не только казачьими. В конце апреля 1916 г. уже имелись 45 партизанских отрядов. (Там же. С. 22.) В виду укрепления линии соприкосновения и, как следствие, трудности её пересечения, приказом № 158 от 9 мая 1916 г. часть партизан распускалась по свои частям. Сохранялись отряды численностью от 250 до 350 человек, смешанные и более сложной организации. Они подчинялись генерал-квартирмейстерам штабов армий. (Там же. С. 26.)
(Нельзя не заметить, что собрав исторические сведения, О.А. Хорошиловой лучше бы было только изложить их и воздержаться от суждений. Последние доходят у неё до того, что на странице 23 она пишет о нападении партизан в ночь с 14 на 15 ноября 1915 г. на деревню Невель: «Изрубили 20 германских офицеров, врачей, чиновников и около 600 нижних чинов, уничтожили большие запасы интендантского имущества, фуража и обозы. Был пленён штаб 271-го германского полка, а прапорщик 11-го Рижского драгунского полка Ямбулатов с Павлом Кузнецовым, рядовым того же полка, захватили начальника 82-й германской пехотной дивизии генерала Карла Фридриха Зигфрида Фабариуса.
Эта победа партизанам досталась дорогой ценой. В бою был смертельно ранен капитан Степан Леонтьев, командир известного партизанского отряда Оренбургской казачьей дивизии, убиты 5 человек, двое пропали без вести, ранены 3 офицера и 46 нижних чинов». А на странице 27 объявляет боевой опыт партизан, скорее, не успешным и заявляет, что Невель и другие только «красивые партизанские «дела», никак не повлиявшие на ход отдельных операций и в целом войны». Хорошилова явно не понимает военные действия. Для захвата в обычном бою штаба полка и пленения начальника дивизии пришлось бы понести во много раз большие потери.)
Юго-Западный фронт, около августа 1915 г. «Возвратившись в полк, я был назначен в полковую канцелярию для приведения в порядок материалов по истории боевой работы полка. Это был период затишья на фронте. В обстановке временного отдыха мне пришла в голову идея сформирования партизанского отряда для работы в тылах неприятеля. Дружественное отношение к нам населения, ненавидевшего немцев, лесистая или болотистая местность, наличие в лице казаков хорошего кадра для всякого рода смелых предприятий, – всё это в сумме, казалось, давало надежду на успех в партизанской работе. Мой полковой командир, доблестный полковник Труфанов, впоследствии вместе с братом зверски убитый большевиками в г. Майкопе, много помог мне своей опытностью и советами. Организация партизанских отрядов мне рисовалась так: каждый полк дивизии отправляет из своего состава 30–40 храбрейших и опытных казаков, из которых организуется дивизионная Партизанская сотня. Она проникает в тылы противника, разрушает там железные дороги, режет телеграфные и телефонные провода, взрывает мосты, сжигает склады и вообще, по мере сил, уничтожает коммуникации и снабжение противника, возбуждает против него местное население, снабжает его оружием и учит технике партизанских действий, а также поддерживает связь его с нашим командованием.
Высшее начальство одобрило мой проект, и я был вызван в Могилёв, в Ставку походного атамана всех казачьих войск – Великого Князя Бориса Владимировича. Там я присутствовал при опытах со вновь изобретённой зажигательной жидкостью, которой наполнялись снаряды и пули. При ударе пуля разрывалась, и возникал пожар, не поддававшийся никакому тушению. На одном из опытов присутствовали Государь, Наследник Цесаревич, Великие Князья, генерал Алексеев, генерал Богаевский и др. Был дождливый день; изобретатель, господин Братолюбов, демонстрировал своё изобретение. Были приготовлены для опытов кирпичная стенка и деревянный дом. Государь лично выстрелил из винтовки в стенку, которая загорелась; дом также вспыхнул, как свеча. Мне было предложено применить и это изобретение во время партизанских набегов, но я так и не получил никогда этих зажигательных пуль. Говорили, что Братолюбов похитил чужое изобретение, возникли недоразумения и дело затянулось.
По обратном возвращении в полк я был прикомандирован в штаб нашего корпуса и в течение декабря 1915 г. и января 1916 г. формировал Партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Она получила наименование Кубанского конного отряда особого назначения. В конце января состоялось первое боевое применение моего отряда. В это время наш корпус стоял на реке Шаре. В зимнюю морозную ночь, в белых балахонах двинулись мы через наши заставы, имея проводниками несколько местных лесников. Было очень темно; мы шли гуськом, ступая на следы друг друга, в мёртвой тишине. Шли уже около часу, по цельному снегу, без тропинок. Взошла луна. Проводник доложил, что мы обошли уже первый немецкий пост. Я отрядил 15 человек, которые поползли к немецкому посту. Часовой был снят без звука, а 6 германцев взяты живьём.
От пленных мы узнали, где главная застава, состоявшая из роты пехоты. Решили её уничтожить. Я разделил свой отряд на две части: одну повёл сам, другую – под начальством хорунжего Галушкина. Выждав время, я двинулся медленно по лесу. Вдруг возглас:
– Хальт! Вер да? (Стой! Кто там? – Примеч. ред.)
Затем залп из нескольких винтовок. Проводники наши прыгнули в кусты, мы же повалились в снег и не отвечали. Пальба вскоре прекратилась. Вдруг слева, куда ушёл Галушкин, раздалась частая ружейная стрельба и крики «ура». Видимо, молодой и горячий Галушкин «не выдержал характера». Тогда и мы, но без крика, в кинжалы, на вновь открывший по нас огонь германский пост. Вырезали, без потерь, 30 немцев и скорее вновь на выстрелы. Выходим – лесная поляна, на ней двор лесника, из которого выскакивают немцы и беспорядочно стреляют в разные стороны. Мы с места в штыки и кинжалы. После короткой рукопашной борьбы мы их частью перебили, частью забрали в плен.
С той стороны, где – как мы предполагали – действует Галушкин, появились чёрные фигуры. Это были отступавшие от него немцы. Мы бросились на них в штыки. Но Галушкин, не зная, где мы, продолжал стрелять в нашу сторону. Мы перебили человек 70 германцев, 30 взяли в плен; в общем, роту прикончили, забрали 2 пулемёта, винтовки, много касок. У меня оказалось 2 убитых и 18 раненых. У немцев всюду поднялась тревога. За отсутствием проводников, по компасу и звёздам пошли мы обратно, с песнями и добычей, выслав вперёд дозоры. Вскоре нашли под кустами наших перепутавшихся проводников, и они снова повели нас. Мы были ещё дважды обстреляны немецкими заставами, но с боем, перекатами, ушли от них без новых потерь и на рассвете вышли на берег Шары.
Русские посты, встревоженные ночной пальбой с криками «ура», открыли по нас огонь через речку. Несмотря на наши крики «свои, свои», огонь с русской стороны всё усиливался, быстро распространяясь и вниз по реке. В это время наши задние дозоры стали доносить, что сзади на нас наступает около батальона германской пехоты, высланной нас преследовать. Положение становилось тягостным – мы рисковали оказаться между двух огней. Я вызвал охотников доставить донесения через Шару, что это мы и чтобы нас пропустили. Охотники дошли благополучно, огонь прекратился. Со своим отрядом, гуськом, прикрываясь огнём задней заставы, мы перешли на нашу сторону. Немцы решили нас преследовать на нашем берегу Шары. Мы тотчас рассыпались в цепь и отбивались до подхода роты из резерва.
Было уже совсем светло, когда с песнями и, влача пленных, явились мы на бивак. Едва похоронили своих убитых, как приехал корпусной командир, генерал Ирманов. Он горячо благодарил нас и наградил казаков крестами. Я получил благодарность в приказе по корпусу. Тут впервые я встретился с доблестным командиром 206-го пехотного полка полковником Генерального штаба И.П. Романовским, впоследствии начальником штаба Добровольческой армии при генералах Корнилове, Алексееве, Деникине; он недавно принял полк.
Затем началась боевая служба. Каждые двое суток мы выходили ночью в набеги, часто с прибавленными к моему отряду пехотными разведчиками. Мы очень беспокоили немцев, настолько усиливших свою бдительность, что нам приходилось постоянно менять место нашей работы. Мы брали много пленных, частенько приводили их по сотне и больше. Однако основная цель нашей работы – организация партизанской деятельности населения в неприятельских тылах – так и не была достигнута вследствие пассивности и запуганности населения.
Однажды, это было несколько южнее, я задумал смелую операцию – захватить неожиданным набегом высмотренный нами штаб германской дивизии, расположенный в тылу, верстах в 30–35 от нашего фронта. Для этой цели к моему отряду, выросшему уже до двух сотен, были приданы ещё две сотни Хопёрского полка Кубанского войска. У меня была хорошо налаженная связь с местным населением, и оно перерезало штабные телефонные линии к назначенному мною сроку. Конным пробегом мы дошли до штаба, перерезали германскую охранную роту, взяли в плен весь штаб дивизии во главе с её начальником и забрали все документы. Это было уж слишком дерзко, и мы поплатились. Немцы нас почти окружили, и мы никак не могли выбраться на нашу сторону. Нарвавшись на германский батальон, попали под сильнейший огонь и понесли большие потери. Часть пленных разбежалась; немецкого генерала, пытавшегося скрыться, казаки зарубили.
Трое суток, преследуемые со всех сторон, бродили мы по лесу без отдыха, замерзшие, голодные и с некормленными конями. Люди изнервничались и пали духом. К счастью, мы встретили двух крестьян, указавших нам затерянную деревушку, где мы отдохнули и отогрелись. С большими трудностями, на четвертую ночь, выбрались мы наконец на нашу сторону, доставив документы и несколько пленных. За это дело я был представлен к Георгиевскому кресту, но так его и не получил». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Гл. 3. С. 60-64.)
Здесь, конечно, вспоминается последующий внезапный разгром утром 23 августа (5 сентября) 1919 г. полками 2-й Уральской казачьей дивизии в «красном» тылу штаба 25-й стрелковой дивизии и смертельное ранение её командира Чапаева. В этом деле вместе с другими принимали участие 1-й и 2-й Партизанские полки уральских казаков. (Фадеев П.А. Эпизоды боёв на Уральском фронте. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская – Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 290-296.)
«Из Черновиц мой отряд был переброшен в район Селетина. Мне были переданы ещё три партизанских отряда: один казачий донской («быкадоровцы») подъесаула Быкадорова, уральский казачий подъесаула Абрамова («абрамовцы») и Партизанский отряд 13-й кавалерийской дивизии. Таким образом, теперь под моей командой состояло более 600 шашек. Действовать приходилось пешком в отрогах южных Карпат, причём работа наша координировалась с задачами, возлагавшимися на пехоту. В то время как пехота готовила лобовую атаку, я забирался в тылы неприятельского участка, нарушал коммуникации, производил разгром тылов, а если было возможно, то и атаковал неприятеля с тылу. Горы были страшно крутые, продвижение обозов невозможно, подвоз продуктов приходилось производить на вьюках по горным тропинкам, вывоз раненых был затруднён. Вообще работа была страшно трудная. Драться приходилось с венграми и баварцами.
При взятии Карлибабы, где мы захватили огромную добычу, я был контужен в голову, причём у меня была разбита щека и повреждён правый глаз. Вскоре после этого мой отряд придали 3-му конному корпусу генерала от кавалерии графа Келлера.
/.../
Однако возвращаюсь к прерванному рассказу. Итак, мой отряд был придан 3-му конному корпусу, и я явился представиться своему новому корпусному командиру. Граф Келлер занимал большой, богато украшенный дом в г. Дорна-Ватра. С некоторым трепетом, понятным каждому военному человеку, ожидал я представления этому знаменитому генералу, считавшемуся лучшим кавалерийским начальником русской армии. Меня ввели к нему. Его внешность: высокая, стройная, хорошо подобранная фигура старого кавалериста, два Георгиевских креста на изящно сшитом кителе, доброе выражение на красивом, энергичном лице с выразительными, проникающими в самую душу глазами. Граф ласково принял меня, расспросил о быте казаков и обещал удовлетворить все наши нужды.
– Я слышал о славной работе вашего отряда, – сказал он. – Рад видеть вас в числе моих подчинённых и готов во всём и всегда идти вам навстречу, но буду требовать от вас работы с полным напряжением сил.
Об этом, впрочем, граф мог бы и не говорить; все знали, что служба под его командой ни для кого не показалась бы синекурой. Действительно, после двухдневного отдыха на отряд были возложены чрезвычайно тяжёлые задачи. За время нашей службы при 3-м конном корпусе я хорошо изучил графа и полюбил его всей душой, равно как и мои подчинённые, положительно не чаявшие в нём души. Граф Келлер был чрезвычайно заботлив о подчинённых; особенное внимание он обращал на то, чтобы люди были всегда хорошо накормлены, а также на постановку дела ухода за ранеными, которое, несмотря на трудные условия войны, было поставлено образцово. Он знал психологию солдата и казака. Встречая раненых, выносимых из боя, каждого расспрашивал, успокаивал и умел обласкать. С маленькими людьми был ровен в обращении и в высшей степени вежлив и деликатен; со старшими начальниками несколько суховат. С начальством, если он считал себя задетым, шёл положительно на ножи. Верхи его поэтому не любили. Неутомимый кавалерист, делавший по 100 вёрст в сутки, слезая с седла лишь для того, чтобы переменить измученного коня, он был примером для всех. В трудные моменты лично водил полки в атаку и был дважды ранен.
Когда он появлялся перед полками в своей волчьей папахе и в чекмене Оренбургского казачьего войска, щеголяя молодцеватой посадкой, казалось, чувствовалось, как трепетали сердца обожавших его людей, готовых по первому его слову, по одному мановению руки броситься куда угодно и совершить чудеса храбрости и самопожертвования. Впоследствии, когда в Петрограде произошла революция, граф Келлер заявил телеграфно в Ставку, что не признает Временного правительства до тех пор, пока не получит от Монарха, которому он присягал, уведомление, что тот действительно добровольно отрёкся от престола. Близ Кишинёва, в апреле 1917 г., были собраны представители от каждой сотни и эскадрона.
– Я получил депешу, – сказал граф Келлер, – об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал Царю (цитирую по памяти): «3-й конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от Престола. Прикажи, Царь, придём и защитим Тебя».
– Ура, ура! – закричали драгуны, казаки, гусары. – Поддержим все, не дадим в обиду Императора.
Подъём был колоссальный. Все хотели спешить на выручку пленённого, как нам казалось, Государя. Вскоре пришёл телеграфный ответ за подписью генерала Щербачёва – графу Келлеру предписывалось сдать корпус под угрозой объявления бунтовщиком. Келлер сдал корпус генералу Крымову и уехал из армии. В глубокой горести и со слезами провожали мы нашего графа. Офицеры, кавалеристы, казаки, все повесили головы, приуныли, но у всех таилась надежда, что скоро недоразумение объяснится, что мы ещё увидим нашего любимого вождя и ещё поработаем под славным его командованием. Но судьба решила иначе». (Шкуро. Гражданская война в России: Записки белого партизана. Гл. 4. С. 66, 68-69.)
1917 г.: «28 Августа, въ 4 часа утра, я прибылъ въ Могилевъ. …
...Я всю войну провелъ на позицiи. Въ Ставкѣ я никогда не былъ, даже въ штабахъ Армiи за всѣ три года войны счетомъ былъ три раза. …
...Начальникъ штаба сбивчиво и неясно, видимо сильно волнуясь, объяснилъ мнѣ, что только-что Корниловъ объявилъ Керенскаго измѣнникомъ, а Керенскiй сделалъ то же самое по отношенiю къ Корнилову, что необходимо арестовать Временное Правительство и прочно занять Петроградъ вѣрными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и побѣдить нѣмцевъ. Съ этою целью Корниловъ двинулъ на Петроградъ III-й конный корпусъ, который съ приданной къ нему Кавказской Туземной дивизiей разворачивается въ Армiю, командовать которой назначенъ генералъ Крымовъ. Кавказская дивизiя разворачивается въ Туземный корпусъ приданiемъ къ ней 1-го Осетинскаго и 1-го Дагестанскаго полковъ. Я же назначенъ принять отъ Крымова III-й конный корпусъ, чтобы освободить его для командованiя армiей. Сложная работа разворачиванiя Кавказской Туземной дивизiи въ корпусъ шла на походѣ, да и не на настоящемъ походѣ, а въ вагонахъ желѣзнодорожныхъ эшелоновъ. На деликатное дѣло военнаго переворота были брошены части съ только-что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурiйская конная дивизiя III-го корпуса не знала меня.
/.../
Замышляется очень деликатная и сильная операцiя, требующая вдохновенiя и порыва. Coup d'état, — для котораго неизбѣжно нужна нѣкоторая театральность обстановки. Собирали III-й корпусъ подъ Могилевымъ? Выстраивали его въ конномъ строю для Корнилова? Прiѣзжалъ Корниловъ къ нему? Звучали побѣдные марши надъ полемъ, было сказано какое-либо сильное увлекающее слово, — Боже сохрани — не рѣчь, а, именно, с л о в о, — была обѣщана награда? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по желѣзнымъ путямъ, часами стояли на станцiяхъ. Солдаты толпились въ красныхъ коробкахъ вагоновъ, а потомъ, на станцiи, толпами стояли около какого-нибудь оратора — желѣзнодорожнаго техника, посторонняго солдата, — кто его знаетъ кого? Они не видѣли своихъ вождей съ собою и даже не знали, гдѣ они? Я помню, какъ гр. Келлеръ повелъ насъ на штурмъ Ржавендовъ и Топороуца. Молчаливо, весеннимъ утромъ на черномъ пахотномъ полѣ выстроились 48 эскадроновъ и сотенъ и 4 конныя батареи. Раздались звуки трубъ, и на громадномъ конѣ, окруженный свитой, под развѣвающимся своимъ значкомъ явился графъ Келлеръ. Онъ что-то сказалъ солдатамъ и казакамъ. Никто ничего не слыхал, но заревѣла солдатская масса «ура», заглушая звуки трубъ и потянулись по грязнымъ весеннимъ дорогамъ колонны. И когда былъ бой — казалось, что графъ тутъ же и вотъ-вотъ появится со своимъ значкомъ. И онъ былъ тутъ, онъ былъ въ полѣ, и его видали даже тамъ, гдѣ его не было. И шли на штурмъ весело и смѣло.
Тутъ все начальство осталось позади. Корниловъ задумалъ такое великое дѣло, а самъ остался въ Могилевѣ, во дворцѣ, окруженный туркменами и ударниками, какъ будто и самъ не вѣрящiй въ успѣхъ. Крымовъ неизвѣстно гдѣ, части не въ рукахъ у своихъ начальниковъ». (Красновъ П.Н. На внутреннемъ фронтѣ. // Архивъ русской революцiи. Т. I. Берлинъ, 1921. Стр. 113, 115.)
Фотография чинов III-го конного корпуса. В нижнем ряду второй слева сидит командир корпуса генерал от кавалерии граф Фёдор Артурович Келлер. Последним слева сидит командир Кубанского конного отряда особого назначения есаул Андрей Григорьевич Шкура:

Подобно Денису Васильевичу Давыдову, Андрей Григорьевич Шкуро воевал в Европе, потом в Кавказских войсках и снова в Европейской России, дослужился до чина генерал-лейтенанта, с разными старшими начальниками имел разные взаимоотношения, оставил военные воспоминания. Несмотря на противоположное отношение в советское время, по части военного искусства оба напрочь забыты советской военной школой (как, впрочем, и вся остальная военная история).
Списки награждённых Георгиевскими крестами, в том числе чинов отрядов особого назначения, см. в: Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. М.: «Духовная Нива»:
I ст. №№ 1–42480. II ст. №№ 1–85030. М. 2015.
III степень. №№ 1–120000. М. 2015.
IV степень. №№ 1–100000. М. 2012.
IV степень. №№ 100001–200000. М. 2012.
IV степень. №№ 200001–300000. М. 2013.
IV степень. №№ 300001–400000. М. 2013.
IV степень. №№ 400001–500000. М. 2013.
IV степень. №№ 500001–600000. М. 2013.
IV степень. №№ 600001–700000. М. 2013.
IV степень. №№ 700001–800000. М. 2014.
IV степень. №№ 800001–900000. М. 2014.
IV степень. №№ 900001–1000000. М. 2014.
IV степень. №№ 1000001–1299150. М. 2014.
https://www.numismat.ru/gkc...
Другим известным Белым военачальником, возглавлявшим партизан, был донской казак, полковник Василий Михайлович Чернецов. В 1990-е годы в продолжительной передаче на радио Андрей Езеев рассказывал об исторических русских военных песнях. В числе других им была исполнена под гитару на мелодию «Прощания славянки» песня Белых донских партизан:
Мы дети родимого Дона,
Семья боевых партизан,
Свои распустивши знамёна,
Развеем кровавый туман!
И подвигом славным украшен,
Не дрогнет в бою партизан,
В атаке противнику страшен
Наш смелый лихой атаман!
Мы все за свободу и волю,
За родину нашу умрём
И рабские цепи неволи
Рукою могучей сорвём!
В этот момент, одновременно с внезапным обрывом доведенного до крайнего напряжения ружейного и пулеметного огня, из окопов противника поднялась серо-синяя стена прусской гвардии. Легко одетые, без всякого снаряжения, молодые, рослые как на подбор люди, движениями гимнастов перескочили бруствер и с ружьями наперевес и криками ярости бросились в контр-атаку. Последняя принята была частями полка с изумительной стойкостью. Не рассчитывая на легко гнущиеся от удара и часто сваливавшиеся штыки находившихся на вооружении полка австрийских винтовок, большинство нижних чинов, мгновенно перевернув ружья, заработали прикладами – и в несколько минут беспощадного с обеих сторон рукопашного боя, представители 3-й германской гвардейской дивизии – Фузилерный и Учебный полки оказались сломленными и опрокинутыми 92-м пехотным Печорским полком. Одна часть их устлала своими трупами и телами раненых всю широкую полосу ожесточеннейшего из штыковых боев. Другая, преследуемая нашим огнем, спаслась бегством во вторую линию своих траншей.
В наши руки достались при этом 7 действующих пулеметов, вся прислуга которых была переколота, и 140 здоровых германцев.
На доклад начальнику дивизии о взятии первых линий окопов, получено было приказание самым энергичным образом развивать уже достигнутый успех посредством еще оставшихся рот полкового резерва, на пополнение которого придан еще и 3-й батальон 90 Онежского полка. (РГВИА, Ф. 2706 оп. 2 д. 54 л.л. 4, 5.)
Вторая линия неприятельских окопов была взята в 14 часов 30 минут под сильнейшим фланговым пулемётным огнем противника с соседних высот 348 и 347. Во второй линии вражеских укреплений частями полка было захвачено еще 3 действующих пулемета. После чего штыковой атакой рот правого боевого участка во главе с командиром 1-го батальона Подполковником Кудрявцевым противник сброшен был с укрепленной высоты 348, а в центре Капитаном Глебовичем выбит из фольварка Баков. На левом фланге, теснимый ротами Подполковника Фитермана, неприятель начал уходить с высоты 347». (Лыков И.П. 92-й пехотный Печорский полк и его участие в Первой мировой войне. М.; «Спецкнига», 2011. С. 104-105.)
Непосредственными предшественниками русских отрядов особого назначения 1-й Мировой войны были партизаны 1812 года.
«Первая мысль употребить сей способъ войны, польза коей уже доказана была примѣромъ Испанiи, принадлежитъ Подполковнику Денису Давыдову. Сей отличный офицеръ справедливо заключилъ, что въ землѣ, гдѣ непрiязненное расположенiе поселянъ къ врагамъ отечества не подвержено было сомнѣнiю, дѣйствiя партизановъ долженствовали быть весьма важными. Даже можно было надѣяться на бòльшiя послѣдствiя, нежели въ Испанiи; ибо Французы, находясь въ семъ Королевствѣ, сохраняли болѣе сообщенiй со своею землею, нежели углубясь внутрь Россiи, гдѣ Наполеонъ имѣлъ путемъ дѣйствiй одну только большую дорогу изъ Смоленска въ Москву; слѣдовательно, отъ пресѣченiя сей дороги долженствовали произойти и слѣдствiя, тѣмъ гибельнѣйшiя для непрiятеля. Къ тому жъ, если Испанскiе гверилласы (ратники), состоявшiе только изъ вооруженныхъ поселянъ, дѣйствовали съ успѣхомъ, то чего жъ должно было ожидать отъ партiй, составленныхъ изъ регулярныхъ войскъ, или изъ того воинственнаго и неутомимаго ополченiя, которое берега Дона доставляютъ Россiйским армiямъ, и которое, по устройству и обычаямъ своимъ, столь удивительно сродно къ сему способу войны? — Убеждаясь сими причинами, Подполковникъ Давыдовъ, за нѣсколько дней до битвы Бородинской, просилъ Генерала Князя Багратиона, дабы поручилъ ему легкiй отрядъ для дѣйствiя въ тылу непрiятеля. Просьба его была уважена, и въ распоряженiе его отдано 50 человѣкъ гусаръ и 80 казаковъ. Не смотря на слабость сего отряда, Подполковникъ Давыдовъ не замедлилъ оправдать довѣренность, оказанную ему начальствомъ. Принявъ городъ Юхновъ за опору дѣйствiй, онъ дѣлалъ набѣги партiями своими на дорогу изъ города Гжатска въ Вязьму, и разбивалъ идущiе по ней непрiятельские подвозы и отдѣльные отряды. Успѣхи, имъ одержанные, обративъ на себя вниманiе Фельдмаршала Князя Кутузова, побудили его сдѣлать обширнѣйшее приспособленiе сего рода войны (1); а какъ положенiе главной Россiйской армiи на старой Калужской дорогѣ весьма облегчало распространенiе оной, то Подполковникъ Давыдовъ получилъ подкрѣпленiе, и новые партизанскiе отряды, въ каждомъ отъ 500 до тысячи человѣкъ легкой кавалерiи, съ нѣсколькими орудiями конной артиллерiи, выступили въ поле. Къ сожалѣнiю, предначертанiе, принятое нами для сего сочиненiя, не позволяетъ подробно описывать дѣйствiя сихъ легкихъ отрядовъ, которые, подъ начальствомъ достойныхъ офицеровъ, каковы Генералъ-Маiоръ Дороховъ, Полковники Ефремовъ и Князь Кудашевъ, гвардiи Капитан Сеславинъ и Капитанъ Фигнеръ, ревновали въ усердiи и дѣятельности съ отрядомъ Подполковника Давыдова. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винценгероде равномѣрно составилъ два партизанскiе отряда, подъ начальствомъ Полковника Бенкендорфа и Маiора Пренделя, которые обезпокоивали сообщенiя непрiятельскiя по лѣвую сторону дороги, ведущей изъ Смоленска въ Москву.
(1) Примѣчанiе Переводчика. 10-го Сентября, Фельдмаршалъ Князь Кутузовъ отрядилъ Генералъ-Маiора Дорохова съ 2,000 человѣкъ кавалерiи на Можайскую дорогу, и въ то же время на дорогахъ: Владимiрской, Рязанской, Тульской и новой Калужской оставлены были партизанскiе отряды, имѣвшiе предметомъ не токмо прикрывать страну отъ набѣговъ непрiятеля, но чтобы, при удобныхъ случаяхъ, соединенно съ поселянами, наносить ему возможнѣйшiй вредъ. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винцингероде, съ своей стороны, также выслалъ партизановъ, безспрестанно тревожившихъ непрiятеля по Тверской, Дмитровской, Ярославской и Рузской дорогамъ. Сей род войны, не подвергая Россiйскую армiю ни трудамъ, ни опасности, причинялъ столько вреда Французамъ, что въ теченiе одной недѣли, то есть, с 10-го по 17-е Сентября, число плѣнныхъ, взятыхъ партизанами, простиралось до 4,000 человѣкъ. Сверхъ того, непрiятель убитыми безъ сомнѣния потерялъ еще болѣе; ибо поселяне, ободренные присутствiем партизановъ, вездѣ нападали на него». (Исторiя нашествiя Императора Наполеона на Россiю въ 1812-мъ году. Съ оффицiяльныхъ документовъ и другихъ достовѣрныхъ бумагъ Россiйскаго и Французскаго Генералъ-Штабовъ, сочиненная ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Флигель-Адъютантомъ, Полковникомъ Д. Бутурлинымъ. Съ Французскаго же на Россiйскiй языкъ переведена Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Квартирмейстерской части, Генералъ-Маiоромъ А. Хатовымъ. Часть вторая. Изданiе второе. СПб. 1838. Стр. 4-7.)
«ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА, представляетъ самост-ныя дѣйствiя выдѣленныхъ армiей отрядовъ, прервавшихъ съ нею связь, хотя бы временно, и наносящихъ вредъ прот-ку, преимущ-но въ тылу. Между П. войной и малой войной (см. это) есть существ. разница: хотя каждое отдѣльн. дѣйствiе партизана принадлежитъ къ области малой войны, но онъ прерываетъ связь со своей армiей, тогда какъ войска, назначенныя для малой войны, всегда эту связь сохраняютъ. Точно также и народн. война, хотя бы и веденная въ тылу непр-ля, отличается отъ П-ской, п. ч. шайки возставшаго народа привязаны къ своимъ родн. мѣстамъ, ведут войну на свой рискъ и страхъ. П. война, по самому ея существу, м. возникнуть только тогда, когда тылъ прот-ка уязвимъ, и чѣмъ болѣе онъ уязвимъ, тѣмъ благопрiятнѣе условiя для развитiя этой войны. Слово партизанъ происходитъ отъ французскаго parti, отрядъ, партiя». (Военная энциклопеiя. Т. XVII. Нитроглицеринъ – Патруль. Пг. 1914. Стр. 303.)
Указание, что не состоящие на службе местные жители воюют «на свой риск и страх», имеет правовой смысл, потому что такие действия нарушают общепринятые законы ведения войны.
Начало действий партизан относится к 1915 г.
3 мая 1915 г. была образована Маньчжурская партизанская конная сотня. Её штат: командир (мог быть штаб-офицером), 2 обер-офицера, 1 вахмистр, 5 старших урядников (взводные), 1 старший урядник – каптенармус, 10 младших урядников, 3 трубача, 12 приказных (в их числе один кузнец), 128 рядовых партизан (в их числе а) старший писарь, б) сотенный медицинский и младший ветеринарный фельдшеры, в) оружейный подмастерье, г) 12 вожатых рядовых с вьюками). В августе на Юго-Западном фронте действовали уже 12 партизанских отрядов. (Хорошилова О.А. Всадники особого назначения. М.: «Русские Витязи», 2013. С. 17, 222.)
«В сентябре линия фронта стабилизировалась, армии начали окапываться, строить укрепления и проволочные заграждения. Кавалерия осталась без работы, и офицеры буквально засыпали Ставку прошениями. Они убеждали командование в пользе «летучих сотен» и важном значении «специальной работы». Были даже предложения сформировать национальные партизанские отряды из сочувствующего славянского населения. К примеру, подъесаул 3-го Хопёрского полка Андрей Григорьевич Шкура хотел организовать группу из охотников-чехов, владевших немецким и польским языками. Он предлагал «заменить казачьи винтовки германскими и австрийскими, и не подводить партизан ни под какие уставы и законы, не ограничивать их районом действий <...> забыть о них совершенно; они о себе должны сами напоминать, но только своими лихими действиями, оставляя после себя смертельный ужас». (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 508.) В Ставке эту идею одобрили, но хода ей не дали. Тогда подъесаул атаковал штабных генералов новыми проектами. Он предлагал сформировать партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Настойчивость и талант убеждения возымели действие. В декабре–январе Шкура собрал Кубанский отряд особого назначения в 600 коней и отправился с ним на реку Шару, где группа приняла боевое крещение». (Там же. С. 18, 28.)
30 октября 1915 г. последовал приказ № 2 походного атамана всех казачьих войск генерал-майора великого князя Бориса Владимировича: «На основании п. 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного “Положения о Походном Атамане при ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ ВЕЛИЧЕСТВЕˮ (приказ начальника Штаба Верховного Главнокомандующего от 4 октября 1915 года № 3 секретно) объявляю прилагаемое при сем “Наставление для организации партизанских отрядовˮ.
Предлагаю теперь же приступить к организации этих отрядов с тем, чтобы, где это по местным условиям окажется возможным, безотлагательно начать партизанские действия; в противном же случае – держать выбранных партизанов на учете в своих частях, не собирая их в отдельные отряды, до первого подходящего случая, когда можно будет их пустить в дело.
Что же касается самой деятельности партизанов, то, в виду крайнего разнообразия обстановки и местных условий, в которых им придется действовать – дать какие-либо категорические указания не представляется возможным; все будет зависеть от находчивости, отваги и ловкости как начальника отряда, так и его подчиненных... Главная цель – держать врага в постоянной тревоге за безопасность своего тыла, заставив его оттянуть с фронта для охраны тыловых учреждений возможно больше войск.
Бессмертные примеры деятельности Давыдова, Фигнера, Сеславина, донских казаков-партизанов 1812 года, да будут образцом для подвигов их правнуков.
Наставление для организации партизанских отрядов:
«В каждом конном отряде (дивизии, отдельной бригаде), распоряжением начальника выбираются охотники-партизаны (не более 5-10 человек от сотни и эскадрона, во избежание ослабления частей).
Выбор должен быть произведен особенно тщательно, отдавая преимущество людям, уже доказавшим в боях свою отвагу и находчивость.
Выбранные партии сводятся в отдельные отряды, силою 100-150 человек. Каждый отряд называется по фамилии своего начальника и для удобства управления делится по строевому расчету.
Начальником партизанского отряда назначается офицер, также охотник, обладающий необходимыми для партизана качествами. При выборе его главное внимание обращается не на старшинство в чине, а на доказанную выдающуюся боевую пригодность. Ему предоставляется выбор себе помощников из числа офицеров-охотников, а также и лично известных ему нижних чинов.
Партизанский отряд, составленный из охотников разных частей, может быть прикомандирован для денежного и других видов довольствия к одному из полков конного отряда, во избежание обременения начальника партизан сложной отчетностью.
Вооружить партизан желательно германскими и австрийскими винтовками со штыками, ввиду того, что, действуя в тылу неприятеля, они легче могут добывать себе патроны. Кроме того, им могут быть приданы подрывные средства, пулеметы и даже конно-горные орудия, хотя по роду их деятельности партизан, едва ли желательно обременять артиллерией.
Кроме денежного аванса на покупку положенного от казны продовольствия людям и лошадям, начальник партизан должен быть снабжен также денежным авансом в размере 1000-2000 рублей из полковых экономий для найма лазутчиков, проводников и другие непредвиденные расходы, необходимые для пользы дела. При первой возможности он представляет отчет об израсходовании этих денег.
Ввиду той громадной пользы, какую могут принести отважные партизаны, и крайней трудности и опасности их службы, все начальники частей, в районе которых они будут действовать, должны оказывать им полное содействие как боевой помощью, так и необходимыми сведениями о противнике и продовольствием для людей и лошадей.
Сведения о партизанских отрядах представить по прилагаемой форме в Ставку на имя Походного Атамана немедленно по сформировании отряда. Каждому начальнику партизанского отряда будет выдано особое удостоверение за подписью Походного Атамана.
Во время своей специальной деятельности партизаны подчиняются только Походному Атаману. Никто не должен задерживать их для исполнения задач, не соответствующих их назначению.
О своей деятельности, выдающихся подвигах партизан, трофеях и потерях начальники партизанских отрядов доносят Походному Атаману одновременно с донесением прямому своему начальству.
Отступления от настоящего постановления, ввиду местных условий, допускаются, имея целью лишь пользу делу партизанской войны». (Там же. Приложение № 3. С. 223-224.)
Отряды особого назначения были не только казачьими. В конце апреля 1916 г. уже имелись 45 партизанских отрядов. (Там же. С. 22.) В виду укрепления линии соприкосновения и, как следствие, трудности её пересечения, приказом № 158 от 9 мая 1916 г. часть партизан распускалась по свои частям. Сохранялись отряды численностью от 250 до 350 человек, смешанные и более сложной организации. Они подчинялись генерал-квартирмейстерам штабов армий. (Там же. С. 26.)
(Нельзя не заметить, что собрав исторические сведения, О.А. Хорошиловой лучше бы было только изложить их и воздержаться от суждений. Последние доходят у неё до того, что на странице 23 она пишет о нападении партизан в ночь с 14 на 15 ноября 1915 г. на деревню Невель: «Изрубили 20 германских офицеров, врачей, чиновников и около 600 нижних чинов, уничтожили большие запасы интендантского имущества, фуража и обозы. Был пленён штаб 271-го германского полка, а прапорщик 11-го Рижского драгунского полка Ямбулатов с Павлом Кузнецовым, рядовым того же полка, захватили начальника 82-й германской пехотной дивизии генерала Карла Фридриха Зигфрида Фабариуса.
Эта победа партизанам досталась дорогой ценой. В бою был смертельно ранен капитан Степан Леонтьев, командир известного партизанского отряда Оренбургской казачьей дивизии, убиты 5 человек, двое пропали без вести, ранены 3 офицера и 46 нижних чинов». А на странице 27 объявляет боевой опыт партизан, скорее, не успешным и заявляет, что Невель и другие только «красивые партизанские «дела», никак не повлиявшие на ход отдельных операций и в целом войны». Хорошилова явно не понимает военные действия. Для захвата в обычном бою штаба полка и пленения начальника дивизии пришлось бы понести во много раз большие потери.)
Юго-Западный фронт, около августа 1915 г. «Возвратившись в полк, я был назначен в полковую канцелярию для приведения в порядок материалов по истории боевой работы полка. Это был период затишья на фронте. В обстановке временного отдыха мне пришла в голову идея сформирования партизанского отряда для работы в тылах неприятеля. Дружественное отношение к нам населения, ненавидевшего немцев, лесистая или болотистая местность, наличие в лице казаков хорошего кадра для всякого рода смелых предприятий, – всё это в сумме, казалось, давало надежду на успех в партизанской работе. Мой полковой командир, доблестный полковник Труфанов, впоследствии вместе с братом зверски убитый большевиками в г. Майкопе, много помог мне своей опытностью и советами. Организация партизанских отрядов мне рисовалась так: каждый полк дивизии отправляет из своего состава 30–40 храбрейших и опытных казаков, из которых организуется дивизионная Партизанская сотня. Она проникает в тылы противника, разрушает там железные дороги, режет телеграфные и телефонные провода, взрывает мосты, сжигает склады и вообще, по мере сил, уничтожает коммуникации и снабжение противника, возбуждает против него местное население, снабжает его оружием и учит технике партизанских действий, а также поддерживает связь его с нашим командованием.
Высшее начальство одобрило мой проект, и я был вызван в Могилёв, в Ставку походного атамана всех казачьих войск – Великого Князя Бориса Владимировича. Там я присутствовал при опытах со вновь изобретённой зажигательной жидкостью, которой наполнялись снаряды и пули. При ударе пуля разрывалась, и возникал пожар, не поддававшийся никакому тушению. На одном из опытов присутствовали Государь, Наследник Цесаревич, Великие Князья, генерал Алексеев, генерал Богаевский и др. Был дождливый день; изобретатель, господин Братолюбов, демонстрировал своё изобретение. Были приготовлены для опытов кирпичная стенка и деревянный дом. Государь лично выстрелил из винтовки в стенку, которая загорелась; дом также вспыхнул, как свеча. Мне было предложено применить и это изобретение во время партизанских набегов, но я так и не получил никогда этих зажигательных пуль. Говорили, что Братолюбов похитил чужое изобретение, возникли недоразумения и дело затянулось.
По обратном возвращении в полк я был прикомандирован в штаб нашего корпуса и в течение декабря 1915 г. и января 1916 г. формировал Партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Она получила наименование Кубанского конного отряда особого назначения. В конце января состоялось первое боевое применение моего отряда. В это время наш корпус стоял на реке Шаре. В зимнюю морозную ночь, в белых балахонах двинулись мы через наши заставы, имея проводниками несколько местных лесников. Было очень темно; мы шли гуськом, ступая на следы друг друга, в мёртвой тишине. Шли уже около часу, по цельному снегу, без тропинок. Взошла луна. Проводник доложил, что мы обошли уже первый немецкий пост. Я отрядил 15 человек, которые поползли к немецкому посту. Часовой был снят без звука, а 6 германцев взяты живьём.
От пленных мы узнали, где главная застава, состоявшая из роты пехоты. Решили её уничтожить. Я разделил свой отряд на две части: одну повёл сам, другую – под начальством хорунжего Галушкина. Выждав время, я двинулся медленно по лесу. Вдруг возглас:
– Хальт! Вер да? (Стой! Кто там? – Примеч. ред.)
Затем залп из нескольких винтовок. Проводники наши прыгнули в кусты, мы же повалились в снег и не отвечали. Пальба вскоре прекратилась. Вдруг слева, куда ушёл Галушкин, раздалась частая ружейная стрельба и крики «ура». Видимо, молодой и горячий Галушкин «не выдержал характера». Тогда и мы, но без крика, в кинжалы, на вновь открывший по нас огонь германский пост. Вырезали, без потерь, 30 немцев и скорее вновь на выстрелы. Выходим – лесная поляна, на ней двор лесника, из которого выскакивают немцы и беспорядочно стреляют в разные стороны. Мы с места в штыки и кинжалы. После короткой рукопашной борьбы мы их частью перебили, частью забрали в плен.
С той стороны, где – как мы предполагали – действует Галушкин, появились чёрные фигуры. Это были отступавшие от него немцы. Мы бросились на них в штыки. Но Галушкин, не зная, где мы, продолжал стрелять в нашу сторону. Мы перебили человек 70 германцев, 30 взяли в плен; в общем, роту прикончили, забрали 2 пулемёта, винтовки, много касок. У меня оказалось 2 убитых и 18 раненых. У немцев всюду поднялась тревога. За отсутствием проводников, по компасу и звёздам пошли мы обратно, с песнями и добычей, выслав вперёд дозоры. Вскоре нашли под кустами наших перепутавшихся проводников, и они снова повели нас. Мы были ещё дважды обстреляны немецкими заставами, но с боем, перекатами, ушли от них без новых потерь и на рассвете вышли на берег Шары.
Русские посты, встревоженные ночной пальбой с криками «ура», открыли по нас огонь через речку. Несмотря на наши крики «свои, свои», огонь с русской стороны всё усиливался, быстро распространяясь и вниз по реке. В это время наши задние дозоры стали доносить, что сзади на нас наступает около батальона германской пехоты, высланной нас преследовать. Положение становилось тягостным – мы рисковали оказаться между двух огней. Я вызвал охотников доставить донесения через Шару, что это мы и чтобы нас пропустили. Охотники дошли благополучно, огонь прекратился. Со своим отрядом, гуськом, прикрываясь огнём задней заставы, мы перешли на нашу сторону. Немцы решили нас преследовать на нашем берегу Шары. Мы тотчас рассыпались в цепь и отбивались до подхода роты из резерва.
Было уже совсем светло, когда с песнями и, влача пленных, явились мы на бивак. Едва похоронили своих убитых, как приехал корпусной командир, генерал Ирманов. Он горячо благодарил нас и наградил казаков крестами. Я получил благодарность в приказе по корпусу. Тут впервые я встретился с доблестным командиром 206-го пехотного полка полковником Генерального штаба И.П. Романовским, впоследствии начальником штаба Добровольческой армии при генералах Корнилове, Алексееве, Деникине; он недавно принял полк.
Затем началась боевая служба. Каждые двое суток мы выходили ночью в набеги, часто с прибавленными к моему отряду пехотными разведчиками. Мы очень беспокоили немцев, настолько усиливших свою бдительность, что нам приходилось постоянно менять место нашей работы. Мы брали много пленных, частенько приводили их по сотне и больше. Однако основная цель нашей работы – организация партизанской деятельности населения в неприятельских тылах – так и не была достигнута вследствие пассивности и запуганности населения.
Однажды, это было несколько южнее, я задумал смелую операцию – захватить неожиданным набегом высмотренный нами штаб германской дивизии, расположенный в тылу, верстах в 30–35 от нашего фронта. Для этой цели к моему отряду, выросшему уже до двух сотен, были приданы ещё две сотни Хопёрского полка Кубанского войска. У меня была хорошо налаженная связь с местным населением, и оно перерезало штабные телефонные линии к назначенному мною сроку. Конным пробегом мы дошли до штаба, перерезали германскую охранную роту, взяли в плен весь штаб дивизии во главе с её начальником и забрали все документы. Это было уж слишком дерзко, и мы поплатились. Немцы нас почти окружили, и мы никак не могли выбраться на нашу сторону. Нарвавшись на германский батальон, попали под сильнейший огонь и понесли большие потери. Часть пленных разбежалась; немецкого генерала, пытавшегося скрыться, казаки зарубили.
Трое суток, преследуемые со всех сторон, бродили мы по лесу без отдыха, замерзшие, голодные и с некормленными конями. Люди изнервничались и пали духом. К счастью, мы встретили двух крестьян, указавших нам затерянную деревушку, где мы отдохнули и отогрелись. С большими трудностями, на четвертую ночь, выбрались мы наконец на нашу сторону, доставив документы и несколько пленных. За это дело я был представлен к Георгиевскому кресту, но так его и не получил». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Гл. 3. С. 60-64.)
Здесь, конечно, вспоминается последующий внезапный разгром утром 23 августа (5 сентября) 1919 г. полками 2-й Уральской казачьей дивизии в «красном» тылу штаба 25-й стрелковой дивизии и смертельное ранение её командира Чапаева. В этом деле вместе с другими принимали участие 1-й и 2-й Партизанские полки уральских казаков. (Фадеев П.А. Эпизоды боёв на Уральском фронте. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская – Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 290-296.)
«Из Черновиц мой отряд был переброшен в район Селетина. Мне были переданы ещё три партизанских отряда: один казачий донской («быкадоровцы») подъесаула Быкадорова, уральский казачий подъесаула Абрамова («абрамовцы») и Партизанский отряд 13-й кавалерийской дивизии. Таким образом, теперь под моей командой состояло более 600 шашек. Действовать приходилось пешком в отрогах южных Карпат, причём работа наша координировалась с задачами, возлагавшимися на пехоту. В то время как пехота готовила лобовую атаку, я забирался в тылы неприятельского участка, нарушал коммуникации, производил разгром тылов, а если было возможно, то и атаковал неприятеля с тылу. Горы были страшно крутые, продвижение обозов невозможно, подвоз продуктов приходилось производить на вьюках по горным тропинкам, вывоз раненых был затруднён. Вообще работа была страшно трудная. Драться приходилось с венграми и баварцами.
При взятии Карлибабы, где мы захватили огромную добычу, я был контужен в голову, причём у меня была разбита щека и повреждён правый глаз. Вскоре после этого мой отряд придали 3-му конному корпусу генерала от кавалерии графа Келлера.
/.../
Однако возвращаюсь к прерванному рассказу. Итак, мой отряд был придан 3-му конному корпусу, и я явился представиться своему новому корпусному командиру. Граф Келлер занимал большой, богато украшенный дом в г. Дорна-Ватра. С некоторым трепетом, понятным каждому военному человеку, ожидал я представления этому знаменитому генералу, считавшемуся лучшим кавалерийским начальником русской армии. Меня ввели к нему. Его внешность: высокая, стройная, хорошо подобранная фигура старого кавалериста, два Георгиевских креста на изящно сшитом кителе, доброе выражение на красивом, энергичном лице с выразительными, проникающими в самую душу глазами. Граф ласково принял меня, расспросил о быте казаков и обещал удовлетворить все наши нужды.
– Я слышал о славной работе вашего отряда, – сказал он. – Рад видеть вас в числе моих подчинённых и готов во всём и всегда идти вам навстречу, но буду требовать от вас работы с полным напряжением сил.
Об этом, впрочем, граф мог бы и не говорить; все знали, что служба под его командой ни для кого не показалась бы синекурой. Действительно, после двухдневного отдыха на отряд были возложены чрезвычайно тяжёлые задачи. За время нашей службы при 3-м конном корпусе я хорошо изучил графа и полюбил его всей душой, равно как и мои подчинённые, положительно не чаявшие в нём души. Граф Келлер был чрезвычайно заботлив о подчинённых; особенное внимание он обращал на то, чтобы люди были всегда хорошо накормлены, а также на постановку дела ухода за ранеными, которое, несмотря на трудные условия войны, было поставлено образцово. Он знал психологию солдата и казака. Встречая раненых, выносимых из боя, каждого расспрашивал, успокаивал и умел обласкать. С маленькими людьми был ровен в обращении и в высшей степени вежлив и деликатен; со старшими начальниками несколько суховат. С начальством, если он считал себя задетым, шёл положительно на ножи. Верхи его поэтому не любили. Неутомимый кавалерист, делавший по 100 вёрст в сутки, слезая с седла лишь для того, чтобы переменить измученного коня, он был примером для всех. В трудные моменты лично водил полки в атаку и был дважды ранен.
Когда он появлялся перед полками в своей волчьей папахе и в чекмене Оренбургского казачьего войска, щеголяя молодцеватой посадкой, казалось, чувствовалось, как трепетали сердца обожавших его людей, готовых по первому его слову, по одному мановению руки броситься куда угодно и совершить чудеса храбрости и самопожертвования. Впоследствии, когда в Петрограде произошла революция, граф Келлер заявил телеграфно в Ставку, что не признает Временного правительства до тех пор, пока не получит от Монарха, которому он присягал, уведомление, что тот действительно добровольно отрёкся от престола. Близ Кишинёва, в апреле 1917 г., были собраны представители от каждой сотни и эскадрона.
– Я получил депешу, – сказал граф Келлер, – об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал Царю (цитирую по памяти): «3-й конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от Престола. Прикажи, Царь, придём и защитим Тебя».
– Ура, ура! – закричали драгуны, казаки, гусары. – Поддержим все, не дадим в обиду Императора.
Подъём был колоссальный. Все хотели спешить на выручку пленённого, как нам казалось, Государя. Вскоре пришёл телеграфный ответ за подписью генерала Щербачёва – графу Келлеру предписывалось сдать корпус под угрозой объявления бунтовщиком. Келлер сдал корпус генералу Крымову и уехал из армии. В глубокой горести и со слезами провожали мы нашего графа. Офицеры, кавалеристы, казаки, все повесили головы, приуныли, но у всех таилась надежда, что скоро недоразумение объяснится, что мы ещё увидим нашего любимого вождя и ещё поработаем под славным его командованием. Но судьба решила иначе». (Шкуро. Гражданская война в России: Записки белого партизана. Гл. 4. С. 66, 68-69.)
1917 г.: «28 Августа, въ 4 часа утра, я прибылъ въ Могилевъ. …
...Я всю войну провелъ на позицiи. Въ Ставкѣ я никогда не былъ, даже въ штабахъ Армiи за всѣ три года войны счетомъ былъ три раза. …
...Начальникъ штаба сбивчиво и неясно, видимо сильно волнуясь, объяснилъ мнѣ, что только-что Корниловъ объявилъ Керенскаго измѣнникомъ, а Керенскiй сделалъ то же самое по отношенiю къ Корнилову, что необходимо арестовать Временное Правительство и прочно занять Петроградъ вѣрными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и побѣдить нѣмцевъ. Съ этою целью Корниловъ двинулъ на Петроградъ III-й конный корпусъ, который съ приданной къ нему Кавказской Туземной дивизiей разворачивается въ Армiю, командовать которой назначенъ генералъ Крымовъ. Кавказская дивизiя разворачивается въ Туземный корпусъ приданiемъ къ ней 1-го Осетинскаго и 1-го Дагестанскаго полковъ. Я же назначенъ принять отъ Крымова III-й конный корпусъ, чтобы освободить его для командованiя армiей. Сложная работа разворачиванiя Кавказской Туземной дивизiи въ корпусъ шла на походѣ, да и не на настоящемъ походѣ, а въ вагонахъ желѣзнодорожныхъ эшелоновъ. На деликатное дѣло военнаго переворота были брошены части съ только-что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурiйская конная дивизiя III-го корпуса не знала меня.
/.../
Замышляется очень деликатная и сильная операцiя, требующая вдохновенiя и порыва. Coup d'état, — для котораго неизбѣжно нужна нѣкоторая театральность обстановки. Собирали III-й корпусъ подъ Могилевымъ? Выстраивали его въ конномъ строю для Корнилова? Прiѣзжалъ Корниловъ къ нему? Звучали побѣдные марши надъ полемъ, было сказано какое-либо сильное увлекающее слово, — Боже сохрани — не рѣчь, а, именно, с л о в о, — была обѣщана награда? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по желѣзнымъ путямъ, часами стояли на станцiяхъ. Солдаты толпились въ красныхъ коробкахъ вагоновъ, а потомъ, на станцiи, толпами стояли около какого-нибудь оратора — желѣзнодорожнаго техника, посторонняго солдата, — кто его знаетъ кого? Они не видѣли своихъ вождей съ собою и даже не знали, гдѣ они? Я помню, какъ гр. Келлеръ повелъ насъ на штурмъ Ржавендовъ и Топороуца. Молчаливо, весеннимъ утромъ на черномъ пахотномъ полѣ выстроились 48 эскадроновъ и сотенъ и 4 конныя батареи. Раздались звуки трубъ, и на громадномъ конѣ, окруженный свитой, под развѣвающимся своимъ значкомъ явился графъ Келлеръ. Онъ что-то сказалъ солдатамъ и казакамъ. Никто ничего не слыхал, но заревѣла солдатская масса «ура», заглушая звуки трубъ и потянулись по грязнымъ весеннимъ дорогамъ колонны. И когда былъ бой — казалось, что графъ тутъ же и вотъ-вотъ появится со своимъ значкомъ. И онъ былъ тутъ, онъ былъ въ полѣ, и его видали даже тамъ, гдѣ его не было. И шли на штурмъ весело и смѣло.
Тутъ все начальство осталось позади. Корниловъ задумалъ такое великое дѣло, а самъ остался въ Могилевѣ, во дворцѣ, окруженный туркменами и ударниками, какъ будто и самъ не вѣрящiй въ успѣхъ. Крымовъ неизвѣстно гдѣ, части не въ рукахъ у своихъ начальниковъ». (Красновъ П.Н. На внутреннемъ фронтѣ. // Архивъ русской революцiи. Т. I. Берлинъ, 1921. Стр. 113, 115.)
Фотография чинов III-го конного корпуса. В нижнем ряду второй слева сидит командир корпуса генерал от кавалерии граф Фёдор Артурович Келлер. Последним слева сидит командир Кубанского конного отряда особого назначения есаул Андрей Григорьевич Шкура:

Подобно Денису Васильевичу Давыдову, Андрей Григорьевич Шкуро воевал в Европе, потом в Кавказских войсках и снова в Европейской России, дослужился до чина генерал-лейтенанта, с разными старшими начальниками имел разные взаимоотношения, оставил военные воспоминания. Несмотря на противоположное отношение в советское время, по части военного искусства оба напрочь забыты советской военной школой (как, впрочем, и вся остальная военная история).
Списки награждённых Георгиевскими крестами, в том числе чинов отрядов особого назначения, см. в: Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. М.: «Духовная Нива»:
I ст. №№ 1–42480. II ст. №№ 1–85030. М. 2015.
III степень. №№ 1–120000. М. 2015.
IV степень. №№ 1–100000. М. 2012.
IV степень. №№ 100001–200000. М. 2012.
IV степень. №№ 200001–300000. М. 2013.
IV степень. №№ 300001–400000. М. 2013.
IV степень. №№ 400001–500000. М. 2013.
IV степень. №№ 500001–600000. М. 2013.
IV степень. №№ 600001–700000. М. 2013.
IV степень. №№ 700001–800000. М. 2014.
IV степень. №№ 800001–900000. М. 2014.
IV степень. №№ 900001–1000000. М. 2014.
IV степень. №№ 1000001–1299150. М. 2014.
https://www.numismat.ru/gkc...
Другим известным Белым военачальником, возглавлявшим партизан, был донской казак, полковник Василий Михайлович Чернецов. В 1990-е годы в продолжительной передаче на радио Андрей Езеев рассказывал об исторических русских военных песнях. В числе других им была исполнена под гитару на мелодию «Прощания славянки» песня Белых донских партизан:
Мы дети родимого Дона,
Семья боевых партизан,
Свои распустивши знамёна,
Развеем кровавый туман!
И подвигом славным украшен,
Не дрогнет в бою партизан,
В атаке противнику страшен
Наш смелый лихой атаман!
Мы все за свободу и волю,
За родину нашу умрём
И рабские цепи неволи
Рукою могучей сорвём!
Антон Павлов,
11-07-2022 01:17
(ссылка)
О русских и французских касках 1-й Мировой войны.
Сентябрь 1915 г.: «Но больше всего поражал нас внешний вид пехоты в стальных касках, устранявших три четверти всех ранений в голову. Тщетно навязывал я этот вид снаряжения русскому командованию, предлагая использовать с этой целью налаженное во Франции изготовление касок. Николай II, которому были демонстрированы высланные мною образцы, нашёл, что каска лишает русского солдата воинственного вида. Потребовалась и тут острая телеграфная полемика с Петроградом, чтобы получить разрешение на срочный заказ через французское правительство одного миллиона касок». (Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. Т. 2. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. С. 220-221.)
Это собрание россказней впоследствии получило от какого-то читателя название: «пятьдесят лет в строю, ни разу в бою».
Как было на самом деле:
В апреле 1916 г. во Францию начали прибывать на помощь русские части.
«Согласно письменнаго соглашенія, заключеннаго 11-го мая 1916 года между представителями Франціи Р. Вивіани и Альберомъ Тома съ одной стороны и начальникомъ штаба русскаго Верховнаго Главнокомандующаго генераломъ Алексѣевымъ съ другой, французское правительство обязывалось принять на себя всѣ заботы и расходы по перевозкѣ, вооруженію и содержанію войскъ, подлежавшихъ отправленію на французскій и македонскій фронты.
/.../
Въ соотвѣтствіи съ этой точкой зрѣнія, состоявшимся соглашеніемъ между русскимъ и французскимъ правительствами было установлено, что на попеченіи русскаго правительства остается только покрытіе расходовъ: а) по обмундированію, снаряженію, лагерному расположению, уплатѣ жалованья, продовольствія и покрытіе разныхъ хозяйственныхъ потребностей командируемыхъ во Францію войсковыхъ частей и б) по оплатѣ жалованья и обмундированію личнаго состава этихъ частей, находящихся въ лечебныхъ заведеніяхъ. Французское же правительство должно принять на себя всѣ расходы по снабженію и возобновленію всего необходимаго для командируемыхъ частей, матеріальнаго имущества и перевозочныхъ средствъ, а также по содержанію въ госпиталяхъ больныхъ и раненыхъ русскихъ воинскихъ чиновъ, равно и всѣ вообще расходы по содержанию прикомандировываемыхъ къ русскимъ войскамъ французовъ».
«Въ матеріальномъ отношеніи чины бригады были обставлены русскимъ правительствомъ болѣе чѣмъ хорошо. Они получали гораздо больше, чѣмъ ихъ французскіе сотоварищи. Русскій капитанъ, напримѣръ, получалъ въ мѣсяцъ, со всѣми добавками 1577 франковъ, содержаніе же французскаго офицера въ томъ же чинѣ равнялось всего только 689-ти франкамъ. Русскій подпоручикъ получалъ въ мѣсяцъ 804 франка, французскій же су-лейтенантъ — всего 472 франка. Такая же значительная разница въ содержаніи существовала и среди солдатъ обоихъ армій. Она была особенно замѣтна для рядового солдата, который во французской арміи получалъ въ мѣсяцъ всего 7,5 франковъ; русскій же рядовой, вмѣстѣ съ суточными, на французскомъ фронтѣ имѣлъ въ мѣсяцъ около 50-ти франковъ.
Русскія войска прибывали во Францію въ отличномъ обмундированіи, цвѣта «хаки», въ снаряженіи и въ прочной обуви. Но и въ дальнѣйшемъ наше интендантство не переставало заботиться о поддержаніи обмундированія въ должномъ порядкѣ. Сохранилось напримѣръ свѣдѣніе, (отъ 25-го февраля 17-го года) о распоряженіи главно- интендантскаго управленія по отправкѣ въ Марсель 180 тыс. блузъ и 120 тыс. штановъ. Со своей стороны и французское интендантство проявляло вниманіе къ нуждамъ русскихъ частей. Между прочимъ оно специально изготовило для русскихъ бригадъ металлическія каски, выкрашенныя въ защитный цвѣтъ и снабженныя гербомъ съ русскимъ двойнымъ орломъ.
/.../
Жалобы со стороны русскихъ солдатъ раздавались только по поводу малаго суточнаго раціона хлѣба, который для французскаго солдата установленъ въ 700 граммовъ (1 3/4 русскаго фунта)». (Даниловъ Ю.Н. Русскiе отряды на Французскомъ и Македонскомъ фронтахъ 1916—1918 г.г. (По матеріаламъ Архивовъ Французскаго Военнаго Министерства). Парижъ. 1933. Стр. 51, 52, 54-55.)
http://militera.lib.ru/h/da...
«Например, согласно письму Технического комитета Главного интендантского управления (ГИУ) от 21 июля 1916 г. № 2849, «ввиду спешности вопроса о снабжении нижних чинов касками Главным Интендантским управлением была послана телеграмма Военному Агенту во Франции с просьбой просить Французское правительство изготовить или уступить из имеющихся запасов 2.000.000 касок Адриана, с таким расчетом, чтобы каски поступили в Архангельск не позже конца навигации. В дальнейшем желательно было бы организовать изготовление касок на русских заводах...». (РГВИА. Ф. 499. Оп. 13. Д. 1179. Л. 5.) …
Информация о реально доставленных в Россию касках и распределении их по фронтам сохранилась крайне отрывочная. По состоянию на 8 февраля 1917 г. известно, что из числа заказанных за границей было отправлено военным агентом а Архангельск и Романов 1002140 касок. 200 тыс. касок уничтожил взрыв на складе в Архангельске, но для их замены во Франции заказали соответствующее количество». (Клочков Д. Каски российской армии в Первую мировую войну 1915-1917. // Старый Цейхгауз. 2014. № 6 (62). С. 57, 62.)
«Вначале планировалось полностью скопировать французский образец, производство которого предполагалось на заводе «Штамп» в Нахичевани-на-Дону. В октябре 1916 г. начали выработку технических условий для изготовления и приёма «касок Адриана», цвет окраски полагался защитный. (Письмо начальника 1-го отделения ГИУ от 13 октября 1916 г. № 5371. РГВИА. Ф. 499. Оп. 13. Д. 1179. Л. 13.) Но в процессе испытаний проявились недостатки французских шлемов. Так, вследствие небольшой толщины стального листа, из которого изготавливались каски Адриана, их пулепробиваемость была довольно высокой. В то же время, лопаточная сталь, отвечавшая техническому заданию Военно-промышленного комитета, не пробивалась из пистолета Браунинга даже на расстоянии 5 шагов, а французская сталь пробивалась «на всяком расстоянии». (Справка по вопросу о технических условиях для изготовления касок. РГВИА. Ф. 499. Оп. 13. Д. 1179. Л. 35.) Особенно хорошие результаты имели каски из стали Сергинско-Уфалейских горных заводов, но производство касок из такой стали не могло превышать 250 тыс. штук, поэтому «по моральным основаниям» решили все каски заказать одинаковые. (РГВИА. Ф. 499. Оп. 2. Д. 1075. Л. 46.) В качестве окончательного материала для новых касок была выбрана лопаточная сталь. Интересно, что в процессе этих сравнительных испытаний среди касок, уже производившихся в других странах, наилучшие результаты показала британская модель». (Клочков Д. Каски российской армии в Первую мировую войну 1915-1917. // Старый Цейхгауз. 2015. № 1 (63). С. 50-51, 58.)
В СССР постоянно очерняли Россию: «...царская армия плелась в хвосте европейских армий, постоянно запаздывая с улучшениями, идеи которых нередко зарождались и в России, но за неимением технических средств становились достоянием заграничных заводов». (Маниковский А.А. Боевое снаряжение русской армии в мировую войну. М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1937. С. 32.) Но даже при этом вопрос о касках в указанной книге не упомянут.
На Западном фронте велась в основном позиционная война, и во время артиллерийских обстрелов окопов каска могла защищать голову от разных ошмётков. Но на Восточном первый год война была подвижной, затем в значительной степени подвижной. При этом русские окопы нередко оборудовались козырьками из брёвен.

Это собрание россказней впоследствии получило от какого-то читателя название: «пятьдесят лет в строю, ни разу в бою».
Как было на самом деле:
В апреле 1916 г. во Францию начали прибывать на помощь русские части.
«Согласно письменнаго соглашенія, заключеннаго 11-го мая 1916 года между представителями Франціи Р. Вивіани и Альберомъ Тома съ одной стороны и начальникомъ штаба русскаго Верховнаго Главнокомандующаго генераломъ Алексѣевымъ съ другой, французское правительство обязывалось принять на себя всѣ заботы и расходы по перевозкѣ, вооруженію и содержанію войскъ, подлежавшихъ отправленію на французскій и македонскій фронты.
/.../
Въ соотвѣтствіи съ этой точкой зрѣнія, состоявшимся соглашеніемъ между русскимъ и французскимъ правительствами было установлено, что на попеченіи русскаго правительства остается только покрытіе расходовъ: а) по обмундированію, снаряженію, лагерному расположению, уплатѣ жалованья, продовольствія и покрытіе разныхъ хозяйственныхъ потребностей командируемыхъ во Францію войсковыхъ частей и б) по оплатѣ жалованья и обмундированію личнаго состава этихъ частей, находящихся въ лечебныхъ заведеніяхъ. Французское же правительство должно принять на себя всѣ расходы по снабженію и возобновленію всего необходимаго для командируемыхъ частей, матеріальнаго имущества и перевозочныхъ средствъ, а также по содержанію въ госпиталяхъ больныхъ и раненыхъ русскихъ воинскихъ чиновъ, равно и всѣ вообще расходы по содержанию прикомандировываемыхъ къ русскимъ войскамъ французовъ».
«Въ матеріальномъ отношеніи чины бригады были обставлены русскимъ правительствомъ болѣе чѣмъ хорошо. Они получали гораздо больше, чѣмъ ихъ французскіе сотоварищи. Русскій капитанъ, напримѣръ, получалъ въ мѣсяцъ, со всѣми добавками 1577 франковъ, содержаніе же французскаго офицера въ томъ же чинѣ равнялось всего только 689-ти франкамъ. Русскій подпоручикъ получалъ въ мѣсяцъ 804 франка, французскій же су-лейтенантъ — всего 472 франка. Такая же значительная разница въ содержаніи существовала и среди солдатъ обоихъ армій. Она была особенно замѣтна для рядового солдата, который во французской арміи получалъ въ мѣсяцъ всего 7,5 франковъ; русскій же рядовой, вмѣстѣ съ суточными, на французскомъ фронтѣ имѣлъ въ мѣсяцъ около 50-ти франковъ.
Русскія войска прибывали во Францію въ отличномъ обмундированіи, цвѣта «хаки», въ снаряженіи и въ прочной обуви. Но и въ дальнѣйшемъ наше интендантство не переставало заботиться о поддержаніи обмундированія въ должномъ порядкѣ. Сохранилось напримѣръ свѣдѣніе, (отъ 25-го февраля 17-го года) о распоряженіи главно- интендантскаго управленія по отправкѣ въ Марсель 180 тыс. блузъ и 120 тыс. штановъ. Со своей стороны и французское интендантство проявляло вниманіе къ нуждамъ русскихъ частей. Между прочимъ оно специально изготовило для русскихъ бригадъ металлическія каски, выкрашенныя въ защитный цвѣтъ и снабженныя гербомъ съ русскимъ двойнымъ орломъ.
/.../
Жалобы со стороны русскихъ солдатъ раздавались только по поводу малаго суточнаго раціона хлѣба, который для французскаго солдата установленъ въ 700 граммовъ (1 3/4 русскаго фунта)». (Даниловъ Ю.Н. Русскiе отряды на Французскомъ и Македонскомъ фронтахъ 1916—1918 г.г. (По матеріаламъ Архивовъ Французскаго Военнаго Министерства). Парижъ. 1933. Стр. 51, 52, 54-55.)
http://militera.lib.ru/h/da...
«Например, согласно письму Технического комитета Главного интендантского управления (ГИУ) от 21 июля 1916 г. № 2849, «ввиду спешности вопроса о снабжении нижних чинов касками Главным Интендантским управлением была послана телеграмма Военному Агенту во Франции с просьбой просить Французское правительство изготовить или уступить из имеющихся запасов 2.000.000 касок Адриана, с таким расчетом, чтобы каски поступили в Архангельск не позже конца навигации. В дальнейшем желательно было бы организовать изготовление касок на русских заводах...». (РГВИА. Ф. 499. Оп. 13. Д. 1179. Л. 5.) …
Информация о реально доставленных в Россию касках и распределении их по фронтам сохранилась крайне отрывочная. По состоянию на 8 февраля 1917 г. известно, что из числа заказанных за границей было отправлено военным агентом а Архангельск и Романов 1002140 касок. 200 тыс. касок уничтожил взрыв на складе в Архангельске, но для их замены во Франции заказали соответствующее количество». (Клочков Д. Каски российской армии в Первую мировую войну 1915-1917. // Старый Цейхгауз. 2014. № 6 (62). С. 57, 62.)
«Вначале планировалось полностью скопировать французский образец, производство которого предполагалось на заводе «Штамп» в Нахичевани-на-Дону. В октябре 1916 г. начали выработку технических условий для изготовления и приёма «касок Адриана», цвет окраски полагался защитный. (Письмо начальника 1-го отделения ГИУ от 13 октября 1916 г. № 5371. РГВИА. Ф. 499. Оп. 13. Д. 1179. Л. 13.) Но в процессе испытаний проявились недостатки французских шлемов. Так, вследствие небольшой толщины стального листа, из которого изготавливались каски Адриана, их пулепробиваемость была довольно высокой. В то же время, лопаточная сталь, отвечавшая техническому заданию Военно-промышленного комитета, не пробивалась из пистолета Браунинга даже на расстоянии 5 шагов, а французская сталь пробивалась «на всяком расстоянии». (Справка по вопросу о технических условиях для изготовления касок. РГВИА. Ф. 499. Оп. 13. Д. 1179. Л. 35.) Особенно хорошие результаты имели каски из стали Сергинско-Уфалейских горных заводов, но производство касок из такой стали не могло превышать 250 тыс. штук, поэтому «по моральным основаниям» решили все каски заказать одинаковые. (РГВИА. Ф. 499. Оп. 2. Д. 1075. Л. 46.) В качестве окончательного материала для новых касок была выбрана лопаточная сталь. Интересно, что в процессе этих сравнительных испытаний среди касок, уже производившихся в других странах, наилучшие результаты показала британская модель». (Клочков Д. Каски российской армии в Первую мировую войну 1915-1917. // Старый Цейхгауз. 2015. № 1 (63). С. 50-51, 58.)
В СССР постоянно очерняли Россию: «...царская армия плелась в хвосте европейских армий, постоянно запаздывая с улучшениями, идеи которых нередко зарождались и в России, но за неимением технических средств становились достоянием заграничных заводов». (Маниковский А.А. Боевое снаряжение русской армии в мировую войну. М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1937. С. 32.) Но даже при этом вопрос о касках в указанной книге не упомянут.
На Западном фронте велась в основном позиционная война, и во время артиллерийских обстрелов окопов каска могла защищать голову от разных ошмётков. Но на Восточном первый год война была подвижной, затем в значительной степени подвижной. При этом русские окопы нередко оборудовались козырьками из брёвен.

Антон Павлов,
09-07-2022 23:53
(ссылка)
Потери царского и советского флотов в Мировых войнах.
Потери Российского Императорского флота:
1914 г.: 8 надводных кораблей, 1 канонерская лодка. Всего 9.
1915 г.: заградитель «Енисей», канонерская лодка «Сивуч» (http://www.navy.su/daybyday...). Всего 2.
1916 г.: 7 надводных кораблей, 2 подводные лодки. Всего 9.
1917 г.: 6 надводных кораблей, 6 подводных лодок. Всего 12.
Итого Императорский флот потерял в 1914-16 годах 20 кораблей, революционный в 1917 году 12. Всего 32 судна.
(Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). М. 1925. С. 42.)
https://rusneb.ru/catalog/0...
https://archive.org/details...
Потери советского военно-морского флота:
1941 г.: надводные корабли – 121, боевые катера – 168, подводные лодки – 36. Всего 325 ед.
1942 г.: надводные корабли – 46, боевые катера – 159, подводные лодки – 37. Всего 242.
1943 г.: надводные корабли – 22, боевые катера – 210, подводные лодки – 19. Всего 251.
1944 г.: надводные корабли – 21, боевые катера – 141, подводные лодки – 9. Всего 171.
1945 г.: надводные корабли – 2, боевые катера – 22, подводные лодки – 1. Всего 25.
Итого: надводных кораблей 212, боевых катеров 700, подводных лодок 102. Всего 1014 судов.
(Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование. / Под общ. ред. кандидата военных наук генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. М.: Военное издательство, 1993. С. 361-362.)
https://imwerden.de/pdf/pot...
В последующих изданиях данные решили представить иначе. Список погибших советских кораблей содержит 315 судов: 2 крейсера, 4 лидера, 30 эсминцев, 102 подводные лодки, 11 мониторов, 36 сторожевых кораблей, 34 канонерские лодки, 7 заградителей, 89 тральщиков. (Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь. / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков и др. М.: «Вече», 2010. Таблица 197. Список кораблей ВМФ СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. С. 523-531.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: «Вече», 2010. Таблица 84. Список погибших кораблей ВМФ СССР. С. 350-358.) http://militera.lib.ru/h/sb...
В списках изданий 2010 г. отсутствуют боевые катера. 315+700=1015. На один корабль больше, чем в издании 1993 г., по-видимому, из-за учёта линейного корабля «Петропавловск» («Марат»), названного в изданиях 2010 г. крейсером.
Общие отличия в ходе военных действий.
Балтийское море. 1-я Мировая: русский флот закрыл германскому проход в Финский залив. 2-я Мировая: германский флот закрыл советскому выход из Финского залива.
Чёрное море. 1-я Мировая: русский флот в 1916 г. господствовал, готовился к захвату проливов в 1917 г. 2-я Мировая: несмотря на отсутствие противного флота, советский нёс потери; самая успешная операция в боях с немцами – бегство из Севастополя командного состава 30 июня – 2 июля 1942 г. «Самолёты и подводные лодки были, разумеется, самым надёжным средством эвакуации. Но помимо них вывозом людей занимались тральщики, сторожевые корабли и торпедные катера. Попытка эвакуировать этими средствами 2000 человек командного состава армии и флота в ночь на 2 июля в целом провалилась: на подошедшие к берегу корабли попали те, кто смог до них добраться. На Кавказ в итоге прибыли 559 человек комсостава и 1116 человек младшего начсостава и рядовых». (Исаев А.В. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова. М.: «Яуза», «Эксмо», 2005. С. 298-299.) http://militera.lib.ru/h/is...
Из общемирового. 1-я Мировая: 26 августа 1914 г. русский флот захватил немецкую сигнальную книгу, что позволило раскрыть германский военно-морской код, чем пользовались и союзники. 2-я Мировая: британский флот 9 мая 1941 г. захватил шифровальную машину «Энигма», Британия раскрыла немецкий код и выборочно делилась получаемыми сведениями с СССР.
Краткий, неполный обзор действий русского флота в 1914-17 годах: https://tzar.ru/objects/mus...
Краткое описание действий советского: нет такого дна, которого не могли бы пробить большевики.
1914 г.: 8 надводных кораблей, 1 канонерская лодка. Всего 9.
1915 г.: заградитель «Енисей», канонерская лодка «Сивуч» (http://www.navy.su/daybyday...). Всего 2.
1916 г.: 7 надводных кораблей, 2 подводные лодки. Всего 9.
1917 г.: 6 надводных кораблей, 6 подводных лодок. Всего 12.
Итого Императорский флот потерял в 1914-16 годах 20 кораблей, революционный в 1917 году 12. Всего 32 судна.
(Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). М. 1925. С. 42.)
https://rusneb.ru/catalog/0...
https://archive.org/details...
Потери советского военно-морского флота:
1941 г.: надводные корабли – 121, боевые катера – 168, подводные лодки – 36. Всего 325 ед.
1942 г.: надводные корабли – 46, боевые катера – 159, подводные лодки – 37. Всего 242.
1943 г.: надводные корабли – 22, боевые катера – 210, подводные лодки – 19. Всего 251.
1944 г.: надводные корабли – 21, боевые катера – 141, подводные лодки – 9. Всего 171.
1945 г.: надводные корабли – 2, боевые катера – 22, подводные лодки – 1. Всего 25.
Итого: надводных кораблей 212, боевых катеров 700, подводных лодок 102. Всего 1014 судов.
(Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование. / Под общ. ред. кандидата военных наук генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. М.: Военное издательство, 1993. С. 361-362.)
https://imwerden.de/pdf/pot...
В последующих изданиях данные решили представить иначе. Список погибших советских кораблей содержит 315 судов: 2 крейсера, 4 лидера, 30 эсминцев, 102 подводные лодки, 11 мониторов, 36 сторожевых кораблей, 34 канонерские лодки, 7 заградителей, 89 тральщиков. (Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь. / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков и др. М.: «Вече», 2010. Таблица 197. Список кораблей ВМФ СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. С. 523-531.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. М.: «Вече», 2010. Таблица 84. Список погибших кораблей ВМФ СССР. С. 350-358.) http://militera.lib.ru/h/sb...
В списках изданий 2010 г. отсутствуют боевые катера. 315+700=1015. На один корабль больше, чем в издании 1993 г., по-видимому, из-за учёта линейного корабля «Петропавловск» («Марат»), названного в изданиях 2010 г. крейсером.
Общие отличия в ходе военных действий.
Балтийское море. 1-я Мировая: русский флот закрыл германскому проход в Финский залив. 2-я Мировая: германский флот закрыл советскому выход из Финского залива.
Чёрное море. 1-я Мировая: русский флот в 1916 г. господствовал, готовился к захвату проливов в 1917 г. 2-я Мировая: несмотря на отсутствие противного флота, советский нёс потери; самая успешная операция в боях с немцами – бегство из Севастополя командного состава 30 июня – 2 июля 1942 г. «Самолёты и подводные лодки были, разумеется, самым надёжным средством эвакуации. Но помимо них вывозом людей занимались тральщики, сторожевые корабли и торпедные катера. Попытка эвакуировать этими средствами 2000 человек командного состава армии и флота в ночь на 2 июля в целом провалилась: на подошедшие к берегу корабли попали те, кто смог до них добраться. На Кавказ в итоге прибыли 559 человек комсостава и 1116 человек младшего начсостава и рядовых». (Исаев А.В. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова. М.: «Яуза», «Эксмо», 2005. С. 298-299.) http://militera.lib.ru/h/is...
Из общемирового. 1-я Мировая: 26 августа 1914 г. русский флот захватил немецкую сигнальную книгу, что позволило раскрыть германский военно-морской код, чем пользовались и союзники. 2-я Мировая: британский флот 9 мая 1941 г. захватил шифровальную машину «Энигма», Британия раскрыла немецкий код и выборочно делилась получаемыми сведениями с СССР.
Краткий, неполный обзор действий русского флота в 1914-17 годах: https://tzar.ru/objects/mus...
Краткое описание действий советского: нет такого дна, которого не могли бы пробить большевики.
Антон Павлов,
06-07-2022 03:29
(ссылка)
Большие потери по русским меркам. 1919 г.
Утро 23 августа (5 сентября) 1919 г. Внезапный захват полками 2-й Уральской казачьей дивизии в «красном» тылу Лбищенска, разгром штаба 25-й стрелковой дивизии и смертельное ранение Чапаева. «В этот обход были назначены полки 2-ой дивизии: 1-й и 2-й Партизанские, Лбищенский, Поздняковский конный полк (последний был сформирован из крестьян Саратовской губернии соседних с нами волостей и получил своё название от имени командира полка – подполковника Ф.Ф. Позднякова) с приданной к отряду 1-ой учебной батареей. Поздняковский полк и 1-я Учебная батарея не входили в состав нашей дивизии, и поэтому отряд, собственно, получился сборный и вместо того, чтоб поручить всё начальнику дивизии, был назначен особый начальник всего отряда генерал Н.Н. Бородин, который был убит при взятии города Лбищенска. Дивизией командовал, как и прежде, полковник Т.И. Сл – ов [Сладков], 2-м Партизанским полком в это время командовал полковник В. Горшков, Лбищенским – Н. Лифанов, Учебной батареей – А. Юдин, Поздняковским полком – Ф.Ф. Поздняков и 1-м Партизанским – Н.М. Абрамов.
/.../
Всего погибших там красноармейцев было приблизительно 1500 человек, кроме оставленных в живых и в качестве пленных отправленных степями 800 человек.
В Лбищенск к этому времени пришло много обозов, были какие-то проходящие части и обычные чины штабов, отряд особого назначения, школа красных юнкеров, чины тыловых учреждений и команд. Артиллерии не было совершенно. Радиостанция захвачена была нами в полной исправности. По окончании боя, пролетавший красный аэроплан снизился, спустился на землю, но вместо красных командиров был встречен нами и захвачен в полной исправности. Спустя несколько времени, мы увидели второй, которому точно так же (первый мы в воздухе приняли за свой) стали делать свои знаки, он тоже спустился и это был, действительно, наш. Он привёз нам дальнейшие указания, а отвёз от нас в штаб армии донесение о взятии Лбищенска. Наш аэроплан на обратном пути отвёл по воздуху и взятый у большевиков. Управлял пленным аэропланом красный лётчик.
Вообще, добычу обмундированием и снаряжением, доставшуюся нам в Лбищенске, было трудно учесть. Видели все, что казаки полков дивизии после Лбищенского боя были одеты «как женихи» и, кроме того, был некоторый запасец и у каждого полка. Провианта и обозов точно так же было взято громадное количество. Склад снарядов и патрон, по пополнении нами своих запасов, был нами спалён при выходе из Лбищенска. Наши потери при взятии Лбищенска были большие (до 100 человек из дивизии – убитыми 20 и ранеными 80), но по сравнению с потерями противника, конечно, пустячные». (Фадеев П.А. Эпизоды боёв на Уральском фронте. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская – Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 290, 295-296.)
Не следует думать, что городские бои того времени были лёгкими. Первое взятие Лбищенска 2-й Уральской казачьей дивизией 4/17 апреля 1919 г.. «Красные отчаянно защищали город, зная, что это их очень важный стратегический пункт и что в случае его отдачи трудно будет где-нибудь удержаться и придётся отступать к Уральску. Знали это и казаки и поэтому с не меньшей энергией наступали. В Лбищенске были сосредоточены лучшие силы красных...
/.../
После долгих и безуспешных попыток взять Лбищенск, казакам удалось, наконец, обойдя город, ворваться в него с тыла и фланга. Окопы красными были оставлены, и бой перешёл на улицы города.
Что такое уличный бой, знает теперь почти каждый. Из-за каждого угла, из-за каждых ворот, из-за каждого окна можно ожидать пулю. Так, конечно, было и здесь. Казакам приходилось брать с боем чуть ли не каждый квартал. Некоторые дома приходилось осаждать и выбивать из них красных ручными гранатами. Наконец, красные были прижаты к берегу Урала и пути отступления были отрезаны. Не желая сдаваться, они на последней позиции защищались с доблестью, достойной лучших частей, но не выдержали. Многие бросили оружие, но большинство предпочло иное. С крутого яра, высотой несколько саженей, они бросались в Урал и плыли на другой берег. Казаки, заняв линию яра, расстреливали плывущих. Урал, как говорили участники боя, окрасился кровью. Раненые, выбиваясь из последних сил, всё же плыли, но, настигнутые пулей, всё же, шли ко дну». (Киров Б.Н. О борьбе с большевиками на фронте Уральского казачьего войска. // Там же. С. 144-145.)
Казаки захватили свыше 1 тыс. пленных, 10 орудий и 28 пулемётов. (Там же. Примечание 183. С. 226.) На 18 июня (1 июля) 1919 г. 2-я Уральская казачья дивизия состояла из Лбищенского, Сахарновского, Уральского, 1-го и 2-го Партизанских конных полков, Уральского пешего полка и 2-го артиллерийского дивизиона. 71 офицер, 1655 шашек, 300 штыков, 52 пулемёта, 8 орудий. (Там же. Прим. 177. С. 225.) То есть, по численности соответствовала двум кавалерийским полкам (бригаде) Российской Императорской Армии при одной батарее.

(Орден Святого Архангела Михаила.)
http://www.kolchakiya.ru/fa...
http://cossac-awards.narod....
Рудиченко А.И. Награды и знаки белого движения. М.: «Парад», 2008. С. 106-116.
https://disk.yandex.ru/d/DR...
/.../
Всего погибших там красноармейцев было приблизительно 1500 человек, кроме оставленных в живых и в качестве пленных отправленных степями 800 человек.
В Лбищенск к этому времени пришло много обозов, были какие-то проходящие части и обычные чины штабов, отряд особого назначения, школа красных юнкеров, чины тыловых учреждений и команд. Артиллерии не было совершенно. Радиостанция захвачена была нами в полной исправности. По окончании боя, пролетавший красный аэроплан снизился, спустился на землю, но вместо красных командиров был встречен нами и захвачен в полной исправности. Спустя несколько времени, мы увидели второй, которому точно так же (первый мы в воздухе приняли за свой) стали делать свои знаки, он тоже спустился и это был, действительно, наш. Он привёз нам дальнейшие указания, а отвёз от нас в штаб армии донесение о взятии Лбищенска. Наш аэроплан на обратном пути отвёл по воздуху и взятый у большевиков. Управлял пленным аэропланом красный лётчик.
Вообще, добычу обмундированием и снаряжением, доставшуюся нам в Лбищенске, было трудно учесть. Видели все, что казаки полков дивизии после Лбищенского боя были одеты «как женихи» и, кроме того, был некоторый запасец и у каждого полка. Провианта и обозов точно так же было взято громадное количество. Склад снарядов и патрон, по пополнении нами своих запасов, был нами спалён при выходе из Лбищенска. Наши потери при взятии Лбищенска были большие (до 100 человек из дивизии – убитыми 20 и ранеными 80), но по сравнению с потерями противника, конечно, пустячные». (Фадеев П.А. Эпизоды боёв на Уральском фронте. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская – Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 290, 295-296.)
Не следует думать, что городские бои того времени были лёгкими. Первое взятие Лбищенска 2-й Уральской казачьей дивизией 4/17 апреля 1919 г.. «Красные отчаянно защищали город, зная, что это их очень важный стратегический пункт и что в случае его отдачи трудно будет где-нибудь удержаться и придётся отступать к Уральску. Знали это и казаки и поэтому с не меньшей энергией наступали. В Лбищенске были сосредоточены лучшие силы красных...
/.../
После долгих и безуспешных попыток взять Лбищенск, казакам удалось, наконец, обойдя город, ворваться в него с тыла и фланга. Окопы красными были оставлены, и бой перешёл на улицы города.
Что такое уличный бой, знает теперь почти каждый. Из-за каждого угла, из-за каждых ворот, из-за каждого окна можно ожидать пулю. Так, конечно, было и здесь. Казакам приходилось брать с боем чуть ли не каждый квартал. Некоторые дома приходилось осаждать и выбивать из них красных ручными гранатами. Наконец, красные были прижаты к берегу Урала и пути отступления были отрезаны. Не желая сдаваться, они на последней позиции защищались с доблестью, достойной лучших частей, но не выдержали. Многие бросили оружие, но большинство предпочло иное. С крутого яра, высотой несколько саженей, они бросались в Урал и плыли на другой берег. Казаки, заняв линию яра, расстреливали плывущих. Урал, как говорили участники боя, окрасился кровью. Раненые, выбиваясь из последних сил, всё же плыли, но, настигнутые пулей, всё же, шли ко дну». (Киров Б.Н. О борьбе с большевиками на фронте Уральского казачьего войска. // Там же. С. 144-145.)
Казаки захватили свыше 1 тыс. пленных, 10 орудий и 28 пулемётов. (Там же. Примечание 183. С. 226.) На 18 июня (1 июля) 1919 г. 2-я Уральская казачья дивизия состояла из Лбищенского, Сахарновского, Уральского, 1-го и 2-го Партизанских конных полков, Уральского пешего полка и 2-го артиллерийского дивизиона. 71 офицер, 1655 шашек, 300 штыков, 52 пулемёта, 8 орудий. (Там же. Прим. 177. С. 225.) То есть, по численности соответствовала двум кавалерийским полкам (бригаде) Российской Императорской Армии при одной батарее.

(Орден Святого Архангела Михаила.)
http://www.kolchakiya.ru/fa...
http://cossac-awards.narod....
Рудиченко А.И. Награды и знаки белого движения. М.: «Парад», 2008. С. 106-116.
https://disk.yandex.ru/d/DR...
Антон Павлов,
03-07-2022 23:33
(ссылка)
Русская и советская ударная авиация. Примеры действий.
«Телеграмма-донесение Начальника Первого боевого отряда Эскадры Воздушных Кораблей Подполковника Горшкова в Ставку Верховного Главнокомандующего от 25 сентября 1915 г.
Доношу, что сегодня утром Воздушный Корабль Второй в составе Штабс-Капитанов Панкратьева и Никольского, артиллерийского офицера поручика Павлова, Генерального Штаба Капитана Ушакова, моториста Терентьева совершил трехчасовой боевой полет по маршруту Зегевольд — Линден — Вальгоф — Кричи — мыза Эккау — Митава — Зегевольд. По складу артиллерийских припасов в мызе Вальгоф, по обозам и колоннам неприятельских войск по пути следования Корабля сброшено тринадцать бомб общим весом 20 пудов. Попадания хорошие. Результат сообщен в штаб 12 Армии. Произведено фотографирование.
РГВИА, Ф. 2003, Оп. 2, д 622, л. 115». (Никольской С.Н. Никольской М.Н. «Муромцы» в бою. Подвиги русских авиаторов. М.: «Эксмо», «Яуза», 2010. Приложения. С. 326-327.)
8 июня 1919 г. На рассвете части 25-й дивизии Туркестанской армии Восточного фронта «красных» переправились на правый берег реки Белой у Красного Яра. «К 16 часам наступление вновь пошло успешно.
М. В. Фрунзе вернулся к переправе. Район переправы бомбила авиация противника, стремясь потопить переправочные средства, наносила урон войскам, расстреливая людей из пулемётов. Близко взорвавшейся бомбой М. В. Фрунзе был контужен, лошадь под ним убита. В медицинском пункте, развёрнутом в Красном Яре, ему была оказана первая помощь. В тот же день огнём с самолёта был ранен в голову В. И. Чапаев. Пуля застряла в черепе. Вынимали в том же медицинском пункте. И М. В. Фрунзе, и В. И. Чапаев остались в строю и продолжали руководить войсками. Был ранен в грудь заведующий политотделом Туркестанской армии В. А. Тронин, находившийся в бою вместе с М. В. Фрунзе». (Чапаев А.В. Чапаева К.В. Володихин Я.А. Василий Иванович Чапаев. Очерк жизни, революционной и боевой деятельности. Изд. 2-е, испр. и доп. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1987. С. 276.)
Однако, как явствует из последующего изложения, «остался в строю» Фрунзе в своём тыловом поезде на станции Чишма, откуда «руководил войсками», рассылая телеграммы с указаниями и благодарностями. (Там же. С. 278.)
Конец июня или начало июля 1941 г., группа армий Север. Моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова» после переправы через Двину (в составе 41-го или уже 56-го моторизованного армейского корпуса 4-й танковой группы): «...мы должны были двигаться за нашими танковыми частями до того момента, пока не окажемся в авангарде. Во время необходимых остановок мы на машинах съезжали в придорожный лес и маскировали их от воздушной разведки противника. Уважение к русским ВВС было очень велико, так как нам говорили, что численно они превосходят нас в несколько раз.
Едва мы хотели продолжить марш, как пришло сообщение о приближении крупного соединения русских бомбардировщиков. Мотоциклист, доставивший это сообщение, одновременно передал приказ, что в случае атаки бомбардировщиков марш не должен останавливаться ни в коем случае.
Когда появилось около 30 двухмоторных бомбардировщиков, они атаковали нас в поперечном направлении к нашему движению. Все бомбы попадали в болотистые луга справа от дороги. Никаких потерь у нас не было. Если бомбардировщики противника всегда будут так атаковать, то немецким истребителям и появляться не надо. Пока мы думали о том, не перестать ли нам уважать вражеские ВВС, эскадрилья «мессершмиттов» атаковала улетающее соединение и подбила почти все бомбардировщики. Превосходство нашей авиации было подавляющим. Дымящийся самолёт, на малой высоте, медленно снижаясь, летел прямо на нас. Мы видели остановившиеся пропеллеры, и то, как экипаж выбрался из кабины и лёг на плоскости, держась за их переднюю кромку. Парашютов у них не было. Самолёт тихо и медленно планировал на ольшаник в стороне от дороги рядом с нами.
По глубокой пыли ухабистой дороги змея нашей колонны продолжала ползти дальше на северо-восток: болото, песок, сосновые леса, луга, березняки, ольшаники, редкие низенькие домишки с маленькими садиками». (Крафт Г. Фронтовой дневник эсэсовца. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 145-146.)
«Пока боевые части собирались в населённом пункте после тяжёлых потерь, разведывательный батальон пытался догнать отходившего противника. В ночь на 12 июля к его преследованию присоединились и мы. Нашей целью стал Остров. Местность была труднопроходимой, и машины вынуждены были двигаться только по дорогам.
Активизировались бомбардировщики противника. Прорвавшиеся бипланы громко тарахтели с неба своими звёздчатыми моторами, казалось, будто они с трудом летят против ветра. Однако ни они, ни их бомбы особенно нас не пугали.
Когда солнце встало, нас посетил У-2, старый дряхлый биплан. Он медленно летел с заглушенным мотором, совершенно неслышно в шуме колонны, очень низко вдоль неё. Мы заметили зашедший сзади летательный аппарат только тогда, когда он оказался перед нашими глазами. Нас поразила храбрость, с которой этот пилот осуществлял свой разведывательный полёт. Его даже не обстреливали. Он сбросил бомбочку на головную машину и исчез за ближайшим лесом. Мы были ущемлены в нашем солдатском тщеславии. По крайней мере, эта старая ворона не должна была от нас скрыться просто так!
Вторая часть представления была нам дана через полчаса. Во время привала машины съехали с проезжей части по твердой почве под кусты и деревья, когда вдруг бешено начала колотить легкая зенитная пушка. Далеко и достаточно высоко в наш тыл мимо нас пролетало соединение Ил-2. Я видел, как наши зенитчики, разместив свои пушки на огневой позиции посреди наших машин, в полном составе оставались у своих орудий. Не ожидая ничего хорошего, я заехал на моём «Адлере» поглубже в лес. Выехав из сосредоточения машин.
Минут через пять «голубчики» снова показались. Звено заходило на бреющем полёте, каждый самолёт просыпал на место нашей стоянки град мелких осколочных бомб из своих 400-килограммовых запасов. Они умело держали дистанцию, чтобы не попасть под разрывы от бомб впереди летящего самолета.
В пределах видимости они пошли на разворот для нового захода. На вираже один из самолётов загорелся и камнем рухнул на землю.
Наши зенитчики были хладнокровными парнями. Я не видел ни одного, который бы отскочил от орудия во время града осколочных бомб. Они стояли у орудия и сопровождали его стволом атакующее соединение, ожидая, очевидно, когда оно приблизится.
И вот они возвращаются. Заходя со стороны солнца, атакуют под острым углом. По восемь раз блеснуло под плоскостями каждой из машин, и 82-мм реактивные снаряды с огненными хвостами, оставляя за собой серый дымный след, устремились к цели. По самолётам била 20-мм зенитная пушка, бронебойные снаряды которой отлетали от плоскостей и брюха самолётов. Это что-то новенькое! Но одна 37-мм пушка достала один уходящий Ил-2, от правого руля высоты отлетел большой кусок, самолёт сразу же свалился на левое крыло и с кратким воем устремился к земле. За еще одной уходившей машиной потянулся дымный след, но она не горела, когда она уже почти исчезла за восточным горизонтом, раздался взрыв.
Два захода – три подбитых самолёта. Неплохо для противовоздушной обороны нашей дивизии, стволы зениток которой уже гордо украшают белые кольца.
Оба налёта имели плохие последствия. Отовсюду звали санитаров. Я счёл, что всё пока закончилось, и выехал к командному пункту роты. Кое-где начинал гореть лес. Нам необходимо было как можно быстрее отвести свои машины от тех, что загорелись, пока и их не охватило пламя. Машины с боеприпасами начали взрываться. Машина-цистерна горела неугасимым пламенем, потому что из-за жара к нему невозможно было приблизиться, чтобы потушить. Густые чёрные клубы дыма обволокли места попаданий. Имеющиеся санитарные машины были не в состоянии перевезти всех раненых на перевязочный пункт. Я получил приказ, отвезти легко раненных после оказания им первой помощи. Я посадил трёх способных сидеть тяжело раненных, на подножках разместились легко раненные. Мы первыми покинули место побоища. Лесной пожар разгорался, охватывая всё новые и новые машины, взрывались ящики с боеприпасами.
Не успели мы проехать и пару сотен метров, как над нами пронеслись многочисленные тени. Штурмовики снова оказались здесь. По-видимому, исчезнув за горизонтом, они описали большую петлю и вернулись с западной стороны. Мы их заметили только тогда, когда они уже пролетели мимо нас и обрушили огонь своих пушек и пулемётов на места стоянок машин, обозначенные чёрными клубами дыма. Наша зенитная артиллерия, менявшая позиции и ничего не видевшая из-за клубов дыма, атаку самолётов отразить не смогла.
Открытый сарай у дороги послужил нам укрытием. Ничего другого не оставалось, как заехать в него, так как штурмовики наверняка налетят снова. Отсюда мы наблюдали за происходящим. Осмелевшие от отсутствия сопротивления, самолёты зашли для ещё одной атаки. Но уже на подлёте один из шести штурмовиков был подбит зениткой. У Ил-2 начались неконтролируемые движения, но из строя он не выходил. Вдруг он резко повернул в сторону и столкнулся с соседней машиной. Оба самолёта сейчас же вспыхнули и с коротким воем рухнули на землю. Потом мы слышали, как остальные четверо обстреляли из пулемётов и пушек место стоянки, прежде чем на бреющем полёте уйти на восток.
Мы приехали на перевязочный пункт как раз в тот момент, когда он менял своё месторасположение. Он переезжал в подходящий лесок и снова развёртывался, ожидая наплыва раненых.
Один из мотоциклистов, остававшихся на месте стоянки, когда я вернулся, рассказал мне, что первый налёт Ил-2, просыпавший град осколочных бомб, причинил наибольшие потери в технике и вооружении, однако не в личном составе, так как солдаты оставили машины и укрылись в лесу. Раненые и убитые были в расчётах зенитных пушек. Но от атаки реактивными снарядами, рвавшимися в кронах деревьев, убитых и раненых было больше всего, так как от их осколков укрыться было негде». (Там же. С. 158-162.)
Итак, бомбардировщики ни во что не попали. Ущерб смогли причинить только штурмовики, но при этом безвозвратно потеряны 5 машин с экипажами из 9 (55,5 % за один боевой вылет).
Эти случаи особенно показательны, потому что произошли с кадровыми советскими лётчиками мирного времени, имевшими достаточное время на обучение если не в училищах, то после их окончания в строю. Здесь нельзя сослаться на то, что людей обучали наскоро в военное время.
8 декабря 2016 г. террористы ИГ начали наступление на Пальмиру, захватив её 11-го числа. Из заявления официального представителя МО РФ генерал-майора И.Е. Конашенкова 12 декабря: «Авиация ВКС России ещё на подступах к Пальмире нанесла 64 воздушных удара по скоплениям, позициям и выдвигающимся резервам боевиков. Было уничтожено 11 единиц танков и БПМ, 31 оснащённый крупнокалиберными пулемётами автомобиль, а также более 300 боевиков».
https://tvzvezda.ru/news/20...
Мало того, что при полном господстве в воздухе, над пустыней, во 2-м десятилетии XXI века, не остановили наступление бронетехники полувековой давности и легковых автомобилей. Усреднённо получается, что 22 «воздушных удара» (34 %) нанесены мимо.
2022 г. «Украина». Как и в Сирии, авиацией уверенно поражаются большие неподвижные цели.
Доношу, что сегодня утром Воздушный Корабль Второй в составе Штабс-Капитанов Панкратьева и Никольского, артиллерийского офицера поручика Павлова, Генерального Штаба Капитана Ушакова, моториста Терентьева совершил трехчасовой боевой полет по маршруту Зегевольд — Линден — Вальгоф — Кричи — мыза Эккау — Митава — Зегевольд. По складу артиллерийских припасов в мызе Вальгоф, по обозам и колоннам неприятельских войск по пути следования Корабля сброшено тринадцать бомб общим весом 20 пудов. Попадания хорошие. Результат сообщен в штаб 12 Армии. Произведено фотографирование.
РГВИА, Ф. 2003, Оп. 2, д 622, л. 115». (Никольской С.Н. Никольской М.Н. «Муромцы» в бою. Подвиги русских авиаторов. М.: «Эксмо», «Яуза», 2010. Приложения. С. 326-327.)
8 июня 1919 г. На рассвете части 25-й дивизии Туркестанской армии Восточного фронта «красных» переправились на правый берег реки Белой у Красного Яра. «К 16 часам наступление вновь пошло успешно.
М. В. Фрунзе вернулся к переправе. Район переправы бомбила авиация противника, стремясь потопить переправочные средства, наносила урон войскам, расстреливая людей из пулемётов. Близко взорвавшейся бомбой М. В. Фрунзе был контужен, лошадь под ним убита. В медицинском пункте, развёрнутом в Красном Яре, ему была оказана первая помощь. В тот же день огнём с самолёта был ранен в голову В. И. Чапаев. Пуля застряла в черепе. Вынимали в том же медицинском пункте. И М. В. Фрунзе, и В. И. Чапаев остались в строю и продолжали руководить войсками. Был ранен в грудь заведующий политотделом Туркестанской армии В. А. Тронин, находившийся в бою вместе с М. В. Фрунзе». (Чапаев А.В. Чапаева К.В. Володихин Я.А. Василий Иванович Чапаев. Очерк жизни, революционной и боевой деятельности. Изд. 2-е, испр. и доп. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1987. С. 276.)
Однако, как явствует из последующего изложения, «остался в строю» Фрунзе в своём тыловом поезде на станции Чишма, откуда «руководил войсками», рассылая телеграммы с указаниями и благодарностями. (Там же. С. 278.)
Конец июня или начало июля 1941 г., группа армий Север. Моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова» после переправы через Двину (в составе 41-го или уже 56-го моторизованного армейского корпуса 4-й танковой группы): «...мы должны были двигаться за нашими танковыми частями до того момента, пока не окажемся в авангарде. Во время необходимых остановок мы на машинах съезжали в придорожный лес и маскировали их от воздушной разведки противника. Уважение к русским ВВС было очень велико, так как нам говорили, что численно они превосходят нас в несколько раз.
Едва мы хотели продолжить марш, как пришло сообщение о приближении крупного соединения русских бомбардировщиков. Мотоциклист, доставивший это сообщение, одновременно передал приказ, что в случае атаки бомбардировщиков марш не должен останавливаться ни в коем случае.
Когда появилось около 30 двухмоторных бомбардировщиков, они атаковали нас в поперечном направлении к нашему движению. Все бомбы попадали в болотистые луга справа от дороги. Никаких потерь у нас не было. Если бомбардировщики противника всегда будут так атаковать, то немецким истребителям и появляться не надо. Пока мы думали о том, не перестать ли нам уважать вражеские ВВС, эскадрилья «мессершмиттов» атаковала улетающее соединение и подбила почти все бомбардировщики. Превосходство нашей авиации было подавляющим. Дымящийся самолёт, на малой высоте, медленно снижаясь, летел прямо на нас. Мы видели остановившиеся пропеллеры, и то, как экипаж выбрался из кабины и лёг на плоскости, держась за их переднюю кромку. Парашютов у них не было. Самолёт тихо и медленно планировал на ольшаник в стороне от дороги рядом с нами.
По глубокой пыли ухабистой дороги змея нашей колонны продолжала ползти дальше на северо-восток: болото, песок, сосновые леса, луга, березняки, ольшаники, редкие низенькие домишки с маленькими садиками». (Крафт Г. Фронтовой дневник эсэсовца. М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 145-146.)
«Пока боевые части собирались в населённом пункте после тяжёлых потерь, разведывательный батальон пытался догнать отходившего противника. В ночь на 12 июля к его преследованию присоединились и мы. Нашей целью стал Остров. Местность была труднопроходимой, и машины вынуждены были двигаться только по дорогам.
Активизировались бомбардировщики противника. Прорвавшиеся бипланы громко тарахтели с неба своими звёздчатыми моторами, казалось, будто они с трудом летят против ветра. Однако ни они, ни их бомбы особенно нас не пугали.
Когда солнце встало, нас посетил У-2, старый дряхлый биплан. Он медленно летел с заглушенным мотором, совершенно неслышно в шуме колонны, очень низко вдоль неё. Мы заметили зашедший сзади летательный аппарат только тогда, когда он оказался перед нашими глазами. Нас поразила храбрость, с которой этот пилот осуществлял свой разведывательный полёт. Его даже не обстреливали. Он сбросил бомбочку на головную машину и исчез за ближайшим лесом. Мы были ущемлены в нашем солдатском тщеславии. По крайней мере, эта старая ворона не должна была от нас скрыться просто так!
Вторая часть представления была нам дана через полчаса. Во время привала машины съехали с проезжей части по твердой почве под кусты и деревья, когда вдруг бешено начала колотить легкая зенитная пушка. Далеко и достаточно высоко в наш тыл мимо нас пролетало соединение Ил-2. Я видел, как наши зенитчики, разместив свои пушки на огневой позиции посреди наших машин, в полном составе оставались у своих орудий. Не ожидая ничего хорошего, я заехал на моём «Адлере» поглубже в лес. Выехав из сосредоточения машин.
Минут через пять «голубчики» снова показались. Звено заходило на бреющем полёте, каждый самолёт просыпал на место нашей стоянки град мелких осколочных бомб из своих 400-килограммовых запасов. Они умело держали дистанцию, чтобы не попасть под разрывы от бомб впереди летящего самолета.
В пределах видимости они пошли на разворот для нового захода. На вираже один из самолётов загорелся и камнем рухнул на землю.
Наши зенитчики были хладнокровными парнями. Я не видел ни одного, который бы отскочил от орудия во время града осколочных бомб. Они стояли у орудия и сопровождали его стволом атакующее соединение, ожидая, очевидно, когда оно приблизится.
И вот они возвращаются. Заходя со стороны солнца, атакуют под острым углом. По восемь раз блеснуло под плоскостями каждой из машин, и 82-мм реактивные снаряды с огненными хвостами, оставляя за собой серый дымный след, устремились к цели. По самолётам била 20-мм зенитная пушка, бронебойные снаряды которой отлетали от плоскостей и брюха самолётов. Это что-то новенькое! Но одна 37-мм пушка достала один уходящий Ил-2, от правого руля высоты отлетел большой кусок, самолёт сразу же свалился на левое крыло и с кратким воем устремился к земле. За еще одной уходившей машиной потянулся дымный след, но она не горела, когда она уже почти исчезла за восточным горизонтом, раздался взрыв.
Два захода – три подбитых самолёта. Неплохо для противовоздушной обороны нашей дивизии, стволы зениток которой уже гордо украшают белые кольца.
Оба налёта имели плохие последствия. Отовсюду звали санитаров. Я счёл, что всё пока закончилось, и выехал к командному пункту роты. Кое-где начинал гореть лес. Нам необходимо было как можно быстрее отвести свои машины от тех, что загорелись, пока и их не охватило пламя. Машины с боеприпасами начали взрываться. Машина-цистерна горела неугасимым пламенем, потому что из-за жара к нему невозможно было приблизиться, чтобы потушить. Густые чёрные клубы дыма обволокли места попаданий. Имеющиеся санитарные машины были не в состоянии перевезти всех раненых на перевязочный пункт. Я получил приказ, отвезти легко раненных после оказания им первой помощи. Я посадил трёх способных сидеть тяжело раненных, на подножках разместились легко раненные. Мы первыми покинули место побоища. Лесной пожар разгорался, охватывая всё новые и новые машины, взрывались ящики с боеприпасами.
Не успели мы проехать и пару сотен метров, как над нами пронеслись многочисленные тени. Штурмовики снова оказались здесь. По-видимому, исчезнув за горизонтом, они описали большую петлю и вернулись с западной стороны. Мы их заметили только тогда, когда они уже пролетели мимо нас и обрушили огонь своих пушек и пулемётов на места стоянок машин, обозначенные чёрными клубами дыма. Наша зенитная артиллерия, менявшая позиции и ничего не видевшая из-за клубов дыма, атаку самолётов отразить не смогла.
Открытый сарай у дороги послужил нам укрытием. Ничего другого не оставалось, как заехать в него, так как штурмовики наверняка налетят снова. Отсюда мы наблюдали за происходящим. Осмелевшие от отсутствия сопротивления, самолёты зашли для ещё одной атаки. Но уже на подлёте один из шести штурмовиков был подбит зениткой. У Ил-2 начались неконтролируемые движения, но из строя он не выходил. Вдруг он резко повернул в сторону и столкнулся с соседней машиной. Оба самолёта сейчас же вспыхнули и с коротким воем рухнули на землю. Потом мы слышали, как остальные четверо обстреляли из пулемётов и пушек место стоянки, прежде чем на бреющем полёте уйти на восток.
Мы приехали на перевязочный пункт как раз в тот момент, когда он менял своё месторасположение. Он переезжал в подходящий лесок и снова развёртывался, ожидая наплыва раненых.
Один из мотоциклистов, остававшихся на месте стоянки, когда я вернулся, рассказал мне, что первый налёт Ил-2, просыпавший град осколочных бомб, причинил наибольшие потери в технике и вооружении, однако не в личном составе, так как солдаты оставили машины и укрылись в лесу. Раненые и убитые были в расчётах зенитных пушек. Но от атаки реактивными снарядами, рвавшимися в кронах деревьев, убитых и раненых было больше всего, так как от их осколков укрыться было негде». (Там же. С. 158-162.)
Итак, бомбардировщики ни во что не попали. Ущерб смогли причинить только штурмовики, но при этом безвозвратно потеряны 5 машин с экипажами из 9 (55,5 % за один боевой вылет).
Эти случаи особенно показательны, потому что произошли с кадровыми советскими лётчиками мирного времени, имевшими достаточное время на обучение если не в училищах, то после их окончания в строю. Здесь нельзя сослаться на то, что людей обучали наскоро в военное время.
8 декабря 2016 г. террористы ИГ начали наступление на Пальмиру, захватив её 11-го числа. Из заявления официального представителя МО РФ генерал-майора И.Е. Конашенкова 12 декабря: «Авиация ВКС России ещё на подступах к Пальмире нанесла 64 воздушных удара по скоплениям, позициям и выдвигающимся резервам боевиков. Было уничтожено 11 единиц танков и БПМ, 31 оснащённый крупнокалиберными пулемётами автомобиль, а также более 300 боевиков».
https://tvzvezda.ru/news/20...
Мало того, что при полном господстве в воздухе, над пустыней, во 2-м десятилетии XXI века, не остановили наступление бронетехники полувековой давности и легковых автомобилей. Усреднённо получается, что 22 «воздушных удара» (34 %) нанесены мимо.
2022 г. «Украина». Как и в Сирии, авиацией уверенно поражаются большие неподвижные цели.
Антон Павлов,
01-07-2022 01:32
(ссылка)
Выбор между царским и советским Генеральным штабом.
«Со Сталиным я впервые встретился во время финской войны — 30 декабря 1939 года.
К Сталину был вызван Борис Михайлович Шапошников, и я как исполняющий в то время обязанности заместителя начальника оперативного управления явился вместе с ним. И с этого времени я бывал и на последующих заседаниях Высшего военного совета.
30 декабря 1939 года Шапошников был вызван к Сталину, вызван из отпуска, и у этого вызова была своя предыстория.
Как началась финская война? Когда переговоры с Финляндией относительно передвижки границ и уступки нам — за соответствующую компенсацию — территории на Карельском перешейке, необходимой для безопасности Ленинграда, окончательно не увенчались успехом, Сталин, созвав Военный совет, поставил вопрос о том, что раз так, то нам придётся воевать с Финляндией. Шапошников как начальник Генерального штаба был вызван для обсуждения плана войны. Оперативный план войны с Финляндией, разумеется, существовал, и Шапошников доложил его. Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укреплённых районов. И в соответствии с этим он предполагал сосредоточение больших сил и средств, необходимых для решительного успеха этой операции.
Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой... Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.
После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам всё это нужно?»
Мерецков ответил:
— Товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.
После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами».
Он таким образом заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией. Более того, сказал Шапошникову тут же, что ему надо отдохнуть, предложил ему дачу в Сочи и отправил его на отдых. Сотрудники Шапошникова были тоже разогнаны кто куда, в разные инспекционные поездки. Меня, например, загнал для чего-то на демаркацию границ с Литвой.
Что произошло дальше — известно. Ленинградский фронт начал войну, не подготовившись к ней, с недостаточными силами и средствами и топтался на Карельском перешейке целый месяц, понёс тяжёлые потери и, по существу, преодолел только предполье. Лишь через месяц подошёл к самой линии Маннергейма, но подошёл выдохшийся, брать её было уже нечем.
Вот тут-то Сталин и вызвал из отпуска Шапошникова, и на Военном совете обсуждался вопрос о дальнейшем ведении войны. Шапошников доложил, по существу, тот же самый план, который он докладывал месяц назад. Этот план был принят. Встал вопрос о том, кто будет командовать войсками на Карельском перешейке. Сталин сказал, что Мерецкову мы это не поручим, он с этим не справится. Спросил:
— Так кто готов взять на себя командование войсками на Карельском перешейке?
Наступило молчание, довольно долгое. Наконец поднялся Тимошенко и сказал:
— Если вы мне дадите всё то, о чём здесь было сказано, то я готов взять командование войсками на себя и надеюсь, что не подведу вас.
Так был назначен Тимошенко.
На фронте наступила месячная пауза. По существу, военные действия заново начались только в феврале. Этот месяц ушёл на детальную разработку плана операции, на подтягивание войск и техники, на обучение войск. Этим занимался там, на Карельском перешейке, Тимошенко, и занимался, надо отдать ему должное, очень энергично, тренировал, обучал войска, готовил их. Были подброшены авиация, танки, тяжёлая, сверхмощная артиллерия. В итоге, когда заново начали операцию с этими силами и средствами, которые были для этого необходимы, она увенчалась успехом, линия Маннергейма была довольно быстро прорвана.
Говоря о первом периоде финской войны, надо добавить, что при огромных потерях, которые мы там несли, пополнялись они самым безобразным образом. Надо только удивляться тому, как можно было за такой короткий период буквально ограбить всю армию. Щаденко, по распоряжению Сталина, в тот период брал из разных округов, в том числе из особых пограничных округов, по одной роте из каждого полка в качестве пополнения для воевавших на Карельском перешейке частей.
Финская война была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко неблагоприятные впечатления за рубежом, да и внутри страны. Всё это надо было как-то объяснить. Вот тогда и было созвано у Сталина совещание, был снят с поста наркома Ворошилов и назначен Тимошенко. Тогда же Шапошников, на которого Сталин тоже посчитал необходимым косвенно возложить ответственность, был под благовидным предлогом снят с поста начальника Генерального штаба и назначен заместителем наркома с задачей наблюдать за укреплением новых границ. Эта новая для него работа была мотивирована как крайне необходимая, государственно важная и требующая для своего осуществления именно такого специалиста, как он.
После этого встал вопрос о том, кому же быть начальником Генерального штаба. Сталин прямо тут же, на Совете, не разговаривая ни с кем предварительно, обратился к новому наркому Тимошенко и спросил:
— Кого вы рекомендуете в начальники Генерального штаба?
Тот замялся.
— Ну, с кем из старших штабов вы работали?
Обстоятельства сложились так, что как раз на финской войне Тимошенко из старших штабов работал с Мерецковым. Он сказал об этом.
— Так как, подходит вам Мерецков начальником Генерального штаба? Как он у вас работал?
Тимошенко сказал, что работал неплохо и что подходит.
Так состоялось назначение нового начальника Генерального штаба.
Мерецков пробыл, правда, в этой должности недолго. В феврале 1941 года, когда состоялась большая штабная игра и ему пришлось как начальнику Генерального штаба делать доклад, он провалился с этим докладом совершенно ясно для всех, а Жуков; командовавший к этому времени Киевским особым военным округом, как раз на этих играх показал себя с наилучшей стороны и был тогда же назначен начальником Генерального штаба. На этой должности он пробыл до 28 июля 1941 года, когда сам попросил освободить его от этих обязанностей и направить на один из фронтов. Сталин удовлетворил тогда его просьбу и назначил вместо него Шапошникова, а Шапошников вошёл с соответствующим представлением, и я был тогда же назначен его заместителем и начальником оперативного управления.
В должность начальника Генерального штаба я фактически вступил 15 октября 1941 года. Шапошников в то время приболел и выехал в Арзамас вместе почти со всем Генеральным штабом. Сталин вызвал меня к себе и приказал мне возглавить группу Генерального штаба в Москве при нём, оставив для этой работы восемь офицеров Генерального штаба. Я стал возражать, что такое количество офицеров — восемь человек — не может обеспечить необходимый масштаб работы, что с таким количеством людей работать нельзя, что нужно гораздо больше людей. Но Сталин стоял на своём и, несмотря на мои повторные возражения, повторил, чтобы я оставил себе восемь офицеров Генерального штаба и я сам — девятый.
Только уже позднее я понял его упорство в тот день. Оказывается, на аэродроме уже стояли в полной готовности самолёты на случай эвакуации Ставки и правительства из Москвы, и на этих самолётах были расписаны все места, по этому расписанию на всю группу Генерального штаба было оставлено девять мест — для меня и моих восьми офицеров. Об этом мне потом рассказал Поскребышев. Вообще говоря, то, что самолёты стояли в готовности, было абсолютно правильным мероприятием в той обстановке, когда прорвавшимся немецким танкам нужно было всего несколько часов ходу для того, чтобы быть в центре Москвы.
Надо сказать, что в начале войны Генеральный штаб был растащен и, собственно говоря, его работу нельзя было назвать нормальной. Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин был отправлен на фронт, Шарохин тоже, начальник оперативного управления Маландин тоже. Все те, кто составлял головку Генерального штаба, были отправлены на разные фронты и в армии, что, конечно, не способствовало нормальной работе Генерального штаба. Сталин в начале войны разогнал Генеральный штаб. Ватутин, Соколовский, Шарохин, Маландин — все были отправлены на фронт». (Беседы с маршалом Советского Союза А. М. Василевским. 1967 год. // Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М.: «Книга», 1990. С. 390-394.)
https://imwerden.de/pdf/sim...
То есть, оказавшись на краю гибели из-за несостоятельности советских командиров и собственной, Сталин прибег к помощи бывших царских офицеров: кадрового, Генерального штаба Шапошникова и военного времени Василевского. При этом последний по части службы Генерального штаба был учеником Шапошникова. (Возможно, они сблизились и потому, что оба заканчивали Алексеевское военное училище в Москве.)
«Добавлю, что, занимаясь разработкой военной теории, он неустанно стремился довести до широких кругов командного состава последние достижения военной науки. Будучи начальником Генштаба, он регулярно выступал с докладами на курсах усовершенствования командного состава, при разборах войсковых маневров, учений и всюду на конкретных примерах умело наставлял высший командный состав в теории штабной службы, прививал культуру руководства. В его итоговых разборах военных игр, полевых поездках, войсковых учениях и маневрах всегда и всеми чувствовалась меткость его наблюдений. Он детально разбирал действия «воюющих сторон», четко формулировал выводы, которые следовало сделать для дальнейшего повышения боеготовности войск, оперативной подготовки командного состава и штабов.
/.../
Работа с Б.М. Шапошниковым была постоянной и неоценимой школой. И я, признаться, всегда испытывал чувство гордости, когда И.В. Сталин, рассматривая тот или иной вопрос, говорил обо мне:
— А ну, послушаем, что скажет нам шапошниковская школа!
Борису Михайловичу я обязан и тем вниманием к моей персоне, которое иногда уделял лично мне Сталин». (Василеский А.М. Дело всей жизни. 4-е изд. М.: Политиздат, 1983. Гл. «Последние мирные месяцы». С. 92-93, 94.)
Из воспоминаний Василевского явствует, что советская военная школа была совершенно неудовлетворительной. Высший командный состав не только имел столь низкий уровень, что ему требовалось даже «прививать культуру руководства». (Каковы же были тогда средний и низший?!) Но и делать это приходилось лично (!) начальнику Генерального штаба. Из этого также следует, что «последние достижения военной науки», которые пытался доводить до подчинённых Шапошников, были не советскими. Иначе окончившие советские военные академии «красные» командиры были бы с ними знакомы.
Могут возразить, что Василевский хотел похвалить Шапошникова, и от этого складывается такое впечатление. На самом деле, в воспоминаниях Василевского положение изложено ещё мягко. 22 февраля 1935 г.: «В частности, должен получить самое широкое применение способ управления путём «наведения» авиацией. В быстротечном бою не хватает времени на формулировку распоряжений, передачу радиограмм, на принятие и изучение этих распоряжений. Гораздо проще условными знаками с самолёта показать новое направление наступления, где-либо создающуюся угрозу со стороны противника и проч.». (Боевое искусство. // Тухачевский М.Н. Избранные произведения. Т. 2. 1928-1937 гг. М.: Воениздат, 1964. С. 231.) Из-за неспособности «красных» командиров быстро соображать и правильно говорить, Тухачевский предлагает изъясняться знаками.
Естественно, в таких обстоятельствах руководствоваться советскими военной наукой и службой Генерального штаба было невозможно. Не от того, что они были плохи, а потому что их не было. Поэтому в 1930-е в СССР издавались переводы немецких военных трудов от Клаузевица до современных. Например, сочинение на 386 страницах «одного из теоретиков германского фашизма» генерал-лейтенанта Фридриха фон Кохенгаузена: Кохенгаузен. Вождение войск. Тактический справочник для командира общевойскового соединения и его помощников. / Перевод А. Таубе с 12-го немецкого заново переработанного издания 1936 г. М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1937.
Понятно, что если Шапошников сильно отличался от остальных советских военачальников, то должен был иметь и иную основу военного дела. Приказом по военному ведомству от 26 ноября 1912 г. штабс-капитан (с 6 декабря капитан) Шапошников был назначен старшим адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии (г. Ченстохов). Уже будучи маршалом, описывая своё знакомство 30 декабря 1912 г. со штабом Варшавского военного округа и его Отчётным отделением, с явным, хотя и не высказанным прямо, почтением Шапошников в частности вспоминал об одном, знаменитом впоследствии, русском офицере Генерального штаба: «Здесь же, в отделении, я познакомился с капитаном Дроздовским, помощником Лукирского. Энергичное лицо, сжатые губы и холодный взгляд голубых глаз — вот облик этого капитана, впоследствии одного из руководителей контрреволюции.
Такова была верхушка штаба Варшавского военного округа, считавшегося передовым в русской армии». (Шапошников Б.М. Воспоминания. Изд. 2-е, доп. М.: Воениздат, 1982. Глава «Штаб 14-й кавалерийской дивизии». С. 203.)
Содержание воспоминаний Шапошникова вообще не советское по отношению к Российской Империи и Царской Армии. Поэтому неудивительно, что: 1) «В последние годы жизни, будучи уже больным, Б. М. Шапошников начал писать мемуары, однако завершить их ему не удалось. Оставленная им рукопись (одиннадцать тетрадей) имеет общее название «Пройденный путь». ...Незадолго до кончины автор сделал на первой тетради надпись: «Публикуется через 20 лет после моей смерти». Рукопись представлена для опубликования Военному издательству Министерства обороны СССР семьёй Б. М. Шапошникова». (Там же. С. 32.)
2) Умер Шапошников 26 марта 1945 г., а 1-е издание его воспоминаний последовало только в 1974 г., и не обошлось без пропагандистской правки. Когда автор в высшей степени уважительно и с любовью отозвался как о человеке и военном начальнике о генерале от кавалерии Александре Васильевиче Самсонове в бытность того Туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками Туркестанского военного округа, а затем командующим 2-й армией в 1914 г., советский редактор уже не выдержал и вмешался: «Автор характеризует Самсонова только на основании личных впечатлений от встреч с ним по службе в Туркестанском военном округе, не затрагивая другой стороны деятельности Самсонова — генерал-губернаторской». (Там же. Конец главы «Сдача роты и перевод в Генеральный штаб». С. 190-191.) Совершенно неумелая попытка искажения действительности со стороны советского редактора, потому что над этим подстрочным примечанием Шапошников рассматривал действия Самсонова в 1914 г. в Восточной Пруссии с точки зрения военной истории, так как сам в них не участвовал.
Однако как только опасность миновала, и положение советской власти стало безопасным, она снова взялась за своё. Даже советская академия Генерального штаба после войны была имени Ворошилова. Хотя Ворошилов не только не имел никакого отношения к службе Генерального штаба, но самой же советской властью во время 2-й Мировой войны был признан (вместе с Будённым) совершенно негодным военачальником, будучи наконец назначен 5 апреля 1943 г. председателем Трофейного комитета.
«В сознании засела Первая Конная.
Я много слышал о ней из рассказов друзей и врагов, от очевидцев, от тех, что слышали о ней из первых рук, и просто от болтунов. Из всего слышанного цельного впечатления не получалось. ...
/.../
За частями тянутся тысячи повозок. За каждой повозкой десяток лошадей. В повозках — трофеи и жёны...
… Во главе армии какие-то «самородки»: вахмистр Будённый, слесарь Ворошилов». (Ракитин Н.В. Записки конармейца. М.: «Федерация», 1931. Глава «Немцы Поволжья». С. 55-56.)
Почему две главные советские военные академии носили имена партийных деятелей Фрунзе и Ворошилова? Ведь тот же Шапошников возглавлял и Генеральный штаб, и его академию. Теперь все уже забыли, что в СССР главными праздниками были 7 ноября и 1 мая, а 9 мая являлось второстепенным праздничным днём, на который, в отличие от 7 ноября, военный парад не полагался. На первом месте стояла Гражданская война, в которой одни большевики, яко бы, победили одновременно и немцев, и всю Антанту, и Белых. «Великая Отечественная война» в советской пропаганде являлась лишь нижестоящим продолжением этого. И «Великой» она названа для принижения Отечественной войны 1812 года, потому что сравнение оказывалось совсем не в пользу советской власти. А основой существования СССР было пропагандистское утверждение, что Царская Россия являлась по природе неисправимо отсталой, и только советская власть была великой. Поэтому и вынужденное обращение Сталина к помощи царской школы Генерального штаба для спасения СССР никак не должно было быть отмечено.
К Сталину был вызван Борис Михайлович Шапошников, и я как исполняющий в то время обязанности заместителя начальника оперативного управления явился вместе с ним. И с этого времени я бывал и на последующих заседаниях Высшего военного совета.
30 декабря 1939 года Шапошников был вызван к Сталину, вызван из отпуска, и у этого вызова была своя предыстория.
Как началась финская война? Когда переговоры с Финляндией относительно передвижки границ и уступки нам — за соответствующую компенсацию — территории на Карельском перешейке, необходимой для безопасности Ленинграда, окончательно не увенчались успехом, Сталин, созвав Военный совет, поставил вопрос о том, что раз так, то нам придётся воевать с Финляндией. Шапошников как начальник Генерального штаба был вызван для обсуждения плана войны. Оперативный план войны с Финляндией, разумеется, существовал, и Шапошников доложил его. Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укреплённых районов. И в соответствии с этим он предполагал сосредоточение больших сил и средств, необходимых для решительного успеха этой операции.
Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой... Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.
После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам всё это нужно?»
Мерецков ответил:
— Товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.
После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами».
Он таким образом заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией. Более того, сказал Шапошникову тут же, что ему надо отдохнуть, предложил ему дачу в Сочи и отправил его на отдых. Сотрудники Шапошникова были тоже разогнаны кто куда, в разные инспекционные поездки. Меня, например, загнал для чего-то на демаркацию границ с Литвой.
Что произошло дальше — известно. Ленинградский фронт начал войну, не подготовившись к ней, с недостаточными силами и средствами и топтался на Карельском перешейке целый месяц, понёс тяжёлые потери и, по существу, преодолел только предполье. Лишь через месяц подошёл к самой линии Маннергейма, но подошёл выдохшийся, брать её было уже нечем.
Вот тут-то Сталин и вызвал из отпуска Шапошникова, и на Военном совете обсуждался вопрос о дальнейшем ведении войны. Шапошников доложил, по существу, тот же самый план, который он докладывал месяц назад. Этот план был принят. Встал вопрос о том, кто будет командовать войсками на Карельском перешейке. Сталин сказал, что Мерецкову мы это не поручим, он с этим не справится. Спросил:
— Так кто готов взять на себя командование войсками на Карельском перешейке?
Наступило молчание, довольно долгое. Наконец поднялся Тимошенко и сказал:
— Если вы мне дадите всё то, о чём здесь было сказано, то я готов взять командование войсками на себя и надеюсь, что не подведу вас.
Так был назначен Тимошенко.
На фронте наступила месячная пауза. По существу, военные действия заново начались только в феврале. Этот месяц ушёл на детальную разработку плана операции, на подтягивание войск и техники, на обучение войск. Этим занимался там, на Карельском перешейке, Тимошенко, и занимался, надо отдать ему должное, очень энергично, тренировал, обучал войска, готовил их. Были подброшены авиация, танки, тяжёлая, сверхмощная артиллерия. В итоге, когда заново начали операцию с этими силами и средствами, которые были для этого необходимы, она увенчалась успехом, линия Маннергейма была довольно быстро прорвана.
Говоря о первом периоде финской войны, надо добавить, что при огромных потерях, которые мы там несли, пополнялись они самым безобразным образом. Надо только удивляться тому, как можно было за такой короткий период буквально ограбить всю армию. Щаденко, по распоряжению Сталина, в тот период брал из разных округов, в том числе из особых пограничных округов, по одной роте из каждого полка в качестве пополнения для воевавших на Карельском перешейке частей.
Финская война была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко неблагоприятные впечатления за рубежом, да и внутри страны. Всё это надо было как-то объяснить. Вот тогда и было созвано у Сталина совещание, был снят с поста наркома Ворошилов и назначен Тимошенко. Тогда же Шапошников, на которого Сталин тоже посчитал необходимым косвенно возложить ответственность, был под благовидным предлогом снят с поста начальника Генерального штаба и назначен заместителем наркома с задачей наблюдать за укреплением новых границ. Эта новая для него работа была мотивирована как крайне необходимая, государственно важная и требующая для своего осуществления именно такого специалиста, как он.
После этого встал вопрос о том, кому же быть начальником Генерального штаба. Сталин прямо тут же, на Совете, не разговаривая ни с кем предварительно, обратился к новому наркому Тимошенко и спросил:
— Кого вы рекомендуете в начальники Генерального штаба?
Тот замялся.
— Ну, с кем из старших штабов вы работали?
Обстоятельства сложились так, что как раз на финской войне Тимошенко из старших штабов работал с Мерецковым. Он сказал об этом.
— Так как, подходит вам Мерецков начальником Генерального штаба? Как он у вас работал?
Тимошенко сказал, что работал неплохо и что подходит.
Так состоялось назначение нового начальника Генерального штаба.
Мерецков пробыл, правда, в этой должности недолго. В феврале 1941 года, когда состоялась большая штабная игра и ему пришлось как начальнику Генерального штаба делать доклад, он провалился с этим докладом совершенно ясно для всех, а Жуков; командовавший к этому времени Киевским особым военным округом, как раз на этих играх показал себя с наилучшей стороны и был тогда же назначен начальником Генерального штаба. На этой должности он пробыл до 28 июля 1941 года, когда сам попросил освободить его от этих обязанностей и направить на один из фронтов. Сталин удовлетворил тогда его просьбу и назначил вместо него Шапошникова, а Шапошников вошёл с соответствующим представлением, и я был тогда же назначен его заместителем и начальником оперативного управления.
В должность начальника Генерального штаба я фактически вступил 15 октября 1941 года. Шапошников в то время приболел и выехал в Арзамас вместе почти со всем Генеральным штабом. Сталин вызвал меня к себе и приказал мне возглавить группу Генерального штаба в Москве при нём, оставив для этой работы восемь офицеров Генерального штаба. Я стал возражать, что такое количество офицеров — восемь человек — не может обеспечить необходимый масштаб работы, что с таким количеством людей работать нельзя, что нужно гораздо больше людей. Но Сталин стоял на своём и, несмотря на мои повторные возражения, повторил, чтобы я оставил себе восемь офицеров Генерального штаба и я сам — девятый.
Только уже позднее я понял его упорство в тот день. Оказывается, на аэродроме уже стояли в полной готовности самолёты на случай эвакуации Ставки и правительства из Москвы, и на этих самолётах были расписаны все места, по этому расписанию на всю группу Генерального штаба было оставлено девять мест — для меня и моих восьми офицеров. Об этом мне потом рассказал Поскребышев. Вообще говоря, то, что самолёты стояли в готовности, было абсолютно правильным мероприятием в той обстановке, когда прорвавшимся немецким танкам нужно было всего несколько часов ходу для того, чтобы быть в центре Москвы.
Надо сказать, что в начале войны Генеральный штаб был растащен и, собственно говоря, его работу нельзя было назвать нормальной. Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин был отправлен на фронт, Шарохин тоже, начальник оперативного управления Маландин тоже. Все те, кто составлял головку Генерального штаба, были отправлены на разные фронты и в армии, что, конечно, не способствовало нормальной работе Генерального штаба. Сталин в начале войны разогнал Генеральный штаб. Ватутин, Соколовский, Шарохин, Маландин — все были отправлены на фронт». (Беседы с маршалом Советского Союза А. М. Василевским. 1967 год. // Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М.: «Книга», 1990. С. 390-394.)
https://imwerden.de/pdf/sim...
То есть, оказавшись на краю гибели из-за несостоятельности советских командиров и собственной, Сталин прибег к помощи бывших царских офицеров: кадрового, Генерального штаба Шапошникова и военного времени Василевского. При этом последний по части службы Генерального штаба был учеником Шапошникова. (Возможно, они сблизились и потому, что оба заканчивали Алексеевское военное училище в Москве.)
«Добавлю, что, занимаясь разработкой военной теории, он неустанно стремился довести до широких кругов командного состава последние достижения военной науки. Будучи начальником Генштаба, он регулярно выступал с докладами на курсах усовершенствования командного состава, при разборах войсковых маневров, учений и всюду на конкретных примерах умело наставлял высший командный состав в теории штабной службы, прививал культуру руководства. В его итоговых разборах военных игр, полевых поездках, войсковых учениях и маневрах всегда и всеми чувствовалась меткость его наблюдений. Он детально разбирал действия «воюющих сторон», четко формулировал выводы, которые следовало сделать для дальнейшего повышения боеготовности войск, оперативной подготовки командного состава и штабов.
/.../
Работа с Б.М. Шапошниковым была постоянной и неоценимой школой. И я, признаться, всегда испытывал чувство гордости, когда И.В. Сталин, рассматривая тот или иной вопрос, говорил обо мне:
— А ну, послушаем, что скажет нам шапошниковская школа!
Борису Михайловичу я обязан и тем вниманием к моей персоне, которое иногда уделял лично мне Сталин». (Василеский А.М. Дело всей жизни. 4-е изд. М.: Политиздат, 1983. Гл. «Последние мирные месяцы». С. 92-93, 94.)
Из воспоминаний Василевского явствует, что советская военная школа была совершенно неудовлетворительной. Высший командный состав не только имел столь низкий уровень, что ему требовалось даже «прививать культуру руководства». (Каковы же были тогда средний и низший?!) Но и делать это приходилось лично (!) начальнику Генерального штаба. Из этого также следует, что «последние достижения военной науки», которые пытался доводить до подчинённых Шапошников, были не советскими. Иначе окончившие советские военные академии «красные» командиры были бы с ними знакомы.
Могут возразить, что Василевский хотел похвалить Шапошникова, и от этого складывается такое впечатление. На самом деле, в воспоминаниях Василевского положение изложено ещё мягко. 22 февраля 1935 г.: «В частности, должен получить самое широкое применение способ управления путём «наведения» авиацией. В быстротечном бою не хватает времени на формулировку распоряжений, передачу радиограмм, на принятие и изучение этих распоряжений. Гораздо проще условными знаками с самолёта показать новое направление наступления, где-либо создающуюся угрозу со стороны противника и проч.». (Боевое искусство. // Тухачевский М.Н. Избранные произведения. Т. 2. 1928-1937 гг. М.: Воениздат, 1964. С. 231.) Из-за неспособности «красных» командиров быстро соображать и правильно говорить, Тухачевский предлагает изъясняться знаками.
Естественно, в таких обстоятельствах руководствоваться советскими военной наукой и службой Генерального штаба было невозможно. Не от того, что они были плохи, а потому что их не было. Поэтому в 1930-е в СССР издавались переводы немецких военных трудов от Клаузевица до современных. Например, сочинение на 386 страницах «одного из теоретиков германского фашизма» генерал-лейтенанта Фридриха фон Кохенгаузена: Кохенгаузен. Вождение войск. Тактический справочник для командира общевойскового соединения и его помощников. / Перевод А. Таубе с 12-го немецкого заново переработанного издания 1936 г. М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1937.
Понятно, что если Шапошников сильно отличался от остальных советских военачальников, то должен был иметь и иную основу военного дела. Приказом по военному ведомству от 26 ноября 1912 г. штабс-капитан (с 6 декабря капитан) Шапошников был назначен старшим адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии (г. Ченстохов). Уже будучи маршалом, описывая своё знакомство 30 декабря 1912 г. со штабом Варшавского военного округа и его Отчётным отделением, с явным, хотя и не высказанным прямо, почтением Шапошников в частности вспоминал об одном, знаменитом впоследствии, русском офицере Генерального штаба: «Здесь же, в отделении, я познакомился с капитаном Дроздовским, помощником Лукирского. Энергичное лицо, сжатые губы и холодный взгляд голубых глаз — вот облик этого капитана, впоследствии одного из руководителей контрреволюции.
Такова была верхушка штаба Варшавского военного округа, считавшегося передовым в русской армии». (Шапошников Б.М. Воспоминания. Изд. 2-е, доп. М.: Воениздат, 1982. Глава «Штаб 14-й кавалерийской дивизии». С. 203.)
Содержание воспоминаний Шапошникова вообще не советское по отношению к Российской Империи и Царской Армии. Поэтому неудивительно, что: 1) «В последние годы жизни, будучи уже больным, Б. М. Шапошников начал писать мемуары, однако завершить их ему не удалось. Оставленная им рукопись (одиннадцать тетрадей) имеет общее название «Пройденный путь». ...Незадолго до кончины автор сделал на первой тетради надпись: «Публикуется через 20 лет после моей смерти». Рукопись представлена для опубликования Военному издательству Министерства обороны СССР семьёй Б. М. Шапошникова». (Там же. С. 32.)
2) Умер Шапошников 26 марта 1945 г., а 1-е издание его воспоминаний последовало только в 1974 г., и не обошлось без пропагандистской правки. Когда автор в высшей степени уважительно и с любовью отозвался как о человеке и военном начальнике о генерале от кавалерии Александре Васильевиче Самсонове в бытность того Туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками Туркестанского военного округа, а затем командующим 2-й армией в 1914 г., советский редактор уже не выдержал и вмешался: «Автор характеризует Самсонова только на основании личных впечатлений от встреч с ним по службе в Туркестанском военном округе, не затрагивая другой стороны деятельности Самсонова — генерал-губернаторской». (Там же. Конец главы «Сдача роты и перевод в Генеральный штаб». С. 190-191.) Совершенно неумелая попытка искажения действительности со стороны советского редактора, потому что над этим подстрочным примечанием Шапошников рассматривал действия Самсонова в 1914 г. в Восточной Пруссии с точки зрения военной истории, так как сам в них не участвовал.
Однако как только опасность миновала, и положение советской власти стало безопасным, она снова взялась за своё. Даже советская академия Генерального штаба после войны была имени Ворошилова. Хотя Ворошилов не только не имел никакого отношения к службе Генерального штаба, но самой же советской властью во время 2-й Мировой войны был признан (вместе с Будённым) совершенно негодным военачальником, будучи наконец назначен 5 апреля 1943 г. председателем Трофейного комитета.
«В сознании засела Первая Конная.
Я много слышал о ней из рассказов друзей и врагов, от очевидцев, от тех, что слышали о ней из первых рук, и просто от болтунов. Из всего слышанного цельного впечатления не получалось. ...
/.../
За частями тянутся тысячи повозок. За каждой повозкой десяток лошадей. В повозках — трофеи и жёны...
… Во главе армии какие-то «самородки»: вахмистр Будённый, слесарь Ворошилов». (Ракитин Н.В. Записки конармейца. М.: «Федерация», 1931. Глава «Немцы Поволжья». С. 55-56.)
Почему две главные советские военные академии носили имена партийных деятелей Фрунзе и Ворошилова? Ведь тот же Шапошников возглавлял и Генеральный штаб, и его академию. Теперь все уже забыли, что в СССР главными праздниками были 7 ноября и 1 мая, а 9 мая являлось второстепенным праздничным днём, на который, в отличие от 7 ноября, военный парад не полагался. На первом месте стояла Гражданская война, в которой одни большевики, яко бы, победили одновременно и немцев, и всю Антанту, и Белых. «Великая Отечественная война» в советской пропаганде являлась лишь нижестоящим продолжением этого. И «Великой» она названа для принижения Отечественной войны 1812 года, потому что сравнение оказывалось совсем не в пользу советской власти. А основой существования СССР было пропагандистское утверждение, что Царская Россия являлась по природе неисправимо отсталой, и только советская власть была великой. Поэтому и вынужденное обращение Сталина к помощи царской школы Генерального штаба для спасения СССР никак не должно было быть отмечено.
Антон Павлов,
29-06-2022 20:20
(ссылка)
Зайцовъ А.А. Руководство для унтеръ-офицеровъ. Paris. 1931.
Ч. I. [Пѣхота.] https://archive.org/details...
Ч. II. Кавалерiя. https://archive.org/details...
Ч. III. Артиллерiя. https://archive.org/details...
Ч. II. Кавалерiя. https://archive.org/details...
Ч. III. Артиллерiя. https://archive.org/details...
Антон Павлов,
28-06-2022 21:36
(ссылка)
О боях за селения.
https://t.me/aleksandr_skif...
Бой за населенные пункты входитъ составной частью почти въ каждый наступательный или оборонительный бой. Подъ населенными пунктами мы преимущественно будемъ здѣсь понимать отдѣльныя селенiя и мѣстечки, такъ какъ крупные населенные пункты (большiе города), въ силу ихъ сравнительной малочисленности въ условiяхъ возможныхъ театровъ военыхъ дѣйствiй русской армiи, являются скорѣе исключенiемъ. Кромѣ того, бои за крупные населенные центры, обычно, развиваются лишь въ перiоды гражданскихъ войнъ и революцiй, въ условiяхъ же маневренной войны двухъ регулярныхъ армiй они рѣдко становятся очагами военныхъ дѣйствiй, требуя для ихъ атаки и обороны коренного измѣненiя прiемовъ веденiя боя.
Понятiе селенiя, однако, весьма широко, и типъ населеннаго пункта западной и центральной Европы сушественно разнится отъ типа селенiя въ раiонахъ Европы восточной и, особенно, Россiи. Наиболѣе существеннымъ отличiемъ является примѣняемый для построекъ строительный матерiалъ. Каменныя постройки селенiй западной Европы и глинобитныя и, главнымъ образомъ, деревянныя постройки на западной границѣ Россiи — конечно, существенно влiяютъ на тактическiя свойства населенныхъ пунктовъ. Кромѣ того, типичнымъ для условiй Восточной Европы является гораздо большая скученность отдѣльныхъ строенiй и отсутствiе прочныхъ, раздѣляющихъ отдѣлъные дворы, заборовъ и стѣнъ.
Благодаря этому, тактически, селенiя западно-европейскаго типа и русское село или деревня, конечно, являются величинами существенно отличными другъ отъ друга. Однако, и въ населенныхъ пунктахъ съ деревянными постройками почти всегда имѣются отдѣльныя каменныя строенiя (“господскiе дворы”, заводы, церкви, иногда школы). Наконецъ, и мелкiе городки западной части Россiи и Польши (такъ называемыя “мѣстечки”) обычно, состоятъ преимущественно изъ каменныхъ построекъ въ центрѣ и деревянныхъ строенiй по окраинамъ.
Населенный пунктъ, характеризующiйся скученными деревянными постройками, конечно, не представляетъ ни особенныхъ затрудненiй для его атаки, ни выгодъ для его обороны, благодаря легкости его уничтоженiя сосредоточеннымъ огнемъ артиллерiи. Совершенно инымъ является, однако, значенiе населеннаго пункта съ преимущественно каменными постройками. Такого рода населенный пунктъ, оказывая значительное сопротивленiе машинному пѣхотному огню и нѣкоторое противодѣйствiе и огню артиллерiи, конечно, представляетъ значительныя выгоды для его обороны и создаетъ значительныя же затрудненiя для его атаки.
Наряду съ этимъ всякiй населенный пунктъ (и при этомъ особенно при неправильномъ его начертанiи въ планѣ) даетъ занимающей его сторонѣ выгоды укрытiя и стѣсняетъ въ своихъ предѣлахъ свободу маневрированiя. При этомъ послѣднее особенно рѣзко выражается для стороны атакующей. Но и помимо этихъ чисто тактическихъ свойствъ населенныхъ пунктовъ, ихъ характерной особенностью является ихъ притягательная сила для войскъ. Причины этого, безусловно подтверждаемаго боевымъ опытомъ, явленiя кроются, конечно, въ области какъ психологической, такъ и въ чисто, если можно такъ выразиться, бытовой. Дѣйствительно, войска “тянетъ” подъ огнемъ къ укрытiю, причемъ психологически совершенно второстепеннымъ является вопросъ о степени дѣйствительности и надежности самого укрытiя. Всякiй же населенный пунктъ даетъ если не дѣйствительное, то, по крайней мѣрѣ, кажущееся укрытiе отъ наблюденiя и огня... Не менѣе существеннымъ является и наличiе въ каждомъ селенiи строительнаго матерiала для фортификацiонныхъ построекъ, даваемое имъ укрытiе отъ непогоды и стужи и, наконецъ, наличiе въ немъ продовольственныхъ запасовъ и питьевой воды. Всѣ эти свойства населенныхъ пунктовъ не могутъ поэтому не учитываться наряду съ чисто тактическими ихъ выгодами и недостатками.
Разсмотримъ теперь, въ какой же мѣрѣ использованiе этихъ свойствъ населенныхъ пунктовъ влiяетъ на измѣненiе, при боѣ за нихъ, прiемовъ атаки и обороны.
Атака населенныхъ пунктовъ съ деревянными постройками, и особенно съ соломенными крышами, не представляетъ никакихъ затрудненiй и даже иногда, при наличiи достаточнаго количества артиллерiи, ее облегчаетъ. Этотъ послѣднiй случай имѣетъ мѣсто при возможности сосредоточеннымъ огнемъ артиллерiи его поджечь и тѣмъ сдѣлать пребыванiе въ немъ обороняющагося невозможнымъ изъ-за огня и дыма. Рѣшенiе этой задачи не требуетъ даже особо благопрiятныхъ для этого условiй артиллерiйскаго наблюденiя, ибо наиболѣе простымъ случаемъ артиллерiйской стрѣльбы по картѣ, именно, и является обстрѣлъ населенныхъ пунктовъ.
Атака селенiй съ глинобитными и, особенно, каменными (кирпичными) постройками гораздо сложнѣе и, въ случаяхъ обширныхъ, разбросанныхъ на значительной площади населенныхъ пунктовъ, представляетъ для атаки весьма значительныя затрудненiя. Дѣйствительно, въ этомъ случаѣ (особенно при каменныхъ постройкахъ съ черепичными или металлическими крышами) ообороняющiйся получаетъ въ селенiи готовыя укрытiя оть машиннаго пѣхотнаго огня и оть осколочнаго дѣйствiя артиллерiйскихъ снарядовъ. Если же строенiя снабжены и сводчатыми подвалами, что является почти правиломъ въ селенiяхъ западной Европы, то этимъ обороняющiйся получаетъ готовыя закрытiя и отъ огня не только легкой, но и тяжелой артиллерiи. Наличiе каменныхъ и проволочныхъ изгородей и огражденiй крайне стѣсняетъ продвиженiе атаки и вынуждаетъ ее къ движенiю по улицамъ, то есть “канализируетъ” атаку въ заранѣе извѣстныхъ оборонѣ направленiяхъ. Наконецъ, на сторонѣ же обороняюшагося и всѣ выгоды укрытiя отъ наземнаго и, особенно, воздушнаго наблюденiя.
Всѣ эти данныя приводятъ къ тому, что въ условiяхъ маневренной войны наступающiй стремится избегать атаки такихъ населенныхъ пунктовъ. а въ случаѣ невозможности этого избѣжать, все же главное усилiе стремится направить на сосѣднiе съ населеннымъ пунктомъ участки. Иначе говоря, атакующiй будетъ во всякомъ случаѣ стремиться брать ихъ не въ лобъ, а охватомъ одного или обоихъ фланговъ селенiя. Этотъ прiемъ лишь сковыванiя противника (особенно огнемъ артиллерiи) на фронтѣ населеннаго пункта и атаки его охватомъ или обходомъ для каменныхъ селенiй сейчасъ можно считать правиломъ.
Конечно, могутъ представиться случаи, когда по обстановкѣ все же придется брать, хотя бы и естественно сильные, населенные пункты и лобовой атакой. Въ этомъ случаѣ бой за населенные пункты представляетъ собой нѣкоторое сходство съ условiями боя въ лѣсу. Сходство въ томъ, что какъ и въ лѣсномъ бою, такъ и здѣсь, бой децентрализуется и распадается на рядъ мало связанныхъ между собою боевъ отдѣльныхъ низшихъ пѣхотныхъ соединенiй. Для облегченiя работы пѣхоты, такъ же, какъ и въ лѣсу, могущей расчитывать лишь на ограниченную поддержку дивизiонной артиллерiи, необходима передача всего тяжелаго вооруженiя ея (особенно минометовъ и полковыхъ орудiй) въ низшiя ея подраздѣленiя, то есть, въ роты, а иногда даже и во взводы. Чрезвычайно полезнымъ является придача ей и огнеметовъ*). *) Переносный (ранцевый) огнеметь даетъ возможность броска огневой струи (очень большой зажигательной способности) на разстоянiе до 35 метровъ.
Бой, какъ и въ лѣсу, преимущественно носитъ характеръ боя на самыхъ близкихъ дистанцiяхъ, то есть, основывается не столько на машинномъ огнѣ, сколько на дѣйствiи преимущественно ручной гранатой, штыкомъ и огнеметомъ, послѣ предварительнаго обстрѣла на короткѣ изъ пулеметовъ (особенно по окнамъ домовъ и по промежуткамъ между строенiями), и изъ минометовъ и полковыхъ орудiй по каменнымъ постройкамъ и огражденiямъ. Наиболѣе труднымъ является продвиженiе по улицамъ, такъ какъ, конечно, онѣ будутъ подъ дѣйствительнымъ огнемъ обороны. Поэтому, какъ правило, продвиженiе должно идти не по улицамъ, а по дворамъ. Для дѣйствiй по улицамъ наиболѣе пригодны танки, но и для нихъ подготовленное для обороны селенiе представляетъ тѣ же затрудненiя въ смыслѣ того, что ихъ возможные маршруты уже извѣстны оборонѣ, и, конечно, ею могутъ быть приняты соотвѣтствующiя мѣры противодѣйствiя.
Тѣ затрудненiя по управленiю, связи и согласованiю дѣйствiй какъ пехоты и артиллерiи, такъ и отдѣльныхъ подраздѣленiй пѣхоты между собою, которыя неизбѣжны въ бою внутри населеннаго пункта, конечно, требуютъ непремѣнно скорѣйшаго прохожденiя селенiй и занятiя противололожныхъ окраинъ для приведенiя частей въ порядокъ и установленiя надежной связи со своей артиллерiей для выхода изъ населеннаго пункта. Это стремленiе къ скорѣйшему прохожденiю населеннаго пункта ни въ коемъ случаѣ не должно задерживаться частичнымъ удержанiемъ въ рукахъ обороны отдѣльныхъ кварталовъ или группъ строенiй (“редюитовъ” обороны). Задача по овладѣнiю этими послѣдними падаетъ на слѣдующiе за передовыми частями резервы и до нѣкоторой степени напоминаетъ “чистку” окоповъ при атакѣ въ условiяхъ позицiонной борьбы.
Наконецъ, неизбѣжная дезорганизованность всякаго боя внутри населеннаго пункта придаеть ему до полнаго прохожденiя его наступающимъ чрезвычайную неустойчивость. Опытъ новѣйшей военной исторiи насъ учитъ, что веденная хотя бы и ничтожными силами, но энергичная и смѣлая контръ-атака можетъ быстро свести на нѣтъ успѣхъ, хотя бы и болѣе крупныхъ, но не имѣющихъ возможности развернуться силъ наступающаго.
Уже изъ разбора техъ затрудненiй, съ которыми связана атака состоящаго изъ каменныхъ построекъ населеннаго пункта, мы видѣли тѣ выгоды, которыя даютъ подобные населенные пункты о б о р о н я ю щ е м у с я. Главной невыгодой ихъ занятiя является, пожалуй, то усиленiе дѣйствiя отравляющихъ веществъ, которое такъ же типично для обычно располагаемыхъ въ низинахъ селенiй, какъ мы это видѣли уже на примѣрѣ лѣса. Помимо низины, еще большую при этомъ роль играютъ, конечно, и задерживающiя разсѣянiе газовъ постройки, огражденiя и насажденiя, обычныя въ каждомъ населенномъ пунктѣ. Какъ и при оборонѣ лѣса, главная линiя обороны либо выносится в п е р е д ъ отъ окраины селенiя, либо проводится в н у т р и самого населеннаго пункта. Невыгодны занятiя самой, обращенной къ противнику, окраины тѣ же, что мы видѣли, разбирая невыгоды проведенiя главной линiи обороны по опушкѣ лѣса. Оборонительныя свойства каменнаго населеннаго пункта, благодаря даваемому имъ укрытiю отъ наблюденiя и о г н я, конечно, должны быть использованы обороняющимся. Это приводитъ къ значительной экономiи силь путемъ болѣе слабаго ихъ занятiя и усиленiя пѣхотой примыкающихъ къ населенному пункту фланговыхъ участковъ. Искусное использованiе заборовъ, изгородей и насажденiй позволяетъ съ малыми усилiями организацiю серьезныхъ препятствiй. Стѣсненiе движенiя атакующаго внутри населеннаго пункта усиливается заблаговременной надежной организацiей фланговаго пулеметнаго обстрѣла улицъ, проулковъ, сквозныхъ дворовъ и площадей. Баррикады и, особенно, маскированныя достаточной глубины и ширины, канавы стѣсняютъ и могутъ даже совсѣмъ исключить возможность примѣненiя атакующимъ танковъ. Наконецъ, стремленiе использовать неизбѣжную въ бою внутри населеннаго пункта дезорганизацiю атакующаго особенно подчеркиваеть выгоду внезапныхъ частныхъ контръ-атакъ на заранѣе подготовленной и хорошо изученной обороной мѣстности. Для успѣха этихъ контръ-атакъ какъ внутри самого населеннаго пункта, такъ и сейчасъ же послѣ захвата его атакующимъ извнѣ, всегда выгодно прочное удержанiе за собой хотя бы небольшой части населеннаго пункта. Этотъ кварталъ, — отдѣлъныя большiя каменныя постройки или группы связанныхъ между собою строенiй, составляетъ то ядро обороны или “р е д ю и т ъ”, на которое и опирается контръ-атака. Въ случаѣ контръ-атаки внутри самаго селенiя это будегъ заранѣе подготовленнымъ ея исходнымъ пунктомъ. Въ случаѣ контръ-атаки извнѣ этотъ редюитъ чрезвычайно усиливаетъ шансы на ея успѣхъ, являясь какъ бы “занозой” въ тѣлѣ только что овладѣвшей селенiемъ атаки и значительно этимъ затрудняя противодѣйствiе дезорганизованнаго въ эту минуту атакующаго контръ-атакѣ обороны. Выборъ редюита обуславливается возможностью удержанiя его въ теченiе всего боя за населенный пунктъ. Поэтому рѣзко выдѣляющiяся, хотя бы и наиболѣе прочныя въ смыслѣ даваемаго ими отъ огня закрытiя, постройки не могуть выполнить этой задачи, неизбѣжно навлекая на себя огонь артиллерiи атаки. Гораздо болѣе выгоднымъ поэтому сейчасъ является выборъ подобнаго редюита, главнымъ образомъ, учитывая его “утопленность” въ общей массѣ построекъ, то есть, не столько исходя изъ соображенiй даваемаго имъ укрытiя отъ огня артиллерiи противника, сколько изъ соображенiй маскировки. Такимъ образомъ. при выборѣ редюита необходимо стремиться, главнымъ образомъ, къ обезпеченiю элемента внезапности съ тѣмъ, чтобы его сопротивленiе не могло быть заранѣе учтено противникомъ и являлось бы для него неожиданностью. Нѣсколько удачно и укрыто расположенныхъ пулеметовъ съ самымъ незначительнымъ пѣхотнымъ прикрытiемъ часто гораздо удачнѣе смогутъ выполнить эту задачу, чѣмъ занятiе опредѣленнымъ гарнизономъ ряда обезпечивающихъ владѣнiе селенiемъ крупныхъ построекъ. И въ смыслѣ расположенiя этого редюита задача лучше рѣшается, избѣгая невольно притягивающихъ вниманiе атаки центральныхъ площадей, общественныхъ зданiй и т. д.
Оборона селенiй съ преимущественно или исключительно деревянными постройками, какъ мы уже это видѣли, разбирая атаку селенiй, даетъ оборонѣ мало выгодъ. Укрытiя, даваемыя подобными постройками, имѣютъ цѣну лишь при условiи отсутствiя у атакующаго достаточнаго количества артиллерiи. При ея наличiи, легко опредѣляемый контуръ селенiя, въ связи съ возможностью для атакующаго его поджечь, сводить совершенно на нѣтъ выгоды даваемаго имъ укрытiя. Поэтому ценность деревянныхъ селенiй для обороны весьма условна, представляя нѣкоторыя выгоды лишь въ случаѣ недостатка у атакующаго артиллерiи». (Зайцовъ А.А. Учебникъ тактики. Парижъ. 1931. Стр. 301-306.)
https://archive.org/details...
«ГЛАВА 14. — БОЙ ЗА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ.
Бой за населенные пункты входитъ составной частью почти въ каждый наступательный или оборонительный бой. Подъ населенными пунктами мы преимущественно будемъ здѣсь понимать отдѣльныя селенiя и мѣстечки, такъ какъ крупные населенные пункты (большiе города), въ силу ихъ сравнительной малочисленности въ условiяхъ возможныхъ театровъ военыхъ дѣйствiй русской армiи, являются скорѣе исключенiемъ. Кромѣ того, бои за крупные населенные центры, обычно, развиваются лишь въ перiоды гражданскихъ войнъ и революцiй, въ условiяхъ же маневренной войны двухъ регулярныхъ армiй они рѣдко становятся очагами военныхъ дѣйствiй, требуя для ихъ атаки и обороны коренного измѣненiя прiемовъ веденiя боя.
Понятiе селенiя, однако, весьма широко, и типъ населеннаго пункта западной и центральной Европы сушественно разнится отъ типа селенiя въ раiонахъ Европы восточной и, особенно, Россiи. Наиболѣе существеннымъ отличiемъ является примѣняемый для построекъ строительный матерiалъ. Каменныя постройки селенiй западной Европы и глинобитныя и, главнымъ образомъ, деревянныя постройки на западной границѣ Россiи — конечно, существенно влiяютъ на тактическiя свойства населенныхъ пунктовъ. Кромѣ того, типичнымъ для условiй Восточной Европы является гораздо большая скученность отдѣльныхъ строенiй и отсутствiе прочныхъ, раздѣляющихъ отдѣлъные дворы, заборовъ и стѣнъ.
Благодаря этому, тактически, селенiя западно-европейскаго типа и русское село или деревня, конечно, являются величинами существенно отличными другъ отъ друга. Однако, и въ населенныхъ пунктахъ съ деревянными постройками почти всегда имѣются отдѣльныя каменныя строенiя (“господскiе дворы”, заводы, церкви, иногда школы). Наконецъ, и мелкiе городки западной части Россiи и Польши (такъ называемыя “мѣстечки”) обычно, состоятъ преимущественно изъ каменныхъ построекъ въ центрѣ и деревянныхъ строенiй по окраинамъ.
Населенный пунктъ, характеризующiйся скученными деревянными постройками, конечно, не представляетъ ни особенныхъ затрудненiй для его атаки, ни выгодъ для его обороны, благодаря легкости его уничтоженiя сосредоточеннымъ огнемъ артиллерiи. Совершенно инымъ является, однако, значенiе населеннаго пункта съ преимущественно каменными постройками. Такого рода населенный пунктъ, оказывая значительное сопротивленiе машинному пѣхотному огню и нѣкоторое противодѣйствiе и огню артиллерiи, конечно, представляетъ значительныя выгоды для его обороны и создаетъ значительныя же затрудненiя для его атаки.
Наряду съ этимъ всякiй населенный пунктъ (и при этомъ особенно при неправильномъ его начертанiи въ планѣ) даетъ занимающей его сторонѣ выгоды укрытiя и стѣсняетъ въ своихъ предѣлахъ свободу маневрированiя. При этомъ послѣднее особенно рѣзко выражается для стороны атакующей. Но и помимо этихъ чисто тактическихъ свойствъ населенныхъ пунктовъ, ихъ характерной особенностью является ихъ притягательная сила для войскъ. Причины этого, безусловно подтверждаемаго боевымъ опытомъ, явленiя кроются, конечно, въ области какъ психологической, такъ и въ чисто, если можно такъ выразиться, бытовой. Дѣйствительно, войска “тянетъ” подъ огнемъ къ укрытiю, причемъ психологически совершенно второстепеннымъ является вопросъ о степени дѣйствительности и надежности самого укрытiя. Всякiй же населенный пунктъ даетъ если не дѣйствительное, то, по крайней мѣрѣ, кажущееся укрытiе отъ наблюденiя и огня... Не менѣе существеннымъ является и наличiе въ каждомъ селенiи строительнаго матерiала для фортификацiонныхъ построекъ, даваемое имъ укрытiе отъ непогоды и стужи и, наконецъ, наличiе въ немъ продовольственныхъ запасовъ и питьевой воды. Всѣ эти свойства населенныхъ пунктовъ не могутъ поэтому не учитываться наряду съ чисто тактическими ихъ выгодами и недостатками.
Разсмотримъ теперь, въ какой же мѣрѣ использованiе этихъ свойствъ населенныхъ пунктовъ влiяетъ на измѣненiе, при боѣ за нихъ, прiемовъ атаки и обороны.
Атака населенныхъ пунктовъ съ деревянными постройками, и особенно съ соломенными крышами, не представляетъ никакихъ затрудненiй и даже иногда, при наличiи достаточнаго количества артиллерiи, ее облегчаетъ. Этотъ послѣднiй случай имѣетъ мѣсто при возможности сосредоточеннымъ огнемъ артиллерiи его поджечь и тѣмъ сдѣлать пребыванiе въ немъ обороняющагося невозможнымъ изъ-за огня и дыма. Рѣшенiе этой задачи не требуетъ даже особо благопрiятныхъ для этого условiй артиллерiйскаго наблюденiя, ибо наиболѣе простымъ случаемъ артиллерiйской стрѣльбы по картѣ, именно, и является обстрѣлъ населенныхъ пунктовъ.
Атака селенiй съ глинобитными и, особенно, каменными (кирпичными) постройками гораздо сложнѣе и, въ случаяхъ обширныхъ, разбросанныхъ на значительной площади населенныхъ пунктовъ, представляетъ для атаки весьма значительныя затрудненiя. Дѣйствительно, въ этомъ случаѣ (особенно при каменныхъ постройкахъ съ черепичными или металлическими крышами) ообороняющiйся получаетъ въ селенiи готовыя укрытiя оть машиннаго пѣхотнаго огня и оть осколочнаго дѣйствiя артиллерiйскихъ снарядовъ. Если же строенiя снабжены и сводчатыми подвалами, что является почти правиломъ въ селенiяхъ западной Европы, то этимъ обороняющiйся получаетъ готовыя закрытiя и отъ огня не только легкой, но и тяжелой артиллерiи. Наличiе каменныхъ и проволочныхъ изгородей и огражденiй крайне стѣсняетъ продвиженiе атаки и вынуждаетъ ее къ движенiю по улицамъ, то есть “канализируетъ” атаку въ заранѣе извѣстныхъ оборонѣ направленiяхъ. Наконецъ, на сторонѣ же обороняюшагося и всѣ выгоды укрытiя отъ наземнаго и, особенно, воздушнаго наблюденiя.
Всѣ эти данныя приводятъ къ тому, что въ условiяхъ маневренной войны наступающiй стремится избегать атаки такихъ населенныхъ пунктовъ. а въ случаѣ невозможности этого избѣжать, все же главное усилiе стремится направить на сосѣднiе съ населеннымъ пунктомъ участки. Иначе говоря, атакующiй будетъ во всякомъ случаѣ стремиться брать ихъ не въ лобъ, а охватомъ одного или обоихъ фланговъ селенiя. Этотъ прiемъ лишь сковыванiя противника (особенно огнемъ артиллерiи) на фронтѣ населеннаго пункта и атаки его охватомъ или обходомъ для каменныхъ селенiй сейчасъ можно считать правиломъ.
Конечно, могутъ представиться случаи, когда по обстановкѣ все же придется брать, хотя бы и естественно сильные, населенные пункты и лобовой атакой. Въ этомъ случаѣ бой за населенные пункты представляетъ собой нѣкоторое сходство съ условiями боя въ лѣсу. Сходство въ томъ, что какъ и въ лѣсномъ бою, такъ и здѣсь, бой децентрализуется и распадается на рядъ мало связанныхъ между собою боевъ отдѣльныхъ низшихъ пѣхотныхъ соединенiй. Для облегченiя работы пѣхоты, такъ же, какъ и въ лѣсу, могущей расчитывать лишь на ограниченную поддержку дивизiонной артиллерiи, необходима передача всего тяжелаго вооруженiя ея (особенно минометовъ и полковыхъ орудiй) въ низшiя ея подраздѣленiя, то есть, въ роты, а иногда даже и во взводы. Чрезвычайно полезнымъ является придача ей и огнеметовъ*). *) Переносный (ранцевый) огнеметь даетъ возможность броска огневой струи (очень большой зажигательной способности) на разстоянiе до 35 метровъ.
Бой, какъ и въ лѣсу, преимущественно носитъ характеръ боя на самыхъ близкихъ дистанцiяхъ, то есть, основывается не столько на машинномъ огнѣ, сколько на дѣйствiи преимущественно ручной гранатой, штыкомъ и огнеметомъ, послѣ предварительнаго обстрѣла на короткѣ изъ пулеметовъ (особенно по окнамъ домовъ и по промежуткамъ между строенiями), и изъ минометовъ и полковыхъ орудiй по каменнымъ постройкамъ и огражденiямъ. Наиболѣе труднымъ является продвиженiе по улицамъ, такъ какъ, конечно, онѣ будутъ подъ дѣйствительнымъ огнемъ обороны. Поэтому, какъ правило, продвиженiе должно идти не по улицамъ, а по дворамъ. Для дѣйствiй по улицамъ наиболѣе пригодны танки, но и для нихъ подготовленное для обороны селенiе представляетъ тѣ же затрудненiя въ смыслѣ того, что ихъ возможные маршруты уже извѣстны оборонѣ, и, конечно, ею могутъ быть приняты соотвѣтствующiя мѣры противодѣйствiя.
Тѣ затрудненiя по управленiю, связи и согласованiю дѣйствiй какъ пехоты и артиллерiи, такъ и отдѣльныхъ подраздѣленiй пѣхоты между собою, которыя неизбѣжны въ бою внутри населеннаго пункта, конечно, требуютъ непремѣнно скорѣйшаго прохожденiя селенiй и занятiя противололожныхъ окраинъ для приведенiя частей въ порядокъ и установленiя надежной связи со своей артиллерiей для выхода изъ населеннаго пункта. Это стремленiе къ скорѣйшему прохожденiю населеннаго пункта ни въ коемъ случаѣ не должно задерживаться частичнымъ удержанiемъ въ рукахъ обороны отдѣльныхъ кварталовъ или группъ строенiй (“редюитовъ” обороны). Задача по овладѣнiю этими послѣдними падаетъ на слѣдующiе за передовыми частями резервы и до нѣкоторой степени напоминаетъ “чистку” окоповъ при атакѣ въ условiяхъ позицiонной борьбы.
Наконецъ, неизбѣжная дезорганизованность всякаго боя внутри населеннаго пункта придаеть ему до полнаго прохожденiя его наступающимъ чрезвычайную неустойчивость. Опытъ новѣйшей военной исторiи насъ учитъ, что веденная хотя бы и ничтожными силами, но энергичная и смѣлая контръ-атака можетъ быстро свести на нѣтъ успѣхъ, хотя бы и болѣе крупныхъ, но не имѣющихъ возможности развернуться силъ наступающаго.
Уже изъ разбора техъ затрудненiй, съ которыми связана атака состоящаго изъ каменныхъ построекъ населеннаго пункта, мы видѣли тѣ выгоды, которыя даютъ подобные населенные пункты о б о р о н я ю щ е м у с я. Главной невыгодой ихъ занятiя является, пожалуй, то усиленiе дѣйствiя отравляющихъ веществъ, которое такъ же типично для обычно располагаемыхъ въ низинахъ селенiй, какъ мы это видѣли уже на примѣрѣ лѣса. Помимо низины, еще большую при этомъ роль играютъ, конечно, и задерживающiя разсѣянiе газовъ постройки, огражденiя и насажденiя, обычныя въ каждомъ населенномъ пунктѣ. Какъ и при оборонѣ лѣса, главная линiя обороны либо выносится в п е р е д ъ отъ окраины селенiя, либо проводится в н у т р и самого населеннаго пункта. Невыгодны занятiя самой, обращенной къ противнику, окраины тѣ же, что мы видѣли, разбирая невыгоды проведенiя главной линiи обороны по опушкѣ лѣса. Оборонительныя свойства каменнаго населеннаго пункта, благодаря даваемому имъ укрытiю отъ наблюденiя и о г н я, конечно, должны быть использованы обороняющимся. Это приводитъ къ значительной экономiи силь путемъ болѣе слабаго ихъ занятiя и усиленiя пѣхотой примыкающихъ къ населенному пункту фланговыхъ участковъ. Искусное использованiе заборовъ, изгородей и насажденiй позволяетъ съ малыми усилiями организацiю серьезныхъ препятствiй. Стѣсненiе движенiя атакующаго внутри населеннаго пункта усиливается заблаговременной надежной организацiей фланговаго пулеметнаго обстрѣла улицъ, проулковъ, сквозныхъ дворовъ и площадей. Баррикады и, особенно, маскированныя достаточной глубины и ширины, канавы стѣсняютъ и могутъ даже совсѣмъ исключить возможность примѣненiя атакующимъ танковъ. Наконецъ, стремленiе использовать неизбѣжную въ бою внутри населеннаго пункта дезорганизацiю атакующаго особенно подчеркиваеть выгоду внезапныхъ частныхъ контръ-атакъ на заранѣе подготовленной и хорошо изученной обороной мѣстности. Для успѣха этихъ контръ-атакъ какъ внутри самого населеннаго пункта, такъ и сейчасъ же послѣ захвата его атакующимъ извнѣ, всегда выгодно прочное удержанiе за собой хотя бы небольшой части населеннаго пункта. Этотъ кварталъ, — отдѣлъныя большiя каменныя постройки или группы связанныхъ между собою строенiй, составляетъ то ядро обороны или “р е д ю и т ъ”, на которое и опирается контръ-атака. Въ случаѣ контръ-атаки внутри самаго селенiя это будегъ заранѣе подготовленнымъ ея исходнымъ пунктомъ. Въ случаѣ контръ-атаки извнѣ этотъ редюитъ чрезвычайно усиливаетъ шансы на ея успѣхъ, являясь какъ бы “занозой” въ тѣлѣ только что овладѣвшей селенiемъ атаки и значительно этимъ затрудняя противодѣйствiе дезорганизованнаго въ эту минуту атакующаго контръ-атакѣ обороны. Выборъ редюита обуславливается возможностью удержанiя его въ теченiе всего боя за населенный пунктъ. Поэтому рѣзко выдѣляющiяся, хотя бы и наиболѣе прочныя въ смыслѣ даваемаго ими отъ огня закрытiя, постройки не могуть выполнить этой задачи, неизбѣжно навлекая на себя огонь артиллерiи атаки. Гораздо болѣе выгоднымъ поэтому сейчасъ является выборъ подобнаго редюита, главнымъ образомъ, учитывая его “утопленность” въ общей массѣ построекъ, то есть, не столько исходя изъ соображенiй даваемаго имъ укрытiя отъ огня артиллерiи противника, сколько изъ соображенiй маскировки. Такимъ образомъ. при выборѣ редюита необходимо стремиться, главнымъ образомъ, къ обезпеченiю элемента внезапности съ тѣмъ, чтобы его сопротивленiе не могло быть заранѣе учтено противникомъ и являлось бы для него неожиданностью. Нѣсколько удачно и укрыто расположенныхъ пулеметовъ съ самымъ незначительнымъ пѣхотнымъ прикрытiемъ часто гораздо удачнѣе смогутъ выполнить эту задачу, чѣмъ занятiе опредѣленнымъ гарнизономъ ряда обезпечивающихъ владѣнiе селенiемъ крупныхъ построекъ. И въ смыслѣ расположенiя этого редюита задача лучше рѣшается, избѣгая невольно притягивающихъ вниманiе атаки центральныхъ площадей, общественныхъ зданiй и т. д.
Оборона селенiй съ преимущественно или исключительно деревянными постройками, какъ мы уже это видѣли, разбирая атаку селенiй, даетъ оборонѣ мало выгодъ. Укрытiя, даваемыя подобными постройками, имѣютъ цѣну лишь при условiи отсутствiя у атакующаго достаточнаго количества артиллерiи. При ея наличiи, легко опредѣляемый контуръ селенiя, въ связи съ возможностью для атакующаго его поджечь, сводить совершенно на нѣтъ выгоды даваемаго имъ укрытiя. Поэтому ценность деревянныхъ селенiй для обороны весьма условна, представляя нѣкоторыя выгоды лишь въ случаѣ недостатка у атакующаго артиллерiи». (Зайцовъ А.А. Учебникъ тактики. Парижъ. 1931. Стр. 301-306.)
https://archive.org/details...
Антон Павлов,
27-06-2022 00:04
(ссылка)
О соответствующих исторически воззваниях.
https://t.me/aleksandr_skif...
«Тот, кто придумал такой замечательный плакат, должен привезти своих детей на пмж в Донецк и сам перебраться сюда».
Автор плаката «Родина-мать зовет!» Тоидзе Ираклий Моисеевич на передовую не перебирался.
https://t.me/aleksandr_skif...
«Но я больше сторонник таких плакатов - в них лучше отражается момент».
Разве не в этом 1919 года?

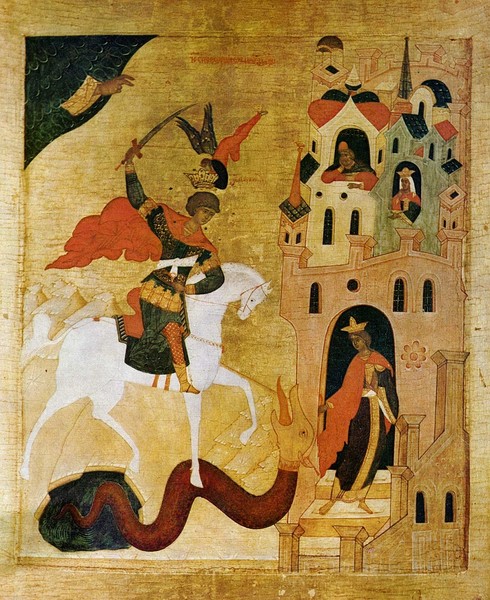
Св. великомученик Георгий Победоносец. Москва. Начало XV в. (Москва, Дом-музей П. Д. Корина).
Или борьба совершается за образование обособленной Украины — государства-основателя ООН?
В сознании современного человека война идёт на «Украине». Но в действительности боевые действия ведутся сейчас на великороссийских и новороссийских землях. Малороссийские начнутся только с Полтавы.
Для современных добровольцев хорошо подойдёт и следующий плакат 1919 г.

«Тот, кто придумал такой замечательный плакат, должен привезти своих детей на пмж в Донецк и сам перебраться сюда».
Автор плаката «Родина-мать зовет!» Тоидзе Ираклий Моисеевич на передовую не перебирался.
https://t.me/aleksandr_skif...
«Но я больше сторонник таких плакатов - в них лучше отражается момент».
Разве не в этом 1919 года?

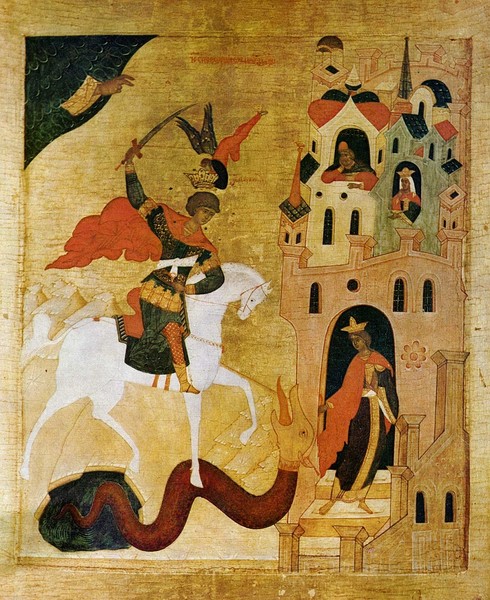
Св. великомученик Георгий Победоносец. Москва. Начало XV в. (Москва, Дом-музей П. Д. Корина).
Или борьба совершается за образование обособленной Украины — государства-основателя ООН?
В сознании современного человека война идёт на «Украине». Но в действительности боевые действия ведутся сейчас на великороссийских и новороссийских землях. Малороссийские начнутся только с Полтавы.
Для современных добровольцев хорошо подойдёт и следующий плакат 1919 г.

Антон Павлов,
26-06-2022 01:33
(ссылка)
Харьковские рабочие и донецкие шахтёры 1919 года.
Поддержка рабочими Белых не была редкостью. Например: «... в ночь с 10 на 11 октября я очистил Воронеж и перешёл за Дон».
«Во время моего пребывания в Воронеже состоялся ряд митингов, на которых рабочие высказывались за необходимость активно помогать мне. В последний момент, когда Воронеж уже обстреливался красной артиллерией, прямо на митинге, на котором выступил мой офицер, есаул Соколов, явился ко мне отряд рабочих-железнодорожников в составе около 600 человек. Я вышел и обратился к рабочим с горячей благодарностью. В это время прилетевший откуда-то снаряд с треском разорвался в воздухе. Перепуганные и непривыкшие к таким вещам рабочие шарахнулись в разные стороны; некоторые со страху попадали на землю. Стоявший близ меня рабочий был ранен и упал, обливаясь кровью.
– Поздравляю вас с боевым крещением! – крикнул я, ободряя рабочих.
Они оправились и, не заходя даже домой, с песнями двинулись из города. Эти рабочие были влиты в 1-й стрелковый батальон под командой полковника Рутсона, позже, по просьбе людей, переименованный в Волчий ударный батальон. Рабочие сделались хорошими солдатами и далеко превосходили своей доблестью многих казаков в боях». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Глава 24. С. 239, 240.)
«Я считал, что рабочий класс в целом против нас (это в особенности чувствовалось в Донецком бассейне весной 1919 года, где нередко шахтёры шесть дней работали, а по воскресеньям брали винтовки и дрались против Добрармии). Было, впрочем, и немало исключений (в Харькове рабочие с огромной энергией строили наши бронепоезда). ...
Однако весь пафос Белой борьбы есть, конечно, пафос войны именно за национальное государство, а не за интересы городской и сельской буржуазии и тем меньше аристократии. Один из кадровых штаб-офицеров Д.А.Б. [Дроздовской артиллерийской бригады], выслушав (уже в Праге) мои рассуждения по поводу классового характера русской Гражданской войны, сказал: «Может быть, это и так, но ведь вы сами знаете, скажи вы во время войны, что мы боремся за буржуев, вас бы, наверное, вывели из офицерского собрания. Как отмечено в тексте дневника, я постепенно пришёл к определению Белой борьбы, как «классовой войны за национальное государство». Должен, однако, отметить, что и по сие время (1930 год) большинство членов зарубежных военных организаций, с которыми мне приходилось говорить по этому поводу, относится весьма враждебно к такого рода толкованиям событий». (Русский гарнизон в Болгарии. Примечания. II. // Раевский Н.А. Русский гарнизон в Болгарии. Охрание – София – Прага. М.: «Вече», 2021. С. 293-294.)
По-видимому, несогласные с Раевским относительно «классовости» противостояния были совершенно правы. Противоположное поведение харьковских рабочих и донецких шахтёров, скорее всего, объясняется очень просто. Обширная Область Войска Донского находилась в общем ведении Военного Министерства. Её главной составляющей, по многовековому обычаю, были казаки. Остальное население являлось пришлым – «иногородними». Поэтому в рамках известного противостояния казаков и иногородних относившиеся к последним шахтёры желали заполучить себе главенствующее положение в области. Харьковская же губерния была обычной, состоявшей в ведении Министерства Внутренних Дел. Такой же обычной губернией была и Воронежская, упомянутая в воспоминаниях Шкуро. Кроме того, рабочие разделялись по уровню навыков. Наиболее квалифицированные получали очень хорошее жалование, гораздо большее, чем обычные чиновники или обер-офицеры. У шахтёров такое разделение труда отсутствовало.
Но с исторической точки зрения главное здесь в другом. И выступавшие за Белых харьковские рабочие, и поддерживавшие большевиков донецкие шахтёры, после победы «красных» были подарены советской властью созданной ею «Украине». И это одна из отличительных черт большевиков. Другие власти поощряют своих сторонников и противодействую противникам. Но советская обращается одинаково дурно и с теми, и с другими. Если в остальных странах член правящей партии жил благополучно и в безопасности, то в СССР даже истовые сталинисты оказывались неожиданно для себя в лагерях или расстрелянными.
Но, может быть, большевики так любили «Украину», что «для любимого дружка и серёжку из ушка»? Нет. Из «похабного» мирного договора (Брестского мира) 3 марта 1918 г. большевиков с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией:
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики. Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в общем через озеро Чудское и Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока общественная безопасность не будет там обеспечена собственными учреждениями страны и пока не будет там установлен государственный порядок. Россия немедленно освободит всех арестованных или уведенных жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопасное возвращение всех уведенных эстляндцев и лифляндцев.
Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты — от русского флота и русских военно-морских сил. Пока лед делает невозможным перевод военных судов в русские порты, на них должны быть оставлены лишь незначительные команды. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Финляндии.
Воздвигнутые на Аландских островах укрепления должны быть снесены при первой возможности. Что касается запрещения впредь воздвигать на этих островах укрепления, а также вообще их положения в отношении военном и техники мореплавания, то относительно них должно быть заключено особое соглашение между Германией, Финляндией, Россией и Швецией; стороны согласны, что к этому соглашению по желанию Германии могут быть привлечены и другие государства, прилегающие к Балтийскому морю». (Документы внешней политики СССР. Т. 1. 7 ноября 1917 г. – 31 декабря 1918 г. М. 1959. С. 122-123.)
Для большевиков было важно не украинство само по себе, а борьба при его помощи с «великорусским шовинизмом». Поэтому их устраивала любая «Украина», советская или немецкая, лишь бы она существовала, являясь, как теперь принято говорить, «антироссией». Однако в «Вестях недели» 26.06.2022 г. гражданам РФ собираются рассказывать «Как Украина больше века назад ... отдалась немцам». Украинство вообще само по себе несостоятельно, тем более в начале XX века. Уже поэтому «Украина» не могла отдаться немцам, нужно было, чтобы её кто-нибудь отдал. И в последующем украинская государственность поддерживалась только советской властью. Само украинство было на это неспособно.
Генерал от кавалерии П.Н. Краснов писал генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину 23 июня 1941 г. за № 325 о несостоятельности украинства и самостийников: «– Украинский (и кубанский) вопрос. – Этот вопрос уже решается и, как видите, без нашего эмигрантского участия. Я мог бы посоветовать, хотя и знаю, что моих советов никто из них слушать не будет, господам самостийникам не «рыпаться» и никуда не ездить. Этих господ без имени, без авторитета, без знания языка дальше передней и швейцарских не пускают и с ними не разговаривают. Своею назойливостью и хвастливым бахвальством они только раздражают немецкие власти, и для таких господ дело может кончиться в теперешнее военное время не тюрьмою уже, а заключением в концентрационный лагерь. Вот если бы украинцы могли бы указать кандидата в гетманы, а кубанцы кандидата в атаманы, и это были бы люди, не связанные ни с Антантой, ни с Бенешевскими деньгами, люди смелые и сравнительно молодые – люди крепкие морально, не продажные и честные, и авторитетом своим пришлись – это могло бы заинтересовать так, на всякий случай. Но есть ли у них про запас такие люди?» (Переписка генерала П.Н. Краснова 1939–1945 гг. М.: «Сеятель», 2018. С. 102.)
Не следует думать, что эту оценку Краснов давал будто бы потому, что сам находился в выгодных отношениях с немецкими властями. 9 июля 1941 г. за № 354 тому же Балабину он писал: «Мне кажется, что казакам все представляется их победное возвращение, массами, организованно, в родные края, круги, рады, встречи, приветствия, речи, банкеты... На деле совсем иная, необычайно суровая и тяжкая действительность их ожидает.
/.../
Итак – все темно и неизвестно. Нужно ждать конца войны, предоставив себя воле Божьей, поменьше болтать и побольше копить деньги, ибо никто ни на проезд в Россию, ни на обеспечение семей за границей, ни немцы, ни чехи, ни одного пфеннига не даст.
/.../
Да хранит Вас Господь!». (Там же. С. 112, 114.)
Последние слова не были простой присказкой. 13 марта 1941 г. за № 142 Балабин сообщал Краснову из Праги: «Мною из сумм объединения дано в станицы больше, чем получено из станиц.
Я за свое атаманство влез в долги, которых у меня раньше никогда не было, и которые мне нечем выплачивать. Я сносил свои костюмы и скоро уже не в состоянии буду показываться в обществе.
Ну какой же я атаман?»
5 февраля 1942 г. за № 123: «Живу по-старому, но к недоеданию прибавилось худшее – страшный холод при отсутствии топлива. В такие сильные морозы на две печи получил всего 75 кил. угля. Слава Богу, теперь стало теплее». (Там же. С. 87, 148.)
Так что делить с украинцами и самостийниками Краснову с Балабиным было нечего. Они высказывали свои убеждения.
Показательно, что США и Британия после войны выдали СССР ратовавших за «Великую, Единую и Неделимую Россию» Белых казаков, но взяли под своё покровительство террориста Бандеру и представителей украинства. Одновременно Сталин, жёстко борясь с литовским националистами, по соседству с ними 6 раз с 1944 по 1949 г. объявлял амнистию для «бандеровцев». В отличие от хрущёвской амнистии 17 сентября 1955 г., объявленной для уже осуждённых, сталинские исключали какие-либо расследования и ограничения для добровольно заявившего о примирении с советской властью члена ОУН или УПА. Правительство США, со своей стороны, не признавало законным включение Литовской, Латышской и Эстонской ССР в состав Советского Союза. Но одновременно, при наличии в Северной Америке представителей украинского правительства в изгнании и антисоветской украинской диаспоры, весь Запад признавал советские Украину и Белоруссию, которые даже стали отдельными членами ООН в качестве государств-основателей. Налицо явное согласие США и СССР по украинскому вопросу. Действия советской власти по отношению к русскому народу были выгодны Западу.
Советский анекдот. Рейган и Брежнев спорят о том, где лучше жизнь.
Рейган: «Вот, у меня атлантическое побережье: яхты, виллы, пароходы».
Брежнев: «У меня балтийское побережье: яхты виллы, пароходы».
Рейган: «У меня тихоокеанское побережье: яхты, виллы, пароходы».
Брежнев: «А у меня черноморское побережье: яхты, виллы, пароходы».
Рейган рассердился и говорит: «Да что ты мне рассказываешь?! Русские-то у тебя как живут?».
Брежнев: «Э-э, не надо. Я же у тебя про индейцев не спрашиваю».
«Во время моего пребывания в Воронеже состоялся ряд митингов, на которых рабочие высказывались за необходимость активно помогать мне. В последний момент, когда Воронеж уже обстреливался красной артиллерией, прямо на митинге, на котором выступил мой офицер, есаул Соколов, явился ко мне отряд рабочих-железнодорожников в составе около 600 человек. Я вышел и обратился к рабочим с горячей благодарностью. В это время прилетевший откуда-то снаряд с треском разорвался в воздухе. Перепуганные и непривыкшие к таким вещам рабочие шарахнулись в разные стороны; некоторые со страху попадали на землю. Стоявший близ меня рабочий был ранен и упал, обливаясь кровью.
– Поздравляю вас с боевым крещением! – крикнул я, ободряя рабочих.
Они оправились и, не заходя даже домой, с песнями двинулись из города. Эти рабочие были влиты в 1-й стрелковый батальон под командой полковника Рутсона, позже, по просьбе людей, переименованный в Волчий ударный батальон. Рабочие сделались хорошими солдатами и далеко превосходили своей доблестью многих казаков в боях». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Глава 24. С. 239, 240.)
«Я считал, что рабочий класс в целом против нас (это в особенности чувствовалось в Донецком бассейне весной 1919 года, где нередко шахтёры шесть дней работали, а по воскресеньям брали винтовки и дрались против Добрармии). Было, впрочем, и немало исключений (в Харькове рабочие с огромной энергией строили наши бронепоезда). ...
Однако весь пафос Белой борьбы есть, конечно, пафос войны именно за национальное государство, а не за интересы городской и сельской буржуазии и тем меньше аристократии. Один из кадровых штаб-офицеров Д.А.Б. [Дроздовской артиллерийской бригады], выслушав (уже в Праге) мои рассуждения по поводу классового характера русской Гражданской войны, сказал: «Может быть, это и так, но ведь вы сами знаете, скажи вы во время войны, что мы боремся за буржуев, вас бы, наверное, вывели из офицерского собрания. Как отмечено в тексте дневника, я постепенно пришёл к определению Белой борьбы, как «классовой войны за национальное государство». Должен, однако, отметить, что и по сие время (1930 год) большинство членов зарубежных военных организаций, с которыми мне приходилось говорить по этому поводу, относится весьма враждебно к такого рода толкованиям событий». (Русский гарнизон в Болгарии. Примечания. II. // Раевский Н.А. Русский гарнизон в Болгарии. Охрание – София – Прага. М.: «Вече», 2021. С. 293-294.)
По-видимому, несогласные с Раевским относительно «классовости» противостояния были совершенно правы. Противоположное поведение харьковских рабочих и донецких шахтёров, скорее всего, объясняется очень просто. Обширная Область Войска Донского находилась в общем ведении Военного Министерства. Её главной составляющей, по многовековому обычаю, были казаки. Остальное население являлось пришлым – «иногородними». Поэтому в рамках известного противостояния казаков и иногородних относившиеся к последним шахтёры желали заполучить себе главенствующее положение в области. Харьковская же губерния была обычной, состоявшей в ведении Министерства Внутренних Дел. Такой же обычной губернией была и Воронежская, упомянутая в воспоминаниях Шкуро. Кроме того, рабочие разделялись по уровню навыков. Наиболее квалифицированные получали очень хорошее жалование, гораздо большее, чем обычные чиновники или обер-офицеры. У шахтёров такое разделение труда отсутствовало.
Но с исторической точки зрения главное здесь в другом. И выступавшие за Белых харьковские рабочие, и поддерживавшие большевиков донецкие шахтёры, после победы «красных» были подарены советской властью созданной ею «Украине». И это одна из отличительных черт большевиков. Другие власти поощряют своих сторонников и противодействую противникам. Но советская обращается одинаково дурно и с теми, и с другими. Если в остальных странах член правящей партии жил благополучно и в безопасности, то в СССР даже истовые сталинисты оказывались неожиданно для себя в лагерях или расстрелянными.
Но, может быть, большевики так любили «Украину», что «для любимого дружка и серёжку из ушка»? Нет. Из «похабного» мирного договора (Брестского мира) 3 марта 1918 г. большевиков с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией:
«Статья VI
Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики. Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в общем через озеро Чудское и Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока общественная безопасность не будет там обеспечена собственными учреждениями страны и пока не будет там установлен государственный порядок. Россия немедленно освободит всех арестованных или уведенных жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопасное возвращение всех уведенных эстляндцев и лифляндцев.
Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты — от русского флота и русских военно-морских сил. Пока лед делает невозможным перевод военных судов в русские порты, на них должны быть оставлены лишь незначительные команды. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Финляндии.
Воздвигнутые на Аландских островах укрепления должны быть снесены при первой возможности. Что касается запрещения впредь воздвигать на этих островах укрепления, а также вообще их положения в отношении военном и техники мореплавания, то относительно них должно быть заключено особое соглашение между Германией, Финляндией, Россией и Швецией; стороны согласны, что к этому соглашению по желанию Германии могут быть привлечены и другие государства, прилегающие к Балтийскому морю». (Документы внешней политики СССР. Т. 1. 7 ноября 1917 г. – 31 декабря 1918 г. М. 1959. С. 122-123.)
Для большевиков было важно не украинство само по себе, а борьба при его помощи с «великорусским шовинизмом». Поэтому их устраивала любая «Украина», советская или немецкая, лишь бы она существовала, являясь, как теперь принято говорить, «антироссией». Однако в «Вестях недели» 26.06.2022 г. гражданам РФ собираются рассказывать «Как Украина больше века назад ... отдалась немцам». Украинство вообще само по себе несостоятельно, тем более в начале XX века. Уже поэтому «Украина» не могла отдаться немцам, нужно было, чтобы её кто-нибудь отдал. И в последующем украинская государственность поддерживалась только советской властью. Само украинство было на это неспособно.
Генерал от кавалерии П.Н. Краснов писал генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину 23 июня 1941 г. за № 325 о несостоятельности украинства и самостийников: «– Украинский (и кубанский) вопрос. – Этот вопрос уже решается и, как видите, без нашего эмигрантского участия. Я мог бы посоветовать, хотя и знаю, что моих советов никто из них слушать не будет, господам самостийникам не «рыпаться» и никуда не ездить. Этих господ без имени, без авторитета, без знания языка дальше передней и швейцарских не пускают и с ними не разговаривают. Своею назойливостью и хвастливым бахвальством они только раздражают немецкие власти, и для таких господ дело может кончиться в теперешнее военное время не тюрьмою уже, а заключением в концентрационный лагерь. Вот если бы украинцы могли бы указать кандидата в гетманы, а кубанцы кандидата в атаманы, и это были бы люди, не связанные ни с Антантой, ни с Бенешевскими деньгами, люди смелые и сравнительно молодые – люди крепкие морально, не продажные и честные, и авторитетом своим пришлись – это могло бы заинтересовать так, на всякий случай. Но есть ли у них про запас такие люди?» (Переписка генерала П.Н. Краснова 1939–1945 гг. М.: «Сеятель», 2018. С. 102.)
Не следует думать, что эту оценку Краснов давал будто бы потому, что сам находился в выгодных отношениях с немецкими властями. 9 июля 1941 г. за № 354 тому же Балабину он писал: «Мне кажется, что казакам все представляется их победное возвращение, массами, организованно, в родные края, круги, рады, встречи, приветствия, речи, банкеты... На деле совсем иная, необычайно суровая и тяжкая действительность их ожидает.
/.../
Итак – все темно и неизвестно. Нужно ждать конца войны, предоставив себя воле Божьей, поменьше болтать и побольше копить деньги, ибо никто ни на проезд в Россию, ни на обеспечение семей за границей, ни немцы, ни чехи, ни одного пфеннига не даст.
/.../
Да хранит Вас Господь!». (Там же. С. 112, 114.)
Последние слова не были простой присказкой. 13 марта 1941 г. за № 142 Балабин сообщал Краснову из Праги: «Мною из сумм объединения дано в станицы больше, чем получено из станиц.
Я за свое атаманство влез в долги, которых у меня раньше никогда не было, и которые мне нечем выплачивать. Я сносил свои костюмы и скоро уже не в состоянии буду показываться в обществе.
Ну какой же я атаман?»
5 февраля 1942 г. за № 123: «Живу по-старому, но к недоеданию прибавилось худшее – страшный холод при отсутствии топлива. В такие сильные морозы на две печи получил всего 75 кил. угля. Слава Богу, теперь стало теплее». (Там же. С. 87, 148.)
Так что делить с украинцами и самостийниками Краснову с Балабиным было нечего. Они высказывали свои убеждения.
Показательно, что США и Британия после войны выдали СССР ратовавших за «Великую, Единую и Неделимую Россию» Белых казаков, но взяли под своё покровительство террориста Бандеру и представителей украинства. Одновременно Сталин, жёстко борясь с литовским националистами, по соседству с ними 6 раз с 1944 по 1949 г. объявлял амнистию для «бандеровцев». В отличие от хрущёвской амнистии 17 сентября 1955 г., объявленной для уже осуждённых, сталинские исключали какие-либо расследования и ограничения для добровольно заявившего о примирении с советской властью члена ОУН или УПА. Правительство США, со своей стороны, не признавало законным включение Литовской, Латышской и Эстонской ССР в состав Советского Союза. Но одновременно, при наличии в Северной Америке представителей украинского правительства в изгнании и антисоветской украинской диаспоры, весь Запад признавал советские Украину и Белоруссию, которые даже стали отдельными членами ООН в качестве государств-основателей. Налицо явное согласие США и СССР по украинскому вопросу. Действия советской власти по отношению к русскому народу были выгодны Западу.
Советский анекдот. Рейган и Брежнев спорят о том, где лучше жизнь.
Рейган: «Вот, у меня атлантическое побережье: яхты, виллы, пароходы».
Брежнев: «У меня балтийское побережье: яхты виллы, пароходы».
Рейган: «У меня тихоокеанское побережье: яхты, виллы, пароходы».
Брежнев: «А у меня черноморское побережье: яхты, виллы, пароходы».
Рейган рассердился и говорит: «Да что ты мне рассказываешь?! Русские-то у тебя как живут?».
Брежнев: «Э-э, не надо. Я же у тебя про индейцев не спрашиваю».
Антон Павлов,
24-06-2022 23:51
(ссылка)
Харьков. 1919 и 2022 годы.
18 июня 2022 г. Заявления известного укра Арестовича:
«Существует соответствующая, совершенно реальная угроза Харькову». https://youtu.be/GtFTDrQ0CH...
«Не-не-не, Харьков не возьмут. Железно». https://youtu.be/GtFTDrQ0CH...
11 (24) июня 1919 г. Вооружённые силы Юга России освободили Харьков.
«Добровольческая Армія, наступая безостановочно, къ 22 мая заняла Славянскъ, отбросивъ части 8-й и 13-й сов. армій, разстроенныя и растаявшія, за Сѣв. Донецъ. На сопротивленіе 13-й арміи не было уже никакихъ надеждъ, и совѣтское командованіе съ лихорадочнымъ напряженіемъ формировало новые центры обороны въ Харьковѣ и Екатеринославѣ. Туда стягивались подкрѣпленія, отборныя матросскія коммунистическія части и красные курсанты. Бронштейнъ со свойственной ему экспансивностью «предъ лицомъ пролетаріата Харькова» свидѣтельствовалъ о «жестокой опасности», призывалъ рабочій классъ къ поголовному вооруженію и клялся, что «Харькова мы ни въ коемъ случаѣ не сдадимъ».
Одновременно въ раіонѣ Синельникова сосредоточивалась ударная группа изъ сборныхъ частей бывш. 2-й Украинской арміи и войскъ, подвезенныхъ изъ Крыма и Екатеринослава, составившая 14-ю армію, во главѣ которой былъ поставленъ Ворошиловъ — человѣкъ безъ военнаго образованія, но жестокій и рѣшительный. Совѣтское командованіе поставило себѣ задачей вывести изъ-подъ нашихъ ударовъ 8-ю и 9-ю арміи, движеніемъ во флангъ отъ Синельникова на Славянскъ—Юзово 14-й арміи остановить наше наступленіе на Харьковъ и затѣмъ одновременнымъ ударомъ 14-й арміи и Харьковской группы1) (1) Вновь сформированный отрядъ Бѣленковича и остатки 13-й арміи.) вернуть Донецкій бассейнъ.
Планъ этотъ потерпѣлъ полную неудачу.
14 армія еще не успѣла сосредоточиться, какъ между 23—25 мая Кавказская дивизія корпуса Шкуро разбила Махно подъ Гуляй-Полемъ2) (2) 27 іюня Махно оставилъ службу у совѣтовъ и съ небольшимъ отрядомъ ушелъ на Днѣпръ, къ Александровску.) и, двинутая затѣмъ на сѣверъ къ Екатеринославу, въ рядѣ боевъ разгромила и погнала къ Днѣпру Ворошилова. Въ то же время южнѣе группа ген. Виноградова успѣшно продвигалась къ Бердянску и Мелитополю, а 3-й арм. корпусъ, начавшій наступленіе съ Акманайскихъ позицій 5-го іюня, гналъ большевиковъ изъ Крыма.
Прикрывъ, такимъ образомъ, западное направленіе, ген. Май-Маевскій двигалъ безостановочно 1-й арм. корпусъ ген. Кутепова и Терскую дивизію ген. Топоркова на Харьковъ. Опрокидывая противника и не давая ему опомниться, войска эти прошли за мѣсяцъ 300 съ лишнимъ верстъ. Терцы Топоркова 1 іюня захватили Купянскъ; къ 11-му, обойдя Харьковъ съ сѣвера и сѣверо-запада, отрѣзали сообщенія харьковской группы большевиковъ на Ворожбу и Брянскъ и уничтожили нѣсколько эшелоновъ подходившихъ подкрѣпленій... Правая колонна ген. Кутепова 10 іюня внезапнымъ налетомъ захватила Бѣлгородъ, отрѣзавъ сообщенія Харькова съ Курскомъ. А 11-го, послѣ пятидневныхъ боевъ на подступахъ къ Харькову, лѣвая колонна его ворвалась въ городъ и послѣ ожесточеннаго уличнаго боя заняла его.
16 іюня закончилось очищеніе Крыма, а къ концу мѣсяца мы овладѣли и всѣмъ нижнимъ теченіемъ Днѣпра до Екатеринослава, который былъ захваченъ уже 16 числа п о с о б с т в е н н о й и н и ц і а т и в ѣ генераломъ Шкуро.
Разгромъ противника на этомъ фронтѣ былъ полный, трофеи наши неисчислимы. Въ приказѣ «предсѣдателя реввоенсовѣта республики» рисовалась картина «позорнаго разоруженія 13-й арміи», которая въ равной степени могла быть отнесена къ 8-й, 9-й и 14-й: «Армія находится въ состояніи полнаго упадка. Боеспособность частей пала до послѣдней степени. Случаи безсмысленной паники наблюдаются на каждомъ шагу. Шкурничество процвѣтаетъ...»1). (1) 6 (19) іюня, № 113.) Остатки разбитыхъ непріятельскихъ армій отошли: 13-й и группы Бѣленковича — на Полтаву, 14-й и Крымск. группы — за Днѣпръ». (Деникинъ А.И. Очерки Русской Смуты. Т. V. Вооруженныя силы Юга Россiи. Берлинъ. 1926. Стр. 104, 106.)
Приехали мы в Харьков меньше чем через неделю после его занятия Добровольческой армией. Остановились в своём доме на Костомаровской улице. Город имел праздничный вид, все были в белом, все с национальными ленточками, офицерам чуть ли не кидались на шею. Когда я входил в трамвай, старые дамы уступали мне место, заставляя садиться. Занял Харьков Белозерский полк; население встречало его на коленях, забрасывая цветами; на улицах были разостланы ковры, полотенца и другие материалы, по которым пришлось шагать добровольцам. Входили они в город с трубачами и песнями, в числе последних — любимая добровольцами. Вот её припев:
Все мы на бой пойдём
За Русь святую
И как один прольём
Кровь молодую.
Мало кто из певших эту песню остался в живых. Слушали её жители со слезами, что и понятно после всех тех ужасов, которые пришлось пережить Харькову: обысков, арестов, расстрелов. Знаменита была своими зверствами харьковская черезвычайка во главе с комиссаром Саенко, жидовского происхождения, собственноручно мучившего и убивавшего свои жертвы. Я был и видел откопанные тела убитых; ничего более ужасного нельзя себе представить.
ЧК помещалось в огромном пятиэтажном доме на Чайковской улице с садом, окружённом глубоким рвом и тремя рядами проволоки. Жутко было входить в него. В верхних этажах помещались служащие черезвычайки, канцелярия и камеры арестованных, в которых сидели генералы, офицеры, их жены и дети, были богатые купцы, мелкие торговцы. В подвальном этаже находилось помещение для допросов и пыток: большая тёмная комната, забрызганная кровью и с невысохшей ещё кровью на полу. Тут же на полу были найдены куски отрезанных носов и ушей, на стенах следы распятия людей, дырки от гвоздей, следы прислонённых голов и тел. В другой комнате, где проходили сточные трубы со всего дома, было устроено нечто вроде бассейна из помоев и отбросов. Туда бросали некоторых несчастных, которые тонули в этой ужасной грязи и задыхались от вони. В саду были произведены раскопки и найдены тела замученных. Между ними были женщины и совсем молодые ещё мальчики и девушки с выколотыми глазами, отрезанными ушами и носами, вырезанными языками, вырванными ногтями, скальпированные, с вырезанными на плечах погонами и забитыми вместо звёздочек гвоздями, с вырезанными полосками кожи, с вывороченными руками и ногами; почти все трупы носили следы ожогов. Фотографии всего этого тогда имелись.
Всё население Харькова было допущено к осмотру этих тел и дома. Когда их откапывали, кругом толпа стояла в безмолвном оцепенении. Вдруг среди тишины раздался голос: «Так им и надо!» Сперва все как бы застыли, но через мгновение накинулись на жидовку, произнесшую эти слова и, если бы не подоспел в это время какой-то офицер, её бы растерзали на клочки. Это слышал и видел мой двоюродный брат барон Фредерикс. Замечательно, что почти все комиссары города Харькова были евреи; они всегда имели всё, что хотели, жили у себя широко, ни в чём себе не отказывая. Многих из них поймали и повесили, в числе их и Саенко». (Шидловский С.Н. Записки белого офицера. СПб.: «Алетейя», 2011. С. 40-42.) https://dokumen.pub/9785914...
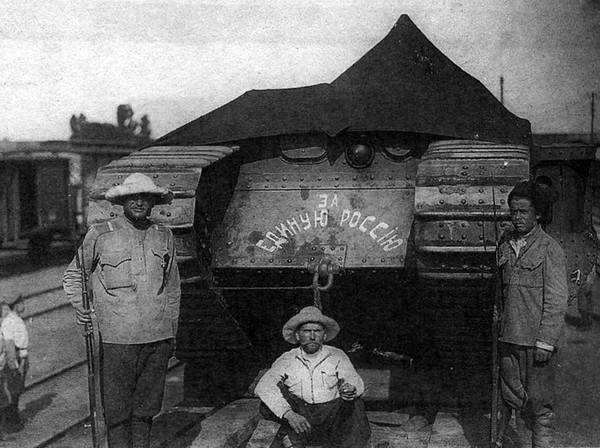
(Наступление на Харьков Вооружённых сил Юга России во второй половине мая — июне 1919 г. Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, станция Лозовая Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги.)
«Существует соответствующая, совершенно реальная угроза Харькову». https://youtu.be/GtFTDrQ0CH...
«Не-не-не, Харьков не возьмут. Железно». https://youtu.be/GtFTDrQ0CH...
11 (24) июня 1919 г. Вооружённые силы Юга России освободили Харьков.
«Добровольческая Армія, наступая безостановочно, къ 22 мая заняла Славянскъ, отбросивъ части 8-й и 13-й сов. армій, разстроенныя и растаявшія, за Сѣв. Донецъ. На сопротивленіе 13-й арміи не было уже никакихъ надеждъ, и совѣтское командованіе съ лихорадочнымъ напряженіемъ формировало новые центры обороны въ Харьковѣ и Екатеринославѣ. Туда стягивались подкрѣпленія, отборныя матросскія коммунистическія части и красные курсанты. Бронштейнъ со свойственной ему экспансивностью «предъ лицомъ пролетаріата Харькова» свидѣтельствовалъ о «жестокой опасности», призывалъ рабочій классъ къ поголовному вооруженію и клялся, что «Харькова мы ни въ коемъ случаѣ не сдадимъ».
Одновременно въ раіонѣ Синельникова сосредоточивалась ударная группа изъ сборныхъ частей бывш. 2-й Украинской арміи и войскъ, подвезенныхъ изъ Крыма и Екатеринослава, составившая 14-ю армію, во главѣ которой былъ поставленъ Ворошиловъ — человѣкъ безъ военнаго образованія, но жестокій и рѣшительный. Совѣтское командованіе поставило себѣ задачей вывести изъ-подъ нашихъ ударовъ 8-ю и 9-ю арміи, движеніемъ во флангъ отъ Синельникова на Славянскъ—Юзово 14-й арміи остановить наше наступленіе на Харьковъ и затѣмъ одновременнымъ ударомъ 14-й арміи и Харьковской группы1) (1) Вновь сформированный отрядъ Бѣленковича и остатки 13-й арміи.) вернуть Донецкій бассейнъ.
Планъ этотъ потерпѣлъ полную неудачу.
14 армія еще не успѣла сосредоточиться, какъ между 23—25 мая Кавказская дивизія корпуса Шкуро разбила Махно подъ Гуляй-Полемъ2) (2) 27 іюня Махно оставилъ службу у совѣтовъ и съ небольшимъ отрядомъ ушелъ на Днѣпръ, къ Александровску.) и, двинутая затѣмъ на сѣверъ къ Екатеринославу, въ рядѣ боевъ разгромила и погнала къ Днѣпру Ворошилова. Въ то же время южнѣе группа ген. Виноградова успѣшно продвигалась къ Бердянску и Мелитополю, а 3-й арм. корпусъ, начавшій наступленіе съ Акманайскихъ позицій 5-го іюня, гналъ большевиковъ изъ Крыма.
Прикрывъ, такимъ образомъ, западное направленіе, ген. Май-Маевскій двигалъ безостановочно 1-й арм. корпусъ ген. Кутепова и Терскую дивизію ген. Топоркова на Харьковъ. Опрокидывая противника и не давая ему опомниться, войска эти прошли за мѣсяцъ 300 съ лишнимъ верстъ. Терцы Топоркова 1 іюня захватили Купянскъ; къ 11-му, обойдя Харьковъ съ сѣвера и сѣверо-запада, отрѣзали сообщенія харьковской группы большевиковъ на Ворожбу и Брянскъ и уничтожили нѣсколько эшелоновъ подходившихъ подкрѣпленій... Правая колонна ген. Кутепова 10 іюня внезапнымъ налетомъ захватила Бѣлгородъ, отрѣзавъ сообщенія Харькова съ Курскомъ. А 11-го, послѣ пятидневныхъ боевъ на подступахъ къ Харькову, лѣвая колонна его ворвалась въ городъ и послѣ ожесточеннаго уличнаго боя заняла его.
16 іюня закончилось очищеніе Крыма, а къ концу мѣсяца мы овладѣли и всѣмъ нижнимъ теченіемъ Днѣпра до Екатеринослава, который былъ захваченъ уже 16 числа п о с о б с т в е н н о й и н и ц і а т и в ѣ генераломъ Шкуро.
Разгромъ противника на этомъ фронтѣ былъ полный, трофеи наши неисчислимы. Въ приказѣ «предсѣдателя реввоенсовѣта республики» рисовалась картина «позорнаго разоруженія 13-й арміи», которая въ равной степени могла быть отнесена къ 8-й, 9-й и 14-й: «Армія находится въ состояніи полнаго упадка. Боеспособность частей пала до послѣдней степени. Случаи безсмысленной паники наблюдаются на каждомъ шагу. Шкурничество процвѣтаетъ...»1). (1) 6 (19) іюня, № 113.) Остатки разбитыхъ непріятельскихъ армій отошли: 13-й и группы Бѣленковича — на Полтаву, 14-й и Крымск. группы — за Днѣпръ». (Деникинъ А.И. Очерки Русской Смуты. Т. V. Вооруженныя силы Юга Россiи. Берлинъ. 1926. Стр. 104, 106.)
«ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Харьков. Покровское. Харьков — Бахмач.
Отношение ставки к новым формированиям
Харьков. Покровское. Харьков — Бахмач.
Отношение ставки к новым формированиям
Приехали мы в Харьков меньше чем через неделю после его занятия Добровольческой армией. Остановились в своём доме на Костомаровской улице. Город имел праздничный вид, все были в белом, все с национальными ленточками, офицерам чуть ли не кидались на шею. Когда я входил в трамвай, старые дамы уступали мне место, заставляя садиться. Занял Харьков Белозерский полк; население встречало его на коленях, забрасывая цветами; на улицах были разостланы ковры, полотенца и другие материалы, по которым пришлось шагать добровольцам. Входили они в город с трубачами и песнями, в числе последних — любимая добровольцами. Вот её припев:
Все мы на бой пойдём
За Русь святую
И как один прольём
Кровь молодую.
Мало кто из певших эту песню остался в живых. Слушали её жители со слезами, что и понятно после всех тех ужасов, которые пришлось пережить Харькову: обысков, арестов, расстрелов. Знаменита была своими зверствами харьковская черезвычайка во главе с комиссаром Саенко, жидовского происхождения, собственноручно мучившего и убивавшего свои жертвы. Я был и видел откопанные тела убитых; ничего более ужасного нельзя себе представить.
ЧК помещалось в огромном пятиэтажном доме на Чайковской улице с садом, окружённом глубоким рвом и тремя рядами проволоки. Жутко было входить в него. В верхних этажах помещались служащие черезвычайки, канцелярия и камеры арестованных, в которых сидели генералы, офицеры, их жены и дети, были богатые купцы, мелкие торговцы. В подвальном этаже находилось помещение для допросов и пыток: большая тёмная комната, забрызганная кровью и с невысохшей ещё кровью на полу. Тут же на полу были найдены куски отрезанных носов и ушей, на стенах следы распятия людей, дырки от гвоздей, следы прислонённых голов и тел. В другой комнате, где проходили сточные трубы со всего дома, было устроено нечто вроде бассейна из помоев и отбросов. Туда бросали некоторых несчастных, которые тонули в этой ужасной грязи и задыхались от вони. В саду были произведены раскопки и найдены тела замученных. Между ними были женщины и совсем молодые ещё мальчики и девушки с выколотыми глазами, отрезанными ушами и носами, вырезанными языками, вырванными ногтями, скальпированные, с вырезанными на плечах погонами и забитыми вместо звёздочек гвоздями, с вырезанными полосками кожи, с вывороченными руками и ногами; почти все трупы носили следы ожогов. Фотографии всего этого тогда имелись.
Всё население Харькова было допущено к осмотру этих тел и дома. Когда их откапывали, кругом толпа стояла в безмолвном оцепенении. Вдруг среди тишины раздался голос: «Так им и надо!» Сперва все как бы застыли, но через мгновение накинулись на жидовку, произнесшую эти слова и, если бы не подоспел в это время какой-то офицер, её бы растерзали на клочки. Это слышал и видел мой двоюродный брат барон Фредерикс. Замечательно, что почти все комиссары города Харькова были евреи; они всегда имели всё, что хотели, жили у себя широко, ни в чём себе не отказывая. Многих из них поймали и повесили, в числе их и Саенко». (Шидловский С.Н. Записки белого офицера. СПб.: «Алетейя», 2011. С. 40-42.) https://dokumen.pub/9785914...
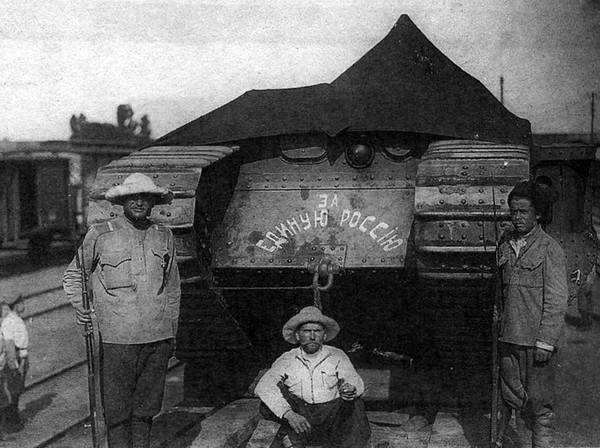
(Наступление на Харьков Вооружённых сил Юга России во второй половине мая — июне 1919 г. Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, станция Лозовая Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги.)
Антон Павлов,
24-06-2022 02:33
(ссылка)
К нынешнему запоздалому признанию беспилотников.
Необходимость поддержки частей воздушными средствами отмечал ещё 100 лет назад генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин.
«Какъ мы видѣли изъ сказанннаго выше, тактическая развѣдка на воздухѣ требуетъ работы въ двухъ зонахъ: 1) въ средней (500–4000 [метровъ]) фотографированіе, корректированіе стрѣльбы, ночныя развѣдки и т. п. и 2) въ нижней зонѣ (ниже 500 метровъ) ближняя развѣдка для атакующихъ войскъ. Второй родъ развѣдки нераздѣльно связанъ съ сопровожденіемъ самой атаки и потому мы будемъ говорить о немъ несколько дальше».
«Многомѣстные аппараты наблюденія (съ продолжительностью полета въ 4 часа и болѣе) должны войти въ составъ эскадрилій, находящихся въ распоряженіи штабовъ армій и придаваемыхъ послѣдними въ корпуса для временнаго усиленія.
/.../
Ограничиваться для сопровожденія наземныхъ атакъ одними спеціальными аппаратами неправильно. Во время штурма переживаются минуты, требующія героическихъ усилій и самопожертвованія отъ всѣхъ элементовъ борьбы. Совершенно естественно, что командованіе потребуетъ отъ авіаціи помощь далеко выходящую изъ рамокъ примѣненія лишь спеціальныхъ эскадрилій нижняго боя. Оно призоветъ и эскадрильи, органически связанныя съ войсками (при дивизіяхъ или корпусахъ). Необходимо предвидѣть это при выработкѣ конструкцій аппаратовъ этихъ эскадрилій». (Головинъ Н.Н. Авiацiя въ минувшую войну и въ будущую. Прага. 1922. Стр. 15, 16.) https://archive.org/details...
«Разсмотримъ теперь вопросъ объ использование конницей при операціяхъ на флангѣ различнаго рода средствъ техники.
Танки съ нами не поспѣли бы и только стѣснили бы нашъ маневръ. Бронированные автомобили могли принести большую пользу и на фронтѣ нашей конницы и на нашемъ внѣшнемъ флангѣ; они дали бы намъ прекрасныя точки опоры. Въ раіонѣ, въ которомъ происходила операція не было шоссе, дороги же послѣ дождя распустились; переправы черезъ Ходель были уничтожены. Задерживать маневръ изъ-за отсутствія броневыхъ автомобилей не приходилось. Но слѣдуетъ сказать, что кавалерія, нападающая на флангъ и тылъ, должна стремиться широко использовать броневые автомобили. Принесутъ также большую пользу бронированные аэропланы.
На первое мѣсто среди той помощи, которую кавалерія при своихъ фланговыхъ маневрахъ попросить у техники, должно быть поставлено быстрое установленіе прочной технической связи.
Мы упоминали выше, что использованіе нападенія на флангъ и въ тылъ можетъ быть достигнуто только при полномъ содѣйствіи фронта. Это вѣрно не только для тактическихъ охватовъ, но и въ отношеніи глубокихъ рейдовъ въ тылъ. ... Безъ установленія технической связи между войсками, дѣйствующими на фронтѣ, съ конницей, дѣйствующей во флангъ и тылъ, необходимое согласованіе достигнуть невозможно. ... При дѣйствіяхъ на фронтѣ кавалерія тоже ведетъ бой на широкомъ пространствѣ; и въ этомъ случаъ требуется техническая связь. Но бой на флангѣ требуетъ болѣе тонкаго, гибкаго маневрированія; донесенія, оріентирующія начальника, должны достигать его быстрѣе; перегруппировки въ подобныхъ бояхъ болѣе радикальны и приказанія начальника должны скорѣе поспѣвать на мѣста. Большимъ подспорьемъ служатъ мотоциклетки и въ будущемъ безпроволочный телефонъ.
И все-таки главнымъ техническимъ средствомъ для нападенія во флангъ и тылъ является всадникъ со своей винтовкой, въ сопровожденiи возможно болѣе дальнобойныхъ пушекъ и пулеметовъ». (Головинъ Н.Н. Современная конница. Бѣлградъ. 1923. Стр. 56.)
По мере развития техники развивал военную мысль и Головин. Генерал от кавалерии П.Н. Краснов генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину. № 354. 9 июля 1941 г. «Казачий полк? – Какой? – Конный? Стрелковый? Механизированный? Панцирный? Или «Головинской» организации – 4 сабельных сотни, 1 пулеметная, 1 конно-саперная, танковый отряд, полковая батарея, эскадрилья самолетов и т.д.». (Переписка генерала П.Н. Краснова 1939–1945 гг. М.: «Сеятель», 2018. С. 113.)
То есть, как только позволило развитие военной техники, Головин распространил правила устройства конного корпуса на конный полк, признав необходимым включить в его состав все рода оружия вплоть до воздушных сил. Здесь он существенно превзошёл современную ему военную мысль, введшую такое устройство только на уровне моторизованных и танковых дивизий (но без самолётов).
Мысль Головина может показаться смелой по своей требовательности, но в действительности она естественна и очень верная. Как показывал опыт 1-й и 2-й Мировых войн, войска часто испытывали неудачи, потому что полки и батальоны не имели достаточного вооружения для самостоятельных действий. Им требовалась помощь дивизионного или даже корпусного уровня.
Правильная постановка военного дела определяет ведение будущей войны, неправильная подстраивается под него.
Совершённый Германией в 1939-42 годах невиданный дотоле разгром кажется многим военным чудом. Однако к 1939 году кроме 1-й Мировой войны германские войска не имели никакого основательного боевого опыта. У них было историческое немецкое военное дело, позволившее надлежаще осмыслить и развить его.
Перед 1-й Мировой войной подобным образом проявило себя русское военное дело. Генерал от кавалерии Пётр Николаевич Краснов воспоминал о командовании в 1913-14 годах 10-м Донским казачьим генерала Луковкина полком: «Какъ перемѣнилась Русская армiя, послѣ Японской войны! Нельзя и сравнивать того, что было, съ тѣмъ, что есть. … Въ пѣхотѣ – густыя цѣпи, близкiя поддержки въ сомкнутомъ строю, атака съ музыкой и барабаннымъ боемъ, плохое самоокапыванiе, батареи на открытыхъ позицiяхъ, выравненныя, какъ на картинкѣ – все это теперь, а прошло едва десять лѣтъ, казалось намъ точно прошедшимъ вѣкомъ.
У насъ было все новое и по новому. Мы знали между тѣмъ, что сосѣдей нашихъ это новое почти не коснулось».
«Слѣдуя завѣтамъ Петра Великаго, я не держался устава, «яко слѣпой стѣны», но помнилъ, что «по нуждѣ и примѣненiе бываетъ.» Имѣя подъ командой великолѣпныхъ людей, природныхъ воиновъ, притомъ прекрасныхъ, спокойныхъ стрѣлковъ, я завелъ обычай рѣдкихъ цѣпей. Спѣшенная сотня, т. е. 80-90 чел. занимали участокъ по фронту около версты, притомъ люди лежали не въ порядкѣ на равныхъ интервалахъ, но тамъ, гдѣ этого требовала мѣстность. Иногда, гдѣ нибудь за закрытiемъ, образовывались одна-двѣ ружейныя батареи, которыя я подкрѣплялъ еще и пулеметами, а промежутокъ между ними шаговъ 100-200, взятый подъ перекрестный огонь, не былъ никѣмъ занятъ. На ровной мѣстности стрѣлки ложились одинъ отъ другого на 15-20 шаговъ и не в порядкѣ, но какъ кому выгоднѣе для обстрѣла и для маскировки». (Красновъ П.Н. Наканунѣ войны. Изъ жизни пограничнаго гарнизона. Изданiе Главнаго Правленiя Зарубежнаго Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ. Парижъ. 1937. Стр. 18, 23. Накануне войны. Из жизни пограничного гарнизона. // Краснов П.Н. Воспоминания о Русской Императорской Армии. М.: «Айрис-пресс», 2006. С. 380-381, 387-388.)
Европейские же армии осознали всё это, лишь вступив в 1-ю Мировую войну и понеся тяжёлые потери.
Перед 2-й Мировой войной русское военное дело оказалось в изгнании, и пребывает в забвении до сих пор.
«Какъ мы видѣли изъ сказанннаго выше, тактическая развѣдка на воздухѣ требуетъ работы въ двухъ зонахъ: 1) въ средней (500–4000 [метровъ]) фотографированіе, корректированіе стрѣльбы, ночныя развѣдки и т. п. и 2) въ нижней зонѣ (ниже 500 метровъ) ближняя развѣдка для атакующихъ войскъ. Второй родъ развѣдки нераздѣльно связанъ съ сопровожденіемъ самой атаки и потому мы будемъ говорить о немъ несколько дальше».
«Многомѣстные аппараты наблюденія (съ продолжительностью полета въ 4 часа и болѣе) должны войти въ составъ эскадрилій, находящихся въ распоряженіи штабовъ армій и придаваемыхъ послѣдними въ корпуса для временнаго усиленія.
/.../
Ограничиваться для сопровожденія наземныхъ атакъ одними спеціальными аппаратами неправильно. Во время штурма переживаются минуты, требующія героическихъ усилій и самопожертвованія отъ всѣхъ элементовъ борьбы. Совершенно естественно, что командованіе потребуетъ отъ авіаціи помощь далеко выходящую изъ рамокъ примѣненія лишь спеціальныхъ эскадрилій нижняго боя. Оно призоветъ и эскадрильи, органически связанныя съ войсками (при дивизіяхъ или корпусахъ). Необходимо предвидѣть это при выработкѣ конструкцій аппаратовъ этихъ эскадрилій». (Головинъ Н.Н. Авiацiя въ минувшую войну и въ будущую. Прага. 1922. Стр. 15, 16.) https://archive.org/details...
«Разсмотримъ теперь вопросъ объ использование конницей при операціяхъ на флангѣ различнаго рода средствъ техники.
Танки съ нами не поспѣли бы и только стѣснили бы нашъ маневръ. Бронированные автомобили могли принести большую пользу и на фронтѣ нашей конницы и на нашемъ внѣшнемъ флангѣ; они дали бы намъ прекрасныя точки опоры. Въ раіонѣ, въ которомъ происходила операція не было шоссе, дороги же послѣ дождя распустились; переправы черезъ Ходель были уничтожены. Задерживать маневръ изъ-за отсутствія броневыхъ автомобилей не приходилось. Но слѣдуетъ сказать, что кавалерія, нападающая на флангъ и тылъ, должна стремиться широко использовать броневые автомобили. Принесутъ также большую пользу бронированные аэропланы.
На первое мѣсто среди той помощи, которую кавалерія при своихъ фланговыхъ маневрахъ попросить у техники, должно быть поставлено быстрое установленіе прочной технической связи.
Мы упоминали выше, что использованіе нападенія на флангъ и въ тылъ можетъ быть достигнуто только при полномъ содѣйствіи фронта. Это вѣрно не только для тактическихъ охватовъ, но и въ отношеніи глубокихъ рейдовъ въ тылъ. ... Безъ установленія технической связи между войсками, дѣйствующими на фронтѣ, съ конницей, дѣйствующей во флангъ и тылъ, необходимое согласованіе достигнуть невозможно. ... При дѣйствіяхъ на фронтѣ кавалерія тоже ведетъ бой на широкомъ пространствѣ; и въ этомъ случаъ требуется техническая связь. Но бой на флангѣ требуетъ болѣе тонкаго, гибкаго маневрированія; донесенія, оріентирующія начальника, должны достигать его быстрѣе; перегруппировки въ подобныхъ бояхъ болѣе радикальны и приказанія начальника должны скорѣе поспѣвать на мѣста. Большимъ подспорьемъ служатъ мотоциклетки и въ будущемъ безпроволочный телефонъ.
И все-таки главнымъ техническимъ средствомъ для нападенія во флангъ и тылъ является всадникъ со своей винтовкой, въ сопровожденiи возможно болѣе дальнобойныхъ пушекъ и пулеметовъ». (Головинъ Н.Н. Современная конница. Бѣлградъ. 1923. Стр. 56.)
По мере развития техники развивал военную мысль и Головин. Генерал от кавалерии П.Н. Краснов генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину. № 354. 9 июля 1941 г. «Казачий полк? – Какой? – Конный? Стрелковый? Механизированный? Панцирный? Или «Головинской» организации – 4 сабельных сотни, 1 пулеметная, 1 конно-саперная, танковый отряд, полковая батарея, эскадрилья самолетов и т.д.». (Переписка генерала П.Н. Краснова 1939–1945 гг. М.: «Сеятель», 2018. С. 113.)
То есть, как только позволило развитие военной техники, Головин распространил правила устройства конного корпуса на конный полк, признав необходимым включить в его состав все рода оружия вплоть до воздушных сил. Здесь он существенно превзошёл современную ему военную мысль, введшую такое устройство только на уровне моторизованных и танковых дивизий (но без самолётов).
Мысль Головина может показаться смелой по своей требовательности, но в действительности она естественна и очень верная. Как показывал опыт 1-й и 2-й Мировых войн, войска часто испытывали неудачи, потому что полки и батальоны не имели достаточного вооружения для самостоятельных действий. Им требовалась помощь дивизионного или даже корпусного уровня.
Правильная постановка военного дела определяет ведение будущей войны, неправильная подстраивается под него.
Совершённый Германией в 1939-42 годах невиданный дотоле разгром кажется многим военным чудом. Однако к 1939 году кроме 1-й Мировой войны германские войска не имели никакого основательного боевого опыта. У них было историческое немецкое военное дело, позволившее надлежаще осмыслить и развить его.
Перед 1-й Мировой войной подобным образом проявило себя русское военное дело. Генерал от кавалерии Пётр Николаевич Краснов воспоминал о командовании в 1913-14 годах 10-м Донским казачьим генерала Луковкина полком: «Какъ перемѣнилась Русская армiя, послѣ Японской войны! Нельзя и сравнивать того, что было, съ тѣмъ, что есть. … Въ пѣхотѣ – густыя цѣпи, близкiя поддержки въ сомкнутомъ строю, атака съ музыкой и барабаннымъ боемъ, плохое самоокапыванiе, батареи на открытыхъ позицiяхъ, выравненныя, какъ на картинкѣ – все это теперь, а прошло едва десять лѣтъ, казалось намъ точно прошедшимъ вѣкомъ.
У насъ было все новое и по новому. Мы знали между тѣмъ, что сосѣдей нашихъ это новое почти не коснулось».
«Слѣдуя завѣтамъ Петра Великаго, я не держался устава, «яко слѣпой стѣны», но помнилъ, что «по нуждѣ и примѣненiе бываетъ.» Имѣя подъ командой великолѣпныхъ людей, природныхъ воиновъ, притомъ прекрасныхъ, спокойныхъ стрѣлковъ, я завелъ обычай рѣдкихъ цѣпей. Спѣшенная сотня, т. е. 80-90 чел. занимали участокъ по фронту около версты, притомъ люди лежали не въ порядкѣ на равныхъ интервалахъ, но тамъ, гдѣ этого требовала мѣстность. Иногда, гдѣ нибудь за закрытiемъ, образовывались одна-двѣ ружейныя батареи, которыя я подкрѣплялъ еще и пулеметами, а промежутокъ между ними шаговъ 100-200, взятый подъ перекрестный огонь, не былъ никѣмъ занятъ. На ровной мѣстности стрѣлки ложились одинъ отъ другого на 15-20 шаговъ и не в порядкѣ, но какъ кому выгоднѣе для обстрѣла и для маскировки». (Красновъ П.Н. Наканунѣ войны. Изъ жизни пограничнаго гарнизона. Изданiе Главнаго Правленiя Зарубежнаго Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ. Парижъ. 1937. Стр. 18, 23. Накануне войны. Из жизни пограничного гарнизона. // Краснов П.Н. Воспоминания о Русской Императорской Армии. М.: «Айрис-пресс», 2006. С. 380-381, 387-388.)
Европейские же армии осознали всё это, лишь вступив в 1-ю Мировую войну и понеся тяжёлые потери.
Перед 2-й Мировой войной русское военное дело оказалось в изгнании, и пребывает в забвении до сих пор.
Антон Павлов,
23-06-2022 00:58
(ссылка)
Об обучении военного времени в русских войсках 1916 и 1918 годов
Михайловское артиллерийское училище (Петроград). «В мае 1916 г. я стал юнкером – то есть студентом 7-го ускоренного военного курса.
Время учёбы оказалось счастливейшим временем моей жизни – тяжёлая, но хорошо организованная и напряжённая работа; разумная дисциплина и управление; близкие по духу товарищи-юнкера; светлые надежды на будущее, как моё собственное, так и моей страны. ...
Обычный трёхгодичный курс училища был урезан до семи месяцев за счёт исключения всех общеобразовательных предметов, таких как дифференциальное исчисление и другие разделы высшей математики. Основное внимание в обучении уделялось обслуживанию различных типов полевых орудий, организации стрельб из них, прицеливанию, составлению несложных карт, верховой езде и командованию солдатами.
/.../
Я не знаю, когда именно он возник, но, когда мы пришли в училище, кодекс чести успел уже стать одной из его традиций. Мы все свято следовали ему и считали, что никто из нас не имеет права помочь приятелю-юнкеру сжульничать во время одного из многочисленных тестов и экзаменов. Нельзя было даже смолчать, если кто-то другой делал это, поскольку от того, насколько хорошо мы освоим свою специальность за те несколько месяцев, которые есть в нашем распоряжении, будут зависеть не только наши собственные жизни, но и жизни других людей. Администрация поощряла эту традицию, но по существовавшим на тот момент армейским правилам не могла официально признать её существование. Так что офицеры не покидали классной комнаты во время письменных экзаменов, хотя их присутствие было всего лишь формальностью.
Я был одним из самых младших на курсе, но, несмотря на это, вскоре заработал себе на погоны две узкие лычки младшего портупей-юнкера (капрала от студентов). Во многом я был обязан ими умению ездить верхом, которое выгодно отличало меня от большинства других юнкеров. Многие из них до училища никогда не имели дело с лошадью и первое время представляли собой в седле довольно грустное зрелище. Позже, в летнем лагере в Красном Селе, меня выбрали ездить форейтором на передней паре одной из упряжек шестерней, возивших наши полевые пушки. Обычно на заднюю пару форейтором назначали самого большого и тяжёлого человека, так как от него зависело торможение пушки в тот момент, когда движущаяся упряжка должна была замедлиться; зато на переднюю пару нужен был искусный наездник. По сравнению с британскими и американскими армиями в русских артиллерийских упряжках постромки между первой и второй парой лошадей были значительно более длинными (см. фото 6). При этом постромки следовало держать натянутыми даже на крутых поворотах, иначе задние ноги средней пары лошадей могли в них запутаться – что вызвало бы падение лошадей или, в лучшем случае, внезапную остановку упряжки. Передний форейтор должен был быстро и умело разворачивать свою пару и ни в коем случае не допускать провисания постромок. Такой тип упряжи требовал значительного искусства верховой езды, но, несмотря на опасность, позволял добиться большей скорости и маневренности упряжки. При активных действиях кавалерии в начале Первой мировой войны и позже, во время Гражданской войны, это давало серьёзные преимущества.
Когда орудия снимали с передка, за лошадьми смотрели специальные коноводы. Делалось это для того, чтобы все мы, юнкера, во время стрельб могли по очереди брать на себя обязанности разных номеров орудийного расчёта. Кроме того, каждый из нас получал возможность направлять огонь батареи на новую цель под критическим оком командира.
/.../
Нашему училищу часто поручали испытание и оценку новых образцов артиллерийских устройств». (Чеботарев Г.П. Правда о России. Мемуары профессора Принстонского университета, в прошлом казачьего офицера. 1917-1959. / Пер. с англ. Н.И. Лисовой. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 104-106, 107.)
Издание на английском: Tschebotarioff G.P. Russia, my native land. N.Y.-L.-Toronto. 1964. https://archive.org/details...
Генерал от кавалерии П.Н. Краснов генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину. № 354. 9 июля 1941 г. «Казачий полк? – Какой? – Конный? Стрелковый? Механизированный? Панцирный? Или «Головинской» организации – 4 сабельных сотни, 1 пулеметная, 1 конно-саперная, танковый отряд, полковая батарея, эскадрилья самолетов и т.д. Кто даст на это средства? Казармы и плацы для обучения, офицеров и урядников и т.д. и т.п.?.. Если в те времена (1918 г.), когда на Дону все это имелось и в ряды полков поступала неиспорченная молодежь из станиц, – потребовалось 4 месяца, чтобы кое-как сколотить конные полки, то из теперешней молодежи, при отсутствии хороших офицеров и в год не управишься. Только негодяй или дурак может морочить этим головы несчастным, истосковавшимся по дому казакам...».
Краснов генерал-лейтенанту Фёдору Фёдоровичу Абрамову. № 633. 20 декабря 1941 г. «Спасибо Вам за доброе обо мне мнение и за аттестацию мне данную. Но мне думается, что Вы забываете, что теперь уже 1941-й год, а не 1918-й год, когда я мог работать по двадцать часов в сутки и в один и тот же день бывать утром в Ростове, а ночью в Каменской... Все проходит – проходит, если и не прошла, и моя жизнь...». (Переписка генерала П.Н. Краснова 1939–1945 гг. М.: «Сеятель», 2018. С. 113, 141.)
Все отточия в письмах авторские.
Время учёбы оказалось счастливейшим временем моей жизни – тяжёлая, но хорошо организованная и напряжённая работа; разумная дисциплина и управление; близкие по духу товарищи-юнкера; светлые надежды на будущее, как моё собственное, так и моей страны. ...
Обычный трёхгодичный курс училища был урезан до семи месяцев за счёт исключения всех общеобразовательных предметов, таких как дифференциальное исчисление и другие разделы высшей математики. Основное внимание в обучении уделялось обслуживанию различных типов полевых орудий, организации стрельб из них, прицеливанию, составлению несложных карт, верховой езде и командованию солдатами.
/.../
Я не знаю, когда именно он возник, но, когда мы пришли в училище, кодекс чести успел уже стать одной из его традиций. Мы все свято следовали ему и считали, что никто из нас не имеет права помочь приятелю-юнкеру сжульничать во время одного из многочисленных тестов и экзаменов. Нельзя было даже смолчать, если кто-то другой делал это, поскольку от того, насколько хорошо мы освоим свою специальность за те несколько месяцев, которые есть в нашем распоряжении, будут зависеть не только наши собственные жизни, но и жизни других людей. Администрация поощряла эту традицию, но по существовавшим на тот момент армейским правилам не могла официально признать её существование. Так что офицеры не покидали классной комнаты во время письменных экзаменов, хотя их присутствие было всего лишь формальностью.
Я был одним из самых младших на курсе, но, несмотря на это, вскоре заработал себе на погоны две узкие лычки младшего портупей-юнкера (капрала от студентов). Во многом я был обязан ими умению ездить верхом, которое выгодно отличало меня от большинства других юнкеров. Многие из них до училища никогда не имели дело с лошадью и первое время представляли собой в седле довольно грустное зрелище. Позже, в летнем лагере в Красном Селе, меня выбрали ездить форейтором на передней паре одной из упряжек шестерней, возивших наши полевые пушки. Обычно на заднюю пару форейтором назначали самого большого и тяжёлого человека, так как от него зависело торможение пушки в тот момент, когда движущаяся упряжка должна была замедлиться; зато на переднюю пару нужен был искусный наездник. По сравнению с британскими и американскими армиями в русских артиллерийских упряжках постромки между первой и второй парой лошадей были значительно более длинными (см. фото 6). При этом постромки следовало держать натянутыми даже на крутых поворотах, иначе задние ноги средней пары лошадей могли в них запутаться – что вызвало бы падение лошадей или, в лучшем случае, внезапную остановку упряжки. Передний форейтор должен был быстро и умело разворачивать свою пару и ни в коем случае не допускать провисания постромок. Такой тип упряжи требовал значительного искусства верховой езды, но, несмотря на опасность, позволял добиться большей скорости и маневренности упряжки. При активных действиях кавалерии в начале Первой мировой войны и позже, во время Гражданской войны, это давало серьёзные преимущества.
Когда орудия снимали с передка, за лошадьми смотрели специальные коноводы. Делалось это для того, чтобы все мы, юнкера, во время стрельб могли по очереди брать на себя обязанности разных номеров орудийного расчёта. Кроме того, каждый из нас получал возможность направлять огонь батареи на новую цель под критическим оком командира.
/.../
Нашему училищу часто поручали испытание и оценку новых образцов артиллерийских устройств». (Чеботарев Г.П. Правда о России. Мемуары профессора Принстонского университета, в прошлом казачьего офицера. 1917-1959. / Пер. с англ. Н.И. Лисовой. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 104-106, 107.)
Издание на английском: Tschebotarioff G.P. Russia, my native land. N.Y.-L.-Toronto. 1964. https://archive.org/details...
Генерал от кавалерии П.Н. Краснов генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину. № 354. 9 июля 1941 г. «Казачий полк? – Какой? – Конный? Стрелковый? Механизированный? Панцирный? Или «Головинской» организации – 4 сабельных сотни, 1 пулеметная, 1 конно-саперная, танковый отряд, полковая батарея, эскадрилья самолетов и т.д. Кто даст на это средства? Казармы и плацы для обучения, офицеров и урядников и т.д. и т.п.?.. Если в те времена (1918 г.), когда на Дону все это имелось и в ряды полков поступала неиспорченная молодежь из станиц, – потребовалось 4 месяца, чтобы кое-как сколотить конные полки, то из теперешней молодежи, при отсутствии хороших офицеров и в год не управишься. Только негодяй или дурак может морочить этим головы несчастным, истосковавшимся по дому казакам...».
Краснов генерал-лейтенанту Фёдору Фёдоровичу Абрамову. № 633. 20 декабря 1941 г. «Спасибо Вам за доброе обо мне мнение и за аттестацию мне данную. Но мне думается, что Вы забываете, что теперь уже 1941-й год, а не 1918-й год, когда я мог работать по двадцать часов в сутки и в один и тот же день бывать утром в Ростове, а ночью в Каменской... Все проходит – проходит, если и не прошла, и моя жизнь...». (Переписка генерала П.Н. Краснова 1939–1945 гг. М.: «Сеятель», 2018. С. 113, 141.)
Все отточия в письмах авторские.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

