Антон Павлов,
29-10-2022 00:44
(ссылка)
2-я Мировая и Гражданские войны. Исторические наблюдения.
I.
СССР был совершенно революционным.
Национал-социалисты взывали к германской истории, но на самом деле в большой степени проповедовали революционное учение. (Отсюда неприязнь Гитлера к белоэмигрантам и расположение к бывшим советским военным.)
Фашисты (переводя на русский: «союзники») говорили о новом человеке, но в действительности основывались на истории Италии, включая в себя политические направления от монархистов до социалистов. Их главной целью было возрождение сильного государства после многовековой итальянской раздробленности.
Испания исповедовала, как сейчас принято говорить, «традиционные ценности».
Самые большие бедствия постигли СССР (в особенности два города, носившие имена Ленина и Сталина), затем Германию, и в гораздо меньшей степени Италию. Испания не пострадала.
СССР возглавлял профессиональный революционер-марксист, Германию художник и боевой ефрейтор, Италию журналист и боевой капрал. Испанию боевой офицер. У первых трёх стран были просто вожди (а у самой первой даже и «почётный вождь индейцев»). У Испании «вождь Божьей милостью» (наименование произошло от того, что изначально Франко не должен был и не собирался возглавлять восстание).
Как можно видеть, государственные добродетели рассудительность и воздержание (Второе послание святого апостола Петра, гл. 1, ст. 5-6.) оказались только у традиционного христианского самодержца Франсиско Франко.
II.
Все помогавшие как-либо «красным» и вредившие Белым пострадали от большевиков. 1) Враждовавшая с Вооружёнными силами Юга России Грузия в 1921 году захвачена РККА. 2) 1919 г. Польша отказалась от взаимодействия с Белыми и установила перемирие с большевиками, позволившее им перебросить значительные силы против ВСЮР. Латвия и Литва воевали против Западной добровольческой армии. Эстонцы предали Северо-Западную армию, а Финляндия не стала ей помогать. В 1939-40 годах все эти страны подверглись разделу. 3) Вредившая Белым Франция в 1940 г. была разгромлена вследствие соглашения СССР и Германии. 4) Чехословаки предали в 1919-20 годах Верховного правителя России адмирала Колчака и Белые войска. В 1945 году к ним пришла советская власть. (Поэтому и за 1968 г. они должны пенять на себя.) 5) Япония по требованию США прекратила поддержку Белого Приморья, объявив 24 июня 1922 г. о выводе своих войск. В 1945 г. по требованию США на Японию напал СССР. В итоге независимой Японии больше нет. 6) Сильнее всех пострадала взрастившая в 1917 г. большевиков Германия.
Англия и США масонские государства, они как бесы.
В настоящее время существуют все основные государства участники 2-й Мировой войны, даже Словакия и Хорватия восстановили свою государственность. Нет только СССР. Это как если бы Российская Империя через 46 лет после взятия Парижа в 1814 г. прекратила своё существование. Исчезновение в 1860 году Российской Империи невозможно вообразить, развал СССР данность. Российская Империя в 1860 г. уверенно развивалась после самой большой войны 1854-56 годов в своей истории, продолжая вести пограничные. СССР с трудом переносил военные расходы мирного времени (к вопросу об учении «базиса и надстройки»).
III.
Об Испании. У нас бытует ошибочное представление, что знаком к восстанию являлось сказанное по радио 17 июля 1936 года: «Над всей Испанией безоблачное небо». На самом деле знаком к восстанию против революционных перемен были слова «Sin novedad» (дословно «Без нового», в смысле «как обычно»). Борьба велась за существование исторической Испании. К сожжению церквей и политическим убийствам, после начала гражданской войны у республиканцев добавилось новое обстоятельство: «Никто больше не говорил «адью» [с Богом – А.П.]. Повсеместно звучало слово «салют». Некий Фернандес де Дьос [Фернандес Божий – А.П.] даже написал министру юстиции, осведомляясь, не может ли он поменять свою фамилию на Бакунин, потому что больше «не хочет иметь ничего общего с Богом». (Заместитель министра ответил: «Имеет смысл упростить длинную и сложную процедуру, когда причина смены фамилии носит столь уважаемый характер».) «Неужели вы до сих пор верите в этого Бога, который всегда молчит и не смог защититься, даже когда сжигали его изображения и храмы? Признайте, что Бога не существует и что ваши священники – всего лишь лицемеры, которые обманывают народ». Такие жгучие вопросы возникали во многих городах и деревнях республиканской Испании. В истории Европы и, может быть, даже мира не было времён, когда религия и все её деяния не вызывали такую страстную ненависть». (Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931-1939 гг. М.: «Центрполиграф», 2003. Кн. 2-я. Гл. 15. С. 127. Гл. 20. С. 165-166, 170.)
В старинном замке Альказар древней столицы Испании Толедо располагалась Военная академия. «В Толедо, пользуясь подавляющим численным превосходством, милиция оттеснила мятежников под командованием полковника Москардо в небольшой и легко обороняемый район с центром в Алькасаре, полукрепости-полудворце, который стоял на возвышенности, господствующей над городом и рекой Тахо. Москардо отверг попытки военного министерства и правительства принудить его к сдаче. В конечном итоге он забаррикадировался к крепости. В его распоряжении оказались 1300 человек, 800 из них были членами гражданской гвардии, 100 — офицерами, 200 — фалангистами или вооружёнными сторонниками других правых партий и 190 — кадетами академии (которые были распущены на летние каникулы). Кроме того, полковник взял с собой 550 женщин и 50 детей. И прихватил, по его собственным словам, с собой в заложники «гражданского губернатора со всей семьёй и некоторое количество левых политиков (точнее, около ста человек)». Гарнизон был хорошо обеспечен боеприпасами с соседнего оружейного завода, а вот припасов не хватало с самого начала осады». (Там же. Кн. 2-я. Гл. 18. С. 149-150.)
«...самый знаменитый инцидент этого периода испанской войны произошёл в Толедо. Из Мадрида министр образования, военный министр и генерал Рикельме отчаянно названивали полковнику Москардо, командиру осаждённого в Алькасаре гарнизона националистов, уговаривая его сдаться. Наконец 23 июля Кандидо Кабельо, глава толедской милиции, позвонив полковнику Москардо, сообщил, что если тот через десять минут не сдаст Алькасар, то он, Кабельо, лично расстреляет Луиса Москардо, сына полковника, который этим утром попал в плен. «Ты поймешь, что это правда, когда поговоришь с ним», — добавил Кандидо Кабельо. Луис Москардо смог произнести только одно слово. «Папа», — пробормотал он в трубку. «Что там происходит, мой мальчик?» — спросил полковник. «Ничего особенного, — ответил сын. — Они говорят, что расстреляют меня, если Алькасар не сдастся». — «Если это правда, — ответил полковник Москардо, — то вручи свою душу Богу, крикни: «Да здравствует Испания!» — и умри как герой. Прощай, сын мой, прими мой последний поцелуй». Кандидо Кабельо вернулся к телефону. Полковник Москардо сообщил, что в милости не нуждается. «Алькасар никогда не сдастся», — сказал он, кладя трубку. Москардо был убит 23 августа. Алькасар продолжал оставаться в осаде. Хотя продовольствия не хватало, воды и боеприпасов было вдоволь. Провизия появилась в результате смелой вылазки и нападения на соседнее зернохранилище, откуда было доставлено две тысячи мешков с зерном. Основой питания в Алькасаре были хлеб и конское мясо (в начале осады там оказались 177 лошадей)». (Там же. Кн. 2-я. Гл. 23. С. 192.)
Несмотря на убийство сына, Москардо оставил в живых имевшихся у него республиканских заложников.
«В Толедо с перерывами продолжались военные действия. Сопротивление Алькасара выводило из себя осаждавших его милиционеров. Весь август шла ружейная перестрелка с обеих сторон. Хорошо подготовленные и укрытые стенами защитники вели прицельный огонь, и милиция не делала попыток пойти на штурм, чтобы положить конец осаде. Через мегафоны обе стороны обменивались оскорблениями и хвастливыми заявлениями. Бомбы, которые от случая к случаю падали на Алькасар, не оказывали никакого воздействия на защитников древней крепости, которая была надёжно укреплена ещё в начале столетия, когда генерал Франко учился в её пехотной школе. Сплошь католическое население, обитавшее в этом районе, заставляло осаждающих постоянно опасаться измены. А тем временем гражданские власти старались защитить несравненные произведения искусства в толедских церквях и музее Эль Греко. Хотя у защитников Алькасара боеприпасов было в избытке, надежд на скорое освобождение у них не оставалось. Они были полностью отрезаны от внешнего мира и не имели представления, что делается в остальной Испании. У них не было электричества, а вместо соли в ход шла штукатурка со стен. Тем не менее осаждённые вели себя с удивительным мужеством. Проводились парады, и единственного оставшегося в крепости породистого жеребца берегли на племя. В подвалах крепости состоялась фиеста в честь Успения, с танцами фламенко под кастаньеты. 17 августа над крепостью пролетел самолёт националистов, который сбросил ободряющее послание от Франко и Молы и, что было важнее всего, новости. 4 сентября пал Талавера-де-ла-Рейна, в семидесяти километрах от крепости на берегу Тахо». (Там же. Кн. 3-я. Гл. 30. С. 238.)
«9 сентября защитники Алькасара в Толедо услышали, как из милицейского поста по другую сторону улицы к ним обращаются по мегафону с известием, что майор Рохо, бывший профессор тактики Пехотной академии, хотел бы передать предложение от правительства. Поскольку Москардо и другие офицеры в крепости знали Рохо, его впустили внутрь, и огонь по Алькасару был прекращён. Он предложил в обмен на сдачу Алькасара гарантию жизни и свободы для укрывавшихся там женщин и детей. Самих же защитников ждёт военно-полевой суд. Москардо, естественно, отверг эти условия. В ответ он попросил Рохо, чтобы во время очередного прекращения огня правительство прислало в Алькасар священника. Рохо пообещал и покинул крепость, поговорив с остальными офицерами гарнизона, которые безуспешно уговаривали его остаться с ними». (Там же. Гл. 34. С. 258.)
«Теперь командованию националистов пришлось принимать достаточно важное решение: идти ли им на выручку Толедо, который находился всего в сорока километрах, или продолжать марш на Мадрид? Положение Алькасара вызывало серьёзные опасения. Его защитникам приходилось уйти в подвалы. Запасы воды подходили к концу. Они съели мулов и почти всех лошадей, кроме одного коня – того самого чистокровного скакового жеребцы, который должен был погибнуть последним. 18 сентября республиканцы взорвали юго-восточную башню. Строение превратилось в груду щебня. Милиционеры, преодолев развалины, водрузили красное знамя на конной статуе Карла V во дворе крепости. Но заряд под северо-восточной башней не взорвался. Четверо офицеров, вооружённых только револьверами, отбросили милиционеров от северной башни. 20 сентября в больнице Санта-Крус [Святой Крест – А.П.] были подготовлены пять машин с бензином. Стены Алькасара залили горючей жидкостью. Чтобы воспламенить её, в ход пошли гранаты. Из Алькасара выскочил кадет, пустив в ход пожарный шланг. Он был убит, но шланг втянули обратно в Алькасар. К полудню бензин всё же вспыхнул, но большого урона не причинил. К вечеру в Толедо появился Лагро Кабальеро [глава республиканского правительства – А.П.], утверждавший, что Алькасар падёт через двадцать четыре часа. На следующий день Франко принял решение освобождать город. Генерал Кинделан спросил, понимает ли он, что отклонение от плана может стоить ему Мадрида. Франко согласился, что это вполне возможно. Однако, по его мнению, духовное (или пропагандистское) значение освобождение Москардо куда важнее. Но может быть, националистов куда сильнее манило искушение завладеть оружейным заводом Толедо, что и стало решающим фактором для наступления. 23 сентября Варела, сменивший заболевшего Ягуэ, двинулся на Толедо; две колонны, наступавшие с севера, возглавляли полковники Асенсио и Барон. А тем временем осаждавшие подвели новую мину под северо-восточную башню. В Толедо прибыла из Мадрида штурмовая гвардия [созданная для защиты завоеваний революции – П.П.], чтобы окончательно завершить разгром крепости. Заряд был взорван 25 сентября, и башня рухнула в Тахо. Но мощное каменное основание крепости не пострадало. И пока правительство готовило коммюнике о падении Алькасара, Варела уже был от неё на расстоянии всего пятнадцати километров». (Там же. Гл. 34. С. 262-263.)
Показательно, что для англосакса Хью Томаса духовного начала быть не может. Либо пропаганда, либо вещественная выгода. Так же в СССР все события истории объясняли с материалистической точки зрения.
«26 сентября Варела перерезал дорогу, соединяющую Толедо с Мадридом. Теперь отступать республиканцы могли только к югу. Утром 27 сентября защитники крепости увидели на голых пологих холмах долгожданную армию Варелы. К полудню начался штурм Толедо. И сразу же сказался натиск и военная подготовка Африканской армии, хотя защищать Толедо было нетрудно. Милиция дрогнула и побежала, оставив за собой полные арсеналы оружейного завода. Вечером защитники Алькасара услышали на улицах арабскую речь. Пришло освобождение. Как всегда, в городе, захваченном националистами, началась кровавая баня. Лейтенант Фитцпатрик рассказывал, что, увидев за городом изуродованные тела двух лётчиков-националистов, националисты не довели до Толедо ни одного из пленников, а по главной улице к городским воротам текли ручьи крови. В больнице Сан-Хуан марокканцы убили врача и перестреляли раненых прямо на койках. (Об убийствах в госпитале рассказали и другие журналисты. Я думаю, не исключено, что этот жуткий инцидент вызван тем фактом, что здоровые милиционеры скрывались в госпитале, из окон которого вели огонь по маврам.) Сорок анархистов, застигнутых в здании семинарии, выпили немалые запасы анисовой водки и подожгли здание, погибнув в огне. Сам Варела вошёл в город 28 сентября. Москардо, возглавив парад своих солдат, отдал ему честь и сказал, что рапортовать не о чем. «Всё нормально» [Sin novedad], – добавил он. Эта фраза послужила паролем мятежникам 17-18 июля. В первый раз за два месяца осаждённые вышли на свежий воздух. Они возносили молитвы «Святой Деве Средиземноморской, Богоматери Алькасара». (Там же. С. 264, 265.)
Также об этом: http://beloedelo.com/resear...
Полковник Хосе Москардо Итуарте (José Moscardó e Ituarte, 29 октября 1878 г. — 12 апреля 1956 г., Мадрид) произведён 30 сентября 1936 г. за боевые отличия в бригадные генералы пехоты и через три дня назначен начальником 72-й дивизии «Сориа». С 7 января 1943 г. генерал-лейтенант. 18 июля 1948 г. получил от Франко титул «граф Альказар де Толедо» (Conde de Alcazar de Toledo). После смерти генерала каудильо приказал, чтобы Москардо был похоронен с почестями генерал-капитана. На следующий день произведён в этот чин, и указано, что с этого времени «все чины Войск возглавляются именем капитана генерала Хосе Москардо Итуарте, за которым следует фраза «Глава Альказара де Толедо». Этот указ в 1980-е годы был отменён правительством испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Фелипе Гонсалеса. http://dbe.rah.es/biografia...
Антон Павлов,
18-10-2022 01:42
(ссылка)
Хорунжий Иван Фёдорович Голицын.
«28-й (1-й Верхне-Донской) конный полк
/.../
Голицын Иван Федорович, произведен в хорунжие № 1818 от 10.10.1918 как полный Георгиевский кавалер».
«19-й Еланский конный полк
Командир полка:
– Голицын Иван Федорович, хорунжий.
– Зотьев Михаил Иванович, временно, сотник.
– Комаров, полковник.
Помощник командира полка:
Видинеев Виктор Васильевич, юнкер, помощник командира полка по строевой части, затем командир отдельного пешего дивизиона.
Попов Иван Лазаревич, хорунжий.
Сидоров Василий Илларионович, помощник командира полка по хозяйственной части.
Богатырев Петр Григорьевич (10.08.1919–14.03.1920), есаул (с 03.06.1919), послан от полка на Круг.
Личный состав:
Алферов Алексей Семенович, есаул в полк со 02.09.1919 № 403 от 19.09.1919 по армии и флоту, командир сотни.
Батаков Илья Михайлович, хорунжий, в полк с 13.09.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии и флоту.
Болотин Василий Васильевич, сотник, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.
Голицын Иван Федорович, хорунжий, после объединения с белыми командир взвода и полковой адъютант.
Голицын Степан, командир сотни.
Гордеев Николай Максимович, командир взвода.
Гортынов Сергей, старший урядник, командир сотни.
Гуров Михаил Яковлевич, командир сотни, вахмистр.
Канаев Сергей Андреевич, командир пешей сотни, хорунжий.
Котельников Павел Павлович, подъесаул, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.
Кочетов Василий Никитович, адъютант полка.
Кочетов Василий Семенович, командир сотни.
Кочетов Никон Иванович, командир сотни.
Кривошлыков Андрей Михайлович, командир пешей сотни.
Макаров Борис Яковлевич, командир сотни, хорунжий.
Мельников Иван, командир сотни.
Попов Виктор Федорович, хорунжий в полк с 13.09.1918 № 408 от 19.09.1919.
Рудухин Григорий Филиппович, подъесаул, в полк с 23.09.1919 № 430 от 27.09.1919 по армии и флоту.
Тарасов Михаил Егорович, командир сотни, хорунжий.
Священник Николай Крылов в полк № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.
Писарь Мельников Емельян Автономович, с 03.06.1919 зав. оружием. Чиновник военного времени с 25.06.1919.
Боевой путь:
Во время восстания на Верхнем Дону создан 2-й Еланский полк 5-й повстанческой дивизии. Командир – хорунжий Иван Федорович Голицын.
Еланские повстанцы формировали свои силы в хуторе Попове 27 февраля (12 марта) 1919 г. Туда в день занятия Вёшенской прибыла сотня из хуторов Вёшенской станицы под командой подхорунжего Белова. Местным казакам было передано письмо от подъесаула Алферова, одного из наиболее заслуженных офицеров 33-го Еланско-Букановского полка. Это письмо воодушевило местных казаков. В хуторе Попове собрались делегаты от еланских хуторов (по 4 от хутора) и выбрали командный состав будущего Еланского полка.
Командиром назначили хорунжего Ивана Федоровича Голицына, помощником – Василия Илларионовича Сидорова, адъютантом – Василия Никитича Кочетова.
Сотня казаков хуторов Верхне- и Нижне-Вязового – командир старший урядник Сергей Гортынов.
Из казаков хутора Попова – Ново-Поповская сотня под командованием Никона Ивановича Кочетова.
Одновременно юнкер Видинеев Виктор Васильевич организовал казаков хуторов Солонцовского, Андроповского, Кочетовского, Терновского, Севастьяновского, Захаровского, Моховского и Безбородовского (практически всех левобережных хуторов станицы).
Известно, что в полк, помимо других, входили Терновская сотня (командир – Борис Яковлевич Макаров) и Кочетовская сотня (командир – Василий Семенович Кочетов).
Недавно было обнародовано следственное дело И.Ф. Голицына (Архив УФСБ РО. Д. П-46260. Т. 1-2.), расстрелянного в 1930 г., из его материалов следует, что в полку было 4 сотни.
Командовали ими: Макаров Борис Яковлевич (х. Кочетов), Голицын Степан (х. Терновской), Тарасов Михаил Егорович (ст. Еланская), Мельников Иван (х. Солонцовский). Но после боя под Еланской с Московским полком в Еланском полку было уже 6 сотен. Так как к полку примкнула пешая сотня из казаков поселения самой станицы Еланской (командир – Кривошлыков Андрей Михайлович) и отряд юнкера Видинеева». (Венков А.В. Зубков В.Н. Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг. Вып. 3 (ч. 1). Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии». Ростов-на-Дону: «Антей», 2016. С. 285-286, 170-172.)
https://popovfoundation.org...
«...командира Еланского повстанческого полка Ивана Голицына Советская власть не трогала до 1929 года. Когда его арестовали, на первом же допросе Голицын заявил: «Я бывший командир повстанческого полка заявляю, что никаких показаний о известных мне лицах, проводивших подготовку к вооружённому восстанию против Соввласти, категорически давать не буду, я не разделяю Соввласть, как и не разделяет окружающее меня казачество, так как нет никаких оснований разделять Советский строй казачеству. Я не проститутка, чтобы сообщать ОГПУ известную мне к/р деятельность моих знакомых. Я считаю себя врагом Советской власти, никакой пользы я ей не приносил, помимо активной борьбы с ней, как в прошлом, так и в настоящем». (Венков А.В. Донская армия в борьбе с большевиками в 1919–1920 гг. М.: «АИРО-XXI», 2019. С. 437.)
В изданных 14-ти томах сводных списков награждённых Георгиевскими крестами сведений о И.Ф. Голицыне нет. «...ещё в самом начале 20-х годов прошлого столетия, были целенаправленно уничтожены практически все Георгиевские алфавиты, которые велись во всех частях и соединениях Российской Императорской армии на протяжении всей войны. К настоящему моменту, из более чем 2000 этих алфавитов, сохранилось всего около 40, причём, большинство из них, далеко не полных». (Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. I степень №№ 1–42480. II степень №№ 1–85030. М.: «Духовная Нива», 2015. С. 2.) https://www.numismat.ru/gkc...
Вот это настоящее «переписывание истории».
/.../
Голицын Иван Федорович, произведен в хорунжие № 1818 от 10.10.1918 как полный Георгиевский кавалер».
«19-й Еланский конный полк
Командир полка:
– Голицын Иван Федорович, хорунжий.
– Зотьев Михаил Иванович, временно, сотник.
– Комаров, полковник.
Помощник командира полка:
Видинеев Виктор Васильевич, юнкер, помощник командира полка по строевой части, затем командир отдельного пешего дивизиона.
Попов Иван Лазаревич, хорунжий.
Сидоров Василий Илларионович, помощник командира полка по хозяйственной части.
Богатырев Петр Григорьевич (10.08.1919–14.03.1920), есаул (с 03.06.1919), послан от полка на Круг.
Личный состав:
Алферов Алексей Семенович, есаул в полк со 02.09.1919 № 403 от 19.09.1919 по армии и флоту, командир сотни.
Батаков Илья Михайлович, хорунжий, в полк с 13.09.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии и флоту.
Болотин Василий Васильевич, сотник, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.
Голицын Иван Федорович, хорунжий, после объединения с белыми командир взвода и полковой адъютант.
Голицын Степан, командир сотни.
Гордеев Николай Максимович, командир взвода.
Гортынов Сергей, старший урядник, командир сотни.
Гуров Михаил Яковлевич, командир сотни, вахмистр.
Канаев Сергей Андреевич, командир пешей сотни, хорунжий.
Котельников Павел Павлович, подъесаул, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.
Кочетов Василий Никитович, адъютант полка.
Кочетов Василий Семенович, командир сотни.
Кочетов Никон Иванович, командир сотни.
Кривошлыков Андрей Михайлович, командир пешей сотни.
Макаров Борис Яковлевич, командир сотни, хорунжий.
Мельников Иван, командир сотни.
Попов Виктор Федорович, хорунжий в полк с 13.09.1918 № 408 от 19.09.1919.
Рудухин Григорий Филиппович, подъесаул, в полк с 23.09.1919 № 430 от 27.09.1919 по армии и флоту.
Тарасов Михаил Егорович, командир сотни, хорунжий.
Священник Николай Крылов в полк № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.
Писарь Мельников Емельян Автономович, с 03.06.1919 зав. оружием. Чиновник военного времени с 25.06.1919.
Боевой путь:
Во время восстания на Верхнем Дону создан 2-й Еланский полк 5-й повстанческой дивизии. Командир – хорунжий Иван Федорович Голицын.
Еланские повстанцы формировали свои силы в хуторе Попове 27 февраля (12 марта) 1919 г. Туда в день занятия Вёшенской прибыла сотня из хуторов Вёшенской станицы под командой подхорунжего Белова. Местным казакам было передано письмо от подъесаула Алферова, одного из наиболее заслуженных офицеров 33-го Еланско-Букановского полка. Это письмо воодушевило местных казаков. В хуторе Попове собрались делегаты от еланских хуторов (по 4 от хутора) и выбрали командный состав будущего Еланского полка.
Командиром назначили хорунжего Ивана Федоровича Голицына, помощником – Василия Илларионовича Сидорова, адъютантом – Василия Никитича Кочетова.
Сотня казаков хуторов Верхне- и Нижне-Вязового – командир старший урядник Сергей Гортынов.
Из казаков хутора Попова – Ново-Поповская сотня под командованием Никона Ивановича Кочетова.
Одновременно юнкер Видинеев Виктор Васильевич организовал казаков хуторов Солонцовского, Андроповского, Кочетовского, Терновского, Севастьяновского, Захаровского, Моховского и Безбородовского (практически всех левобережных хуторов станицы).
Известно, что в полк, помимо других, входили Терновская сотня (командир – Борис Яковлевич Макаров) и Кочетовская сотня (командир – Василий Семенович Кочетов).
Недавно было обнародовано следственное дело И.Ф. Голицына (Архив УФСБ РО. Д. П-46260. Т. 1-2.), расстрелянного в 1930 г., из его материалов следует, что в полку было 4 сотни.
Командовали ими: Макаров Борис Яковлевич (х. Кочетов), Голицын Степан (х. Терновской), Тарасов Михаил Егорович (ст. Еланская), Мельников Иван (х. Солонцовский). Но после боя под Еланской с Московским полком в Еланском полку было уже 6 сотен. Так как к полку примкнула пешая сотня из казаков поселения самой станицы Еланской (командир – Кривошлыков Андрей Михайлович) и отряд юнкера Видинеева». (Венков А.В. Зубков В.Н. Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг. Вып. 3 (ч. 1). Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии». Ростов-на-Дону: «Антей», 2016. С. 285-286, 170-172.)
https://popovfoundation.org...
«...командира Еланского повстанческого полка Ивана Голицына Советская власть не трогала до 1929 года. Когда его арестовали, на первом же допросе Голицын заявил: «Я бывший командир повстанческого полка заявляю, что никаких показаний о известных мне лицах, проводивших подготовку к вооружённому восстанию против Соввласти, категорически давать не буду, я не разделяю Соввласть, как и не разделяет окружающее меня казачество, так как нет никаких оснований разделять Советский строй казачеству. Я не проститутка, чтобы сообщать ОГПУ известную мне к/р деятельность моих знакомых. Я считаю себя врагом Советской власти, никакой пользы я ей не приносил, помимо активной борьбы с ней, как в прошлом, так и в настоящем». (Венков А.В. Донская армия в борьбе с большевиками в 1919–1920 гг. М.: «АИРО-XXI», 2019. С. 437.)
В изданных 14-ти томах сводных списков награждённых Георгиевскими крестами сведений о И.Ф. Голицыне нет. «...ещё в самом начале 20-х годов прошлого столетия, были целенаправленно уничтожены практически все Георгиевские алфавиты, которые велись во всех частях и соединениях Российской Императорской армии на протяжении всей войны. К настоящему моменту, из более чем 2000 этих алфавитов, сохранилось всего около 40, причём, большинство из них, далеко не полных». (Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. I степень №№ 1–42480. II степень №№ 1–85030. М.: «Духовная Нива», 2015. С. 2.) https://www.numismat.ru/gkc...
Вот это настоящее «переписывание истории».
Антон Павлов,
14-10-2022 00:53
(ссылка)
1 октября 1618, 1653, 1787, 1916, 1919 годов.
1 октября русский православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. «Праздникъ Покрова Богородицы установленъ въ Россiи, а не въ Грецiи, какъ говорили доселѣ нѣкоторые (Протоiерей Дебольскiй и другiе). Въ греческихъ памятникахъ агiологiи нѣтъ и намека на сей праздникъ въ Грецiи. Въ Россiи онъ установленъ не позднѣе 12 вѣка. Въ прологѣ славянскомъ такъ говорится объ установленiи праздника: «се убо егда слышахъ (отъ житiя св. Андрея о видѣнiи Богоматери), помышляхъ, како страшное и милосердное видѣнiе и паче надѣянiя и заступленiя нашего бысть безъ празднества..... восхотѣхъ, да не безъ праздника останетъ св. покровъ твой, Преблагая.» Сiе слово о покровѣ пресв. Богородицы находится въ самыхъ древнѣйшихъ прологахъ славянскихъ въ первой редакцiи месяцеслова Василiя, которая переведена на славянскiй языкъ не позднѣе 12 века». (Сергiй (Спасскiй). Полный Мѣсяцесловъ Востока. Т. II. Святой Востокъ. М. 1876. Ч. II. Замѣтки. Стр. 313.)
«Октября в 1 день писали к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии стольник и воеводы князь Василей Куракин да князь Иван Засекин. Октября в 1 день за три часа до света приходили к Арбацким воротам на приступ польские и литовские, и немецкие люди с петарды и с лесницами к острошку у Арбацких ворот и приступали жестоким приступом, и ворота острожные выломили петардами, а острог просекли и проломали во многих местех и в острог вошли, и они, князь Василей и князь Иван, с литовскими людьми бились, и божьею милостью, а государевым счастьем польских и литовских и немецких людей многих побили и петарды и лестницы поимали, а на стене с ними были головы с стольники и стряпчими, и с дворяны, и з жильцы, и з детми боярскими да голова стрелецкой Борис Полтев с стрельцами. И с того бою с сеунчом и с петардами послали они к государю смольнянина Игнатья Уварова. И дано Игнатью государева жалованья за сеунчь ковш, камка добрая, сорок соболей в 20 рублев. Голове стрелецкому Борису Полтеву дано государева жалованья за службу ковш, камка добрая, 40 соболей в 20 рублев». (Книга сеунчей 1613-1619 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. Т. 1. М.-Варшава: «Археографический центр», 1995. С. 90-91.)
«По сем же во 127-м году на Покров пресвятыя Богородицы приходил под Москву литовской королевич Владислав со многими полки, с литовскими и с немецкими, и к Орбацким воротам приступал, и к Тверским. И божиею милостию и государским счастием в то время царствующий град Москва сохранен бысть, полских и литовских людей под Москвою побили множество. Королевич же виде многое падение людей своих и поиде ис-под Москвы под монастырь живоначалныя Троицы, Сергиев монастырь. И пришед в монастырь, стал в Рогачове и в Сваткове со многою своею силою, с полскою и с немецкою.
В то же время прислан от государя с Москвы боярин князь Иван Борисович Черкаской в Ярославль для збору ратных людей. И собрав князь Иван Борисович в Ярославле много ратных людей разных городов, и дав им государево полное жалование, и хотяше ити на королевичевы полки для очищения московскаго, собрав многия полки. Приидоша в Ярославль ко князю Ивану Борисовичу 13000 казаков, которые побивали государевых людей, и животы грабяще, и разоряли Московское государство. В то же время пришли с повинною и вину свою к государю принесли.
По сем же в Москве учинилася ссылка с полским королевичем о мирном поставлении. С полским королевичем в то же время учинили мирной договор и на слове положили до съезду болших послов и до розмены. Королевич с гетманы пошли в Литву, и воинские люди из земли вышли». (Повесть о победах Московского государства. Л.: «Наука», 1982. С. 38.)
По государеву указу был учинён собор. «И Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь, всея Руссiи Самодержецъ, пришедъ отъ праздника отъ Покрова Пресвятыя Богородицы за кресты, и бывъ въ соборной церкви, для собора былъ въ Грановитой палатѣ, а на соборѣ были: Великiй Государь, Святѣйшiй Никонъ, Патрiархъ Московскiй и всея Руссiи, Митрополитъ Крутицкiй Селивестръ, Митрополитъ Сербскiй Михайло, Архимандриты, и Игумены, со всѣмъ освященнымъ соборомъ, Бояре, Окольничiе, Думные люди, Стольники, и Стряпчiе, и Дворяне Московскiе, и жильцы, и Дворяне изъ городовъ, и дѣти Боярскiе, Гости и гостинныя и суконныя сотни и черныхъ сотенъ и дворцовыхъ слободъ торговые и иныхъ всякихъ чиновъ люди и стрѣльцы. И по Государеву, Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Руссiи указу, о неправдах Яна Казимiра Короля Польскаго и Пановъ Радъ, и о челобитьѣ Государю въ подданство Богдана Хмѣльницкаго и всего войска Запорожскаго, чтено всѣмъ вслухъ:...».
За многолетние наглые нарушения Речью Посполитой договоров, враждебные действия и стремление уничтожить православие, собор высказался за начало войны. Бояре и думные люди «приговорили», стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, гости, гостинной и суконной сотни и чёрных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, стрельцы «допрашиваны жъ по чинамъ порознь. И говорили тожъ».
«А они служилые люди за ихъ Государскую честь учнутъ съ Литовскимъ Королемъ битися, не щадя головъ своихъ, и ради помереть за ихъ Государскую честь, а торговые всякихъ чиновъ люди вспоможеньемъ и за ихъ Государскую честь, головами жъ своими рады помереть; а Гетмана Богдана Хмѣльницкаго, для православныя Христiанскiя вѣры и святыхъ Божiихъ церквей, пожаловалъ бы Великiй Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь всея Руссiи, по ихъ челобитью, велѣлъ ихъ приняти подъ свою Государскую руку». (Полное Собранiе Законовъ Россiйской Имперiи. Собранiе Первое. Съ 1649 по 12 Декабря 1825 года. Т. I. Съ 1649 по 1675. Отъ № 1 до 618. Спб. 1830. №. 104. Стр. 293-301.)
Для Российской Империи русская история была не отвлечённым понятием, а основанием действительности, в том числе правовым. Поэтому соборное решение помещено в Полном собрании законов. Теперь же вся русская история сознательно отброшена и историко-правовую действительность отсчитывают только с 1917 г.
Сражение на Кинбурнской косе. См. донесения Суворова князю Потёмкину от 1-9 октября 1787 г. в: А.В. Суворов. Т. II. М. 1951. № 315-323, с. 337-347.
«Херсонь. Апрѣля 7 дня 1788 года.
Крѣпость Кинбурнская лежитъ, какъ вамъ извѣстно, почти на концѣ косы, которая изъ Крымской степи на Югъ отъ Днѣпра, по ту сторону Херсоня, простирается въ Черное море. Непрїятель дѣлалъ видъ здѣлать изъ Очакова черезъ Лиманъ по сю сторону Дессантъ, чтобъ учинить нападенїе на сїю малую крѣпость. Когда о семъ свѣдали, то поручили Генералу Суворову начальство надъ деташаментомъ, для прикрытїя сей косы и входу въ Таврическую Область. Передъ крѣпостью устроили большую батарею для прикрытїя берега, который очень песчанъ и плоской; а съ переди здѣланы были три ложамента, одинъ за другимъ, вдоль по широтѣ всей косы. Черезъ нѣсколько дней увидѣли, какъ и ожидали, нѣсколько Турецкихъ флаговъ, приближающихся отъ Очакова къ сему берегу. Они въ нѣкоторой отдаленности отъ берега стали на якоряхъ, и въ вечеру начали бомбардировать батарею. --- Но бомбы по большой части перелетѣвъ надъ головами нашего войска, падали на другой сторонѣ въ море. На разсвѣтѣ непрїятель вышелъ на берегъ и здѣлалъ нападенїе на передней нашъ ложаментъ, который поперегъ косы съ одной стороны до другой былъ расположенъ; но онъ былъ отбитъ. Къ вечеру атаковалъ онъ вторично, и сїе дѣйствїе было рѣшительнѣе. Непрїятель напалъ съ чрезвычайною яростїю и отнялъ у насъ первый ложаментъ. Между тѣмъ съ непрїятельскихъ судовъ со стороны берега пальба безпрестанно продолжалась. Генералъ Суворовъ примѣтя такой безпорядокъ, вышелъ изъ своей батареи, бросился въ толпу сказавъ: ребята, въ передъ; и такимъ образомъ выгнали непрїятеля изъ ложамента. Черезъ короткое время непрїятель опять собрался и началъ снова атаку, при чемъ войска наши стали было отступать. Въ семъ смятенїи Генерала Суворова отрѣзали отъ его флигеля и онъ остался между непрїятелями. Тогда гранодеры перваго фланга, которые отбиваясь отступали, примѣтя cїe кричали: Братцы! Генералъ остался въ переди. Сїе восклицанїе привело ихъ въ новой жаръ, и они съ примкнутыми штыками, въ неописываемой ярости, наступали на непрїятеля. Генералъ соединился съ войсками своими и прогналъ непрїятеля изъ своихъ ложаментовъ до самаго берега. Войска наши, произнося свойственное имъ при одержанїи побѣды, страшное для непрїятеля и знаменующее погибель его восклицанїе: ура, толпами гнали непрїятеля въ море и гранодеры штыками побили ихъ великое множество, которые въ водѣ стояли по поясъ, и не могли доплыть до судовъ своихъ, а множество ихъ тамъ потопилось. Такимъ образомъ встрѣченъ былъ непрїятель при первомъ своемъ посѣщенїи, и онъ оставя наши берега болѣе не показывался. Въ семъ дѣйствїи особливо отличился одинъ Ротмистръ одного Карабинернаго полку. Онъ видѣлъ, что отдѣленная часть линїи состоявшая изъ бригады, на лѣвомъ флигелѣ была безъ начальника, что Офицеры были побиты и что конница не могла дѣйствовать. Онъ тотчасъ поскакалъ къ той части войска, и сказавъ: ребята, что стоите, ступайте!, ударилъ шпорами лошадь свою. Стой! закричалъ ему одинъ старой гранодеръ. Господинъ ротмистръ, сойдите съ лошади и тогда мы послѣдуемъ за вами. Тотчасъ Ротмистръ сошелъ съ лошади, которая побѣжала за фронтъ, командовалъ саблею: ступай. Бригада храбро стояла и немало способствовала къ окончанїю дѣйствїя. Ротмистръ награжденъ Военнымъ Орденомъ святаго Георгїя и Маїорскимъ чиномъ. Генералъ Суворовъ легко, а Генералъ-Маїоръ Рекъ тяжело ранены. – Въ скорости не могу болѣе писать. Остаюсь и проч.
(Перечень изъ собственнаго своего журнала въ продолженїе прошедшей войны при завоеванїи Молдавїи и Бессарабїи. Съ 1787 по 1790 годъ, съ прiобщенїемъ одного чертежа. Сочинялъ въ письмахъ къ своему другу Императорской Россїйской службы Сек: Маїоръ фонъ Раанъ. Спб. 1792. Письмо 4. Стр. 10-15.)
Юго-Западный фронт, Особая армия генерала от кавалерии Василия Иосифовича Гурко (среднего сына фельдмаршала), тяжёлые бои под Ковелем: «1 (14) октября гвард. стрелки взорвали минные галереи противника, увенчали воронки и заняли первую линию его окопов, которую удерживали, несмотря на самые жестокие контр-атаки врага. В тот же день было удачное продвижение на участке I. гвард. корпуса, когда был захвачен неприятельский окоп и включён в наш плацдарм. Это собственно наиболее крупные успехи за целую неделю. Все эти бои, поиски и схватки сопровождались непрерывным огневым состязанием не только орудий дальнего боя, но и ближнего, а также борьбой в воздухе и минной войной.
1 (14) октября Гурко приказал ударным корпусам (XXV., Турк. I. арм., II. и I. гвард.) начать артиллерийскую подготовку предстоящей общей атаки с тем, чтобы закончить эту подготовку в течение двух дней. (Директива I/X, № 4004. Там же д. № 337.) Подготовку надлежало вести так, чтобы временными перерывами и усилением огня вводить неприятеля в заблуждение относительно времени начала нашей атаки и держать его всё время под угрозой таковой. Фланговые группы корпусов должны были подготовить артиллерийским огнём широкие демонстративные действия. Одновременно с артиллерийской подготовкой было указано тем корпусам, которые ведут на лесных участках сближение с неприятелем ближним боем, продолжать энергично и возможно крупными скачками сближение, чтобы ко времени окончания артиллерийской подготовки подойти вплотную к неприятелю и быть готовым атаковать его на всем фронте.
/.../
Артиллерийская подготовка, по донесению корпусов, шла успешно при деятельном корректировании аэропланов. Неприятель отвечал очень энергично. О силе его артиллерии можно судить по тому, что аэропланами обнаружено на фронте только одного XXV. корпуса 16 батарей». (Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. VI. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года. М. 1923. С. 99-100.)
Алексей Михайлович начал, Екатерина II и Потёмкин продолжили, Николай II должен был завершить. Но и после него окончательное возвращение южнорусских земель было ещё возможно, если бы победили Белые.
«Оказалось, что на участок против Самурцев были переброшены свежие латышские и китайские части, а также и конница. ... К 18-ти часам красным удалось занять город Дмитровск. На радостях, что имели успех, красные, заняв Дмитровск, устроили грандиозную попойку и перепились, что стоило им во много раз дороже, чем день 29-го сентября Самурцам.
Чтобы восстановить положение на этом участке фронта, Дроздовцы и Самурцы, от последних участвовали две роты, из которых одна офицерская, 30-го сентября, в свою очередь, неожиданно для красных, повели стремительное наступление на Дмитровск и к 12-ти часам дня очистили город от красных. На улицах его валялось до 600 трупов китайцев и латышей и в течение целого дня из различных домов и сараев вылавливали Дроздовцы и Самурцы красных и их «протрезвляли».
Корниловцы же ведя наступление, после разгрома красных у Кром, 1-го октября заняли город Орел.
С занятием города Орла, фактически, можно сказать, закончилось наступление Вооруженных Сил Юга России на Москву, и в дальнейшем наступил период, вначале оборонительных боев, с перешедшими в контрнаступление красными, потом отступление Вооруженных Сил Юга России, в конечном — до самого Новороссийска». (Кравченко Вл. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Сборник. Т. I. Мюнхен. 1973. С. 297-298.)
7127 (1618) г.
«Октября в 1 день писали к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии стольник и воеводы князь Василей Куракин да князь Иван Засекин. Октября в 1 день за три часа до света приходили к Арбацким воротам на приступ польские и литовские, и немецкие люди с петарды и с лесницами к острошку у Арбацких ворот и приступали жестоким приступом, и ворота острожные выломили петардами, а острог просекли и проломали во многих местех и в острог вошли, и они, князь Василей и князь Иван, с литовскими людьми бились, и божьею милостью, а государевым счастьем польских и литовских и немецких людей многих побили и петарды и лестницы поимали, а на стене с ними были головы с стольники и стряпчими, и с дворяны, и з жильцы, и з детми боярскими да голова стрелецкой Борис Полтев с стрельцами. И с того бою с сеунчом и с петардами послали они к государю смольнянина Игнатья Уварова. И дано Игнатью государева жалованья за сеунчь ковш, камка добрая, сорок соболей в 20 рублев. Голове стрелецкому Борису Полтеву дано государева жалованья за службу ковш, камка добрая, 40 соболей в 20 рублев». (Книга сеунчей 1613-1619 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. Т. 1. М.-Варшава: «Археографический центр», 1995. С. 90-91.)
«По сем же во 127-м году на Покров пресвятыя Богородицы приходил под Москву литовской королевич Владислав со многими полки, с литовскими и с немецкими, и к Орбацким воротам приступал, и к Тверским. И божиею милостию и государским счастием в то время царствующий град Москва сохранен бысть, полских и литовских людей под Москвою побили множество. Королевич же виде многое падение людей своих и поиде ис-под Москвы под монастырь живоначалныя Троицы, Сергиев монастырь. И пришед в монастырь, стал в Рогачове и в Сваткове со многою своею силою, с полскою и с немецкою.
В то же время прислан от государя с Москвы боярин князь Иван Борисович Черкаской в Ярославль для збору ратных людей. И собрав князь Иван Борисович в Ярославле много ратных людей разных городов, и дав им государево полное жалование, и хотяше ити на королевичевы полки для очищения московскаго, собрав многия полки. Приидоша в Ярославль ко князю Ивану Борисовичу 13000 казаков, которые побивали государевых людей, и животы грабяще, и разоряли Московское государство. В то же время пришли с повинною и вину свою к государю принесли.
По сем же в Москве учинилася ссылка с полским королевичем о мирном поставлении. С полским королевичем в то же время учинили мирной договор и на слове положили до съезду болших послов и до розмены. Королевич с гетманы пошли в Литву, и воинские люди из земли вышли». (Повесть о победах Московского государства. Л.: «Наука», 1982. С. 38.)
7162 (1653) г.
По государеву указу был учинён собор. «И Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь, всея Руссiи Самодержецъ, пришедъ отъ праздника отъ Покрова Пресвятыя Богородицы за кресты, и бывъ въ соборной церкви, для собора былъ въ Грановитой палатѣ, а на соборѣ были: Великiй Государь, Святѣйшiй Никонъ, Патрiархъ Московскiй и всея Руссiи, Митрополитъ Крутицкiй Селивестръ, Митрополитъ Сербскiй Михайло, Архимандриты, и Игумены, со всѣмъ освященнымъ соборомъ, Бояре, Окольничiе, Думные люди, Стольники, и Стряпчiе, и Дворяне Московскiе, и жильцы, и Дворяне изъ городовъ, и дѣти Боярскiе, Гости и гостинныя и суконныя сотни и черныхъ сотенъ и дворцовыхъ слободъ торговые и иныхъ всякихъ чиновъ люди и стрѣльцы. И по Государеву, Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Руссiи указу, о неправдах Яна Казимiра Короля Польскаго и Пановъ Радъ, и о челобитьѣ Государю въ подданство Богдана Хмѣльницкаго и всего войска Запорожскаго, чтено всѣмъ вслухъ:...».
За многолетние наглые нарушения Речью Посполитой договоров, враждебные действия и стремление уничтожить православие, собор высказался за начало войны. Бояре и думные люди «приговорили», стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, гости, гостинной и суконной сотни и чёрных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, стрельцы «допрашиваны жъ по чинамъ порознь. И говорили тожъ».
«А они служилые люди за ихъ Государскую честь учнутъ съ Литовскимъ Королемъ битися, не щадя головъ своихъ, и ради помереть за ихъ Государскую честь, а торговые всякихъ чиновъ люди вспоможеньемъ и за ихъ Государскую честь, головами жъ своими рады помереть; а Гетмана Богдана Хмѣльницкаго, для православныя Христiанскiя вѣры и святыхъ Божiихъ церквей, пожаловалъ бы Великiй Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь всея Руссiи, по ихъ челобитью, велѣлъ ихъ приняти подъ свою Государскую руку». (Полное Собранiе Законовъ Россiйской Имперiи. Собранiе Первое. Съ 1649 по 12 Декабря 1825 года. Т. I. Съ 1649 по 1675. Отъ № 1 до 618. Спб. 1830. №. 104. Стр. 293-301.)
Для Российской Империи русская история была не отвлечённым понятием, а основанием действительности, в том числе правовым. Поэтому соборное решение помещено в Полном собрании законов. Теперь же вся русская история сознательно отброшена и историко-правовую действительность отсчитывают только с 1917 г.
1787 г.
Сражение на Кинбурнской косе. См. донесения Суворова князю Потёмкину от 1-9 октября 1787 г. в: А.В. Суворов. Т. II. М. 1951. № 315-323, с. 337-347.
«Херсонь. Апрѣля 7 дня 1788 года.
Крѣпость Кинбурнская лежитъ, какъ вамъ извѣстно, почти на концѣ косы, которая изъ Крымской степи на Югъ отъ Днѣпра, по ту сторону Херсоня, простирается въ Черное море. Непрїятель дѣлалъ видъ здѣлать изъ Очакова черезъ Лиманъ по сю сторону Дессантъ, чтобъ учинить нападенїе на сїю малую крѣпость. Когда о семъ свѣдали, то поручили Генералу Суворову начальство надъ деташаментомъ, для прикрытїя сей косы и входу въ Таврическую Область. Передъ крѣпостью устроили большую батарею для прикрытїя берега, который очень песчанъ и плоской; а съ переди здѣланы были три ложамента, одинъ за другимъ, вдоль по широтѣ всей косы. Черезъ нѣсколько дней увидѣли, какъ и ожидали, нѣсколько Турецкихъ флаговъ, приближающихся отъ Очакова къ сему берегу. Они въ нѣкоторой отдаленности отъ берега стали на якоряхъ, и въ вечеру начали бомбардировать батарею. --- Но бомбы по большой части перелетѣвъ надъ головами нашего войска, падали на другой сторонѣ въ море. На разсвѣтѣ непрїятель вышелъ на берегъ и здѣлалъ нападенїе на передней нашъ ложаментъ, который поперегъ косы съ одной стороны до другой былъ расположенъ; но онъ былъ отбитъ. Къ вечеру атаковалъ онъ вторично, и сїе дѣйствїе было рѣшительнѣе. Непрїятель напалъ съ чрезвычайною яростїю и отнялъ у насъ первый ложаментъ. Между тѣмъ съ непрїятельскихъ судовъ со стороны берега пальба безпрестанно продолжалась. Генералъ Суворовъ примѣтя такой безпорядокъ, вышелъ изъ своей батареи, бросился въ толпу сказавъ: ребята, въ передъ; и такимъ образомъ выгнали непрїятеля изъ ложамента. Черезъ короткое время непрїятель опять собрался и началъ снова атаку, при чемъ войска наши стали было отступать. Въ семъ смятенїи Генерала Суворова отрѣзали отъ его флигеля и онъ остался между непрїятелями. Тогда гранодеры перваго фланга, которые отбиваясь отступали, примѣтя cїe кричали: Братцы! Генералъ остался въ переди. Сїе восклицанїе привело ихъ въ новой жаръ, и они съ примкнутыми штыками, въ неописываемой ярости, наступали на непрїятеля. Генералъ соединился съ войсками своими и прогналъ непрїятеля изъ своихъ ложаментовъ до самаго берега. Войска наши, произнося свойственное имъ при одержанїи побѣды, страшное для непрїятеля и знаменующее погибель его восклицанїе: ура, толпами гнали непрїятеля въ море и гранодеры штыками побили ихъ великое множество, которые въ водѣ стояли по поясъ, и не могли доплыть до судовъ своихъ, а множество ихъ тамъ потопилось. Такимъ образомъ встрѣченъ былъ непрїятель при первомъ своемъ посѣщенїи, и онъ оставя наши берега болѣе не показывался. Въ семъ дѣйствїи особливо отличился одинъ Ротмистръ одного Карабинернаго полку. Онъ видѣлъ, что отдѣленная часть линїи состоявшая изъ бригады, на лѣвомъ флигелѣ была безъ начальника, что Офицеры были побиты и что конница не могла дѣйствовать. Онъ тотчасъ поскакалъ къ той части войска, и сказавъ: ребята, что стоите, ступайте!, ударилъ шпорами лошадь свою. Стой! закричалъ ему одинъ старой гранодеръ. Господинъ ротмистръ, сойдите съ лошади и тогда мы послѣдуемъ за вами. Тотчасъ Ротмистръ сошелъ съ лошади, которая побѣжала за фронтъ, командовалъ саблею: ступай. Бригада храбро стояла и немало способствовала къ окончанїю дѣйствїя. Ротмистръ награжденъ Военнымъ Орденомъ святаго Георгїя и Маїорскимъ чиномъ. Генералъ Суворовъ легко, а Генералъ-Маїоръ Рекъ тяжело ранены. – Въ скорости не могу болѣе писать. Остаюсь и проч.
М. Л. Р.»
(Перечень изъ собственнаго своего журнала въ продолженїе прошедшей войны при завоеванїи Молдавїи и Бессарабїи. Съ 1787 по 1790 годъ, съ прiобщенїемъ одного чертежа. Сочинялъ въ письмахъ къ своему другу Императорской Россїйской службы Сек: Маїоръ фонъ Раанъ. Спб. 1792. Письмо 4. Стр. 10-15.)
1916 г.
Юго-Западный фронт, Особая армия генерала от кавалерии Василия Иосифовича Гурко (среднего сына фельдмаршала), тяжёлые бои под Ковелем: «1 (14) октября гвард. стрелки взорвали минные галереи противника, увенчали воронки и заняли первую линию его окопов, которую удерживали, несмотря на самые жестокие контр-атаки врага. В тот же день было удачное продвижение на участке I. гвард. корпуса, когда был захвачен неприятельский окоп и включён в наш плацдарм. Это собственно наиболее крупные успехи за целую неделю. Все эти бои, поиски и схватки сопровождались непрерывным огневым состязанием не только орудий дальнего боя, но и ближнего, а также борьбой в воздухе и минной войной.
1 (14) октября Гурко приказал ударным корпусам (XXV., Турк. I. арм., II. и I. гвард.) начать артиллерийскую подготовку предстоящей общей атаки с тем, чтобы закончить эту подготовку в течение двух дней. (Директива I/X, № 4004. Там же д. № 337.) Подготовку надлежало вести так, чтобы временными перерывами и усилением огня вводить неприятеля в заблуждение относительно времени начала нашей атаки и держать его всё время под угрозой таковой. Фланговые группы корпусов должны были подготовить артиллерийским огнём широкие демонстративные действия. Одновременно с артиллерийской подготовкой было указано тем корпусам, которые ведут на лесных участках сближение с неприятелем ближним боем, продолжать энергично и возможно крупными скачками сближение, чтобы ко времени окончания артиллерийской подготовки подойти вплотную к неприятелю и быть готовым атаковать его на всем фронте.
/.../
Артиллерийская подготовка, по донесению корпусов, шла успешно при деятельном корректировании аэропланов. Неприятель отвечал очень энергично. О силе его артиллерии можно судить по тому, что аэропланами обнаружено на фронте только одного XXV. корпуса 16 батарей». (Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. VI. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года. М. 1923. С. 99-100.)
Алексей Михайлович начал, Екатерина II и Потёмкин продолжили, Николай II должен был завершить. Но и после него окончательное возвращение южнорусских земель было ещё возможно, если бы победили Белые.
1919 г.
«Оказалось, что на участок против Самурцев были переброшены свежие латышские и китайские части, а также и конница. ... К 18-ти часам красным удалось занять город Дмитровск. На радостях, что имели успех, красные, заняв Дмитровск, устроили грандиозную попойку и перепились, что стоило им во много раз дороже, чем день 29-го сентября Самурцам.
Чтобы восстановить положение на этом участке фронта, Дроздовцы и Самурцы, от последних участвовали две роты, из которых одна офицерская, 30-го сентября, в свою очередь, неожиданно для красных, повели стремительное наступление на Дмитровск и к 12-ти часам дня очистили город от красных. На улицах его валялось до 600 трупов китайцев и латышей и в течение целого дня из различных домов и сараев вылавливали Дроздовцы и Самурцы красных и их «протрезвляли».
Корниловцы же ведя наступление, после разгрома красных у Кром, 1-го октября заняли город Орел.
С занятием города Орла, фактически, можно сказать, закончилось наступление Вооруженных Сил Юга России на Москву, и в дальнейшем наступил период, вначале оборонительных боев, с перешедшими в контрнаступление красными, потом отступление Вооруженных Сил Юга России, в конечном — до самого Новороссийска». (Кравченко Вл. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Сборник. Т. I. Мюнхен. 1973. С. 297-298.)
Антон Павлов,
03-09-2022 16:28
(ссылка)
Занятие Львова 21 августа (3 сентября) 1914 года.
21 августа (3 сентября) 1914 г. 42-я и 5-я дивизии IX-го корпуса 3-й армии Юго-Западного фронта заняли древнерусский город Львов.
«Командиръ IX корпуса донося въ штабъ арміи о результатахъ произведенной имъ днемъ 20 августа (2 сентября) усиленной рекогносцировки, вновь настойчиво просилъ разрѣшенія о переходѣ всѣмъ ІХ-мъ корпусомъ въ наступленіе и о содѣйствіи въ этомъ случаѣ наступленіемъ сосѣднихъ съ нимъ корпусовъ.
Продолжаю дальнѣйшее описаніе словами самого ген. Щербачева («Львовъ — Рава Русская — Перемышль. ІХ-й корпусъ и 3-я армія въ Галиціи въ 1914 г.». Военный Сборникъ (изд. въ Бѣлградѣ), книга 10-я, стр. 126-127.):
«Затѣмъ, собравъ начальниковъ дивизій и выслушавъ ихъ доклады о результатахъ дневныхъ развѣдокъ, подтверждавшихъ развалъ австрійцевъ и отсутствіе какого либо активнаго сопротивленія съ ихъ стороны, я одновременно, приказалъ — за ночь продвинуться къ фортамь и атаковать ихъ утромъ, указавъ, что буду на высотѣ за фронтомь 42-й дивизіи».
«Въ 2½ часа ночи (21 авт. — 3 сент.) быль полученъ приказъ по арміи о наступленіи, съ оговоркой быть очень осторожными, и, ночью постараться захватить важнѣйшіе передовые пункты. Сосѣдніе XI и X корпуса должны были наступать уступами за флангами ІХ-го корпуса».
«21 авг. (3 сент.), рано утромъ, я выѣхалъ съ чинами штаба къ 42-й дивизіи, направленной на главные форты, и слѣдилъ за наступленіемъ. Трудно описать, что переживалось всѣми въ это время. Прошло 2-3 часа какъ всѣ начали наступленіе, войска скрылись за складками мѣстности и не было слышно ни одного выстрѣла».
«Наконецъ, послышалась небольшая перестрѣлка и раздались орудійные выстрѣлы на флангахъ, видимо, батарей сосѣднихъ корпусовъ. Не прошло и ½ часа, какъ было получено донесеніе генерала Роде (Начальникъ 42-й пѣхотной дивизіи.) о взятіи форта почти безъ сопротивленія, и нѣсколькихъ батарей, причемъ крупныя орудія стояли въ окопахъ, но прислуги не было. По всей линіи выкинуты бѣлые флаги и видна группа идущихъ навстрѣчу, съ бѣлымъ флагомъ. Я приказалъ потребовать немедленно безусловной сдачи, гарантируя порядокъ и спокойствіе; всѣмъ властямъ и полиціи оставаться на мѣстахъ и продолжать охранять порядокъ. Никакихъ вооруженныхъ австрійскихъ частей и командъ въ городѣ не оставлять, всѣхъ плѣнныхъ собрать внѣ города безъ оружія; выставить карауль на площадяхъ и у важнѣйшихъ пунктовъ города».
«Затѣмъ послѣдовало второе донесеніе, что президентъ (мэръ) города, изъявилъ полную покорность и части вступили въ городъ».
«Вслѣдъ за этимъ, генералъ Парчевскій (Начальникъ 5-й дивизіи.) донесъ, что 5-я дивизія также заняла форты и части ея вошли въ городъ, но несколько позднѣе 42-й дивизии, такъ какъ, она къ началу наступленія находилась немного далѣе».
Приведу теперь выдержку изъ записки ген. Роде (Хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина), въ которой описывается какъ было произведено занятіе Львова 42-й пѣх. дивизіей. Дивизія эта повела наступленіе «рано утромъ, 21 авг. (3 сент.), имѣя впереди 2-ю бригаду (полки уступами слѣва), въ направленіи на фронтъ Вейнбергъ-Чертова Скала, а 165-й пѣхотный Луцкій полкъ въ направленіи на высоту Подборце съ приказаніемъ сбить австрійцевъ съ этой горы. Высота эта была очищена противникомъ безъ боя. Наступленіе происходило безостановочно и стремительно и, уже около 8-9 часовъ утра, подойдя съ 167-мъ полкомъ къ восточнымъ воротамъ Львова, я послалъ въ городъ парламентера, послѣ чего, я быль встрѣченъ депутаціей городского управленія съ городскимъ головой во главѣ. Диктуя ему условія и отдавая первыя распоряжения по водворенію порядка (уже начались грабежи, взломы погребовъ, пожары и пр.), я отъ мэра города впервые точно узналъ, когда именно Львовъ быль очищенъ противникомъ: оказалось, что австрійцы покинули городъ ночью на 21-ое авг. (3 сент.) причемъ послѣдняя колонна ушла около 5 часовъ утра 21-го авг. (3 сент.), т. е. за 3-4 часа до нашего наступленія. Австрійцы вступили на западъ по направленно къ Городокскимъ позиціямъ. Я отправилъ командиру IX корпуса, ген.-лейтенанту Щербачеву донесеніе, начинавшееся словами: «Счастливъ поздравить Ваше Превосходительство съ первымъ крупнымъ успѣхомъ. Львовъ только что занять ввѣренной мнѣ дивизіей». Донесеніе это отвезъ на автомобилѣ старшій адъютантъ штаба дивизіи ген. штаба капитанъ Петровъ...»
«Занятіе Львова», записываетъ далѣе ген. Роде, «явилось полной неожиданностью для высшихъ командныхъ инстанцій, которыя до утра самаго 21-гo авг. были убѣждены въ томъ, что Львовъ прочно занять противникомъ, который безъ боя его не сдастъ. Въ штабѣ 3-й арміи извѣстіе о занятіи Львова было получено, какъ разъ въ то время, когда тамъ происходило совѣщаніе о постепенной атакѣ его, считавшагося сильно укрѣпленнымъ...»
Командиръ IX корпуса сообщилъ въ штарм 3 [штаб 3-й армии — А.П.] о занятіи Львова двумя телеграммами. Первая изъ нихъ гласила: 42-я пѣх. дивизія въ 12 час. 30 мин. дня была въ двухъ верстахъ западнѣе Вейнбергена. Львовъ взять, но войска въ городъ не ввожу». Вторая телеграмма, посланная черезъ нѣкоторое время представляла собой болѣе подробное донесеніе». (Головинъ Н.Н. Изъ исторiи кампанiи 1914 года. Дни перелома Галицiйской битвы (1-3 сентября новаго стиля). Парижъ: Изданiе Главнаго Правленiя Зарубежнаго Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ, 1940. Стр. 164-167.)
«То, что кое гдѣ, главнымъ образомъ къ югу отъ Львова, наши войска вели бои съ Австро-Венграми, свидѣтельствуетъ слѣдующая запись, взятая изъ полкового дневника 12-го гусарскаго Ахтырскаго полка (Составленъ ротмистромъ В. Скачковымъ, копія хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина.) (12-я кав. див. ген. Каледина):
«21 авг. (3 сент.) мы двинулись въ головѣ главныхъ силъ дивизiи черезъ Лопушно-Милатыче-Кротошинъ (12-ая кав. див. ночевала съ 20 на 21 авг. (съ 2-3 сент.) въ с. Хлѣбовице Вельке. Прим. Н. Н. Г.). 21 авг. разъѣздъ Ахтырскаго гусарскаго полка корнета Ильяшенко, донесъ — что австрійцы нѣсколько часовъ тому назадъ оставили городъ Львовъ. Второй эскадронъ къ югу отъ Львова у д. Зубржа атаковалъ пѣхоту противника, которая сдалась въ плѣнъ (½ роты). Получивъ донесеніе объ оставленiи австрiйцами г. Львова, начальникъ дивизіи круто мѣняетъ движеніе дивизіи на западъ на д. Наварiя, съ цѣлью преслѣдованiя отступаюшихъ австрійцевъ отъ Львова на Городокъ съ юга (параллельное преслѣдованіе; прим. Н. Н. Г.). Въ направленiи на д. Наварiя головнымъ разъѣздомъ былъ высланъ разъѣздъ Ахтырскаго полка поручика Скачкова. Спускаясь съ разъѣздомъ по дорогѣ къ д. Наварiя и не доходя до нея приблизительно около полуторы версты, дозоры были подпущены очень близко къ окопу, въ которомъ сидѣли австрійцы вправо и влѣво отъ шоссе. Разъѣздъ наткнулся на залпы австрійцевъ и все произошло такъ неожиданно что онъ бросился карьеромъ назадъ. Быль раненъ только одинъ гусаръ въ разъѣздѣ. Генералъ Калединъ, который находился въ авангардѣ, быстро вызвалъ артиллерію на позицiю и открылъ огонь по окопамъ, а къ югу въ обходъ были двинуты два эскадрона Ахтырскаго полка съ пулеметами. Очень скоро австрiйцы стали убѣгать изъ окопа и когда мы продвинулись нѣсколько впередъ за окопъ, то глазамъ нашимъ представилась невѣроятная картина. Внизу, въ лошинѣ, у д. Наварія, находился огромный бивакъ австрiйцевъ. Вся наша артиллерія открыла бѣглый огонь и навела на нихъ такую панику, что австрiйцы стали разбѣгаться во всѣ стороны какъ муравьи. Но скоро австрійцы открыли сильный огонь многихъ орудій и уходя поспѣшно все же прикрывались сильнымъ арьергардомъ и не давали частям дивизіи, высланнымъ для преслѣдованія, перейти переправу у д. Наварiя. Пришлось бы здѣсь задержаться и вести пѣшіе бои съ пѣхотой, что не входило въ задачу кавалерійской дивизіи, а потому, оставивъ здѣсь небольшой заслонъ, ген. Калединъ съ дивизіей двинулся на югъ...»
Только что приведенная выдержка изъ полкового дневника показываетъ, что наши войска, продвигающіяся на западъ, встрѣчали сопротивленіе со стороны арьергардовъ А.-В. частей, уходившихъ къ р. Верещицѣ. Изъ этой выдержки мы видимъ также, что генералъ Калединъ, не соблазнился дешевыми лаврами занятія очищеннаго непріятелемъ Львова. Онъ правильно учелъ, что это будеть сдѣлано пѣхотой, отъ кавалеріи же требуется безпрерывное преслѣдованіе отступающаго врага». (Там же. Стр. 169-170.)
https://rusneb.ru/catalog/0...
Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Иосифовича Гурко (Ромейко-Гурко), в 1914 г. полковника и командира 18-го Нежинского гусарского полка: «...я поехал во Львов, куда приехал на автомобиле 12 декабря и остановился в гостинице Жорж. Гостиница мне показалась роскошной после крестьянских халуп Галиции. Помню, что за обедом я набросился на белый хлеб и съел целую французскую булку. Поразил меня напиток, именовавшийся в карточке вин «Брандахлыст», а лакеи его звали брандахлыстик. Вот почему его так назвали: когда мы заняли Львов, то какой-то офицер попросил какого-нибудь напитка. Лакей ему принёс кислый лимонад. Он выпил его, ругаясь, но ему ещё захотелось пить, и он сказал лакею:
— Тащи ещё этот брандахлыст.
Лакей вообразил, что так называется по-русски лимонад, и так его проставил в карточке вин. Кроме этого, ничего не было. Все спиртные напитки в армии были воспрещены.
Обошли мы с женой антикваров, но ничего не нашли». (Гурко Д.И. Воспоминания генерала. // Гершельман Ф.К. Гурко Д.И. Генералами рождаются. Воспоминания русских военачальников XIX – начала XX веков. М.: «Русское слово», 2002. С. 412.)
«Командиръ IX корпуса донося въ штабъ арміи о результатахъ произведенной имъ днемъ 20 августа (2 сентября) усиленной рекогносцировки, вновь настойчиво просилъ разрѣшенія о переходѣ всѣмъ ІХ-мъ корпусомъ въ наступленіе и о содѣйствіи въ этомъ случаѣ наступленіемъ сосѣднихъ съ нимъ корпусовъ.
Продолжаю дальнѣйшее описаніе словами самого ген. Щербачева («Львовъ — Рава Русская — Перемышль. ІХ-й корпусъ и 3-я армія въ Галиціи въ 1914 г.». Военный Сборникъ (изд. въ Бѣлградѣ), книга 10-я, стр. 126-127.):
«Затѣмъ, собравъ начальниковъ дивизій и выслушавъ ихъ доклады о результатахъ дневныхъ развѣдокъ, подтверждавшихъ развалъ австрійцевъ и отсутствіе какого либо активнаго сопротивленія съ ихъ стороны, я одновременно, приказалъ — за ночь продвинуться къ фортамь и атаковать ихъ утромъ, указавъ, что буду на высотѣ за фронтомь 42-й дивизіи».
«Въ 2½ часа ночи (21 авт. — 3 сент.) быль полученъ приказъ по арміи о наступленіи, съ оговоркой быть очень осторожными, и, ночью постараться захватить важнѣйшіе передовые пункты. Сосѣдніе XI и X корпуса должны были наступать уступами за флангами ІХ-го корпуса».
«21 авг. (3 сент.), рано утромъ, я выѣхалъ съ чинами штаба къ 42-й дивизіи, направленной на главные форты, и слѣдилъ за наступленіемъ. Трудно описать, что переживалось всѣми въ это время. Прошло 2-3 часа какъ всѣ начали наступленіе, войска скрылись за складками мѣстности и не было слышно ни одного выстрѣла».
«Наконецъ, послышалась небольшая перестрѣлка и раздались орудійные выстрѣлы на флангахъ, видимо, батарей сосѣднихъ корпусовъ. Не прошло и ½ часа, какъ было получено донесеніе генерала Роде (Начальникъ 42-й пѣхотной дивизіи.) о взятіи форта почти безъ сопротивленія, и нѣсколькихъ батарей, причемъ крупныя орудія стояли въ окопахъ, но прислуги не было. По всей линіи выкинуты бѣлые флаги и видна группа идущихъ навстрѣчу, съ бѣлымъ флагомъ. Я приказалъ потребовать немедленно безусловной сдачи, гарантируя порядокъ и спокойствіе; всѣмъ властямъ и полиціи оставаться на мѣстахъ и продолжать охранять порядокъ. Никакихъ вооруженныхъ австрійскихъ частей и командъ въ городѣ не оставлять, всѣхъ плѣнныхъ собрать внѣ города безъ оружія; выставить карауль на площадяхъ и у важнѣйшихъ пунктовъ города».
«Затѣмъ послѣдовало второе донесеніе, что президентъ (мэръ) города, изъявилъ полную покорность и части вступили въ городъ».
«Вслѣдъ за этимъ, генералъ Парчевскій (Начальникъ 5-й дивизіи.) донесъ, что 5-я дивизія также заняла форты и части ея вошли въ городъ, но несколько позднѣе 42-й дивизии, такъ какъ, она къ началу наступленія находилась немного далѣе».
Приведу теперь выдержку изъ записки ген. Роде (Хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина), въ которой описывается какъ было произведено занятіе Львова 42-й пѣх. дивизіей. Дивизія эта повела наступленіе «рано утромъ, 21 авг. (3 сент.), имѣя впереди 2-ю бригаду (полки уступами слѣва), въ направленіи на фронтъ Вейнбергъ-Чертова Скала, а 165-й пѣхотный Луцкій полкъ въ направленіи на высоту Подборце съ приказаніемъ сбить австрійцевъ съ этой горы. Высота эта была очищена противникомъ безъ боя. Наступленіе происходило безостановочно и стремительно и, уже около 8-9 часовъ утра, подойдя съ 167-мъ полкомъ къ восточнымъ воротамъ Львова, я послалъ въ городъ парламентера, послѣ чего, я быль встрѣченъ депутаціей городского управленія съ городскимъ головой во главѣ. Диктуя ему условія и отдавая первыя распоряжения по водворенію порядка (уже начались грабежи, взломы погребовъ, пожары и пр.), я отъ мэра города впервые точно узналъ, когда именно Львовъ быль очищенъ противникомъ: оказалось, что австрійцы покинули городъ ночью на 21-ое авг. (3 сент.) причемъ послѣдняя колонна ушла около 5 часовъ утра 21-го авг. (3 сент.), т. е. за 3-4 часа до нашего наступленія. Австрійцы вступили на западъ по направленно къ Городокскимъ позиціямъ. Я отправилъ командиру IX корпуса, ген.-лейтенанту Щербачеву донесеніе, начинавшееся словами: «Счастливъ поздравить Ваше Превосходительство съ первымъ крупнымъ успѣхомъ. Львовъ только что занять ввѣренной мнѣ дивизіей». Донесеніе это отвезъ на автомобилѣ старшій адъютантъ штаба дивизіи ген. штаба капитанъ Петровъ...»
«Занятіе Львова», записываетъ далѣе ген. Роде, «явилось полной неожиданностью для высшихъ командныхъ инстанцій, которыя до утра самаго 21-гo авг. были убѣждены въ томъ, что Львовъ прочно занять противникомъ, который безъ боя его не сдастъ. Въ штабѣ 3-й арміи извѣстіе о занятіи Львова было получено, какъ разъ въ то время, когда тамъ происходило совѣщаніе о постепенной атакѣ его, считавшагося сильно укрѣпленнымъ...»
Командиръ IX корпуса сообщилъ въ штарм 3 [штаб 3-й армии — А.П.] о занятіи Львова двумя телеграммами. Первая изъ нихъ гласила: 42-я пѣх. дивизія въ 12 час. 30 мин. дня была въ двухъ верстахъ западнѣе Вейнбергена. Львовъ взять, но войска въ городъ не ввожу». Вторая телеграмма, посланная черезъ нѣкоторое время представляла собой болѣе подробное донесеніе». (Головинъ Н.Н. Изъ исторiи кампанiи 1914 года. Дни перелома Галицiйской битвы (1-3 сентября новаго стиля). Парижъ: Изданiе Главнаго Правленiя Зарубежнаго Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ, 1940. Стр. 164-167.)
«То, что кое гдѣ, главнымъ образомъ къ югу отъ Львова, наши войска вели бои съ Австро-Венграми, свидѣтельствуетъ слѣдующая запись, взятая изъ полкового дневника 12-го гусарскаго Ахтырскаго полка (Составленъ ротмистромъ В. Скачковымъ, копія хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина.) (12-я кав. див. ген. Каледина):
«21 авг. (3 сент.) мы двинулись въ головѣ главныхъ силъ дивизiи черезъ Лопушно-Милатыче-Кротошинъ (12-ая кав. див. ночевала съ 20 на 21 авг. (съ 2-3 сент.) въ с. Хлѣбовице Вельке. Прим. Н. Н. Г.). 21 авг. разъѣздъ Ахтырскаго гусарскаго полка корнета Ильяшенко, донесъ — что австрійцы нѣсколько часовъ тому назадъ оставили городъ Львовъ. Второй эскадронъ къ югу отъ Львова у д. Зубржа атаковалъ пѣхоту противника, которая сдалась въ плѣнъ (½ роты). Получивъ донесеніе объ оставленiи австрiйцами г. Львова, начальникъ дивизіи круто мѣняетъ движеніе дивизіи на западъ на д. Наварiя, съ цѣлью преслѣдованiя отступаюшихъ австрійцевъ отъ Львова на Городокъ съ юга (параллельное преслѣдованіе; прим. Н. Н. Г.). Въ направленiи на д. Наварiя головнымъ разъѣздомъ былъ высланъ разъѣздъ Ахтырскаго полка поручика Скачкова. Спускаясь съ разъѣздомъ по дорогѣ къ д. Наварiя и не доходя до нея приблизительно около полуторы версты, дозоры были подпущены очень близко къ окопу, въ которомъ сидѣли австрійцы вправо и влѣво отъ шоссе. Разъѣздъ наткнулся на залпы австрійцевъ и все произошло такъ неожиданно что онъ бросился карьеромъ назадъ. Быль раненъ только одинъ гусаръ въ разъѣздѣ. Генералъ Калединъ, который находился въ авангардѣ, быстро вызвалъ артиллерію на позицiю и открылъ огонь по окопамъ, а къ югу въ обходъ были двинуты два эскадрона Ахтырскаго полка съ пулеметами. Очень скоро австрiйцы стали убѣгать изъ окопа и когда мы продвинулись нѣсколько впередъ за окопъ, то глазамъ нашимъ представилась невѣроятная картина. Внизу, въ лошинѣ, у д. Наварія, находился огромный бивакъ австрiйцевъ. Вся наша артиллерія открыла бѣглый огонь и навела на нихъ такую панику, что австрiйцы стали разбѣгаться во всѣ стороны какъ муравьи. Но скоро австрійцы открыли сильный огонь многихъ орудій и уходя поспѣшно все же прикрывались сильнымъ арьергардомъ и не давали частям дивизіи, высланнымъ для преслѣдованія, перейти переправу у д. Наварiя. Пришлось бы здѣсь задержаться и вести пѣшіе бои съ пѣхотой, что не входило въ задачу кавалерійской дивизіи, а потому, оставивъ здѣсь небольшой заслонъ, ген. Калединъ съ дивизіей двинулся на югъ...»
Только что приведенная выдержка изъ полкового дневника показываетъ, что наши войска, продвигающіяся на западъ, встрѣчали сопротивленіе со стороны арьергардовъ А.-В. частей, уходившихъ къ р. Верещицѣ. Изъ этой выдержки мы видимъ также, что генералъ Калединъ, не соблазнился дешевыми лаврами занятія очищеннаго непріятелемъ Львова. Онъ правильно учелъ, что это будеть сдѣлано пѣхотой, отъ кавалеріи же требуется безпрерывное преслѣдованіе отступающаго врага». (Там же. Стр. 169-170.)
https://rusneb.ru/catalog/0...
Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Иосифовича Гурко (Ромейко-Гурко), в 1914 г. полковника и командира 18-го Нежинского гусарского полка: «...я поехал во Львов, куда приехал на автомобиле 12 декабря и остановился в гостинице Жорж. Гостиница мне показалась роскошной после крестьянских халуп Галиции. Помню, что за обедом я набросился на белый хлеб и съел целую французскую булку. Поразил меня напиток, именовавшийся в карточке вин «Брандахлыст», а лакеи его звали брандахлыстик. Вот почему его так назвали: когда мы заняли Львов, то какой-то офицер попросил какого-нибудь напитка. Лакей ему принёс кислый лимонад. Он выпил его, ругаясь, но ему ещё захотелось пить, и он сказал лакею:
— Тащи ещё этот брандахлыст.
Лакей вообразил, что так называется по-русски лимонад, и так его проставил в карточке вин. Кроме этого, ничего не было. Все спиртные напитки в армии были воспрещены.
Обошли мы с женой антикваров, но ничего не нашли». (Гурко Д.И. Воспоминания генерала. // Гершельман Ф.К. Гурко Д.И. Генералами рождаются. Воспоминания русских военачальников XIX – начала XX веков. М.: «Русское слово», 2002. С. 412.)
Антон Павлов,
11-08-2022 01:06
(ссылка)
Советские приписки и действительность.
«Если обратиться к хронологии событий, то после первого Всесоюзного агротехнического совещания по вопросам повышения урожайности (оно было проведено Колхозцентром в 1932 г.) последняя в зерновой отрасли хозяйства необъяснимым образом, по данным официальной статистики, взмыла вверх. Как следует из анализа, проведённого упомянутыми исследователями, секрет этого «ларчика» открывался просто: с 1933 г. учётной категорией стала видовая урожайность, то есть урожайность, ожидаемая к началу уборки культуры и определяемая по виду стоящего урожая («урожайность на корню»).
По свидетельству И.В. Зеленина, в «Инструкции по измерению урожая на корню зерновых культур в 1933 г.» Центральной государственной комиссией (ЦГК) при СНК СССР по определению урожайности и валовых сборов зерновых от 22 мая 1933 г. разъяснялось, что «урожай на корню представляет собой весь урожай в поле, до последнего зерна. Это тот урожай, который может быть собран, если бы совершенно отсутствовали потери и хищения зерна при уборке и обмолоте хлеба». Зеленин же обратил внимание и на то, что «фактически уже с 1933 г. в официальных изданиях стали публиковаться данные о биологической урожайности»; именно это понятие (введено в декабре 1932 г.) использовалось при расчётах размеров валового урожая (и урожайности) зерновых, по сведениям авторов справочника «Страна Советов за 50 лет» (М., 1967 г.), в публикациях, относящихся к 1933–1953 гг. Но концептуализировано официально понятие «биологическая («чистая») урожайность» как базис для расчёта величины урожая, полученного в данном году, было в 1939 г. Иначе говоря, в основу официального определения урожайности и валового сбора зерновых в стране была теперь положена категория “«чистая» урожайность” — «урожайность на корню». (По экспертному заключению М.А. Вылцана, «понятия урожайность на корню и «биологическая» урожайность тождественны».) Данная категория учёта была использована и ретроспективно — при исчислении значений урожайности и величин сборов зерновых в 1936–1938 гг. (с 1933 по 1935 гг. за официально признанную величину урожайности принималось значение «урожайности на корню», минус «технически неизбежные потери»).
Из этого следует, что значения биологической (видовой) урожайности могли существенно превышать значения фактической (амбарной) урожайности; например, по зерновым культурам в период второй пятилетки (1933–1937 гг.) такое превышение составляло 23–25%. В этом разрыве показателей отражалась, помимо прочего, величина потерь урожая, имевших место в период от начала его уборки до ссыпки в амбары (то есть размещения произведённого продукта под крышу). В разгар «социалистического строительства» на селе (например, в 1930–1932 гг.) такие потери достигали, по оценке Народного комиссариата РКИ, 20–40% созревшего урожая; в целом же в 30-х годах они составляли 20–30% урожая. Отметим, однако, что по ЦУНХУ потери в 1930 г. были меньшими. Тот же Зеленин, со ссылкой на В.В. Осинского, тогдашнего начальника ЦУНХУ, сообщает, что в 1930 г. «формальный сбор» зерна в СССР составлял — 835,5 млн.ц, а «фактический урожай» — «не более 780 млн.ц», т.е. 93,4% «формального» объёма; таким образом, урожайность достигала лишь 7,9 ц/га (по сравнению с официальным показателем — 8,47 ц/га). Но при этом не было обозначено, какого рода урожай был принят за «формальный». Меньший объём потерь зерна в 1930 г. находит своё объяснение, по-видимому, в том, что коллективизация охватила пока относительно небольшую часть экономического пространства деревни. По состоянию на 1930 г. было коллективизировано 23,6% всех крестьянских хозяйств, располагавших площадью посевов зерновых 30,9% всего зернового клина. Произвели же колхозы в 1930 г. лишь 27,8% валовой продукции зерна.
Исследователи останавливаются на сущностных мотивах этой статистической аномалии: система оценки размера урожая по виду, т.е. на его ещё биологической стадии, позволяла кратократии существенно увеличивать норму обязательных поставок зерна в «закрома государства»; ведь размер принудительных отчуждений колхозного продукта задарма (обязательные поставки) устанавливался в 30-х годах, да и в послевоенный период, фактически как фиксированная доля валового урожая зерновых, оцененного по виду (или как доуборочная биологическая субстанция). Более того, «применение биологической урожайности означало более высокую оплату за работы МТС (на основе данных ЦГК стали исчислять натуроплату МТС), искусственное повышение товарности».
И только после смерти Сталина в статистических изданиях, публиковавшихся в 1959 г. и позже, ретроспективно восстанавливаются значения урожайности за 1933–1939 гг., соответствующие категории амбарный (фактический) урожай (включающий, помимо собственно ссыпавшихся в закрома масс зерна, также те его массы, которые формировали «используемые в хозяйстве потери», приходившиеся на кормление скота непосредственно во время уборки урожая, общественное питание и другие аналогичные нужды). О глубине разрыва между видовой (или биологической) урожайностью, с одной стороны, и амбарной, с другой, в рассматриваемый период свидетельствуют следующие параллельные ряды данных (в ц/га):
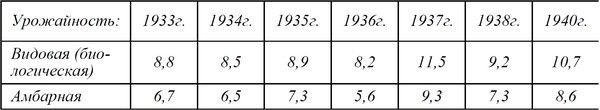
Если мы проведём сравнения между погодовыми показателями обоих рядов, то увидим, что различия между ними составляют 20–30%.
Для нашей таблицы показатель за 1936 г. был реконструирован из среднего значения показателя за пятилетие 1933–1937 гг. и погодовых показателей за 1933, 1934, 1935, 1937 гг. Показатели за 1938, 1939 гг. соответствуют опубликованным М.А. Вылцаном (см. примечания к табл. I-1), показатель за 1940 г. приводится практически во всех изданиях ЦСУ СССР.
Статистическая ложь о сельскохозяйственном производстве достигла апогея в начале 50-х годов, когда Г.М. Маленков, озвучивший Отчётный доклад ЦК на XIX съезде КПСС (1952 г.), провозгласил, что СССР отныне производит 8 млрд. пудов (130 млн.т) зерна. Ретроспективное «уточнение» этого показателя, осуществлённое ЦСУ СССР с использованием методики расчетов амбарного урожая, уменьшило его значение до 78,7 млн.т на 1951 г. и 92,2 млн.т на 1952 г. Всего же производилось в СССР в 1949–1953 гг., на излёте существования режима Сталина, 80,9 млн.т зерна в среднем в год. Иначе говоря, статистическая величина сборов зерновых была завышена на 60,7%, причём реальная урожайность зерновых за период составляла лишь 7,7 ц/га, по сравнению со значением её биологического (?) фантома — 12,4 ц/га.
Переход на исчисления сборов и урожайности зерновых в параметрах амбарного урожая (1959 г.) позволил устранить из системы сельскохозяйственной отчётности чрезмерные «завалы» фальсификаций прошлых лет. В период 1958–1964 гг. в официальных статистических публикациях, касавшихся сельского хозяйства, не только фиксировалось то, что, по-видимому, действительно было собрано на полях, но и восстанавливались реальные (или, может быть точнее — более близкие к реальным) статистические значения сборов и урожайности различных культур, хотя нередко лишь в среднегодовом исчислении за отдельные пятилетия, относящиеся к периоду конца 20-х – начала 50-х годов.
С окончанием Хрущёвской «оттепели» произошла «смена декораций» и в сельскохозяйственном учёте. В 1964 г. категория амбарный урожай была заменена на категорию сбор в весе, первоначально оприходованном хозяйствами; последняя же с 1966 г. превратилась в просто сбор. (Соответствующие изменения вносились и в категорию урожайность.)
Отказ от оценки сборов зерна в категории амбарный урожай дал импульс процессу, который можно было бы назвать «ползучей» фальсификацией, выразившейся в тенденции статистического завышения урожайности зерновых (данный «процесс пошёл» с 1966 г.).
Характерное (хотя и косвенное) свидетельство: как явствует из статистических данных ЦСУ СССР, только за период с 1961–1965 гг. по 1966–1970 гг. урожайность зерновых в стране увеличилась сразу на 34,3%, а удельный вес сортовых посевов зерновых культур — лишь с 89% в 1965 г. до 95% в 1970 г., т.е всего лишь на 6,7 процента. За период же 1966-1970 – 1971-1975 гг. (когда в стране уже полным ходом шли технологические преобразования в сельском хозяйстве) урожайность зерновых культур возросла лишь на 7,3%; а за период 1971-1975 – 1976-1980 гг. — на 8,8%.
В 1990 г., чтобы устранить влияние искажений, вызванных «ползучими» фальсификациями, на оценку фактических сборов (и урожайности), в недрах ЦСУ СССР была изобретена особая категория — сбор (урожайность) зерновых в весе после доработки, показатели которого оказались меньше просто сборов (и просто урожайности) на 7,4%. Данная учётная категория была использована ЦСУ СССР для ретроспективной переоценки величины сборов зерновых (и урожайности) по 1985 г. (погодовые данные) и отдельно для 1980 г., а также для обоих пятилетий 80-х годов. При расчёте (уточнении) урожайности зерновых, в целях достижения сопоставимости показателей последней для всего статистического ряда, авторы распространили разработанный ЦСУ СССР коэффициент (7,4%) на весь рассматриваемый в ретроспективе период с 1984 г. по 1966 г. Таким образом, начиная с 1966 г. в предлагаемой вниманию читателя таблице I-1 приводятся значения урожайности зерновых в весе после доработки, в том числе исчисленные авторами.
К этому нужно добавить, что данные о сборах и урожайности зерновых (даже в значениях до «доработки») в последние годы периода, получившего название в российской (советской) истории «эпохи застоя», вообще исчезли со страниц статистических ежегодников, издававшихся ЦСУ СССР. Запрет на их публикацию был наложен ЦК КПСС как раз в то время, когда страна вошла в полосу жесточайшего аграрного кризиса. Табу на предание гласности сведений об урожайности и сборах зерновых было постепенно снято лишь с 1985 г.». (Растянников В.Г. Дерюгина И.В. Урожайность хлебов в России. 1795-2007. М.: ИВ РАН, 2009. С. 38-42.) https://book.ivran.ru/f/ras...
Естественно, положение в сельском хозяйстве было частным следствием советской системы. Подобный же, так сказать, «видовой» (пропагандистский) подход существовал и в военной области. Советские генсеки, маршалы и генералы, посмотрев на противника, определяли на вид, что он будет разгромлен («малой кровью и на чужой территории»), так как не встречался с таким сильным противником, как Красная (Советская) армия. (И вообще, никто кроме советских людей по-настоящему воевать не способен.) 2-я Мировая война в этом отношении ничего не изменила. Жуков в конце 1940 и 1-й половине 1941 г. собирался безудержно громить немцев в наступлении. После образования НАТО и Варшавского договора советские генералы заявляли, что быстро дойдут до Атлантики, потому что так написано в советском плане военных действий. В Афганистан войска ввели вообще без какого-либо плана. Потом обещали решить все вопросы в Чечне «одним воздушно-десантным полком». С 1994 на 1995 входили в Грозный с мыслью, что противник не осмелится на сопротивление. С такими же рассуждениями вступили на «Украину» в конце февраля 2022 г. Когда же, в очередной раз, действительность оказалась иной, не желая отказываться от самохвальства, решили быстро поднажать с мыслью: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!». В итоге скоро полгода, а ДНР всё ещё не освобождена, хотя воюем против неспособной наступать украинской армии.
При этом любые попытки указать на действительность, даже самую очевидную, вызывают совершенную неприязнь советской системы. Например, известный советский журналист Валентин Зорин вспоминал в октябре 2000 г.: «Мою программу "9-я студия" закрывали несколько раз. Однажды это сделал сам главный идеолог партии Суслов. Тогда в сознание советских масс внедрялась идея, что в случае ядерной войны, если, не дай Бог, она случится, капитализм, конечно, погибнет, а социализм, конечно, выживет. И вот у меня в студии в прямом эфире беседуют академик Евгений Иванович Чазов и дважды лауреат Нобелевской премии американец Бернард Лаун. А Чазов и бросает фразу, которая тут же стала крылатой: "Радиоактивный пепел капитализма ничем не будет отличаться от радиоактивного пепла социализма". Как мне рассказывали, Суслов был вне себя. Однако, поскольку Евгений Иванович возглавлял кремлевскую медицину, обошлось без тяжёлых последствий. Но программу в эфире восстановили с большим трудом». https://www.kommersant.ru/d...
Между лживостью США и СССР есть существенная разница. Правительство США извращает нравственные начала, но в прикладном отношении стремится к выгоде. Советское мировоззрение совершенно исключает действительность. Оно не только в сознании заменяет правду идеологией, но и в прикладном отношении отрицает действительность, потому что она противоречит желаемому.
Теперь коммунистической идеологии нет, но советская основа исходить не из правды, а из того, как хочется, осталась. Поэтому никакие войны не приводят к усовершенствованию советской системы, какой бы вопиющей ни была действительность: https://t.me/aleksandr_skif...
По свидетельству И.В. Зеленина, в «Инструкции по измерению урожая на корню зерновых культур в 1933 г.» Центральной государственной комиссией (ЦГК) при СНК СССР по определению урожайности и валовых сборов зерновых от 22 мая 1933 г. разъяснялось, что «урожай на корню представляет собой весь урожай в поле, до последнего зерна. Это тот урожай, который может быть собран, если бы совершенно отсутствовали потери и хищения зерна при уборке и обмолоте хлеба». Зеленин же обратил внимание и на то, что «фактически уже с 1933 г. в официальных изданиях стали публиковаться данные о биологической урожайности»; именно это понятие (введено в декабре 1932 г.) использовалось при расчётах размеров валового урожая (и урожайности) зерновых, по сведениям авторов справочника «Страна Советов за 50 лет» (М., 1967 г.), в публикациях, относящихся к 1933–1953 гг. Но концептуализировано официально понятие «биологическая («чистая») урожайность» как базис для расчёта величины урожая, полученного в данном году, было в 1939 г. Иначе говоря, в основу официального определения урожайности и валового сбора зерновых в стране была теперь положена категория “«чистая» урожайность” — «урожайность на корню». (По экспертному заключению М.А. Вылцана, «понятия урожайность на корню и «биологическая» урожайность тождественны».) Данная категория учёта была использована и ретроспективно — при исчислении значений урожайности и величин сборов зерновых в 1936–1938 гг. (с 1933 по 1935 гг. за официально признанную величину урожайности принималось значение «урожайности на корню», минус «технически неизбежные потери»).
Из этого следует, что значения биологической (видовой) урожайности могли существенно превышать значения фактической (амбарной) урожайности; например, по зерновым культурам в период второй пятилетки (1933–1937 гг.) такое превышение составляло 23–25%. В этом разрыве показателей отражалась, помимо прочего, величина потерь урожая, имевших место в период от начала его уборки до ссыпки в амбары (то есть размещения произведённого продукта под крышу). В разгар «социалистического строительства» на селе (например, в 1930–1932 гг.) такие потери достигали, по оценке Народного комиссариата РКИ, 20–40% созревшего урожая; в целом же в 30-х годах они составляли 20–30% урожая. Отметим, однако, что по ЦУНХУ потери в 1930 г. были меньшими. Тот же Зеленин, со ссылкой на В.В. Осинского, тогдашнего начальника ЦУНХУ, сообщает, что в 1930 г. «формальный сбор» зерна в СССР составлял — 835,5 млн.ц, а «фактический урожай» — «не более 780 млн.ц», т.е. 93,4% «формального» объёма; таким образом, урожайность достигала лишь 7,9 ц/га (по сравнению с официальным показателем — 8,47 ц/га). Но при этом не было обозначено, какого рода урожай был принят за «формальный». Меньший объём потерь зерна в 1930 г. находит своё объяснение, по-видимому, в том, что коллективизация охватила пока относительно небольшую часть экономического пространства деревни. По состоянию на 1930 г. было коллективизировано 23,6% всех крестьянских хозяйств, располагавших площадью посевов зерновых 30,9% всего зернового клина. Произвели же колхозы в 1930 г. лишь 27,8% валовой продукции зерна.
Исследователи останавливаются на сущностных мотивах этой статистической аномалии: система оценки размера урожая по виду, т.е. на его ещё биологической стадии, позволяла кратократии существенно увеличивать норму обязательных поставок зерна в «закрома государства»; ведь размер принудительных отчуждений колхозного продукта задарма (обязательные поставки) устанавливался в 30-х годах, да и в послевоенный период, фактически как фиксированная доля валового урожая зерновых, оцененного по виду (или как доуборочная биологическая субстанция). Более того, «применение биологической урожайности означало более высокую оплату за работы МТС (на основе данных ЦГК стали исчислять натуроплату МТС), искусственное повышение товарности».
И только после смерти Сталина в статистических изданиях, публиковавшихся в 1959 г. и позже, ретроспективно восстанавливаются значения урожайности за 1933–1939 гг., соответствующие категории амбарный (фактический) урожай (включающий, помимо собственно ссыпавшихся в закрома масс зерна, также те его массы, которые формировали «используемые в хозяйстве потери», приходившиеся на кормление скота непосредственно во время уборки урожая, общественное питание и другие аналогичные нужды). О глубине разрыва между видовой (или биологической) урожайностью, с одной стороны, и амбарной, с другой, в рассматриваемый период свидетельствуют следующие параллельные ряды данных (в ц/га):
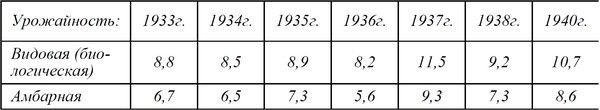
Если мы проведём сравнения между погодовыми показателями обоих рядов, то увидим, что различия между ними составляют 20–30%.
Для нашей таблицы показатель за 1936 г. был реконструирован из среднего значения показателя за пятилетие 1933–1937 гг. и погодовых показателей за 1933, 1934, 1935, 1937 гг. Показатели за 1938, 1939 гг. соответствуют опубликованным М.А. Вылцаном (см. примечания к табл. I-1), показатель за 1940 г. приводится практически во всех изданиях ЦСУ СССР.
Статистическая ложь о сельскохозяйственном производстве достигла апогея в начале 50-х годов, когда Г.М. Маленков, озвучивший Отчётный доклад ЦК на XIX съезде КПСС (1952 г.), провозгласил, что СССР отныне производит 8 млрд. пудов (130 млн.т) зерна. Ретроспективное «уточнение» этого показателя, осуществлённое ЦСУ СССР с использованием методики расчетов амбарного урожая, уменьшило его значение до 78,7 млн.т на 1951 г. и 92,2 млн.т на 1952 г. Всего же производилось в СССР в 1949–1953 гг., на излёте существования режима Сталина, 80,9 млн.т зерна в среднем в год. Иначе говоря, статистическая величина сборов зерновых была завышена на 60,7%, причём реальная урожайность зерновых за период составляла лишь 7,7 ц/га, по сравнению со значением её биологического (?) фантома — 12,4 ц/га.
Переход на исчисления сборов и урожайности зерновых в параметрах амбарного урожая (1959 г.) позволил устранить из системы сельскохозяйственной отчётности чрезмерные «завалы» фальсификаций прошлых лет. В период 1958–1964 гг. в официальных статистических публикациях, касавшихся сельского хозяйства, не только фиксировалось то, что, по-видимому, действительно было собрано на полях, но и восстанавливались реальные (или, может быть точнее — более близкие к реальным) статистические значения сборов и урожайности различных культур, хотя нередко лишь в среднегодовом исчислении за отдельные пятилетия, относящиеся к периоду конца 20-х – начала 50-х годов.
С окончанием Хрущёвской «оттепели» произошла «смена декораций» и в сельскохозяйственном учёте. В 1964 г. категория амбарный урожай была заменена на категорию сбор в весе, первоначально оприходованном хозяйствами; последняя же с 1966 г. превратилась в просто сбор. (Соответствующие изменения вносились и в категорию урожайность.)
Отказ от оценки сборов зерна в категории амбарный урожай дал импульс процессу, который можно было бы назвать «ползучей» фальсификацией, выразившейся в тенденции статистического завышения урожайности зерновых (данный «процесс пошёл» с 1966 г.).
Характерное (хотя и косвенное) свидетельство: как явствует из статистических данных ЦСУ СССР, только за период с 1961–1965 гг. по 1966–1970 гг. урожайность зерновых в стране увеличилась сразу на 34,3%, а удельный вес сортовых посевов зерновых культур — лишь с 89% в 1965 г. до 95% в 1970 г., т.е всего лишь на 6,7 процента. За период же 1966-1970 – 1971-1975 гг. (когда в стране уже полным ходом шли технологические преобразования в сельском хозяйстве) урожайность зерновых культур возросла лишь на 7,3%; а за период 1971-1975 – 1976-1980 гг. — на 8,8%.
В 1990 г., чтобы устранить влияние искажений, вызванных «ползучими» фальсификациями, на оценку фактических сборов (и урожайности), в недрах ЦСУ СССР была изобретена особая категория — сбор (урожайность) зерновых в весе после доработки, показатели которого оказались меньше просто сборов (и просто урожайности) на 7,4%. Данная учётная категория была использована ЦСУ СССР для ретроспективной переоценки величины сборов зерновых (и урожайности) по 1985 г. (погодовые данные) и отдельно для 1980 г., а также для обоих пятилетий 80-х годов. При расчёте (уточнении) урожайности зерновых, в целях достижения сопоставимости показателей последней для всего статистического ряда, авторы распространили разработанный ЦСУ СССР коэффициент (7,4%) на весь рассматриваемый в ретроспективе период с 1984 г. по 1966 г. Таким образом, начиная с 1966 г. в предлагаемой вниманию читателя таблице I-1 приводятся значения урожайности зерновых в весе после доработки, в том числе исчисленные авторами.
К этому нужно добавить, что данные о сборах и урожайности зерновых (даже в значениях до «доработки») в последние годы периода, получившего название в российской (советской) истории «эпохи застоя», вообще исчезли со страниц статистических ежегодников, издававшихся ЦСУ СССР. Запрет на их публикацию был наложен ЦК КПСС как раз в то время, когда страна вошла в полосу жесточайшего аграрного кризиса. Табу на предание гласности сведений об урожайности и сборах зерновых было постепенно снято лишь с 1985 г.». (Растянников В.Г. Дерюгина И.В. Урожайность хлебов в России. 1795-2007. М.: ИВ РАН, 2009. С. 38-42.) https://book.ivran.ru/f/ras...
Естественно, положение в сельском хозяйстве было частным следствием советской системы. Подобный же, так сказать, «видовой» (пропагандистский) подход существовал и в военной области. Советские генсеки, маршалы и генералы, посмотрев на противника, определяли на вид, что он будет разгромлен («малой кровью и на чужой территории»), так как не встречался с таким сильным противником, как Красная (Советская) армия. (И вообще, никто кроме советских людей по-настоящему воевать не способен.) 2-я Мировая война в этом отношении ничего не изменила. Жуков в конце 1940 и 1-й половине 1941 г. собирался безудержно громить немцев в наступлении. После образования НАТО и Варшавского договора советские генералы заявляли, что быстро дойдут до Атлантики, потому что так написано в советском плане военных действий. В Афганистан войска ввели вообще без какого-либо плана. Потом обещали решить все вопросы в Чечне «одним воздушно-десантным полком». С 1994 на 1995 входили в Грозный с мыслью, что противник не осмелится на сопротивление. С такими же рассуждениями вступили на «Украину» в конце февраля 2022 г. Когда же, в очередной раз, действительность оказалась иной, не желая отказываться от самохвальства, решили быстро поднажать с мыслью: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!». В итоге скоро полгода, а ДНР всё ещё не освобождена, хотя воюем против неспособной наступать украинской армии.
При этом любые попытки указать на действительность, даже самую очевидную, вызывают совершенную неприязнь советской системы. Например, известный советский журналист Валентин Зорин вспоминал в октябре 2000 г.: «Мою программу "9-я студия" закрывали несколько раз. Однажды это сделал сам главный идеолог партии Суслов. Тогда в сознание советских масс внедрялась идея, что в случае ядерной войны, если, не дай Бог, она случится, капитализм, конечно, погибнет, а социализм, конечно, выживет. И вот у меня в студии в прямом эфире беседуют академик Евгений Иванович Чазов и дважды лауреат Нобелевской премии американец Бернард Лаун. А Чазов и бросает фразу, которая тут же стала крылатой: "Радиоактивный пепел капитализма ничем не будет отличаться от радиоактивного пепла социализма". Как мне рассказывали, Суслов был вне себя. Однако, поскольку Евгений Иванович возглавлял кремлевскую медицину, обошлось без тяжёлых последствий. Но программу в эфире восстановили с большим трудом». https://www.kommersant.ru/d...
Между лживостью США и СССР есть существенная разница. Правительство США извращает нравственные начала, но в прикладном отношении стремится к выгоде. Советское мировоззрение совершенно исключает действительность. Оно не только в сознании заменяет правду идеологией, но и в прикладном отношении отрицает действительность, потому что она противоречит желаемому.
Теперь коммунистической идеологии нет, но советская основа исходить не из правды, а из того, как хочется, осталась. Поэтому никакие войны не приводят к усовершенствованию советской системы, какой бы вопиющей ни была действительность: https://t.me/aleksandr_skif...
Антон Павлов,
08-08-2022 22:42
(ссылка)
Революционная разруха.
https://t.me/aleksandr_skif...
О 20 годах покоя Столыпин говорил в связи с революцией 1905 г., а также необходимостью распределить по стране чрезвычайно увеличившееся крестьянское население Европейской России: «Им было сказано когда-то: «Итак, на очереди главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100 миллионов! Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте – и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром... Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех, русских!
Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». (Пётр Аркадьевич Столыпин. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911 гг. М.: «Молодая гвардия», 1991. Приложение 6. Убийство в Киеве Д. Богровым П. А. Столыпина. С. 365-366.)
В хозяйственном отношении Российская Империя была очень развитой страной. Достаточно заметить, что обычными были уездные кирпичные заводы, постоянно развивавшиеся. А это говорит о нарастающем строительстве. Сравнительно с другими странами, чего-то было больше у России, чего-то у них. В целом, экономически Царская Россия была одной из первых.
Но потом победили большевики:
«Извлечение из доклада Крумина Х съезду коммунистической партии, напечатаннаго в № 114 и 115 Экономической Жизни от 27 и 28 мая 1921 г.
«Совершенно неправильны указания о росте производства. Из года в год идет деградация производства. Подъем и перелом в производстве, имевшие место в последней трети 1920 г., в общем и целом не достигли уровня производства даже начала 1919 г. Начало 1921 г. характеризуется срывом всех намеченных производств программы и массовым закрытием промышленных предприятий. 1921 г. по всей вероятности придется охарактеризовать как год стабилизации, развала, а не подъема и расширения. Мы полагаем, что товарищ Рыков, пришедший к тому же заключению, совершенно прав. Для видимости сказаннаго прилагается таблица производства, составленная на основании официальных сведений и показывающая отношение производства промышленности 1920 г. к дореволюционному (довоенному) времени.
Название промышленности. % отношение добычи 1920 г. к 1916 г.
Рудодобывающая промышленность:
Железная руда................................................................. 2,25 %
Медная " ................................................................. 0,6 %
Марганец ..................................................................... 2,6 %
Асбест............................................................................... 6 %
Соль.................................................................................. 17 %
Уголь................................................................................. 20 %
Нефть................................................................................. 40 %
Производство чугуна....................................................... 2 1/8 %
" полу-продукта......................................... 2,3 %
" с.-х. машин.............................................. 1,5 %
Хлопчато-бумажная промышленность:
Пряжи................................................................................ 5 %
Суровой ткани.................................................................. 4 %
Льняная промышленность.............................................. 25 %
Деревообделывающая промышленность...................... 15 %
Резиновая.......................................................................... 5 %
Бумажная.......................................................................... 21 % (?)
Спичечная........................................................................ 15 %
Чай.................................................................................... 5 %
Сахар................................................................................. 7 %
Гудрон............................................................................... 25 %
Кирпич огнеупорный...................................................... 8 %»
(Пестржецкий Д. Русская промышленность после революции. Берлин. 1921. С. 61-62.)
20 ноября 1923 г.: «Огромная дефицитность в прошлом операционном году наших железных дорог (около 75 млн. товарных госплановских рублей) при низкой зарплате, при перевозочных тарифах, только к концу года достигших в общем довоенного уровня с превышением для грузов в среднем на 5%, при неимоверном сжатии всяких новых и восстановительных работ, а также и материального снабжения в значительной мере объясняется переплатами за минеральное топливо и металл.
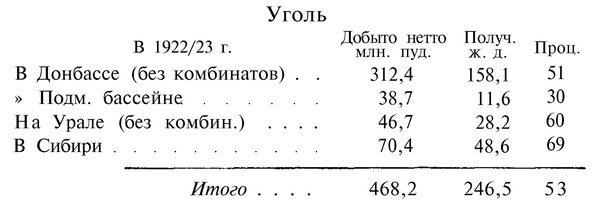
За этот уголь, по сравнению с ценами 1913 г., железными дорогами переплачено 17,68 млн. червонных рублей. По плану на 1923/24 г. предположена потребность железных дорог в топливе (исключая выдачу топлива рабочим и служащим):
Дров.............874,5 тыс. куб. саж.
Угля........281948,8 » пуд.
Нефти.......83235,6 » »
Торфа.........2000,0 » »
всего в дровяном эквиваленте 4232,1 тыс. куб. сажень на сумму 101 861,5 тыс. червонных рублей, считая дрова по сметным ценам НКПС франко-линия, а уголь, нефть и торф по ныне утвержденным плановым ценам франко-вагон (цистерна) место добычи.
Сравнивая стоимость топлива по плану 1923/24 г. по указанным ценам с ценами довоенными, мы имеем, при удержании почти на довоенном уровне дров и нефти, вздорожание угля в 222%. В результате на те деньги, которые мы платим в 1923/24 г. за топливо, мы могли бы иметь топливо по ценам 1913 г. 7 062,2 тыс. куб. сажень, или на 67 % больше, причем угля 626 541,7 тыс. пудов против нынешних 281 948,8 тыс. пудов. Стоимость же плана по ценам 1913 г. составила бы 67 905,2 тыс. руб. против нынешних 101 861,5 тыс. червонных рублей.
Переплата за все минеральное топливо в 1923/24 г. по сравнению с 1913 г., главным образом из-за вздорожания угля и нефти, выразится в сумме 35,61 млн. червонных рублей, а за один уголь — 29,39 млн. червонных рублей.
По металлу за наши заказы 1922/23 г., по предварительным подсчетам председателя хозяйственной секции Трансплана т. Грищечко-Климова (он же и член Пром-1 плана ВСНХ), мы должны были переплатить не менее 70% общего расхода на эти заказы по сравнению с ценами 1913 г., а так как мы уплатили фактически Глав-1 металлу в 1922/23 г. по централизованным заказам и на паровозо- и вагоностроение и ремонт 36,5—42,7 млн. руб., то переплата по этим заказам (без децентрализованных) должна была равняться от 25 до 28 млн. руб.
По подсчетам хозяйственно-материального отдела НКПС, исходящим из сравнения цен 1913 г. и уплаченных нами за фактически принятую продукцию, мы переплатили:
По централизованным заказам....11120884 руб.
» децентрализованным...................4300000 »
» паровозо- и вагоностроению и
ремонту.............................................5128445 »
Всего................................................20549329 руб.
/.../
Дороговизна вызывает «кризис сбыта» при огромной нужде страны в этих изделиях.
Вот данные по сельскохозяйственному машиностроению:
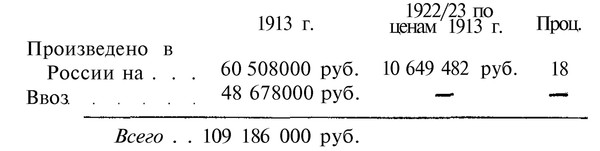
Но из продукции 1922/23 г. в 10649482 руб., по данным инженера Н. Федотова (см. прил. к «Экономической жизни» от 3/XI—23 г.), сельскому хозяйству поступило не более 25%, остальной же инвентарь остался на складах без сбыта. Это означает, что сбыт выразился в 2—7 млн. руб. (по ценам 1913 г.), т. е. 2,4% всего потребления России в 1913 г. Инженер Федотов сообщает: «в июне с. г. на складах заводов, объединяемых синдикатом Сельмаш, оставались непроданными около 100000 плугов, 10000 борон, 4000 сеялок, 350000 кос, 4500 уборочных машин и пр.»
Из этих данных видно, что «кризис сбыта» коснулся не только сельскохозяйственных машин, но даже самых простых средств сельскохозяйственного производства: как кос, борон, плугов, т. е. наше крестьянское хозяйство лишено фактически самого необходимого и того, что должно быть общедоступно.
И все это лежит мертвым капиталом, ржавеет и ломается в переполненных складах, где инвентарь сложен в 6 ярусов.
Владимиров в своих тезисах по вопросу о сбыте сельскохозяйственных машин сообщает: «К началу 1923/24 г. на складах заводов и организаций, сбывающих сельскохозяйственные машины, таковые имелись на сумму в размере 16—18 млн. руб., между тем как производственная программа 1923/24 г. намечается в размере около 14 млн. руб. и фактический сбыт в 1923/24 г., т. е. сбыт крестьянству, может быть определен около 6—7 млн. руб. (эта цифра максимальна)».
В июне руководители металлопромышленности говорили, что кризис только в «одном» сельскохозяйственном машиностроении.
Сейчас же им пришлось заговорить и о кризисе транспортных заказов, мобилизовать все свои силы на «борьбу» с этим кризисом, оставаясь пассивными к борьбе с кризисом сбыта средств сельскохозяйственного производства и машин. Транспорт, переведенный с октября этого года на бездефицитную эксплуатацию, не может выдержать таких цен на металл, которые совершенно переворачивают смету, и принужден сокращать свое потребление до возможных пределов (см. по этому вопросу в приложении мой доклад в Госплане 17/XI и приложенные таблицы с анализом сметы транспорта). ...
/.../
Это значит, нам предлагают в абсолютных величинах расходовать в 1923/24 г. при 39,3% движения от 1913 г. больше средств, чем в 1913 г., на 32,3%, или 2% по двум вариантам; относя же на единицу полезной работы на 238,8%, или на 133% больше, чем в 1913 г. Тогда как вся наша расходная смета по железнодорожному транспорту не может быть выше 2/3 1913 г., мы испрашиваем — 611 млн. червонных рублей, в 1913 же году она была 954,8 млн. червонных рублей.
Таким образом, политика нашей металлопромышленности заключается в том, чтобы ограничить сбыт своих изделий населению и навязать их государству, и благодаря именно такой политике металлопромышленность попадает в безысходное противоречие: население не покупает, так как слишком дорого, государство не сможет столько заказать, так как население слишком бедно для того, чтобы дать государству на это средства.
Вот основные данные по металлопромышленности. Продукция металлургии в среднем за месяц в тыс. пудов.
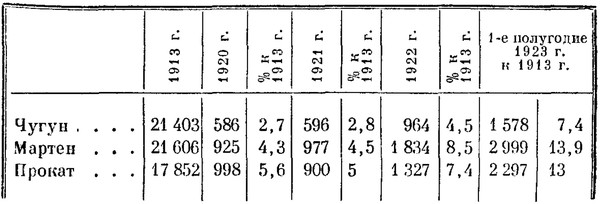
То есть ни в одной отрасли промышленности (кроме рудной в 1922/23 г. 4,6% от 1913 г.) нет такого низкого процента продукции по сравнению с довоенной, как в металлургии. Из соотношения выплавки чугуна и производства мартеновского и прокатного видно, что металлопромышленность жила и работала больше чем наполовину своей мизерной продукции за счет запасов от старого.
/.../
Между тем все потребление топлива всей промышленностью в 1913 г. равнялось всего только 2434 млн. пудов (в каменноугольном эквиваленте) (В. И. Фролов. Добыча и потребление топлива в России). По данным профессора Рамзина расход топлива (в единицах условного топлива — 7000 калор.) по всей металлургии за 1916 г. при выплавке 231,8 млн. чугуна, 260,9 мартена и 205,9 проката равнялся 625 млн. пудов.
Из сопоставления этих цифр очевидно, что металлургия ныне сжигает топлива на единицу продукции не на 33%, а гораздо больше, а именно: в 1916 г. на единицу продукции металлургия расходовала 0,895 пуда, а по плану 1922/23 г.— 2,16 пуда, т. е. на пуд производства в 1922/23 г. предполагается истратить по «плану» 241% от расхода 1913 г.
/.../
Что касается раздутия штатов, то вот что об этом говорит в своем докладе Вейцман:
«По имеющимся сведениям можно считать, что в довоенное время в среднем на каждые 100 производственных рабочих приходилось 60 вспомогательных рабочих и около 20 служащих. В декабре 1922 г. мы имеем следующую картину: на 100 производственных рабочих приходится 100 вспомогательных рабочих и 40 служащих. Таким образом, число вспомогательных рабочих возросло на 67%, а число служащих на 100%, весь же комплект живых сил возрос с 180 до 240 человек, т. е. на 33%».
К сожалению, Вейцман, организовавший конвенцию для овладения рынком и поднятия цен, не говорит, что за этот год сделано по уменьшению этих раздувшихся штатов, и не дал нам самых основных цифр: сколько расходуется живой силы (по заводам, по трестам и по всей «конвенции») на единицу продукции теперь и в довоенное время, т. е. что стране давал «весь комплект живых сил» в 180 человек в 1913 г. и 240 человек ныне?
Об этом Вейцман умалчивает». (В Совет труда и обороны. Докладная записка по вопросу о металлопромышленности. // Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. 1897-1923 гг. (Изд. 2-е, доп.). М.: Политиздат, 1967. С. 431-435, 436, 444-445.)
1949 г., ссылка. Иркутск – в 450 км от него районный центр Жигалово – деревня Федерошенье: «Большие участки земли оставались необработанными, но за использование её в личных целях брали штраф».
«Сначала местные жители встретили нас с опаской и относились к нам недоверчиво. Им сказали, что все мы враги государства, спекулянты и фашисты, паразиты и кровопийцы народа, эксплуатирующие чужой труд. Однако их мнение быстро изменилось, когда они увидели, что литовцы – трудолюбивые работящие люди в отличие от большинства русских, чьи мужчины лодырничали и все дни пьянствовали. Особенно это касалось тех русских мужчин, которым посчастливилось выжить в войне.
/.../
Почвы Восточной Сибири плодородные, и если бы такая земля принадлежала литовским крестьянам, то они превратили бы эти места в настоящий рай. Однако коммунистам, которые нисколько не заботились жизнью простого народа, подобные варианты просто не приходили в голову по причине их ограниченного ума. До большевистской революции народ России был трудолюбивым и зажиточным. Русские крестьяне собирали такие богатые урожаи, что их амбары буквально ломились от насыпанного в них зерна. Однако при нынешнем общественном строе и коллективной форме ведения сельского хозяйства коммунистический гектар земли давал лишь 500 килограммов пшеницы вместо дореволюционных восьми тонн, когда использовались правильные агротехнические методы. Государственный план поставок был настоящим пугалом для крестьян. Во-первых, нужно было обязательно сдать требуемое количество сельскохозяйственной продукции. Затем им предстояло платить за семена, которые государство выдавало им для посева. Следовало также заплатить тракторной бригаде за использование техники при вспашке земли. Всё мясо и масло нужно было сдать государству. Каждый крестьянин получал лишь 600 граммов зерна для личного пользования. Оплата за труд подвергалась налогообложению и всевозможным вычетам, вроде «добровольного государственного займа». Оставались лишь жалкие гроши, которых редко хватало на покупку еды.
Расчётный день обычно проводился в феврале. На него должны были являться все колхозники. Играл местный духовой оркестр, деревню увешивали красными знамёнами и транспарантами с лозунгами, прославлявшими коммунистическую партию и «любимых» вождей – Ленина, Сталина и Маркса. На этом мероприятии обязательно присутствовали председатель сельсовета и партийный секретарь. Последний, как правило, выступал с речью, в которой благодарил крестьян за трудовые успехи. Тем трудовым коллективам, которые добивались высоких показателей, вручалось переходящее красное знамя социалистического соревнования, что являлось признанием их заслуг перед государством. Передовикам выдавалась премия в одну тысячу рублей, из которой на руки колхозные активисты получали всего 60 процентов. При вручении наград и премий все аплодировали и славили коммунистическую партию. На деле всё это означало ещё один год тяжкого изнурительного труда, дальнейшего упадка и полуголодного существования. Мы также получали 60 килограммов зерна пшеницы, которого, по мнению властей, нам должно было хватить до лета и осени, и это при том, что мы трудились семь дней в неделю по 12 часов в день. Я задолжал колхозу 200 рублей за еду, которая мне была нужна для того, чтобы оставаться в работоспособном состоянии.
У колхозников в те годы не было паспортов. Было строго запрещено выдавать им какие-либо документы. Государство опасалось, что в таком случае крестьяне разбегутся и разбредутся по всей стране, не желая до конца жизни заниматься рабским трудом. Нас регистрировал председатель сельского совета. Везло лишь молодым мужчинам, которые после службы в советской армии оседали в самых разных уголках Советского Союза, предпочитая не возвращаться в родные деревни. Ещё одним путём к свободе было получение среднего образования. По этой причине количество молодёжи в сибирской глубинке стремительно уменьшалось. Очень часто семьи не заявляли об умерших родственниках, чтобы по-прежнему получать пайку хлеба. Тело умершего до последнего хранили дома, под полом.
Я отправился в погреб и пересчитал картофелины. Хватит ли этого на сегодня и на завтра? Я решил, что сегодня съем три штуки. Затем поставил на огонь кастрюлю, опустил в неё три картофелины, добавил мороженого молока и горсть муки. Это будет мой обед и ужин. Я также поставил на плиту кастрюлю, в которую наложил снега, вскипятил и заварил чай. Это была моя дневная норма еды. Мне дали в кредит эквивалент моего труда за два с половиной дня. Я заработал полтора килограмма муки и 60 копеек». (Сюткус Б. Железный крест для снайпера. М.: «Яуза-пресс», 2011. С. 153, 154-158.)
Средняя урожайность в центнерах с гектара составляла:
В 1913 г. 8,7.
В 1925 г. она, наконец, возросла до 8,6, в 1926 снизилась до 8,4.
В 1932 г. 7,0.
В 1937 г. составила 9,3. В 1938 снизилась до 7,3.
Только с 1958 г. (11,1 ц/га ) она стала постоянно превышать уровень 1913 г., за исключением 1963 г. (8,3 ц/га).
Самый большой советский показатель был в 1990 г.: 19,9.
(Растянников В.Г. Дерюгина И.В. Урожайность хлебов в России. 1795-2007. М.: ИВ РАН, 2009. С. 72, 124-125.)
Итог советской экономики. 20.02.1991 г. Программа «Время». В ответ на возмущение Ельцина продажей 200 тонн золота союзным правительством, министр внешних экономических связей СССР К.Ф. Катушев пояснил, что в прошлом году продано 234 тонны золота за 1 миллиард 638 миллионов инвалютных рублей, которые, в виду недостатка средств, были потрачены на покупку продовольствия за границей в 1990 г.
При том, что самый большой уровень ВВП в истории СССР был в 1989 и 1990 годах. Но это не имело значения, потому что Саудовская Аравия по просьбе США обрушила цены на нефть, от продажи коей СССР получал валюту, на которую закупал за границей слишком много необходимого.
Смысл существования СССР заключался в уничтожении и отвержении всей предшествовавшей 1000-летней России. Отсюда, казалось бы бессмысленное, уничтожение даже очень древних памятников русской истории на протяжении всего советского времени. Об этом ещё до революции говорил тот же Столыпин: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! * (Аплодисменты справа.)» .(Пётр Аркадьевич Столыпин. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911 гг. М.: «Молодая гвардия», 1991. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесённая в Государственной Думе 10 мая 1907 года. С. 96.)
Что касается Жукова, Конева, Толбухина, Рокоссовского, в 1941-45: «Осуждено 994,3 тыс. чел.* (в том числе за дезертирство 376,3 тыс. чел.). Из числа осуждённых направлено в места заключения 436,6 тыс. чел.
Не разыскано дезертиров 212,4 тыс. чел.
* Из этого числа 422,7 тыс. осуждённым исполнение приговоров отсрочено до окончания военных действий с направлением на фронт в составе штрафных подразделений, 436,6 тыс. направлено в места заключения, а 135 тыс. расстреляно (учтены в числе небоевых потерь)». (Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М.: «Вече», 2010. С. 43.) http://militera.lib.ru/h/sb...
Расстреляны 135 тысяч своих солдат. 422,7 тыс. отправлены почти на верную смерть в штрафные части. Никогда ничего подобного не было в русской военной истории. «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи». (Евангелие от Иоанна. Гл. 8, ст. 44.)
Православную Россию и богоборческий СССР соединить нельзя. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?». (2-е послание к Коринфянам св. апостола Павла. Гл. 6, ст. 14-16.)
О 20 годах покоя Столыпин говорил в связи с революцией 1905 г., а также необходимостью распределить по стране чрезвычайно увеличившееся крестьянское население Европейской России: «Им было сказано когда-то: «Итак, на очереди главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100 миллионов! Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте – и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром... Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех, русских!
Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». (Пётр Аркадьевич Столыпин. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911 гг. М.: «Молодая гвардия», 1991. Приложение 6. Убийство в Киеве Д. Богровым П. А. Столыпина. С. 365-366.)
В хозяйственном отношении Российская Империя была очень развитой страной. Достаточно заметить, что обычными были уездные кирпичные заводы, постоянно развивавшиеся. А это говорит о нарастающем строительстве. Сравнительно с другими странами, чего-то было больше у России, чего-то у них. В целом, экономически Царская Россия была одной из первых.
Но потом победили большевики:
«Извлечение из доклада Крумина Х съезду коммунистической партии, напечатаннаго в № 114 и 115 Экономической Жизни от 27 и 28 мая 1921 г.
«Совершенно неправильны указания о росте производства. Из года в год идет деградация производства. Подъем и перелом в производстве, имевшие место в последней трети 1920 г., в общем и целом не достигли уровня производства даже начала 1919 г. Начало 1921 г. характеризуется срывом всех намеченных производств программы и массовым закрытием промышленных предприятий. 1921 г. по всей вероятности придется охарактеризовать как год стабилизации, развала, а не подъема и расширения. Мы полагаем, что товарищ Рыков, пришедший к тому же заключению, совершенно прав. Для видимости сказаннаго прилагается таблица производства, составленная на основании официальных сведений и показывающая отношение производства промышленности 1920 г. к дореволюционному (довоенному) времени.
Название промышленности. % отношение добычи 1920 г. к 1916 г.
Рудодобывающая промышленность:
Железная руда................................................................. 2,25 %
Медная " ................................................................. 0,6 %
Марганец ..................................................................... 2,6 %
Асбест............................................................................... 6 %
Соль.................................................................................. 17 %
Уголь................................................................................. 20 %
Нефть................................................................................. 40 %
Производство чугуна....................................................... 2 1/8 %
" полу-продукта......................................... 2,3 %
" с.-х. машин.............................................. 1,5 %
Хлопчато-бумажная промышленность:
Пряжи................................................................................ 5 %
Суровой ткани.................................................................. 4 %
Льняная промышленность.............................................. 25 %
Деревообделывающая промышленность...................... 15 %
Резиновая.......................................................................... 5 %
Бумажная.......................................................................... 21 % (?)
Спичечная........................................................................ 15 %
Чай.................................................................................... 5 %
Сахар................................................................................. 7 %
Гудрон............................................................................... 25 %
Кирпич огнеупорный...................................................... 8 %»
(Пестржецкий Д. Русская промышленность после революции. Берлин. 1921. С. 61-62.)
20 ноября 1923 г.: «Огромная дефицитность в прошлом операционном году наших железных дорог (около 75 млн. товарных госплановских рублей) при низкой зарплате, при перевозочных тарифах, только к концу года достигших в общем довоенного уровня с превышением для грузов в среднем на 5%, при неимоверном сжатии всяких новых и восстановительных работ, а также и материального снабжения в значительной мере объясняется переплатами за минеральное топливо и металл.
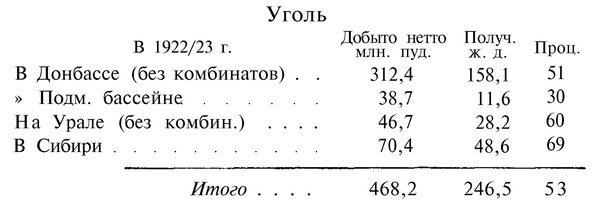
За этот уголь, по сравнению с ценами 1913 г., железными дорогами переплачено 17,68 млн. червонных рублей. По плану на 1923/24 г. предположена потребность железных дорог в топливе (исключая выдачу топлива рабочим и служащим):
Дров.............874,5 тыс. куб. саж.
Угля........281948,8 » пуд.
Нефти.......83235,6 » »
Торфа.........2000,0 » »
всего в дровяном эквиваленте 4232,1 тыс. куб. сажень на сумму 101 861,5 тыс. червонных рублей, считая дрова по сметным ценам НКПС франко-линия, а уголь, нефть и торф по ныне утвержденным плановым ценам франко-вагон (цистерна) место добычи.
Сравнивая стоимость топлива по плану 1923/24 г. по указанным ценам с ценами довоенными, мы имеем, при удержании почти на довоенном уровне дров и нефти, вздорожание угля в 222%. В результате на те деньги, которые мы платим в 1923/24 г. за топливо, мы могли бы иметь топливо по ценам 1913 г. 7 062,2 тыс. куб. сажень, или на 67 % больше, причем угля 626 541,7 тыс. пудов против нынешних 281 948,8 тыс. пудов. Стоимость же плана по ценам 1913 г. составила бы 67 905,2 тыс. руб. против нынешних 101 861,5 тыс. червонных рублей.
Переплата за все минеральное топливо в 1923/24 г. по сравнению с 1913 г., главным образом из-за вздорожания угля и нефти, выразится в сумме 35,61 млн. червонных рублей, а за один уголь — 29,39 млн. червонных рублей.
По металлу за наши заказы 1922/23 г., по предварительным подсчетам председателя хозяйственной секции Трансплана т. Грищечко-Климова (он же и член Пром-1 плана ВСНХ), мы должны были переплатить не менее 70% общего расхода на эти заказы по сравнению с ценами 1913 г., а так как мы уплатили фактически Глав-1 металлу в 1922/23 г. по централизованным заказам и на паровозо- и вагоностроение и ремонт 36,5—42,7 млн. руб., то переплата по этим заказам (без децентрализованных) должна была равняться от 25 до 28 млн. руб.
По подсчетам хозяйственно-материального отдела НКПС, исходящим из сравнения цен 1913 г. и уплаченных нами за фактически принятую продукцию, мы переплатили:
По централизованным заказам....11120884 руб.
» децентрализованным...................4300000 »
» паровозо- и вагоностроению и
ремонту.............................................5128445 »
Всего................................................20549329 руб.
/.../
Дороговизна вызывает «кризис сбыта» при огромной нужде страны в этих изделиях.
Вот данные по сельскохозяйственному машиностроению:
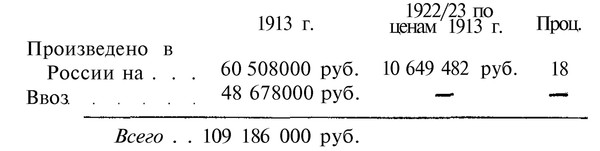
Но из продукции 1922/23 г. в 10649482 руб., по данным инженера Н. Федотова (см. прил. к «Экономической жизни» от 3/XI—23 г.), сельскому хозяйству поступило не более 25%, остальной же инвентарь остался на складах без сбыта. Это означает, что сбыт выразился в 2—7 млн. руб. (по ценам 1913 г.), т. е. 2,4% всего потребления России в 1913 г. Инженер Федотов сообщает: «в июне с. г. на складах заводов, объединяемых синдикатом Сельмаш, оставались непроданными около 100000 плугов, 10000 борон, 4000 сеялок, 350000 кос, 4500 уборочных машин и пр.»
Из этих данных видно, что «кризис сбыта» коснулся не только сельскохозяйственных машин, но даже самых простых средств сельскохозяйственного производства: как кос, борон, плугов, т. е. наше крестьянское хозяйство лишено фактически самого необходимого и того, что должно быть общедоступно.
И все это лежит мертвым капиталом, ржавеет и ломается в переполненных складах, где инвентарь сложен в 6 ярусов.
Владимиров в своих тезисах по вопросу о сбыте сельскохозяйственных машин сообщает: «К началу 1923/24 г. на складах заводов и организаций, сбывающих сельскохозяйственные машины, таковые имелись на сумму в размере 16—18 млн. руб., между тем как производственная программа 1923/24 г. намечается в размере около 14 млн. руб. и фактический сбыт в 1923/24 г., т. е. сбыт крестьянству, может быть определен около 6—7 млн. руб. (эта цифра максимальна)».
В июне руководители металлопромышленности говорили, что кризис только в «одном» сельскохозяйственном машиностроении.
Сейчас же им пришлось заговорить и о кризисе транспортных заказов, мобилизовать все свои силы на «борьбу» с этим кризисом, оставаясь пассивными к борьбе с кризисом сбыта средств сельскохозяйственного производства и машин. Транспорт, переведенный с октября этого года на бездефицитную эксплуатацию, не может выдержать таких цен на металл, которые совершенно переворачивают смету, и принужден сокращать свое потребление до возможных пределов (см. по этому вопросу в приложении мой доклад в Госплане 17/XI и приложенные таблицы с анализом сметы транспорта). ...
/.../
Это значит, нам предлагают в абсолютных величинах расходовать в 1923/24 г. при 39,3% движения от 1913 г. больше средств, чем в 1913 г., на 32,3%, или 2% по двум вариантам; относя же на единицу полезной работы на 238,8%, или на 133% больше, чем в 1913 г. Тогда как вся наша расходная смета по железнодорожному транспорту не может быть выше 2/3 1913 г., мы испрашиваем — 611 млн. червонных рублей, в 1913 же году она была 954,8 млн. червонных рублей.
Таким образом, политика нашей металлопромышленности заключается в том, чтобы ограничить сбыт своих изделий населению и навязать их государству, и благодаря именно такой политике металлопромышленность попадает в безысходное противоречие: население не покупает, так как слишком дорого, государство не сможет столько заказать, так как население слишком бедно для того, чтобы дать государству на это средства.
Вот основные данные по металлопромышленности. Продукция металлургии в среднем за месяц в тыс. пудов.
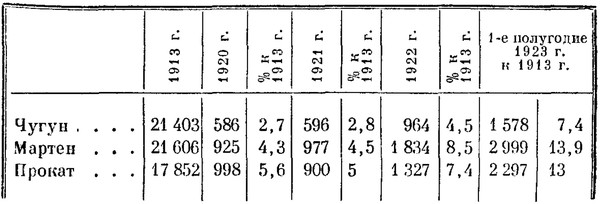
То есть ни в одной отрасли промышленности (кроме рудной в 1922/23 г. 4,6% от 1913 г.) нет такого низкого процента продукции по сравнению с довоенной, как в металлургии. Из соотношения выплавки чугуна и производства мартеновского и прокатного видно, что металлопромышленность жила и работала больше чем наполовину своей мизерной продукции за счет запасов от старого.
/.../
Между тем все потребление топлива всей промышленностью в 1913 г. равнялось всего только 2434 млн. пудов (в каменноугольном эквиваленте) (В. И. Фролов. Добыча и потребление топлива в России). По данным профессора Рамзина расход топлива (в единицах условного топлива — 7000 калор.) по всей металлургии за 1916 г. при выплавке 231,8 млн. чугуна, 260,9 мартена и 205,9 проката равнялся 625 млн. пудов.
Из сопоставления этих цифр очевидно, что металлургия ныне сжигает топлива на единицу продукции не на 33%, а гораздо больше, а именно: в 1916 г. на единицу продукции металлургия расходовала 0,895 пуда, а по плану 1922/23 г.— 2,16 пуда, т. е. на пуд производства в 1922/23 г. предполагается истратить по «плану» 241% от расхода 1913 г.
/.../
Что касается раздутия штатов, то вот что об этом говорит в своем докладе Вейцман:
«По имеющимся сведениям можно считать, что в довоенное время в среднем на каждые 100 производственных рабочих приходилось 60 вспомогательных рабочих и около 20 служащих. В декабре 1922 г. мы имеем следующую картину: на 100 производственных рабочих приходится 100 вспомогательных рабочих и 40 служащих. Таким образом, число вспомогательных рабочих возросло на 67%, а число служащих на 100%, весь же комплект живых сил возрос с 180 до 240 человек, т. е. на 33%».
К сожалению, Вейцман, организовавший конвенцию для овладения рынком и поднятия цен, не говорит, что за этот год сделано по уменьшению этих раздувшихся штатов, и не дал нам самых основных цифр: сколько расходуется живой силы (по заводам, по трестам и по всей «конвенции») на единицу продукции теперь и в довоенное время, т. е. что стране давал «весь комплект живых сил» в 180 человек в 1913 г. и 240 человек ныне?
Об этом Вейцман умалчивает». (В Совет труда и обороны. Докладная записка по вопросу о металлопромышленности. // Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. 1897-1923 гг. (Изд. 2-е, доп.). М.: Политиздат, 1967. С. 431-435, 436, 444-445.)
1949 г., ссылка. Иркутск – в 450 км от него районный центр Жигалово – деревня Федерошенье: «Большие участки земли оставались необработанными, но за использование её в личных целях брали штраф».
«Сначала местные жители встретили нас с опаской и относились к нам недоверчиво. Им сказали, что все мы враги государства, спекулянты и фашисты, паразиты и кровопийцы народа, эксплуатирующие чужой труд. Однако их мнение быстро изменилось, когда они увидели, что литовцы – трудолюбивые работящие люди в отличие от большинства русских, чьи мужчины лодырничали и все дни пьянствовали. Особенно это касалось тех русских мужчин, которым посчастливилось выжить в войне.
/.../
Почвы Восточной Сибири плодородные, и если бы такая земля принадлежала литовским крестьянам, то они превратили бы эти места в настоящий рай. Однако коммунистам, которые нисколько не заботились жизнью простого народа, подобные варианты просто не приходили в голову по причине их ограниченного ума. До большевистской революции народ России был трудолюбивым и зажиточным. Русские крестьяне собирали такие богатые урожаи, что их амбары буквально ломились от насыпанного в них зерна. Однако при нынешнем общественном строе и коллективной форме ведения сельского хозяйства коммунистический гектар земли давал лишь 500 килограммов пшеницы вместо дореволюционных восьми тонн, когда использовались правильные агротехнические методы. Государственный план поставок был настоящим пугалом для крестьян. Во-первых, нужно было обязательно сдать требуемое количество сельскохозяйственной продукции. Затем им предстояло платить за семена, которые государство выдавало им для посева. Следовало также заплатить тракторной бригаде за использование техники при вспашке земли. Всё мясо и масло нужно было сдать государству. Каждый крестьянин получал лишь 600 граммов зерна для личного пользования. Оплата за труд подвергалась налогообложению и всевозможным вычетам, вроде «добровольного государственного займа». Оставались лишь жалкие гроши, которых редко хватало на покупку еды.
Расчётный день обычно проводился в феврале. На него должны были являться все колхозники. Играл местный духовой оркестр, деревню увешивали красными знамёнами и транспарантами с лозунгами, прославлявшими коммунистическую партию и «любимых» вождей – Ленина, Сталина и Маркса. На этом мероприятии обязательно присутствовали председатель сельсовета и партийный секретарь. Последний, как правило, выступал с речью, в которой благодарил крестьян за трудовые успехи. Тем трудовым коллективам, которые добивались высоких показателей, вручалось переходящее красное знамя социалистического соревнования, что являлось признанием их заслуг перед государством. Передовикам выдавалась премия в одну тысячу рублей, из которой на руки колхозные активисты получали всего 60 процентов. При вручении наград и премий все аплодировали и славили коммунистическую партию. На деле всё это означало ещё один год тяжкого изнурительного труда, дальнейшего упадка и полуголодного существования. Мы также получали 60 килограммов зерна пшеницы, которого, по мнению властей, нам должно было хватить до лета и осени, и это при том, что мы трудились семь дней в неделю по 12 часов в день. Я задолжал колхозу 200 рублей за еду, которая мне была нужна для того, чтобы оставаться в работоспособном состоянии.
У колхозников в те годы не было паспортов. Было строго запрещено выдавать им какие-либо документы. Государство опасалось, что в таком случае крестьяне разбегутся и разбредутся по всей стране, не желая до конца жизни заниматься рабским трудом. Нас регистрировал председатель сельского совета. Везло лишь молодым мужчинам, которые после службы в советской армии оседали в самых разных уголках Советского Союза, предпочитая не возвращаться в родные деревни. Ещё одним путём к свободе было получение среднего образования. По этой причине количество молодёжи в сибирской глубинке стремительно уменьшалось. Очень часто семьи не заявляли об умерших родственниках, чтобы по-прежнему получать пайку хлеба. Тело умершего до последнего хранили дома, под полом.
Я отправился в погреб и пересчитал картофелины. Хватит ли этого на сегодня и на завтра? Я решил, что сегодня съем три штуки. Затем поставил на огонь кастрюлю, опустил в неё три картофелины, добавил мороженого молока и горсть муки. Это будет мой обед и ужин. Я также поставил на плиту кастрюлю, в которую наложил снега, вскипятил и заварил чай. Это была моя дневная норма еды. Мне дали в кредит эквивалент моего труда за два с половиной дня. Я заработал полтора килограмма муки и 60 копеек». (Сюткус Б. Железный крест для снайпера. М.: «Яуза-пресс», 2011. С. 153, 154-158.)
Средняя урожайность в центнерах с гектара составляла:
В 1913 г. 8,7.
В 1925 г. она, наконец, возросла до 8,6, в 1926 снизилась до 8,4.
В 1932 г. 7,0.
В 1937 г. составила 9,3. В 1938 снизилась до 7,3.
Только с 1958 г. (11,1 ц/га ) она стала постоянно превышать уровень 1913 г., за исключением 1963 г. (8,3 ц/га).
Самый большой советский показатель был в 1990 г.: 19,9.
(Растянников В.Г. Дерюгина И.В. Урожайность хлебов в России. 1795-2007. М.: ИВ РАН, 2009. С. 72, 124-125.)
Итог советской экономики. 20.02.1991 г. Программа «Время». В ответ на возмущение Ельцина продажей 200 тонн золота союзным правительством, министр внешних экономических связей СССР К.Ф. Катушев пояснил, что в прошлом году продано 234 тонны золота за 1 миллиард 638 миллионов инвалютных рублей, которые, в виду недостатка средств, были потрачены на покупку продовольствия за границей в 1990 г.
При том, что самый большой уровень ВВП в истории СССР был в 1989 и 1990 годах. Но это не имело значения, потому что Саудовская Аравия по просьбе США обрушила цены на нефть, от продажи коей СССР получал валюту, на которую закупал за границей слишком много необходимого.
Смысл существования СССР заключался в уничтожении и отвержении всей предшествовавшей 1000-летней России. Отсюда, казалось бы бессмысленное, уничтожение даже очень древних памятников русской истории на протяжении всего советского времени. Об этом ещё до революции говорил тот же Столыпин: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! * (Аплодисменты справа.)» .(Пётр Аркадьевич Столыпин. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911 гг. М.: «Молодая гвардия», 1991. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесённая в Государственной Думе 10 мая 1907 года. С. 96.)
Что касается Жукова, Конева, Толбухина, Рокоссовского, в 1941-45: «Осуждено 994,3 тыс. чел.* (в том числе за дезертирство 376,3 тыс. чел.). Из числа осуждённых направлено в места заключения 436,6 тыс. чел.
Не разыскано дезертиров 212,4 тыс. чел.
* Из этого числа 422,7 тыс. осуждённым исполнение приговоров отсрочено до окончания военных действий с направлением на фронт в составе штрафных подразделений, 436,6 тыс. направлено в места заключения, а 135 тыс. расстреляно (учтены в числе небоевых потерь)». (Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М.: «Вече», 2010. С. 43.) http://militera.lib.ru/h/sb...
Расстреляны 135 тысяч своих солдат. 422,7 тыс. отправлены почти на верную смерть в штрафные части. Никогда ничего подобного не было в русской военной истории. «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи». (Евангелие от Иоанна. Гл. 8, ст. 44.)
Православную Россию и богоборческий СССР соединить нельзя. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?». (2-е послание к Коринфянам св. апостола Павла. Гл. 6, ст. 14-16.)
Антон Павлов,
07-08-2022 01:41
(ссылка)
100 лет назад и теперь. Прод.
https://t.me/olegtsarov/2983
«Своеобразной юридической мерой был приказ ген. Врангеля от 11 мая, учреждающий высылку административным путем в советскую Россию. Право высылки было предоставлено губернаторам и комендантам крепостей, при участии прокурорского надзора (необходимость санкции прокурорского надзора была отменена 14 июня). Высылке в советскую Россию подлежали лица, изобличенные:
„1) в непубличном разглашении или распространении /.../ а) заведомо ложных о деятельности Правительственного Установления или должностного лица, войска или воинской части сведений, возбуждающих в населении враждебное к ним отношение, или б) заведомо ложного, возбуждающего общественную тревогу слуха о правительственном распоряжении, общественном бедствии или ином событии.
2) В возбуждении путем произнесения речей и других способов агитации, но не в печати, к устройству или продолжению стачки, при условиях, указанных в ст.ст. 13581, 13582 Уложения о наказаниях, и в участии в самовольном, по соглашению между рабочими, прекращении, приостановлении или невозобновлении работ /.../ на железной дороге, телеграфе или телефоне общего пользования или вообще в таком предприятии, прекращение или приостановление деятельности которого угрожает безопасности территории Вооруженных Сил Юга России или создает возможность общественного бедствия.
3) В явном сочувствии большевикам.
4) В непомерной личной наживе на почве использования виновными настоящего тяжелого экономического положения, в случаях, не подходящих под действие закона об уголовной ответственности за спекуляцию.
5) В уклонении под различными ложными или не заслуживающими уважения предлогами от исполнения возложенных на них обязанностей или работ по содействию фронту”. (АК-9, Приказ № 3182. За те же и некоторые другие преступления обычно судили военно-полевые суды.)
Введение высылки в советскую Россию Врангель обосновывает тем, что „число тюрем было весьма ограничено и не могло вместить всех осужденных” и что преступников приходилось содержать в переполненных „домах предварительного заключения”, для чего требовалось большое количество людей и значительные средства. Но тем не менее эта мера не получила широкого применения и коснулась главным образом „лиц, изобличенных в явном сочувствии большевизму”. („Правосудие...”, с. 28 и Врангель, ч. 2, сс. 80-81.)». (Росс Н. Врангель в Крыму. Frankfurt/Main: «Посев», 1982. С. 228-230, 344.)
«Своеобразной юридической мерой был приказ ген. Врангеля от 11 мая, учреждающий высылку административным путем в советскую Россию. Право высылки было предоставлено губернаторам и комендантам крепостей, при участии прокурорского надзора (необходимость санкции прокурорского надзора была отменена 14 июня). Высылке в советскую Россию подлежали лица, изобличенные:
„1) в непубличном разглашении или распространении /.../ а) заведомо ложных о деятельности Правительственного Установления или должностного лица, войска или воинской части сведений, возбуждающих в населении враждебное к ним отношение, или б) заведомо ложного, возбуждающего общественную тревогу слуха о правительственном распоряжении, общественном бедствии или ином событии.
2) В возбуждении путем произнесения речей и других способов агитации, но не в печати, к устройству или продолжению стачки, при условиях, указанных в ст.ст. 13581, 13582 Уложения о наказаниях, и в участии в самовольном, по соглашению между рабочими, прекращении, приостановлении или невозобновлении работ /.../ на железной дороге, телеграфе или телефоне общего пользования или вообще в таком предприятии, прекращение или приостановление деятельности которого угрожает безопасности территории Вооруженных Сил Юга России или создает возможность общественного бедствия.
3) В явном сочувствии большевикам.
4) В непомерной личной наживе на почве использования виновными настоящего тяжелого экономического положения, в случаях, не подходящих под действие закона об уголовной ответственности за спекуляцию.
5) В уклонении под различными ложными или не заслуживающими уважения предлогами от исполнения возложенных на них обязанностей или работ по содействию фронту”. (АК-9, Приказ № 3182. За те же и некоторые другие преступления обычно судили военно-полевые суды.)
Введение высылки в советскую Россию Врангель обосновывает тем, что „число тюрем было весьма ограничено и не могло вместить всех осужденных” и что преступников приходилось содержать в переполненных „домах предварительного заключения”, для чего требовалось большое количество людей и значительные средства. Но тем не менее эта мера не получила широкого применения и коснулась главным образом „лиц, изобличенных в явном сочувствии большевизму”. („Правосудие...”, с. 28 и Врангель, ч. 2, сс. 80-81.)». (Росс Н. Врангель в Крыму. Frankfurt/Main: «Посев», 1982. С. 228-230, 344.)
Антон Павлов,
07-08-2022 00:16
(ссылка)
100 лет назад и теперь.
«Причина того, что ветераны так безоглядно признаются в психологических заболеваниях, в том, что те рассматриваются следствием их участия в войне, которая потребовала от них напряжения всех сил. Один из них писал в 1930 г.:
«При ликвидации [белых] в гор. Феодосии мне пришлось участвовать в форменной резне, после чего расстроилась нервная система и я был отправлен в Москву в нервный госпиталь, где меня вылечили». (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 475.)
В характеристике уже известного Ивана Ивановича Попова из Подкущевки, видимо, написанной им самим, сказано:
«...Заработавшись до тяжелого психического расстройства, изнуренный малярией, калека-травматик [...] одержимый каким-то фанатизмом революционной борьбы – он всегда вдохновляюще действовал на красноармейцев». (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 515-516.)
Несмотря на то что он в 1927 г. получил диагноз «психостения», работал в ГПУ. (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 413.) Это не единичный случай. Другой представитель партизанского сообщества, служа в милиции, хотел бы иметь более спокойную работу, потому что он как «человек несдержанный и истрепанный» может попасть под суд, а ему, имеющему орден Красного Знамени, нехорошо оказаться подсудимым. (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 127.)
/.../
Обращает внимание, что в личных бумагах к началу 1930-х гг. практически исчезает светлый порыв к будущему, который ощущался ещё несколькими годами раньше. Видимо, социальный оптимизм был узурпирован официальной пропагандой.
В ветеранских кругах был распространён алкоголизм. Из таганрогских ветеранов образовалась сплочённая группа, объединённая не только общностью революционного прошлого, но и пристрастием к определённому способу проведения досуга. Среди них были Михаил Андреевич Канский, 1891 г.р., красавец, матрос, «организатор бронепоездов», и орденоносец Семён Мелентьевич Росляков (Росликов), 1888 г.р., бывший командир красногвардейского отряда рабочих Русско-Балтийского завода. Они регулярно бывали замечены на улицах города в состоянии опьянения. В 1934 г. в «партизанскую» комиссию из милиции поступил рапорт о непристойном поведении и о дебоше, устроенном компанией Росликова – Канского в ресторане таганрогской гостиницы «Центральная». К концу вечера двое из партизан – Пизан и Кожин – избили бутылками пившего вместе с ними неизвестного гражданина. Партийная ячейка взяла ветеранов под защиту, дав им положительную характеристику: общественные нагрузки выполняют; имели партвзыскания за выпивку, но теперь исправляются; в уклонах от генеральной линии партии не замечены. (ГАРО. Ф. Р-3442. Оп. 1. Д. 50. Л. 9; Д. 86. Л. 3, 7, 9.)
Распространению алкоголизма среди работающих ветеранов-пенсионеров способствовали некоторые особенности их социального статуса. Они, будучи пенсионерами по инвалидности, получали пенсию обычную (70-100 руб.) или персональную (120-150 руб.). Исполнение занимаемых ими должностей сопровождалось получением ещё и зарплаты – от 175 до 300 руб., но не требовало постоянного присутствия на рабочем месте и отчёта о конкретных результатах труда. Популярны были должности заведующего охраной, складом, базой. Таким образом, деньги и время для весёлого досуга были, а элитарное положение, которое они себе присвоили, давало им ощущение вседозволенности.
/.../
Тот же конфликт мнимого и реального статуса отразился в переживаниях бывшего красного партизана Моисея Андреевича Харченко, который, находясь на посту у входа в конезавод, не стал во фронт проходившему командиру 7-го дивизиона, за что был им арестован, а потом уволен, теперь сидит без хлебных карточек. Харченко пишет:
«...Мы красные партизаны не на то власть брали, чтобы над нами издевались, а на то власть брали, чтобы враги нас боялись, и я как красный партизан до настоящего времени стоял на посту на страх врагам не пропуская ни одного чуждого элемента и в свое завоеванное предприятие и ни стал во фронт на посту своему командиру за что и устав не гласит попал в такое положение» (1933). (ГАРО. Ф. Р-3442. Оп. 5. Д. 2. Л. 382, 382 об.)
/.../
Среди персонажей местной истории встречаются образы, которые могут оскорбить чувства ищущего героические сюжеты в духе революционного эпоса. Как ни хотелось бы избегнуть параллелей с известным тезисом Ивана Ильина, что «революция есть узаконение уголовщины и политизация криминальной стихии» (Ильин И.А. Революция есть узаконение уголовщины и политизация криминальной стихии // Ильин. И. Кризис безбожия. Краматорск, 2005. С. 158-169.), приходится признать, что озлобленные и брутальные личности в ходе Гражданской войны охотно признавались вносящими ценный вклад в победу революции. Однако после её окончания такие персонажи сталкивались с правоохранительной системой государства и, как правило, погибали. Разумеется, кроме тех, кто находил выход своей агрессии в легитимных формах, например, работая в некоторых структурах ГПУ.
Среди партизан Архангельской губернии получила известность история жителя села Керга Семёна Фёдоровича Аникеева по прозвищу Сенька Куль. 13-летний сын Аникеевых был расстрелян белыми за то, что переносил винтовки для партизан. Вероятно, что носил он винтовки во время боя, потому что свой гнев за его гибель мать, сестра и другие кергинские бабы выместили на телах убитых белогвардейцев, истоптав их. Сам 50-летний Семён Аникеев дал решительный отпор пришедшим за ним белым, убил двоих и ранил одного, остальные разбежались, а он, вооружившись оброненной винтовкой, отважился на преследование их. За активное участие в борьбе против белых командование VI армии наградило Сеньку Куля серебряными часами, что было оценено партизаном как достойное возмещение за развороченную печь и убитого сына. (ГААО. Ф. 780. Оп. 1. Д. 8. Л. 221, 256-260; ГААО ЦДСПИ. Ф. 8660. Оп. 3. Д. 431. Л. 48.) На полях машинописного текста воспоминаний командира партизанского отряда Н.А. Лебедева в той части, где рассказывается эта история, сделана запись от руки:
«Сенька Куль после войны в праздник в пьяном виде ножом зарезал хорошего человека партизана перед судом повесился сам».
Эта явно несанкционированная приписка была сделана без ведома редактора текста А.В. Галушкиной и не её рукой, видимо, после того, как текст попал в архив. Написано шариковой ручкой, т.е. не ранее середины 1960-х гг.
Если Сенька Куль отчасти выглядит жертвой обстоятельств, то житель Владикавказа Николай Алексеевич Алейников, 1893 г.р., был настоящим бытовым уголовником, научившимся облекать свою агрессию в одежды классовой борьбы.
Алейников происходил из рабочей семьи и сам работал до революции в железнодорожных мастерских станции Владикавказ. Состоял в отрядах Красной Гвардии при терском совнаркоме. Принимал участие в августовских боях 1918 г. во время офицерского путча во Владикавказе. Из свидетельства о революционном прошлом, которое дала Алейникову известная нам Нина Андреевская, становится известно, что в уличных боях он «под пулями не гнулся», что он первый бросился на захват заглохшего броневика восставших офицеров очень известный эпизод этих событий). Первое убийство он совершил в 1919 г. во время пребывания в городе белых, жертвой стал мастер завода «Алагир» Готский, ещё один человек был им ранен. В автобиографиях 1920-х гг. Алейников называл обоих агентами белой контрразведки, а себя подпольщиком. Хотя, скорее всего, это было убийство в результате бытовой ссоры. Уже при красных некто Репьев передал материалы об убийстве Готского в Ревтрибунал, но тот вынес Алейникову оправдательный приговор.
После возвращения советской власти Алейников «организовал автогараж и стал его заведующим», видимо, занимался частным извозом и совмещал это с работой в органах по борьбе с контрреволюцией, но уже в начале лета 1920 г. полностью отдался этой деятельности. Был комендантом концентрационного лагеря, там он исполнял приговоры Ревтрибунала, постановления чека и Особого отдела. Зимой 1920-1921 гг. принимал участие в операциях против зелёных повстанцев. После недолгой работы где-то на производстве вновь был призван в 1923 г. в отряд особого назначения по сбору продналога. Демобилизовавшись из ЧОНа, Алейников не смог вернуться к мирному труду.
«[Он] преследовал и выявлял оставшихся контр-революционеров, засевших в разных углах сов[етских] учреждений и предприятий [...] В конце 1923 г. Алейников поспорил с быв. белогвардейцем Любовицким, служившим на заводе Кавцинк фельдшером. Последний хотел отравить жену Алейникова во время ее болезни. Узнав это Алейников возмутился и в пылу раздражения убил Любовицкого, за что был осужден на 3 года и просидел 1 г. 8 м. и был досрочно освобожден». (ЦГАРО – А. Ф. 852. Оп. 1. Д. 23б. Л. 1-2.)
После освобождения работал слесарем на заводах в Ростове, потом во Владикавказе. В прошении жены Алейникова в «партизанскую» комиссию с просьбой о том, чтобы несмотря на судимость ей назначили пенсию за геройского мужа, далее говорится:
«Проводя свою жизнь в революционное время в борьбе с контрреволюцией и бандитизмом т. Алейников настолько расстроил свои нервы, что впоследствии стал психически больным и предался алкоголизму». (Там же. Л. 2.)
В 1926 г. был осуждён за кражу. В исправительно-трудовом доме не послушался часового и был ранен им в плечо. И в апреле 1927 г. умер от скоротечной чахотки в 1-й Советской больнице в Новочеркасске.
Любопытно, как под влиянием идеологизации всех категорий социальной жизни изменилась женская оценка такой чисто матримониальной категории, как «хороший муж». Бывшие красноармейки желали себе мужей с определёнными качествами, и если этого не имели, то страшно переживали по данному поводу. Бывшая сестра милосердия писала:
«Я вышла замуж. У меня муж довольно хороший и сознательный, только одно несчастью, что он не член партии и не служил в Красной армии, но только потому, что у него тогда была отсрочка, он был один у матери» (1928). (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 594.)
Ещё более эмоциональна идейная большевичка, уполномоченная по хлебозаготовкам Тимашевского райкома ВКП(б), ответственный секретарь партийного журнала Катя Украинская, которая замужем за беспартийным. Это причина того, что она на работе чувствует себя уютнее, чем дома. ..
/.../
«... Замужем. Один ребенок. Девочка Людмила. Муж – беспартийный спец. Я очень страдаю от его беспартийности и не люблю его так, как когда я в партии ВКП(б), меня любят и считают хорошей работницей. Уклонам никаким не подвержена. ...». (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 109-110.)».
(Морозова О.М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность ветеранов Гражданской войны. Ростов на Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2010. С. 280-283, 285-288.)
Если заменить красноармейцев, партизан, Чека-ГПУ и партийность на «захысников», «ветеранов АТО», СБУ и украинство, то... На «Украине» точно «нацизм», или «группа товарищей» выдаёт желаемое за действительное?
Ряд украинских шовинистов играется в Третий рейх? Так и советской власти до 22 июня 1941 г. почти ничто германское было не чуждо. От далёкого, но такого своего, почётного члена Академии наук СССР Фрица Габера, химическое оружие которого убивало русских солдат в 1-ю Мировую войну, до непосредственных подручных в Гражданской войне: «Красные командиры нерусского происхождения остались в памяти своих солдат и гражданского населения как проводники линии жёсткого подавления всякого неповиновения и несогласия». (Морозова О.М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность ветеранов Гражданской войны. Ростов на Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2010. С. 113.)
«При ликвидации [белых] в гор. Феодосии мне пришлось участвовать в форменной резне, после чего расстроилась нервная система и я был отправлен в Москву в нервный госпиталь, где меня вылечили». (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 475.)
В характеристике уже известного Ивана Ивановича Попова из Подкущевки, видимо, написанной им самим, сказано:
«...Заработавшись до тяжелого психического расстройства, изнуренный малярией, калека-травматик [...] одержимый каким-то фанатизмом революционной борьбы – он всегда вдохновляюще действовал на красноармейцев». (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 515-516.)
Несмотря на то что он в 1927 г. получил диагноз «психостения», работал в ГПУ. (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 413.) Это не единичный случай. Другой представитель партизанского сообщества, служа в милиции, хотел бы иметь более спокойную работу, потому что он как «человек несдержанный и истрепанный» может попасть под суд, а ему, имеющему орден Красного Знамени, нехорошо оказаться подсудимым. (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 127.)
/.../
Обращает внимание, что в личных бумагах к началу 1930-х гг. практически исчезает светлый порыв к будущему, который ощущался ещё несколькими годами раньше. Видимо, социальный оптимизм был узурпирован официальной пропагандой.
В ветеранских кругах был распространён алкоголизм. Из таганрогских ветеранов образовалась сплочённая группа, объединённая не только общностью революционного прошлого, но и пристрастием к определённому способу проведения досуга. Среди них были Михаил Андреевич Канский, 1891 г.р., красавец, матрос, «организатор бронепоездов», и орденоносец Семён Мелентьевич Росляков (Росликов), 1888 г.р., бывший командир красногвардейского отряда рабочих Русско-Балтийского завода. Они регулярно бывали замечены на улицах города в состоянии опьянения. В 1934 г. в «партизанскую» комиссию из милиции поступил рапорт о непристойном поведении и о дебоше, устроенном компанией Росликова – Канского в ресторане таганрогской гостиницы «Центральная». К концу вечера двое из партизан – Пизан и Кожин – избили бутылками пившего вместе с ними неизвестного гражданина. Партийная ячейка взяла ветеранов под защиту, дав им положительную характеристику: общественные нагрузки выполняют; имели партвзыскания за выпивку, но теперь исправляются; в уклонах от генеральной линии партии не замечены. (ГАРО. Ф. Р-3442. Оп. 1. Д. 50. Л. 9; Д. 86. Л. 3, 7, 9.)
Распространению алкоголизма среди работающих ветеранов-пенсионеров способствовали некоторые особенности их социального статуса. Они, будучи пенсионерами по инвалидности, получали пенсию обычную (70-100 руб.) или персональную (120-150 руб.). Исполнение занимаемых ими должностей сопровождалось получением ещё и зарплаты – от 175 до 300 руб., но не требовало постоянного присутствия на рабочем месте и отчёта о конкретных результатах труда. Популярны были должности заведующего охраной, складом, базой. Таким образом, деньги и время для весёлого досуга были, а элитарное положение, которое они себе присвоили, давало им ощущение вседозволенности.
/.../
Тот же конфликт мнимого и реального статуса отразился в переживаниях бывшего красного партизана Моисея Андреевича Харченко, который, находясь на посту у входа в конезавод, не стал во фронт проходившему командиру 7-го дивизиона, за что был им арестован, а потом уволен, теперь сидит без хлебных карточек. Харченко пишет:
«...Мы красные партизаны не на то власть брали, чтобы над нами издевались, а на то власть брали, чтобы враги нас боялись, и я как красный партизан до настоящего времени стоял на посту на страх врагам не пропуская ни одного чуждого элемента и в свое завоеванное предприятие и ни стал во фронт на посту своему командиру за что и устав не гласит попал в такое положение» (1933). (ГАРО. Ф. Р-3442. Оп. 5. Д. 2. Л. 382, 382 об.)
/.../
Среди персонажей местной истории встречаются образы, которые могут оскорбить чувства ищущего героические сюжеты в духе революционного эпоса. Как ни хотелось бы избегнуть параллелей с известным тезисом Ивана Ильина, что «революция есть узаконение уголовщины и политизация криминальной стихии» (Ильин И.А. Революция есть узаконение уголовщины и политизация криминальной стихии // Ильин. И. Кризис безбожия. Краматорск, 2005. С. 158-169.), приходится признать, что озлобленные и брутальные личности в ходе Гражданской войны охотно признавались вносящими ценный вклад в победу революции. Однако после её окончания такие персонажи сталкивались с правоохранительной системой государства и, как правило, погибали. Разумеется, кроме тех, кто находил выход своей агрессии в легитимных формах, например, работая в некоторых структурах ГПУ.
Среди партизан Архангельской губернии получила известность история жителя села Керга Семёна Фёдоровича Аникеева по прозвищу Сенька Куль. 13-летний сын Аникеевых был расстрелян белыми за то, что переносил винтовки для партизан. Вероятно, что носил он винтовки во время боя, потому что свой гнев за его гибель мать, сестра и другие кергинские бабы выместили на телах убитых белогвардейцев, истоптав их. Сам 50-летний Семён Аникеев дал решительный отпор пришедшим за ним белым, убил двоих и ранил одного, остальные разбежались, а он, вооружившись оброненной винтовкой, отважился на преследование их. За активное участие в борьбе против белых командование VI армии наградило Сеньку Куля серебряными часами, что было оценено партизаном как достойное возмещение за развороченную печь и убитого сына. (ГААО. Ф. 780. Оп. 1. Д. 8. Л. 221, 256-260; ГААО ЦДСПИ. Ф. 8660. Оп. 3. Д. 431. Л. 48.) На полях машинописного текста воспоминаний командира партизанского отряда Н.А. Лебедева в той части, где рассказывается эта история, сделана запись от руки:
«Сенька Куль после войны в праздник в пьяном виде ножом зарезал хорошего человека партизана перед судом повесился сам».
Эта явно несанкционированная приписка была сделана без ведома редактора текста А.В. Галушкиной и не её рукой, видимо, после того, как текст попал в архив. Написано шариковой ручкой, т.е. не ранее середины 1960-х гг.
Если Сенька Куль отчасти выглядит жертвой обстоятельств, то житель Владикавказа Николай Алексеевич Алейников, 1893 г.р., был настоящим бытовым уголовником, научившимся облекать свою агрессию в одежды классовой борьбы.
Алейников происходил из рабочей семьи и сам работал до революции в железнодорожных мастерских станции Владикавказ. Состоял в отрядах Красной Гвардии при терском совнаркоме. Принимал участие в августовских боях 1918 г. во время офицерского путча во Владикавказе. Из свидетельства о революционном прошлом, которое дала Алейникову известная нам Нина Андреевская, становится известно, что в уличных боях он «под пулями не гнулся», что он первый бросился на захват заглохшего броневика восставших офицеров очень известный эпизод этих событий). Первое убийство он совершил в 1919 г. во время пребывания в городе белых, жертвой стал мастер завода «Алагир» Готский, ещё один человек был им ранен. В автобиографиях 1920-х гг. Алейников называл обоих агентами белой контрразведки, а себя подпольщиком. Хотя, скорее всего, это было убийство в результате бытовой ссоры. Уже при красных некто Репьев передал материалы об убийстве Готского в Ревтрибунал, но тот вынес Алейникову оправдательный приговор.
После возвращения советской власти Алейников «организовал автогараж и стал его заведующим», видимо, занимался частным извозом и совмещал это с работой в органах по борьбе с контрреволюцией, но уже в начале лета 1920 г. полностью отдался этой деятельности. Был комендантом концентрационного лагеря, там он исполнял приговоры Ревтрибунала, постановления чека и Особого отдела. Зимой 1920-1921 гг. принимал участие в операциях против зелёных повстанцев. После недолгой работы где-то на производстве вновь был призван в 1923 г. в отряд особого назначения по сбору продналога. Демобилизовавшись из ЧОНа, Алейников не смог вернуться к мирному труду.
«[Он] преследовал и выявлял оставшихся контр-революционеров, засевших в разных углах сов[етских] учреждений и предприятий [...] В конце 1923 г. Алейников поспорил с быв. белогвардейцем Любовицким, служившим на заводе Кавцинк фельдшером. Последний хотел отравить жену Алейникова во время ее болезни. Узнав это Алейников возмутился и в пылу раздражения убил Любовицкого, за что был осужден на 3 года и просидел 1 г. 8 м. и был досрочно освобожден». (ЦГАРО – А. Ф. 852. Оп. 1. Д. 23б. Л. 1-2.)
После освобождения работал слесарем на заводах в Ростове, потом во Владикавказе. В прошении жены Алейникова в «партизанскую» комиссию с просьбой о том, чтобы несмотря на судимость ей назначили пенсию за геройского мужа, далее говорится:
«Проводя свою жизнь в революционное время в борьбе с контрреволюцией и бандитизмом т. Алейников настолько расстроил свои нервы, что впоследствии стал психически больным и предался алкоголизму». (Там же. Л. 2.)
В 1926 г. был осуждён за кражу. В исправительно-трудовом доме не послушался часового и был ранен им в плечо. И в апреле 1927 г. умер от скоротечной чахотки в 1-й Советской больнице в Новочеркасске.
Любопытно, как под влиянием идеологизации всех категорий социальной жизни изменилась женская оценка такой чисто матримониальной категории, как «хороший муж». Бывшие красноармейки желали себе мужей с определёнными качествами, и если этого не имели, то страшно переживали по данному поводу. Бывшая сестра милосердия писала:
«Я вышла замуж. У меня муж довольно хороший и сознательный, только одно несчастью, что он не член партии и не служил в Красной армии, но только потому, что у него тогда была отсрочка, он был один у матери» (1928). (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 594.)
Ещё более эмоциональна идейная большевичка, уполномоченная по хлебозаготовкам Тимашевского райкома ВКП(б), ответственный секретарь партийного журнала Катя Украинская, которая замужем за беспартийным. Это причина того, что она на работе чувствует себя уютнее, чем дома. ..
/.../
«... Замужем. Один ребенок. Девочка Людмила. Муж – беспартийный спец. Я очень страдаю от его беспартийности и не люблю его так, как когда я в партии ВКП(б), меня любят и считают хорошей работницей. Уклонам никаким не подвержена. ...». (ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 109-110.)».
(Морозова О.М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность ветеранов Гражданской войны. Ростов на Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2010. С. 280-283, 285-288.)
Если заменить красноармейцев, партизан, Чека-ГПУ и партийность на «захысников», «ветеранов АТО», СБУ и украинство, то... На «Украине» точно «нацизм», или «группа товарищей» выдаёт желаемое за действительное?
Ряд украинских шовинистов играется в Третий рейх? Так и советской власти до 22 июня 1941 г. почти ничто германское было не чуждо. От далёкого, но такого своего, почётного члена Академии наук СССР Фрица Габера, химическое оружие которого убивало русских солдат в 1-ю Мировую войну, до непосредственных подручных в Гражданской войне: «Красные командиры нерусского происхождения остались в памяти своих солдат и гражданского населения как проводники линии жёсткого подавления всякого неповиновения и несогласия». (Морозова О.М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность ветеранов Гражданской войны. Ростов на Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2010. С. 113.)
Антон Павлов,
05-08-2022 19:39
(ссылка)
Фриц Габер.
Фриц Габер (Fritz Haber, 9 декабря 1868, Бреслау — 29 января 1934, Базель), «отец немецкой химии» и немецкого химического оружия.
https://www.krugosvet.ru/en...
С 1932 года почётный член Академии наук СССР.
http://www.ras.ru/win/db/sh...
Советская власть не только сама убивала русских людей, но и оказывала почёт делавшим это гражданам Германии.
https://www.krugosvet.ru/en...
С 1932 года почётный член Академии наук СССР.
http://www.ras.ru/win/db/sh...
Советская власть не только сама убивала русских людей, но и оказывала почёт делавшим это гражданам Германии.
Антон Павлов,
04-08-2022 03:02
(ссылка)
Очевидное противоречие.
https://t.me/aleksandr_skif...
Сталин во враждебной России Австро-Венгрии о «полуазиатской России», западной демократии и «Украине» в 1913 г.: «Но проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются в независимые национальные государства: они встречают на своем пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали!..
Так складываются в нации чехи, поляки и т. д. в Австрии; хорваты и пр. в Венгрии; латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и пр. в России. То, что было исключением в Западной Европе (Ирландия), на Востоке стало правилом.
/.../
Россия – страна полуазиатская, и потому политика «покушений» принимает там нередко самые грубые формы, формы погрома. Нечего и говорить, что «гарантии» доведены в России до крайнего минимума.
Германия – уже Европа с большей или меньшей политической свободой. Неудивительно, что политика «покушений» никогда не принимает там формы погрома.
Во Франции, конечно, еще больше «гарантий», так как Франция демократичнее Германии.
Мы уже не говорим о Швейцарии, где, благодаря ей высокой, хотя и буржуазной, демократичности, национальностям живется свободно – все равно, представляют ли они меньшинство или большинство.
/.../
Итак, полная демократизация страны, как основа и условие решения национального вопроса.
Следует учесть при решении вопроса не только внутреннее, но и внешнее положение. Россия находится между Европой и Азией, между Австрией и Китаем. Рост демократизма в Азии неизбежен. Рост империализма в Европе – не случайность. В Европе капиталу становится тесно, и он рвется в чужие страны, ища новых рынков, дешевых рабочих, новых точек приложения. Но это ведет к внешним осложнениям и войне. Никто не может сказать, что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Поэтому вполне возможно такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность в России найдет нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды.
Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права наций на самоопределение.
Итак, право самоопределения, как необходимый пункт в решении национального вопроса.
Далее. Как быть с нациями, которые по тем или иным причинам предпочтут остаться в рамках целого?
/.../
Итак, национальная автономия не решает вопроса.
Где же выход?
Единственно верное решение – областная автономия, автономия таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т. п.
/.../
Нет сомнения, что ни одна из областей не представляет сплошного национального единообразия, ибо в каждую из них вкраплены национальные меньшинства. Таковы евреи в Польше, латыши в Литве, – русские на Кавказе, поляки на Украине и т. д. Можно опасаться поэтому, что меньшинства будут угнетаемы национальными большинствами. Но опасения имеют основание лишь в том случае, если страна остается при старых порядках. Дайте стране полный демократизм, – и опасения потеряют всякую почву». (К. Сталин. Марксизм и национальный вопрос. Вена, 1913 г., январь. «Просвещение» № № 3–5, март-май 1913 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 2. 1907-1913. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. С. 304-305, 338, 360-361, 362.)
В РСФСР Сталин первый «народный комиссар по делам национальностей» с 26 октября (8 ноября) 1917 г. по 7 июля 1923 г. Он проводил ленинскую национальную политику, и после от неё не отказывался. 26 апреля 1926 г.: «Мое мнение на этот счет.
1. В заявлениях Шумского по пункту первому есть некоторые верные мысли. Верно, что широкое движение за украинскую культуру и украинскую общественность началось и растет на Украине. Верно, что отдавать это движение в руки чуждых нам элементов нельзя ни в каком случае. Верно, что целый ряд коммунистов на Украине не понимает смысла и значения этого движения и потому не принимает мер для овладения им. Верно, что нужно произвести перелом в кадрах наших партийных и советских работников, все еще проникнутых духом иронии и скептицизма в вопросе об украинской культуре и украинской общественности. Верно, что надо тщательно подбирать и создавать кадры людей, способных овладеть новым движением на Украине. Все это верно. Но Шумский допускает при этом, по крайней мере, две серьезных ошибки.
Во-первых. Он смешивает украинизацию наших партийного и иных аппаратов с украинизацией пролетариата. Можно и нужно украинизировать, соблюдая при этом известный темп, наши партийный, государственный и иные аппараты, обслуживающие население. Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет меняться по мере промышленного развития Украины, по мере притока в промышленность из окрестных деревень украинских рабочих. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет украинизироваться, так же как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться и мадьяризироваться. Но это процесс длительный, стихийный, естественный. Пытаться заменить этот стихийный процесс насильственной украинизацией пролетариата сверху – значит проводить утопическую и вредную политику, способную вызвать в неукраинских слоях пролетариата на Украине антиукраинский шовинизм. Мне кажется, что Шумский неправильно понимает украинизацию и не считается с этой последней опасностью».(Сталин И.В. Сочинения. Т. 8. 1926 январь-ноябрь. М.: Государственное издательство политической литературы, 1953. С. 150-152.)
Это сталинское решение о постепенной, но исторически неуклонной, украинизации исполнялось при нём, после в СССР, и продолжает воплощаться до сегодняшнего дня.
«С февраля [19]17 года был председателем эскадронного комитета и постоянным делегатом полкового совета.
В РККА с 1918 года.
В гражданской войне участвовал: 1) под Уральском; 2) под Царицыном; 3) против десанта Врангеля; 4) по ликвидации банд в Кубанской области; 5) по ликвидации Тамбовского восстания — антоновщины; 6) ликвидация банд Колесникова в Воронежской губ[ернии] и банд Зверева в Дубровском районе.
В гражданской войне участвовал с [19]18 года по 1 января 1922 года.
В ряды ВКП(б) вступил 1 марта 1919 года. Сочувствующий с октября [19]18 года. В других партиях не состоял.
До [19]22 года командовал эскадроном. До мая [19]23 года — помощник командира полка по строевой части. С мая [19]23 года по июль* [19]30 года командовал 3-м кавалерийским полком 7-й кавалерийской] д[ивизии]. С мая 1930 г[од]а по май 1931 года командовал 2-й кавалерийской бригадой 7-й к[авалерийской] д[ивизии].
С мая 1931 года — в должности помощника инспектора кавалерии РККА.
* Так в документа». (Георгий Константинович Жуков. // Военно-исторический журнал. 1990. № 5. С. 21-22.)
«30 ноября 1917 года я вернулся в Москву, где власть в октябре перешла в надежные руки — в руки большевиков, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Декабрь 1917 и январь 1918 года провел в деревне у отца и матери и после отдыха решил вступить в ряды Красной гвардии. Но в начале февраля тяжело заболел сыпным тифом, а в апреле — возвратным тифом. Свое желание сражаться в рядах Красной Армии я смог осуществить только через полгода, вступив в августе 1918 года добровольцем в 4‐й кавалерийский полк 1‐й Московской кавалерийской дивизии.
/.../
Состоявшийся в январе 1918 года III Всероссийский съезд Советов единодушно высказался за создание вооруженных сил нашей страны. На съезде была принята написанная В. И. Лениным «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой, в частности, говорилось: «В интересах обеспечения всей полноты власти затрудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих и крестьян...». (Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство АПН, 1969. С. 41-42.)
«В конце ноября 1918 года прибываю в свои края, где еще существует земская управа и об Октябрьском перевороте в деревне не слыхали. Вместе с группой демобилизованных солдат своей волости организую в волости свержение земской управы, конфискацию земель частновладельцев и церковников, аресты купцов и торговцев и все остальные действия, вызываемые социалистической революцией. Организую первый съезд Советов в волости, веду агитационную работу, руковожу выборами. После съезда Советов в феврале 1918 года избираюсь на уездный съезд Советов Никольского уезда, где [меня] избирают в уездный исполком и оставляют на постоянной работе.
1918 год — развертывание Октябрьской социалистической революции, власти Советов на местах. В уезде начались восстания на почве продразверстки. Белые банды наступают с Севера. Уезд на осадном положении. Назначаюсь уездным военным комиссаром. Лично в качестве начальника отряда руковожу подавлением восстания в пяти волостях уезда, организую большевистскую организацию в уезде. Избираюсь на первой конференции председателем уездного комитета большевиков. Все время проходят мобилизации, формирование частей для фронта, мобилизации коммунистов. В мае — июне 1918 года делегируюсь на 5-й Всероссийский съезд Советов, где состоял членом фракции большевиков и принимал участие в подавлении в Москве мятежа левых эсеров.
[В] 1919 год[у], в июне, когда положение страны было особенно напряженным: Колчак подходил к Вятке, а Юденич к Ленинграду, добровольно потребовал отправки на фронт. В течение месяца я прохожу зап[асные] части, попутно, находясь в г. Ярославле в 1-м запасном полку, участвую в качестве начальника отряда в подавлении восстания дезертиров в бывшей Костромской губ[ернии]. Отправляюсь на Восточный фронт 3-й армии, где был как артиллерист около месяца бойцом и председателем коллектива парторганизации запасной батареи 3-й армии, а потом комиссаром бронепоезда № 102, с которым принимаю участие в августе 1919 года в боях против колчаковских белых войск под Ялуторовском, Заводоуковским, Вагаем, Амутинской и дальше от Ишима и Омска и [в] др[угих] пунктах.
С разгромом Колчака бронепоезд № 102 перебрасывается на Дальний Восток в ДВР, где принимаю участие в боях под станцией Могзон, Гонгота против банд Семенова и японцев в качестве комиссара бронепоезда, не раз командовал сам лично бронепоездом.
Здесь, на Дальнем Востоке, назначаюсь комиссаром бригады, а потом и комиссаром 2-й Верхне-Удинской дивизии. Принимаю участие в боях вновь под станцией Гонгота, а потом в освобождении от семеновцев г. Читы и дальше [в] преследовании по Маньчжурской жел[езной] д[ороге] до станции Маньчжурия и [в] очищении Забайкалья от белогвардейских банд.
В 1921 г[оду], февраль — март, избираюсь на X съезд ВКП(б) от парторганизации Народно-революционной армии Д[альнего] В[остока], где в качестве делегата X съезда ВКП(б) добровольно участвую в подавлении Кронштадтского мятежа.
Возвращаюсь обратно на Дальний Восток. В течение года работаю военным комиссаром штаба Народно-революционной армии. С занятием Владивостока назначаюсь военным комиссаром 17-го Приморского корпуса в г. Никольск-Уссурийский. Принимаю участие в ликвидации наступления банд Меркулова, Дидерикса и изгнании японских империалистов с Дальнего Востока.
Начало 1924 г[ода] — Управление корпуса перебрасывается на Украину. На Украине пробыл около 7 месяцев, а потом по личной просьбе перевожусь в Московский округ. Комиссаром корпуса пробыл около 2,5 лет.
Конец 1924 г[ода] — половина 1925 года был комиссаром и нач[альником] полит[ического] отдела 17-й стрелковой дивизии.
/.../
Репрессированных Советской властью родственников нет. За границей родственников нет. Жена происходит из крестьянской семьи, отец и мать колхозники, братья работают на железной дороге. За границей родственников у жены нет.
Член партии с 1918 года. В оппозициях, антипартийных группировках не состоял. Партвзысканиям не подвергался.
Принимал активное участие в борьбе против троцкистско-бухаринских врагов народа, агентов германо-японского фашизма, особенно на Украине в 1923 г[оду] против бандита Примакова и др. В 17-й дивизии — против троцкистов и в очищении от враждебных элементов дивизий, которыми я командовал.
За период нахождения в партии избирался в члены райкомов, бюро обкомов, Губкомов, бюро Крайкома, г. Ворошилова, г. Владивостока, г. Горького, г. Минска, Речицы и др. Был делегатом X съезда ВКП(б), XIII съезда ВКП(б), XIV партконференции ВКП(б), XVIII съезда ВКП(б). На XVIII съезде ВКП(б) избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).
Был членом Исполкомов Советов уездных, губернских и краевых.
Был членом ВЦИК с 1931-го по 1934 год, делегатом целого ряда съездов Советов.
Депутат Верховного Совета СССР первого и второго созывов.
31 октября 1947 года». (Иван Степанович Конев. // Военно-исторический журнал. 1991. № 2. С. 19-20).
Также: Становление. // Конев И.С. Записки командующего фронтом. М.: Воениздат, 1991. https://www.booksite.ru/kon...
Рокоссовский.
«В октябре 1917 года вступил добровольно в Красную гвардию в Каргопольский красногвардейский отряд рядовым красногвардейцем, а в ноябре 1917 года был избран помощником начальника этого отряда. В августе 1918 года отряд переформирован в 1-й Уральский им[ени] Володарского кавполк, в котором я получил назначение командиром 1-го эскадрона.
В феврале 1919 года полк переформирован во 2-й Уральский отдельный кавдивизион 30-й стр[елковой] дивизии — назначен командиром этого дивизиона. В январе 1920 года дивизион развернулся в 30-й кавалерийский полк 30-й стр[елковой] дивизии, я назначен командиром этого полка. В августе 1920 года с должности командира 30-го кавполка переведен на должность командира 35-го кавполка 35-й стр[елковой] дивизии. В октябре 1921 года переведен командиром 3-й бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии.
В октябре 1922 года в связи с переформированием 5-й дивизии в Отдельную 5-ю Кубанскую кавбригаду по собственному желанию назначен на должность командира 27-го кавполка этой же бригады. В июле 1926 года назначен инструктором отдельной Монгольской кавдивизии (МНР) г. Улан-Батор. В этой должности пробыл до июля 1928 года и был назначен командиром-комиссаром 5-й Отдельной Кубанской кавбригады (Даурия). В феврале 1930 года переведен на должность командира-комиссара 7-й кавдивизии 3-го кавкорпуса.
/.../
Участвовал в боях: в составе Каргопольского красногвардейского кавотряда в должности помначотряда — в подавлении контрреволюционных восстаний в районе Вологды, Буя, Галича и Солигалича с ноября 1917 г[ода] по февраль 1918 г[ода]. В боях с гайдамаками, анархобандитскими отрядами Ремнева и в подавлении анархистских контрреволюционных выступлений в районе Харьков, Унеча, Михайловский хутор, Карачев-Брянск с февраля 1918 г[ода] по июль 1918 г[ода].
С июля 1918 года в составе этого же отряда переброшен на восточный фронт под Свердловск и участвовал в боях с белогвардейцами и чехословаками под ст. Кузино, Свердловском, ст. Шамары и Шаля до августа 1918 года.
С августа 1918 года отряд переформирован в 1-й Уральский имени Володарского кавполк — назначен командиром 1-го эскадрона. С августа 1918 г[ода] занимал последовательно командные должности: командира эскадрона 1-го Уральского им[ени] Володарского кавполка, командира 2-го Уральского отдельного кавдивизиона, командира 30-го кавалерийского полка, находясь на Восточном фронте (3-я и 5-я армии), участвовал в боях до полного разгрома колчаковской белой армии и ликвидации таковой. В 1921 году участвовал в боях против белогвардейских отрядов барона Унгерна до полной их ликвидации, состоя в должности командира 35-го кавполка.
В 1923 и 1924 гг. участвовал в боях против вышедших на территорию СССР (Забайкалье) белогвардейских банд генерала Мыльникова, полковников Деревцова, Дуганова, Гордеева и есаула Щедрина до полного их уничтожения (был начальником Сретенского боевого участка). В 1929 году, командуя 5-й Отдельной Кубанской кавбригадой, участвовал в боях под г. Маньчжурией, Чжалайнором-Хайларом…
Гражданскую войну провел, находясь в строю на фронте без всяких перерывов. Дважды ранен. За боевые отличия на фронте трижды награжден орденом Красного Знамени. За высокие достижения в области боевой подготовки частей награжден орденом Ленина.
Состоя на службе в РККА, окончил ККУКС в 1925 году в г[ороде] Ленинграде. Окончил КУВНАС при академии им[ени] Фрунзе в г. Москве в 1929 году. Окончил кружок марксистско-ленинской подготовки при ККУКС в г. Ленинграде в 1925 году.
В ВКП(б) вступил в марте 1919 года, в парторганизацию 2-го Уральского отдельного кавдивизиона (30 сд), которой и был принят. Партбилет № 3357524. Партийным взысканиям не подвергался. В других партиях не состоял. Ни в каких антипартийных группировках не состоял и никогда от генеральной линии партии не отклонялся и не колебался. Был стойким членом партии, твердо верящим в правильность всех решений ЦИКа, возглавляемого вождем тов. Сталиным.
В белых армиях не служил. В плен не попадал. За участие в первомайской рабочей демонстрации в 1912 году подвергнут месячному тюремному заключению. С июля 1926 г[ода] по июль 1928 г[ода] был в г. Улан-Баторе (МНР) в качестве инструктора Монгольской кавдивизии. С августа 1937 года по март 1940 года находился под следствием в органах НКВД. Освобожден в связи с прекращением дела.
4 апреля 1940 г[ода]». (Константин Константинович Рокоссовский. // Военно-исторический журнал. 1990. № 12. С. 86-87).
Никто из вышеуказанных не противопоставлял себя Ленину, наоборот, истово его почитали.
«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». (Евангелие от Матфея. Гл. 12, ст. 33.)
Сталин во враждебной России Австро-Венгрии о «полуазиатской России», западной демократии и «Украине» в 1913 г.: «Но проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются в независимые национальные государства: они встречают на своем пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали!..
Так складываются в нации чехи, поляки и т. д. в Австрии; хорваты и пр. в Венгрии; латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и пр. в России. То, что было исключением в Западной Европе (Ирландия), на Востоке стало правилом.
/.../
Россия – страна полуазиатская, и потому политика «покушений» принимает там нередко самые грубые формы, формы погрома. Нечего и говорить, что «гарантии» доведены в России до крайнего минимума.
Германия – уже Европа с большей или меньшей политической свободой. Неудивительно, что политика «покушений» никогда не принимает там формы погрома.
Во Франции, конечно, еще больше «гарантий», так как Франция демократичнее Германии.
Мы уже не говорим о Швейцарии, где, благодаря ей высокой, хотя и буржуазной, демократичности, национальностям живется свободно – все равно, представляют ли они меньшинство или большинство.
/.../
Итак, полная демократизация страны, как основа и условие решения национального вопроса.
Следует учесть при решении вопроса не только внутреннее, но и внешнее положение. Россия находится между Европой и Азией, между Австрией и Китаем. Рост демократизма в Азии неизбежен. Рост империализма в Европе – не случайность. В Европе капиталу становится тесно, и он рвется в чужие страны, ища новых рынков, дешевых рабочих, новых точек приложения. Но это ведет к внешним осложнениям и войне. Никто не может сказать, что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Поэтому вполне возможно такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность в России найдет нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды.
Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права наций на самоопределение.
Итак, право самоопределения, как необходимый пункт в решении национального вопроса.
Далее. Как быть с нациями, которые по тем или иным причинам предпочтут остаться в рамках целого?
/.../
Итак, национальная автономия не решает вопроса.
Где же выход?
Единственно верное решение – областная автономия, автономия таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т. п.
/.../
Нет сомнения, что ни одна из областей не представляет сплошного национального единообразия, ибо в каждую из них вкраплены национальные меньшинства. Таковы евреи в Польше, латыши в Литве, – русские на Кавказе, поляки на Украине и т. д. Можно опасаться поэтому, что меньшинства будут угнетаемы национальными большинствами. Но опасения имеют основание лишь в том случае, если страна остается при старых порядках. Дайте стране полный демократизм, – и опасения потеряют всякую почву». (К. Сталин. Марксизм и национальный вопрос. Вена, 1913 г., январь. «Просвещение» № № 3–5, март-май 1913 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 2. 1907-1913. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. С. 304-305, 338, 360-361, 362.)
В РСФСР Сталин первый «народный комиссар по делам национальностей» с 26 октября (8 ноября) 1917 г. по 7 июля 1923 г. Он проводил ленинскую национальную политику, и после от неё не отказывался. 26 апреля 1926 г.: «Мое мнение на этот счет.
1. В заявлениях Шумского по пункту первому есть некоторые верные мысли. Верно, что широкое движение за украинскую культуру и украинскую общественность началось и растет на Украине. Верно, что отдавать это движение в руки чуждых нам элементов нельзя ни в каком случае. Верно, что целый ряд коммунистов на Украине не понимает смысла и значения этого движения и потому не принимает мер для овладения им. Верно, что нужно произвести перелом в кадрах наших партийных и советских работников, все еще проникнутых духом иронии и скептицизма в вопросе об украинской культуре и украинской общественности. Верно, что надо тщательно подбирать и создавать кадры людей, способных овладеть новым движением на Украине. Все это верно. Но Шумский допускает при этом, по крайней мере, две серьезных ошибки.
Во-первых. Он смешивает украинизацию наших партийного и иных аппаратов с украинизацией пролетариата. Можно и нужно украинизировать, соблюдая при этом известный темп, наши партийный, государственный и иные аппараты, обслуживающие население. Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет меняться по мере промышленного развития Украины, по мере притока в промышленность из окрестных деревень украинских рабочих. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет украинизироваться, так же как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться и мадьяризироваться. Но это процесс длительный, стихийный, естественный. Пытаться заменить этот стихийный процесс насильственной украинизацией пролетариата сверху – значит проводить утопическую и вредную политику, способную вызвать в неукраинских слоях пролетариата на Украине антиукраинский шовинизм. Мне кажется, что Шумский неправильно понимает украинизацию и не считается с этой последней опасностью».(Сталин И.В. Сочинения. Т. 8. 1926 январь-ноябрь. М.: Государственное издательство политической литературы, 1953. С. 150-152.)
Это сталинское решение о постепенной, но исторически неуклонной, украинизации исполнялось при нём, после в СССР, и продолжает воплощаться до сегодняшнего дня.
Жуков.
«С февраля [19]17 года был председателем эскадронного комитета и постоянным делегатом полкового совета.
В РККА с 1918 года.
В гражданской войне участвовал: 1) под Уральском; 2) под Царицыном; 3) против десанта Врангеля; 4) по ликвидации банд в Кубанской области; 5) по ликвидации Тамбовского восстания — антоновщины; 6) ликвидация банд Колесникова в Воронежской губ[ернии] и банд Зверева в Дубровском районе.
В гражданской войне участвовал с [19]18 года по 1 января 1922 года.
В ряды ВКП(б) вступил 1 марта 1919 года. Сочувствующий с октября [19]18 года. В других партиях не состоял.
До [19]22 года командовал эскадроном. До мая [19]23 года — помощник командира полка по строевой части. С мая [19]23 года по июль* [19]30 года командовал 3-м кавалерийским полком 7-й кавалерийской] д[ивизии]. С мая 1930 г[од]а по май 1931 года командовал 2-й кавалерийской бригадой 7-й к[авалерийской] д[ивизии].
С мая 1931 года — в должности помощника инспектора кавалерии РККА.
Жуков
* Так в документа». (Георгий Константинович Жуков. // Военно-исторический журнал. 1990. № 5. С. 21-22.)
«30 ноября 1917 года я вернулся в Москву, где власть в октябре перешла в надежные руки — в руки большевиков, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Декабрь 1917 и январь 1918 года провел в деревне у отца и матери и после отдыха решил вступить в ряды Красной гвардии. Но в начале февраля тяжело заболел сыпным тифом, а в апреле — возвратным тифом. Свое желание сражаться в рядах Красной Армии я смог осуществить только через полгода, вступив в августе 1918 года добровольцем в 4‐й кавалерийский полк 1‐й Московской кавалерийской дивизии.
/.../
Состоявшийся в январе 1918 года III Всероссийский съезд Советов единодушно высказался за создание вооруженных сил нашей страны. На съезде была принята написанная В. И. Лениным «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой, в частности, говорилось: «В интересах обеспечения всей полноты власти затрудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих и крестьян...». (Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство АПН, 1969. С. 41-42.)
Конев.
«В конце ноября 1918 года прибываю в свои края, где еще существует земская управа и об Октябрьском перевороте в деревне не слыхали. Вместе с группой демобилизованных солдат своей волости организую в волости свержение земской управы, конфискацию земель частновладельцев и церковников, аресты купцов и торговцев и все остальные действия, вызываемые социалистической революцией. Организую первый съезд Советов в волости, веду агитационную работу, руковожу выборами. После съезда Советов в феврале 1918 года избираюсь на уездный съезд Советов Никольского уезда, где [меня] избирают в уездный исполком и оставляют на постоянной работе.
1918 год — развертывание Октябрьской социалистической революции, власти Советов на местах. В уезде начались восстания на почве продразверстки. Белые банды наступают с Севера. Уезд на осадном положении. Назначаюсь уездным военным комиссаром. Лично в качестве начальника отряда руковожу подавлением восстания в пяти волостях уезда, организую большевистскую организацию в уезде. Избираюсь на первой конференции председателем уездного комитета большевиков. Все время проходят мобилизации, формирование частей для фронта, мобилизации коммунистов. В мае — июне 1918 года делегируюсь на 5-й Всероссийский съезд Советов, где состоял членом фракции большевиков и принимал участие в подавлении в Москве мятежа левых эсеров.
[В] 1919 год[у], в июне, когда положение страны было особенно напряженным: Колчак подходил к Вятке, а Юденич к Ленинграду, добровольно потребовал отправки на фронт. В течение месяца я прохожу зап[асные] части, попутно, находясь в г. Ярославле в 1-м запасном полку, участвую в качестве начальника отряда в подавлении восстания дезертиров в бывшей Костромской губ[ернии]. Отправляюсь на Восточный фронт 3-й армии, где был как артиллерист около месяца бойцом и председателем коллектива парторганизации запасной батареи 3-й армии, а потом комиссаром бронепоезда № 102, с которым принимаю участие в августе 1919 года в боях против колчаковских белых войск под Ялуторовском, Заводоуковским, Вагаем, Амутинской и дальше от Ишима и Омска и [в] др[угих] пунктах.
С разгромом Колчака бронепоезд № 102 перебрасывается на Дальний Восток в ДВР, где принимаю участие в боях под станцией Могзон, Гонгота против банд Семенова и японцев в качестве комиссара бронепоезда, не раз командовал сам лично бронепоездом.
Здесь, на Дальнем Востоке, назначаюсь комиссаром бригады, а потом и комиссаром 2-й Верхне-Удинской дивизии. Принимаю участие в боях вновь под станцией Гонгота, а потом в освобождении от семеновцев г. Читы и дальше [в] преследовании по Маньчжурской жел[езной] д[ороге] до станции Маньчжурия и [в] очищении Забайкалья от белогвардейских банд.
В 1921 г[оду], февраль — март, избираюсь на X съезд ВКП(б) от парторганизации Народно-революционной армии Д[альнего] В[остока], где в качестве делегата X съезда ВКП(б) добровольно участвую в подавлении Кронштадтского мятежа.
Возвращаюсь обратно на Дальний Восток. В течение года работаю военным комиссаром штаба Народно-революционной армии. С занятием Владивостока назначаюсь военным комиссаром 17-го Приморского корпуса в г. Никольск-Уссурийский. Принимаю участие в ликвидации наступления банд Меркулова, Дидерикса и изгнании японских империалистов с Дальнего Востока.
Начало 1924 г[ода] — Управление корпуса перебрасывается на Украину. На Украине пробыл около 7 месяцев, а потом по личной просьбе перевожусь в Московский округ. Комиссаром корпуса пробыл около 2,5 лет.
Конец 1924 г[ода] — половина 1925 года был комиссаром и нач[альником] полит[ического] отдела 17-й стрелковой дивизии.
/.../
Репрессированных Советской властью родственников нет. За границей родственников нет. Жена происходит из крестьянской семьи, отец и мать колхозники, братья работают на железной дороге. За границей родственников у жены нет.
Член партии с 1918 года. В оппозициях, антипартийных группировках не состоял. Партвзысканиям не подвергался.
Принимал активное участие в борьбе против троцкистско-бухаринских врагов народа, агентов германо-японского фашизма, особенно на Украине в 1923 г[оду] против бандита Примакова и др. В 17-й дивизии — против троцкистов и в очищении от враждебных элементов дивизий, которыми я командовал.
За период нахождения в партии избирался в члены райкомов, бюро обкомов, Губкомов, бюро Крайкома, г. Ворошилова, г. Владивостока, г. Горького, г. Минска, Речицы и др. Был делегатом X съезда ВКП(б), XIII съезда ВКП(б), XIV партконференции ВКП(б), XVIII съезда ВКП(б). На XVIII съезде ВКП(б) избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).
Был членом Исполкомов Советов уездных, губернских и краевых.
Был членом ВЦИК с 1931-го по 1934 год, делегатом целого ряда съездов Советов.
Депутат Верховного Совета СССР первого и второго созывов.
Маршал Советского Союза
И. КОНЕВ
И. КОНЕВ
31 октября 1947 года». (Иван Степанович Конев. // Военно-исторический журнал. 1991. № 2. С. 19-20).
Также: Становление. // Конев И.С. Записки командующего фронтом. М.: Воениздат, 1991. https://www.booksite.ru/kon...
Рокоссовский.
«В октябре 1917 года вступил добровольно в Красную гвардию в Каргопольский красногвардейский отряд рядовым красногвардейцем, а в ноябре 1917 года был избран помощником начальника этого отряда. В августе 1918 года отряд переформирован в 1-й Уральский им[ени] Володарского кавполк, в котором я получил назначение командиром 1-го эскадрона.
В феврале 1919 года полк переформирован во 2-й Уральский отдельный кавдивизион 30-й стр[елковой] дивизии — назначен командиром этого дивизиона. В январе 1920 года дивизион развернулся в 30-й кавалерийский полк 30-й стр[елковой] дивизии, я назначен командиром этого полка. В августе 1920 года с должности командира 30-го кавполка переведен на должность командира 35-го кавполка 35-й стр[елковой] дивизии. В октябре 1921 года переведен командиром 3-й бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии.
В октябре 1922 года в связи с переформированием 5-й дивизии в Отдельную 5-ю Кубанскую кавбригаду по собственному желанию назначен на должность командира 27-го кавполка этой же бригады. В июле 1926 года назначен инструктором отдельной Монгольской кавдивизии (МНР) г. Улан-Батор. В этой должности пробыл до июля 1928 года и был назначен командиром-комиссаром 5-й Отдельной Кубанской кавбригады (Даурия). В феврале 1930 года переведен на должность командира-комиссара 7-й кавдивизии 3-го кавкорпуса.
/.../
Участвовал в боях: в составе Каргопольского красногвардейского кавотряда в должности помначотряда — в подавлении контрреволюционных восстаний в районе Вологды, Буя, Галича и Солигалича с ноября 1917 г[ода] по февраль 1918 г[ода]. В боях с гайдамаками, анархобандитскими отрядами Ремнева и в подавлении анархистских контрреволюционных выступлений в районе Харьков, Унеча, Михайловский хутор, Карачев-Брянск с февраля 1918 г[ода] по июль 1918 г[ода].
С июля 1918 года в составе этого же отряда переброшен на восточный фронт под Свердловск и участвовал в боях с белогвардейцами и чехословаками под ст. Кузино, Свердловском, ст. Шамары и Шаля до августа 1918 года.
С августа 1918 года отряд переформирован в 1-й Уральский имени Володарского кавполк — назначен командиром 1-го эскадрона. С августа 1918 г[ода] занимал последовательно командные должности: командира эскадрона 1-го Уральского им[ени] Володарского кавполка, командира 2-го Уральского отдельного кавдивизиона, командира 30-го кавалерийского полка, находясь на Восточном фронте (3-я и 5-я армии), участвовал в боях до полного разгрома колчаковской белой армии и ликвидации таковой. В 1921 году участвовал в боях против белогвардейских отрядов барона Унгерна до полной их ликвидации, состоя в должности командира 35-го кавполка.
В 1923 и 1924 гг. участвовал в боях против вышедших на территорию СССР (Забайкалье) белогвардейских банд генерала Мыльникова, полковников Деревцова, Дуганова, Гордеева и есаула Щедрина до полного их уничтожения (был начальником Сретенского боевого участка). В 1929 году, командуя 5-й Отдельной Кубанской кавбригадой, участвовал в боях под г. Маньчжурией, Чжалайнором-Хайларом…
Гражданскую войну провел, находясь в строю на фронте без всяких перерывов. Дважды ранен. За боевые отличия на фронте трижды награжден орденом Красного Знамени. За высокие достижения в области боевой подготовки частей награжден орденом Ленина.
Состоя на службе в РККА, окончил ККУКС в 1925 году в г[ороде] Ленинграде. Окончил КУВНАС при академии им[ени] Фрунзе в г. Москве в 1929 году. Окончил кружок марксистско-ленинской подготовки при ККУКС в г. Ленинграде в 1925 году.
В ВКП(б) вступил в марте 1919 года, в парторганизацию 2-го Уральского отдельного кавдивизиона (30 сд), которой и был принят. Партбилет № 3357524. Партийным взысканиям не подвергался. В других партиях не состоял. Ни в каких антипартийных группировках не состоял и никогда от генеральной линии партии не отклонялся и не колебался. Был стойким членом партии, твердо верящим в правильность всех решений ЦИКа, возглавляемого вождем тов. Сталиным.
В белых армиях не служил. В плен не попадал. За участие в первомайской рабочей демонстрации в 1912 году подвергнут месячному тюремному заключению. С июля 1926 г[ода] по июль 1928 г[ода] был в г. Улан-Баторе (МНР) в качестве инструктора Монгольской кавдивизии. С августа 1937 года по март 1940 года находился под следствием в органах НКВД. Освобожден в связи с прекращением дела.
Комдив [РОКОССОВСКИЙ]
4 апреля 1940 г[ода]». (Константин Константинович Рокоссовский. // Военно-исторический журнал. 1990. № 12. С. 86-87).
Никто из вышеуказанных не противопоставлял себя Ленину, наоборот, истово его почитали.
«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». (Евангелие от Матфея. Гл. 12, ст. 33.)
Антон Павлов,
01-08-2022 01:25
(ссылка)
Начало 1-й Мировой войны.
Первая Мировая война началась 19 июля/1 августа 1914 г. с объявления Германией войны и нападения на Российскую Империю. (Франции война была объявлена 21 июля/3 августа. 24 июля/6 августа войну России объявила Австро-Венгрия.)
«На слѣдующiй день офицеры гвардіи были приняты въ Зимнемъ дворцѣ. Послѣ молебна, государь далъ торжественную клятву не заключать мира до тѣхъ поръ, пока врагъ будетъ находится на русской территоріи». (Мосоловъ А.А. При дворѣ Императора. Рига. 1938. Стр. 220.)
Северо-западный фронт, левый берег Вислы: «19 июля (1 авг.) противник занял Калиш и Бендин. 20 июля (2 авг.) Ченстохов, но нигде не перешёл в наступление значительными силами.
26 июля (8 авг.) передовые части немцев заняли линию Влоцлавск — Серадзь, а наступавшие из Ченстохова — Конецполь. В тот же день 7 австр. кавал. дивизия переправилась через Вислу у Поланец и направилась на Климонтов — Сташев.
На следующий же день обнаружен австрийский отряд из трёх родов оружия у Мехова и Водзислава.
31 июля (13 авг.) 14 кав. див. имела незначительный бой у г. Кельцы с польскими соколами, а 2 (15) августа с 7 австрийской кав. дивизией, поддержанной тремя батальонами, после которого австрийцы отступили, но 4 (17) авг. Кельцы снова были ими заняты».
На Северо-западном фронте в Сувалкском районе: «22 июля (4 авг.) около 16 час. противник пытался перейти в наступление против Кибарты. Первоначально расположенный в этом районе наш батальон 5 стр. бригады был потеснён, но поддержанный пограничниками вновь занял Кибарты к вечеру того же дня. После 11 час. 23 июля (5 авг.), противник начал снова обстреливать Кибарты артиллерийским и ружейным огнём. Попытка его наступать вновь была отбита. Наша конница поддержала пехоту и около 20 час. открыла артиллерийский огонь.
Немцы потеряли более 100 человек убитыми. 1 оф., 6 солдат пленными.
Опрос пленных выяснил, что в районе Эйдкунен — Гумбиннен располагается две пех. див. и четыре полка конницы 1 арм. корпуса, что Ольтерсбург, Николайнен, Лык заняты частями ХХ корпуса.
28 июля (10 авг.) на линии Выштынец — Рачки вновь завязались небольшие стычки, в результате коих мы заняли Мерунскен. Неприятельский отряд, наступавший на Рачки , нами отброшен. Того же числа немцы наступали из Сталлюпенена *) на Эйдкунен в составе 4-5 бат., 3-х батарей, 3-4 эск., но были отбиты: неудачно также было наступление немцев на Филиново 29 июля (12 авг.)
*) Несколько зап. Эйдкунен».
На Северо-западном фронте в Наревском районе: «26 июля (8 авг.) передовые части противника продвинулись в районе Мышинец — Барановец — Липно — Рыпин — Серпец.
Части 4 кав. див. вследствие плохой ближайшей разведки и охранения попали под огонь пехоты, результатом чего была потеря 6 орудий, вследствие убыли всех лошадей этих орудий (10 стр. 13)».
(Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 1. М. 1922. С. 33, 32.)
«Взрывом патриотизма ответила Россия на объявление нам войны. Речь Государя в Зимнем дворце, как электрическая искра пронеслась по России и всколыхнула всех. Петербург кипел. В Петергофе было как-то особенно торжественно спокойно». «26-го были собраны Государственный Совет и Дума. Государь принял их в Зимнем дворце. Выйдя с Вел. Кн. Николаем Николаевичем, Государь обратился к палатам с речью, которую закончил так: „Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах своей земли, но боремся за единокровных братьев Славян... Уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете мне перенести ниспосланные испытания, что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик Бог земли Русскойˮ.
Полное энтузиазма ура было ответом Государю, после чего говорили председатели Голубев и Родзянко. Последний говорил с большим подъемом и чувством. Государь был взволнован речами, горячо благодарил и закончил словами: „От всей души желаю вам всякого успеха. С нами Богˮ. Государь перекрестился. Крестились присутствовавшие. Запели „Спаси Господи люди Твояˮ... Все были взволнованы». (Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция. 1914-1917 г.г. Кн. I. Нью Иорк: Всеславянское Издательство, 1960. С. 13, 15.)
Ленин Шляпникову из Берна в Стокгольм 17 октября 1914 г.: «В России шовинизм прячется за фразы о «belle France*» [*— «прекрасной Франции». Ред.] и о несчастной Бельгии (а Украина? и т. д.) или за «народную» ненависть к немцам (и к «кайзеризму»). Поэтому наша безусловная обязанность — борьба с этими софизмами. А чтобы борьба шла по точной и ясной линии, нужен обобщающий её лозунг. Этот лозунг: для нас, русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто крат хуже кайзеризма. Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом и устремление всей пропаганды и агитации на международное сплочение (сближение, солидаризирование, сговор selon les circonstances** [**— сообразно обстоятельствам. Ред.]) пролетариата в целях гражданской войны. Ошибочно было бы призывать к индивидуальным актам стрельбы в офицеров etc. и допускать аргументы вроде того, что-де не хотим помогать кайзеризму. Первое — уклон к анархизму, второе — к оппортунизму. Мы же должны готовить массовое (или по крайней мере коллективное) выступление в войске не одной только нации, и всю пропагандистски-агитационную работу вести в этом направлении. Направление работы (упорной, систематической, долгой может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую — вот вся суть. Момент этого превращения — вопрос иной, сейчас ещё не ясный. Надо дать назреть этому моменту и «заставлять его назревать» систематически.
/.../
Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война.
Объективно — из коренной перемены в положении Европы вытекает такой лозунг для эпохи массовой войны. Из базельской резолюции вытекает то же лозунг.
Мы не можем ни «обещать» гражданской войны, ни «декретировать» её, но вести работу — при надобности и очень долгую — в этом направлении мы обязаны. Из статьи в ЦО вы увидите подробности*. [* См. В. И. Ленин. «Положение и задачи социалистического Интернационала» (Сочинения, 5 изд., т. 26 стр. 36-42). Ред.] Пока только намечаю основные пункты позиции, чтобы мы спелись хорошенько». (Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 49. Письма август 1914 — октябрь 1917. М.: Издательство политической литературы, 1970. С. 14-15.)
«За три года исключительно тяжёлой борьбы русской армией было взято 2200000 пленных и 3850 орудий. Из этого числа германцев – 250000 пленных и 550 орудий, австро-венгров – 1850000 пленных и 2650 орудий и турок – 100000 пленных при 650 орудиях.
За то же время Францией было взято 160000 пленных и 900 орудий, Англией – 90000 пленных при 450 орудиях, а Италией – 110000 пленных и 150 орудий.
Русские трофеи в шесть раз превысили трофеи остальных армий Согласия, взятых вместе.
С чувством глубокого удовлетворения русский историк просматривает списки потерь по полкам германской армии, дравшихся на Востоке и Западе. Русский фронт для них оказался вдвое убийственнее англо-французского. Об австро-венгерской армии и говорить нечего. Весь цвет её лег на полях Галиции и в ущельях Карпат. Итальянцы на Виттории Венето добивали остатки их эрзац ландштурма. Наконец победители англо-французов – турки – сами потерпели от нас жесточайшие поражения за всю свою историю». (Керсновский А.А. История Русской Армии. М.: «Голос». Т. 4. 1915-1917 г.г. 1994. С. 164-165.)
На середину декабря ст. ст. 1916 г.: «Всего нашим 153 ½ пехотным и 35 конным дивизиям противостояло 136 ½ пехотных и 20 кавалерийских дивизий неприятеля.
/…/
На Западе 180 пехотным и 14 кавалерийским дивизиям союзников противостояло 129 пехотных германских. В Италии 68 итальянских пехотных и 3 кавалерийские дивизии сдерживались без особенного труда 34 пехотными австро-венгерскими. В Македонии 19 ½ пехотных и 1 кавалерийская дивизии генерала Саррайля оставались безучастными зрителями румынской катастрофы, имея перед собой 12 ½ неприятельских дивизий. В Месопотамии и Палестине 25 британских дивизий опасливо наблюдали 14 турецких дивизий, а на Кавказском фронте 14 русских дивизий расправлялись с 25 турецкими.
Из 351 пехотных дивизий всей Коалиции Центральных держав 161 ½ дивизий – 46 процентов – было схвачено за горло русской армией. Британская империя, Франция, Италия и остальные союзники удерживали другую половину». (Керсновский. Т. 4. С. 116, 117.)
«26 октября – в день захвата власти большевиками в Петербурге – в 10-й армии на Березине полковник Щепетильников с 681-м пехотным Алтайским полком атаковал немецкие позиции, где взял 200 пленных и отбил у неприятеля 2 новогеоргиевские поршневые пушки. Это было последним делом русской армии в Мировую войну». (Керсновский. Т. 4. С. 321.)
«На слѣдующiй день офицеры гвардіи были приняты въ Зимнемъ дворцѣ. Послѣ молебна, государь далъ торжественную клятву не заключать мира до тѣхъ поръ, пока врагъ будетъ находится на русской территоріи». (Мосоловъ А.А. При дворѣ Императора. Рига. 1938. Стр. 220.)
Северо-западный фронт, левый берег Вислы: «19 июля (1 авг.) противник занял Калиш и Бендин. 20 июля (2 авг.) Ченстохов, но нигде не перешёл в наступление значительными силами.
26 июля (8 авг.) передовые части немцев заняли линию Влоцлавск — Серадзь, а наступавшие из Ченстохова — Конецполь. В тот же день 7 австр. кавал. дивизия переправилась через Вислу у Поланец и направилась на Климонтов — Сташев.
На следующий же день обнаружен австрийский отряд из трёх родов оружия у Мехова и Водзислава.
31 июля (13 авг.) 14 кав. див. имела незначительный бой у г. Кельцы с польскими соколами, а 2 (15) августа с 7 австрийской кав. дивизией, поддержанной тремя батальонами, после которого австрийцы отступили, но 4 (17) авг. Кельцы снова были ими заняты».
На Северо-западном фронте в Сувалкском районе: «22 июля (4 авг.) около 16 час. противник пытался перейти в наступление против Кибарты. Первоначально расположенный в этом районе наш батальон 5 стр. бригады был потеснён, но поддержанный пограничниками вновь занял Кибарты к вечеру того же дня. После 11 час. 23 июля (5 авг.), противник начал снова обстреливать Кибарты артиллерийским и ружейным огнём. Попытка его наступать вновь была отбита. Наша конница поддержала пехоту и около 20 час. открыла артиллерийский огонь.
Немцы потеряли более 100 человек убитыми. 1 оф., 6 солдат пленными.
Опрос пленных выяснил, что в районе Эйдкунен — Гумбиннен располагается две пех. див. и четыре полка конницы 1 арм. корпуса, что Ольтерсбург, Николайнен, Лык заняты частями ХХ корпуса.
28 июля (10 авг.) на линии Выштынец — Рачки вновь завязались небольшие стычки, в результате коих мы заняли Мерунскен. Неприятельский отряд, наступавший на Рачки , нами отброшен. Того же числа немцы наступали из Сталлюпенена *) на Эйдкунен в составе 4-5 бат., 3-х батарей, 3-4 эск., но были отбиты: неудачно также было наступление немцев на Филиново 29 июля (12 авг.)
*) Несколько зап. Эйдкунен».
На Северо-западном фронте в Наревском районе: «26 июля (8 авг.) передовые части противника продвинулись в районе Мышинец — Барановец — Липно — Рыпин — Серпец.
Части 4 кав. див. вследствие плохой ближайшей разведки и охранения попали под огонь пехоты, результатом чего была потеря 6 орудий, вследствие убыли всех лошадей этих орудий (10 стр. 13)».
(Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 1. М. 1922. С. 33, 32.)
«Взрывом патриотизма ответила Россия на объявление нам войны. Речь Государя в Зимнем дворце, как электрическая искра пронеслась по России и всколыхнула всех. Петербург кипел. В Петергофе было как-то особенно торжественно спокойно». «26-го были собраны Государственный Совет и Дума. Государь принял их в Зимнем дворце. Выйдя с Вел. Кн. Николаем Николаевичем, Государь обратился к палатам с речью, которую закончил так: „Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах своей земли, но боремся за единокровных братьев Славян... Уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете мне перенести ниспосланные испытания, что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик Бог земли Русскойˮ.
Полное энтузиазма ура было ответом Государю, после чего говорили председатели Голубев и Родзянко. Последний говорил с большим подъемом и чувством. Государь был взволнован речами, горячо благодарил и закончил словами: „От всей души желаю вам всякого успеха. С нами Богˮ. Государь перекрестился. Крестились присутствовавшие. Запели „Спаси Господи люди Твояˮ... Все были взволнованы». (Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция. 1914-1917 г.г. Кн. I. Нью Иорк: Всеславянское Издательство, 1960. С. 13, 15.)
Ленин Шляпникову из Берна в Стокгольм 17 октября 1914 г.: «В России шовинизм прячется за фразы о «belle France*» [*— «прекрасной Франции». Ред.] и о несчастной Бельгии (а Украина? и т. д.) или за «народную» ненависть к немцам (и к «кайзеризму»). Поэтому наша безусловная обязанность — борьба с этими софизмами. А чтобы борьба шла по точной и ясной линии, нужен обобщающий её лозунг. Этот лозунг: для нас, русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто крат хуже кайзеризма. Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом и устремление всей пропаганды и агитации на международное сплочение (сближение, солидаризирование, сговор selon les circonstances** [**— сообразно обстоятельствам. Ред.]) пролетариата в целях гражданской войны. Ошибочно было бы призывать к индивидуальным актам стрельбы в офицеров etc. и допускать аргументы вроде того, что-де не хотим помогать кайзеризму. Первое — уклон к анархизму, второе — к оппортунизму. Мы же должны готовить массовое (или по крайней мере коллективное) выступление в войске не одной только нации, и всю пропагандистски-агитационную работу вести в этом направлении. Направление работы (упорной, систематической, долгой может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую — вот вся суть. Момент этого превращения — вопрос иной, сейчас ещё не ясный. Надо дать назреть этому моменту и «заставлять его назревать» систематически.
/.../
Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война.
Объективно — из коренной перемены в положении Европы вытекает такой лозунг для эпохи массовой войны. Из базельской резолюции вытекает то же лозунг.
Мы не можем ни «обещать» гражданской войны, ни «декретировать» её, но вести работу — при надобности и очень долгую — в этом направлении мы обязаны. Из статьи в ЦО вы увидите подробности*. [* См. В. И. Ленин. «Положение и задачи социалистического Интернационала» (Сочинения, 5 изд., т. 26 стр. 36-42). Ред.] Пока только намечаю основные пункты позиции, чтобы мы спелись хорошенько». (Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 49. Письма август 1914 — октябрь 1917. М.: Издательство политической литературы, 1970. С. 14-15.)
«За три года исключительно тяжёлой борьбы русской армией было взято 2200000 пленных и 3850 орудий. Из этого числа германцев – 250000 пленных и 550 орудий, австро-венгров – 1850000 пленных и 2650 орудий и турок – 100000 пленных при 650 орудиях.
За то же время Францией было взято 160000 пленных и 900 орудий, Англией – 90000 пленных при 450 орудиях, а Италией – 110000 пленных и 150 орудий.
Русские трофеи в шесть раз превысили трофеи остальных армий Согласия, взятых вместе.
С чувством глубокого удовлетворения русский историк просматривает списки потерь по полкам германской армии, дравшихся на Востоке и Западе. Русский фронт для них оказался вдвое убийственнее англо-французского. Об австро-венгерской армии и говорить нечего. Весь цвет её лег на полях Галиции и в ущельях Карпат. Итальянцы на Виттории Венето добивали остатки их эрзац ландштурма. Наконец победители англо-французов – турки – сами потерпели от нас жесточайшие поражения за всю свою историю». (Керсновский А.А. История Русской Армии. М.: «Голос». Т. 4. 1915-1917 г.г. 1994. С. 164-165.)
На середину декабря ст. ст. 1916 г.: «Всего нашим 153 ½ пехотным и 35 конным дивизиям противостояло 136 ½ пехотных и 20 кавалерийских дивизий неприятеля.
/…/
На Западе 180 пехотным и 14 кавалерийским дивизиям союзников противостояло 129 пехотных германских. В Италии 68 итальянских пехотных и 3 кавалерийские дивизии сдерживались без особенного труда 34 пехотными австро-венгерскими. В Македонии 19 ½ пехотных и 1 кавалерийская дивизии генерала Саррайля оставались безучастными зрителями румынской катастрофы, имея перед собой 12 ½ неприятельских дивизий. В Месопотамии и Палестине 25 британских дивизий опасливо наблюдали 14 турецких дивизий, а на Кавказском фронте 14 русских дивизий расправлялись с 25 турецкими.
Из 351 пехотных дивизий всей Коалиции Центральных держав 161 ½ дивизий – 46 процентов – было схвачено за горло русской армией. Британская империя, Франция, Италия и остальные союзники удерживали другую половину». (Керсновский. Т. 4. С. 116, 117.)
«26 октября – в день захвата власти большевиками в Петербурге – в 10-й армии на Березине полковник Щепетильников с 681-м пехотным Алтайским полком атаковал немецкие позиции, где взял 200 пленных и отбил у неприятеля 2 новогеоргиевские поршневые пушки. Это было последним делом русской армии в Мировую войну». (Керсновский. Т. 4. С. 321.)
Антон Павлов,
24-07-2022 22:46
(ссылка)
Глупость и измена.
«После удаления умеренно-либеральных элементов из Временного правительства во главе с князем Львовым и Милюковым, последний обратился к своим единомышленникам с письмом, которое в подлиннике хранится в моем архиве как документ, свидетельствующий о настроении людей, давших свое согласие на совершение революции и участвовавших в ней. Привожу выдержку из этого письма.
„В ответ на поставленные вами вопросы, как я смотрю на совершенный нами переворот я хочу сказать... того, что случилось мы, конечно, не хотели... Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета, что громадную разруху в армии остановим быстро, если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, поплатимся за свержение царя лишь некоторой отсрочкой этой победы. Надо сознаться, что некоторые, даже из нашей партии, указывали нам на возможность того, что произошло потом, да и мы сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии... Что же делать, ошиблись в 1905 году в одну сторону, теперь опять, но в другую. Тогда не оценили сил правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов. Результаты вы видите сами.
Само собой разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению, финансовому и экономическому краху, вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций, помимо полной своей бессмысленности, уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками, подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для его изобретателей. Не буду излагать вам, зачем все это нужно было, кратко скажу, что здесь играли роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность лежит на нас.
Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны, вы знаете также, что наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать свое согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть мое внутреннее состояние в настоящее время. История проклянет вождей, так называемых, пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.
Что же делать теперь, спросите вы. Не знаю, т. е. внутри мы все знаем, что спасение России — в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев явно доказывают, что народ не способен был принять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие, голосующие за республику, делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями.
Признать не можем, противодействовать не можем, соединиться не можем с теми правыми и подчиниться тем правым, с которыми долго и с таким успехом боролись, тоже не можем. Вот все, что я могу сейчас сказать”.
Вернусь к решению генерала Корнилова. Надо сказать, что генерал Корнилов, сам левых взглядов, не намеревался свергать или уничтожать Временное правительство. Он хотел лишь переформировать его для создания твердой власти и освобождения его от зависимости и безответственного влияния Совета Рабочих и Солдатских депутатов, влияния, ведшего прямым путем к военному поражению и полному государственному краху». (Лодыженский А.А. Воспоминания. Париж. 1984. С. 90-92.)
https://rev-lib.com/vospomi...
Но Милюков и здесь слукавил. В первую революцию, 1905 года, либералы всячески поддерживали левых и ожесточённо выступали против сторонников исторической России – правых. Придя к власти, либеральное Временное правительство запретило правые (монархические) организации, предоставив полную свободу своим подельникам левым (социалистам). В 1917 г., как и в 1905 г., «масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически». Но дабы избежать поражения, как в первой революции, либералы лишили это население возможности участвовать в политической и общественной жизни. Вкупе с уничтожением полиции и разложением армии это привело к гибели России.
Подобным образом в 1918-19 годах на юге России вёл себя Деникин. Он устранял из политической жизни самодержавие, но не препятствовал деятельности либералов и левых. Как и в случае с Временным правительством, это закончилось тем, что левые самостийники кубанской рады разложили Кубанское казачье войско.
См. также: Почему похищенъ Кутеповъ, а не Милюковъ. Парижъ. 1930.
https://rev-lib.com/pochemu...
Те, кто утверждают, что большевиков поддержал народ, должны в таком случае согласиться, что и на «Украине» с 2014 г. народ поддерживает изуверское украинство. Чем по исполнению отличаются октябрьская революция 1917 г. и майданная 2014 с их последующим развитием? Ничем. Возвращение Ленина с соратниками из Швейцарии устроило правительство Германии, Троцкий прибыл из США через Британскую империю. Порошенко, Яценюк, Кличко связаны с Западом. Отбывавшие заключение большевики выпущены в 1917 г. на свободу, то же и со сторонниками майдана в 2014. В 1917 г. переворот совершён в столице, восстание во втором городе страны Москве подавлено. В 2014 г. переворот совершён в столице, восстание во 2-м городе страны Харькове подавлено. Армия в плохом состоянии. Большевики опирались на «красную гвардию», латышских стрелков и иностранных наёмников (в том числе около 100 тыс. поляков). Майданные власти на украинствующие батальоны, польских и других иностранных наёмников. Большевиков до 1917 г. никто не убивал, но они начали убивать несогласных при первой же возможности (при чём жестоко). То же с 2014 г. Большевикам в 1917 г. достались все основные государственные средства, майданным властям в 2014 то же. По расположению и соотношению сил восставший в 2014 г. Донбасс оказался в том же положении, что и Белые в 1918 г. Во внутреннем содержании большевиков и майдана, конечно, различия есть, но русофобия и украинство общие. Тем более, что украинское государство создано советской властью. А сильно ли изменились сами коммунисты? Один из их руководителей, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (!) Калашников Л.И. 27 марта 2022 г. высказался против голосования в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России. Его заявление для ТАСС, 12 час. 24 мин.: "Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", - сказал он в воскресенье ТАСС. https://tass.ru/politika/14...
Интерфаксу, 12 час. 59 мин.: "Я не считаю, что в принципе это целесообразно, потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашениям". И вот так - бегом-бегом...", - сказал Калашников "Интерфаксу" в воскресенье.
Он отметил, что даже в национальных республиках, независимость которых РФ признала, таких как Южная Осетия и Абхазия, не принималось подобных решений.
Кроме того, "сейчас в республиках отсутствует большое количество жителей, так как проводилась эвакуация", сказал глава комитета. https://www.interfax.ru/rus...
Кумиры у коммунистов всё те же – Ленин и Сталин, завещавшие «Украину» и «борьбу с великорусским шовинизмом».
Большевизм сроден сатанизму. Как таковой его принимают немногие. (Коммунисты никогда не приходили к власти на выборах.) Нужны переходные исполнители, которые разрушат здоровые основы. Тогда зло, развиваясь как болезнь, захватывает лишённый иммунитета организм и убивает его.
И здесь наглядно видна разница между Российской Империей и СССР. Даже получив тяжкую рану, защита первой начала бороться. На подавление русских сил советской власти пришлось потратить больше времени, чем на войну с Германией и Японией в 1941-45 годах. Когда разваливался СССР, никто не стал за него подвизаться. Хотя не было ни террора против сторонников советской власти, ни уничтожения КГБ, Советской армии и милиции. ГКЧП выступил по телевидению, и на этом всё закончилось. СССР разрушился при первом же родившемся и выросшем при нём поколении. «Ви́дѣхъ нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя: и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́». (Псалом 36, ст. 35-36.)
К сожалению, наше положение подобно Царству Ромеев (Византии) VIII-IX веков, когда на преодоление и анафематствование ереси иконоборчества ушло очень много времени. Но беда в том, что, в отличие от догматического богословия, вернуть уничтоженные русские исторические обычаи не получится. Нет их носителей.
„В ответ на поставленные вами вопросы, как я смотрю на совершенный нами переворот я хочу сказать... того, что случилось мы, конечно, не хотели... Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета, что громадную разруху в армии остановим быстро, если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, поплатимся за свержение царя лишь некоторой отсрочкой этой победы. Надо сознаться, что некоторые, даже из нашей партии, указывали нам на возможность того, что произошло потом, да и мы сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии... Что же делать, ошиблись в 1905 году в одну сторону, теперь опять, но в другую. Тогда не оценили сил правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов. Результаты вы видите сами.
Само собой разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению, финансовому и экономическому краху, вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций, помимо полной своей бессмысленности, уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками, подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для его изобретателей. Не буду излагать вам, зачем все это нужно было, кратко скажу, что здесь играли роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность лежит на нас.
Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны, вы знаете также, что наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать свое согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть мое внутреннее состояние в настоящее время. История проклянет вождей, так называемых, пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.
Что же делать теперь, спросите вы. Не знаю, т. е. внутри мы все знаем, что спасение России — в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев явно доказывают, что народ не способен был принять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие, голосующие за республику, делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями.
Признать не можем, противодействовать не можем, соединиться не можем с теми правыми и подчиниться тем правым, с которыми долго и с таким успехом боролись, тоже не можем. Вот все, что я могу сейчас сказать”.
Вернусь к решению генерала Корнилова. Надо сказать, что генерал Корнилов, сам левых взглядов, не намеревался свергать или уничтожать Временное правительство. Он хотел лишь переформировать его для создания твердой власти и освобождения его от зависимости и безответственного влияния Совета Рабочих и Солдатских депутатов, влияния, ведшего прямым путем к военному поражению и полному государственному краху». (Лодыженский А.А. Воспоминания. Париж. 1984. С. 90-92.)
https://rev-lib.com/vospomi...
Но Милюков и здесь слукавил. В первую революцию, 1905 года, либералы всячески поддерживали левых и ожесточённо выступали против сторонников исторической России – правых. Придя к власти, либеральное Временное правительство запретило правые (монархические) организации, предоставив полную свободу своим подельникам левым (социалистам). В 1917 г., как и в 1905 г., «масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически». Но дабы избежать поражения, как в первой революции, либералы лишили это население возможности участвовать в политической и общественной жизни. Вкупе с уничтожением полиции и разложением армии это привело к гибели России.
Подобным образом в 1918-19 годах на юге России вёл себя Деникин. Он устранял из политической жизни самодержавие, но не препятствовал деятельности либералов и левых. Как и в случае с Временным правительством, это закончилось тем, что левые самостийники кубанской рады разложили Кубанское казачье войско.
См. также: Почему похищенъ Кутеповъ, а не Милюковъ. Парижъ. 1930.
https://rev-lib.com/pochemu...
Те, кто утверждают, что большевиков поддержал народ, должны в таком случае согласиться, что и на «Украине» с 2014 г. народ поддерживает изуверское украинство. Чем по исполнению отличаются октябрьская революция 1917 г. и майданная 2014 с их последующим развитием? Ничем. Возвращение Ленина с соратниками из Швейцарии устроило правительство Германии, Троцкий прибыл из США через Британскую империю. Порошенко, Яценюк, Кличко связаны с Западом. Отбывавшие заключение большевики выпущены в 1917 г. на свободу, то же и со сторонниками майдана в 2014. В 1917 г. переворот совершён в столице, восстание во втором городе страны Москве подавлено. В 2014 г. переворот совершён в столице, восстание во 2-м городе страны Харькове подавлено. Армия в плохом состоянии. Большевики опирались на «красную гвардию», латышских стрелков и иностранных наёмников (в том числе около 100 тыс. поляков). Майданные власти на украинствующие батальоны, польских и других иностранных наёмников. Большевиков до 1917 г. никто не убивал, но они начали убивать несогласных при первой же возможности (при чём жестоко). То же с 2014 г. Большевикам в 1917 г. достались все основные государственные средства, майданным властям в 2014 то же. По расположению и соотношению сил восставший в 2014 г. Донбасс оказался в том же положении, что и Белые в 1918 г. Во внутреннем содержании большевиков и майдана, конечно, различия есть, но русофобия и украинство общие. Тем более, что украинское государство создано советской властью. А сильно ли изменились сами коммунисты? Один из их руководителей, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (!) Калашников Л.И. 27 марта 2022 г. высказался против голосования в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России. Его заявление для ТАСС, 12 час. 24 мин.: "Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", - сказал он в воскресенье ТАСС. https://tass.ru/politika/14...
Интерфаксу, 12 час. 59 мин.: "Я не считаю, что в принципе это целесообразно, потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашениям". И вот так - бегом-бегом...", - сказал Калашников "Интерфаксу" в воскресенье.
Он отметил, что даже в национальных республиках, независимость которых РФ признала, таких как Южная Осетия и Абхазия, не принималось подобных решений.
Кроме того, "сейчас в республиках отсутствует большое количество жителей, так как проводилась эвакуация", сказал глава комитета. https://www.interfax.ru/rus...
Кумиры у коммунистов всё те же – Ленин и Сталин, завещавшие «Украину» и «борьбу с великорусским шовинизмом».
Большевизм сроден сатанизму. Как таковой его принимают немногие. (Коммунисты никогда не приходили к власти на выборах.) Нужны переходные исполнители, которые разрушат здоровые основы. Тогда зло, развиваясь как болезнь, захватывает лишённый иммунитета организм и убивает его.
И здесь наглядно видна разница между Российской Империей и СССР. Даже получив тяжкую рану, защита первой начала бороться. На подавление русских сил советской власти пришлось потратить больше времени, чем на войну с Германией и Японией в 1941-45 годах. Когда разваливался СССР, никто не стал за него подвизаться. Хотя не было ни террора против сторонников советской власти, ни уничтожения КГБ, Советской армии и милиции. ГКЧП выступил по телевидению, и на этом всё закончилось. СССР разрушился при первом же родившемся и выросшем при нём поколении. «Ви́дѣхъ нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя: и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́». (Псалом 36, ст. 35-36.)
К сожалению, наше положение подобно Царству Ромеев (Византии) VIII-IX веков, когда на преодоление и анафематствование ереси иконоборчества ушло очень много времени. Но беда в том, что, в отличие от догматического богословия, вернуть уничтоженные русские исторические обычаи не получится. Нет их носителей.
Антон Павлов,
23-07-2022 00:35
(ссылка)
Куприн о белых и красных под Петроградом в октябре 1919 г.
«Послѣ обѣда въ корпусномъ штабѣ былъ другой офицеръ, кажется, Семеновскаго полка. Онъ разсказывалъ, что одинъ изъ бѣлыхъ разъѣздовъ, нащупывающій подступы къ Петербургу, такъ забрался впередъ, что совсѣмъ невдалекѣ могъ видѣть арку нарвскихъ воротъ. Позднѣе другой разьѣздъ обстрѣлялъ какой-то изъ трамваевъ, въ которыхъ Троцкій перебрасывалъ пачки курсантовъ на вокзалы.
Быстротечные, краткіе дни упоительныхъ надеждъ! На правомъ флангѣ бѣлые пробирались къ Пулкову II, гдѣ снова могли бы перехватить Николаевскую дорогу. Слѣва они заняли послѣдовательно: Таицы, Дудергофъ, Лигово, и докатывались до Дачнаго, намѣреваясь начать поискъ къ Петергофу. Божество удачи было явно на сторонѣ С.-З. Арміи.
Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калѣчь отправлялась въ тылъ для обученія строю. Надежные бойцы вливались въ составъ бѣлыхъ полковъ и отлично дрались въ ихъ рядахъ. У полководцевъ, искушенныхъ боевымъ опытомъ, есть непостижимый даръ узнавать по первому быстрому взору цѣннаго воина, подобно тому, какъ настоящій знатокъ лошадей, едва взглянувъ на коня, узнаетъ безошибочно его возрастъ, нравъ, достоинства и пороки.
Этимъ даромъ обладалъ въ особенно высокой степени ген. Перемикинъ...
Этотъ необыкновенный человѣкъ обладалъ несомнѣннымъ и природнымъ военнымъ талантомъ, который только развился вширь и вглубь отъ практики трехъ войнъ.
Злобности и мстивости не было у бѣлыхъ. Когда приводили плѣнныхъ, то начальникъ части спрашивалъ: „Кто изъ васъ коммунисты?“, нерѣдко дво-трое, не задумываясь, громко, и какъ бы съ вызывающей гордостью, откликались: — Я! — „Отвести въ сторону!“ — приказывалъ начальникъ. Потомъ происходилъ обыскъ. Случалось, что у нѣкоторыхъ солдатъ находились коммунистическіе билеты. Затѣмъ коммунистовъ уводили и, такимъ образомъ, коммунисты въ тылъ не просачивались.
Многіе коммунисты умирали смѣло. Вотъ, что разсказывалъ офицеръ, которому, по наряду, пришлось присутствовать при разстрѣлѣ двухъ коммунистовъ.
— По дорогѣ я остановилъ конвой и спросилъ одного изъ нихъ краснаго, волосатаго, худого и злющаго. „Не хочешь ли помолиться?“. Онъ отрыгнулъ такую бѣшеную хулу на Бога, Іисуса Христа и Владычицу Небесную, что мнѣ сдѣлалось противно. А когда я предложилъ то же самое другому, по одеждѣ матросу, онъ наклонился къ моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнесъ тихо, съ глубокимъ убѣжденіемъ:
— Все равно Богъ не проститъ насъ.
Объ этомъ „все равно Богъ не проститъ...“, стоитъ подумать побольше. Не сквозитъ ли въ немъ пламенная, но поруганная вѣра?
Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на бѣлые танки съ голыми руками, вцѣплялись въ нихъ и гибли десятками. Красные вожди, обманули ихъ увѣреніями, что танки поддѣльные: „дерево-де выкрашенное подъ цвѣтъ стальной брони“. Они же внѣдряли въ солдатъ ужасъ къ бѣлымъ, которые, по ихъ словамъ, не только не даютъ пощады ни одному плѣнному, а напротивъ, прежде чѣмъ казнить, подвергаютъ лютымъ мукамъ.
Но и красные солдаты, а впослѣдствіи курсанты и матросы, въ день плѣна, присѣвши вечеромъ къ ротному котлу, не слыша ни брани, ни насмѣшки отъ недавнихъ враговъ, быстро оттаивали и отрясались отъ всѣхъ мерзостей большевицкой пропаганды и отъ привитыхъ рабскихъ чувствъ.
— Прохожу я вдоль бивуака — разсказывалъ мнѣ одинъ офицеръ, — вдругъ чую, пахнетъ настоящимъ табакомъ, не махоркой. Тяну по запаху, какъ пойнтеръ. Смотрю, сидитъ въ кругу незнакомый оборванный солдатъ и угощаетъ сосѣдей папиросами изъ бумажнаго пакета. Спрашиваю, „откуда табакъ?“ — Тотъ вскочилъ, видно прежній еще солдатъ: „Такъ что еще утромъ раздавали паекъ, ваше благородіе“.
А одинъ стрѣлокъ изъ рыбаковъ, не вставая (на отдыхѣ и за ѣдою стрѣлки не встаютъ) говоритъ на чисто талабскомъ языкѣ:
— Онъ только цицасъ пересодцы. Есцо сумушаетцы. Ницого парень. Оклемаетсцы.
А еще дальше плѣнный солдатъ объясняетъ, что терпѣть до слезъ нельзя когда бѣлые поютъ... Про „Дуню Фомину“ услышалъ, такъ и потянуло. — Это тебѣ не тырціоналъ...
Большевики, должно быть, понимаютъ, что пѣсня, порою, бываетъ сильнѣе печатной прокламаціи. Полковникъ Ставскій отобралъ въ Елизаветинѣ у плѣннаго комиссара карандашное донесеніе по начальству.
„Идутъ густыми колоннами и поютъ старыя пѣсни ...“
Перемикинъ и, конечно, другіе военоначальники понимали громадное преобладаніе добра надъ зломъ. Перемикинъ говорилъ нерѣдко стрѣлкамъ:
— Война не страшна ни мнѣ, ни вамъ. Ужасно то, что братьямъ довелось убивать братьевъ. Чѣмъ скорѣе мы ее покончимъ, тѣмъ меньше жертвъ. Потому забудемъ усталость. Станемъ появляться сразу во всѣхъ мѣстахъ. Но жителей не обижать. Плѣнному первый кусокъ.
— Для большевиковъ всякій солдатъ, свой и чужой — ходячее пушечное мясо. Для насъ онъ прежде всего человѣкъ, братъ и русскій». (Купринъ А.И. Куполъ св. Исаакiя Далматскаго. Рига. 1928. Стр. 83-85.)
https://imwerden.de/publ-10...
Быстротечные, краткіе дни упоительныхъ надеждъ! На правомъ флангѣ бѣлые пробирались къ Пулкову II, гдѣ снова могли бы перехватить Николаевскую дорогу. Слѣва они заняли послѣдовательно: Таицы, Дудергофъ, Лигово, и докатывались до Дачнаго, намѣреваясь начать поискъ къ Петергофу. Божество удачи было явно на сторонѣ С.-З. Арміи.
Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калѣчь отправлялась въ тылъ для обученія строю. Надежные бойцы вливались въ составъ бѣлыхъ полковъ и отлично дрались въ ихъ рядахъ. У полководцевъ, искушенныхъ боевымъ опытомъ, есть непостижимый даръ узнавать по первому быстрому взору цѣннаго воина, подобно тому, какъ настоящій знатокъ лошадей, едва взглянувъ на коня, узнаетъ безошибочно его возрастъ, нравъ, достоинства и пороки.
Этимъ даромъ обладалъ въ особенно высокой степени ген. Перемикинъ...
Этотъ необыкновенный человѣкъ обладалъ несомнѣннымъ и природнымъ военнымъ талантомъ, который только развился вширь и вглубь отъ практики трехъ войнъ.
Злобности и мстивости не было у бѣлыхъ. Когда приводили плѣнныхъ, то начальникъ части спрашивалъ: „Кто изъ васъ коммунисты?“, нерѣдко дво-трое, не задумываясь, громко, и какъ бы съ вызывающей гордостью, откликались: — Я! — „Отвести въ сторону!“ — приказывалъ начальникъ. Потомъ происходилъ обыскъ. Случалось, что у нѣкоторыхъ солдатъ находились коммунистическіе билеты. Затѣмъ коммунистовъ уводили и, такимъ образомъ, коммунисты въ тылъ не просачивались.
Многіе коммунисты умирали смѣло. Вотъ, что разсказывалъ офицеръ, которому, по наряду, пришлось присутствовать при разстрѣлѣ двухъ коммунистовъ.
— По дорогѣ я остановилъ конвой и спросилъ одного изъ нихъ краснаго, волосатаго, худого и злющаго. „Не хочешь ли помолиться?“. Онъ отрыгнулъ такую бѣшеную хулу на Бога, Іисуса Христа и Владычицу Небесную, что мнѣ сдѣлалось противно. А когда я предложилъ то же самое другому, по одеждѣ матросу, онъ наклонился къ моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнесъ тихо, съ глубокимъ убѣжденіемъ:
— Все равно Богъ не проститъ насъ.
Объ этомъ „все равно Богъ не проститъ...“, стоитъ подумать побольше. Не сквозитъ ли въ немъ пламенная, но поруганная вѣра?
Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на бѣлые танки съ голыми руками, вцѣплялись въ нихъ и гибли десятками. Красные вожди, обманули ихъ увѣреніями, что танки поддѣльные: „дерево-де выкрашенное подъ цвѣтъ стальной брони“. Они же внѣдряли въ солдатъ ужасъ къ бѣлымъ, которые, по ихъ словамъ, не только не даютъ пощады ни одному плѣнному, а напротивъ, прежде чѣмъ казнить, подвергаютъ лютымъ мукамъ.
Но и красные солдаты, а впослѣдствіи курсанты и матросы, въ день плѣна, присѣвши вечеромъ къ ротному котлу, не слыша ни брани, ни насмѣшки отъ недавнихъ враговъ, быстро оттаивали и отрясались отъ всѣхъ мерзостей большевицкой пропаганды и отъ привитыхъ рабскихъ чувствъ.
— Прохожу я вдоль бивуака — разсказывалъ мнѣ одинъ офицеръ, — вдругъ чую, пахнетъ настоящимъ табакомъ, не махоркой. Тяну по запаху, какъ пойнтеръ. Смотрю, сидитъ въ кругу незнакомый оборванный солдатъ и угощаетъ сосѣдей папиросами изъ бумажнаго пакета. Спрашиваю, „откуда табакъ?“ — Тотъ вскочилъ, видно прежній еще солдатъ: „Такъ что еще утромъ раздавали паекъ, ваше благородіе“.
А одинъ стрѣлокъ изъ рыбаковъ, не вставая (на отдыхѣ и за ѣдою стрѣлки не встаютъ) говоритъ на чисто талабскомъ языкѣ:
— Онъ только цицасъ пересодцы. Есцо сумушаетцы. Ницого парень. Оклемаетсцы.
А еще дальше плѣнный солдатъ объясняетъ, что терпѣть до слезъ нельзя когда бѣлые поютъ... Про „Дуню Фомину“ услышалъ, такъ и потянуло. — Это тебѣ не тырціоналъ...
Большевики, должно быть, понимаютъ, что пѣсня, порою, бываетъ сильнѣе печатной прокламаціи. Полковникъ Ставскій отобралъ въ Елизаветинѣ у плѣннаго комиссара карандашное донесеніе по начальству.
„Идутъ густыми колоннами и поютъ старыя пѣсни ...“
Перемикинъ и, конечно, другіе военоначальники понимали громадное преобладаніе добра надъ зломъ. Перемикинъ говорилъ нерѣдко стрѣлкамъ:
— Война не страшна ни мнѣ, ни вамъ. Ужасно то, что братьямъ довелось убивать братьевъ. Чѣмъ скорѣе мы ее покончимъ, тѣмъ меньше жертвъ. Потому забудемъ усталость. Станемъ появляться сразу во всѣхъ мѣстахъ. Но жителей не обижать. Плѣнному первый кусокъ.
— Для большевиковъ всякій солдатъ, свой и чужой — ходячее пушечное мясо. Для насъ онъ прежде всего человѣкъ, братъ и русскій». (Купринъ А.И. Куполъ св. Исаакiя Далматскаго. Рига. 1928. Стр. 83-85.)
https://imwerden.de/publ-10...
Антон Павлов,
22-07-2022 04:06
(ссылка)
Антанта и Белые.
Сражавшиеся «за Великую, Единую и Неделимую Россию» Белые были нежелательны Западу, который сделал ставку на боровшихся с «великорусским шовинизмом» и расчленявших Россию «красных».
https://my.mail.ru/communit...
На юге России союзнические поставки не требовались. Достаточно было передать Белым военные склады Российской Императорской Армии в Румынии. Но союзники присвоили их себе, выдавая русским их же имущество лишь понемногу.
В Архангельск войска Антанты пригласили большевики: «2 марта 1918 г., заручившись принципиальным согласием большевистского руководства, Мурманский совет заключил «словесное соглашение» с представителями Англии и Франции об оказании ему военной и продовольственной помощи. В апреле 1918 г. совет преобразован в независимый от Архангельска Мурманский краевой совет, что официальное распространило его власть и действие соглашения на территорию Александровского и Кемского уездов Архангельской губернии.
Хотя первоначально чисто военные последствия договора были незначительны – 6 марта на берег сошли лишь 170 солдат британской морской пехоты с судов союзной эскадры, – в течение весны присутствие союзных войск в регионе стало усиливаться. Мурманский совет приветствовал такое развитие событий, так как вопреки Брестскому миру немецкие подводные лодки на Севере продолжали атаковать и даже топить промысловые и торговые суда». (Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере 1917-1920. М.: «Новое литературное обозрение», 2011. С. 70.)
«Ещё в начале осени 1919 г. могло показаться, что худшее уже позади, так как на горизонте вновь показался призрак белой победы. Не успели союзные войска покинуть Северную область, как военная обстановка на архангельском фронте начала улучшаться. В августе британские части в своей последней атаке против большевиков смяли красные позиции, прикрывавшие Котлас. Затем в наступление перешёл Мурманский фронт, оттеснив противника более чем на 40 км к югу. Когда союзные части, дезорганизовав таким образом красный фронт, начали грузиться на корабли, белые войска неожиданно успешно продолжили наступление. Они потеснили красных на участке фронта по Архангельской железной дороге и вынудили противника оставить Онежский район, 10 сентября вновь заняв Онегу. Затем белые части возобновили атаки и в октябре взяли станцию Плесецкая, которую они безуспешно пытались захватить с осени 1918 г. В последующие недели под контроль Архангельска также перешли обширные территории на Пинеге и в Мезенско-Печорском районе. Под властью белого правительства оказался даже ряд волостей Яренского и Усть-Сысольского уездов Вологодской губернии, когда отряд полковника Н.П. Орлова глубоким рейдом в красный тыл дезорганизовал оборону противника. Удачное наступление принесло белым войскам более 14 тыс. пленных красноармейцев, множество орудий, пулемётов и боеприпасов.
/.../
Однако чем быстрее росла северная армия, тем труднее становилось белому правительству её обслуживать и содержать. В значительной мере трудности снабжения армии были связаны с прекращением союзных поставок. Ещё накануне эвакуации союзники перестали поставлять на Север продовольствие, предметы первой необходимости и вооружение. Более того, полагая, что белым одним долго не продержаться, союзное командование вывезло или уничтожило значительную часть уже находившихся на Севере запасов. Продукты и оружие часто топились в реке прямо на глазах у белых солдат. Только в Мурманском крае, который, как предполагалось, мог продержаться дольше, союзники оставили шестимесячный запас снабжения. Ожидая со дня на день падения Архангельска, союзные власти не спешили передавать белому командованию и находившиеся в их пользовании русские ледоколы. И даже имевшиеся на Севере суда часто нельзя было задействовать для организации снабжения, так как для них не было угля.
Осенью 1919 г. перед северным руководством вновь остро встала продовольственная проблема». (Там же. С. 237, 239.)
«Въ рукахъ большевиковъ и слугъ III интернацiонала было все, что нужно для созданiя армiи: военные заводы и склады, фабрики, орудiя, пулеметы, ружья, снаряды и патроны. У казаковъ и добровольцевъ кромѣ сердца, страдающаго за родину не было ничего. Все приходилось добывать кровью своихъ братьевъ.
/.../
На моихъ глазахъ совершилась петроградская операцiя. На моихъ глазахъ одѣли солдатъ и офицеровъ великолѣпной по духу сѣверо-западной армiи въ прекрасные френчи и пальто и не дали патронташей. Тылъ былъ в восторгѣ и благословлялъ англичанъ, фронтъ недоумѣвалъ. Привезли испорченные танки, дали пушки и не дали лошадей къ нимъ, дали русскiя винтовки и не дали патроновъ, дали англiйскiя винтовки и русскiе патроны, обѣщали взять Кронштадтъ и дали два выстрѣла по Красной Горкѣ, а потомъ предали эстонцамъ, обратили офицеровъ и солдатъ въ бѣлыхъ рабовъ на торфяныхъ, сланцевыхъ и лѣсныхъ работахъ, потомъ бросили ихъ воевать заодно съ Польшей, которая дралась не съ большевиками, а съ Россiей и, наконецъ, посадили за рѣшетку». (Красновъ П.Н. Весна 1921 г. // Русская Лѣтопись (съ 1917 года). Кн. I. Парижъ. 1921. Стр. 189, 190.)
Также:
Образованiе Сѣверо-Западнаго Правительства. Гельсингфорсъ. 1919.
https://rev-lib.com/obrazov...
Купринъ А.И. Куполъ св. Исаакiя Далматскаго. Рига. 1928.
https://imwerden.de/publ-10...
https://my.mail.ru/communit...
https://my.mail.ru/communit...
Золото Колчака. Документальный фильм. 2020. Автор фильма Елена Чавчавадзе. https://smotrim.ru/brand/64736
Такое вероломное отношение к русскому союзнику объясняется в письме государственного секретаря США итальянскому послу. В нём заявляется, что, по отделении от России Польши, Финляндии и земель в Закавказье (независимость Литвы, Латвии и Эстонии большевики к этому времени уже признали сами), русский народ должен быть предан во власть большевиков:
«760c.61/300b
The Secretary of State to the Italian Ambassador (Avezzana)
/.../
To summarize the position of this Government, I would say, therefore, in response to your Excellency’s inquiry, that it would regard with satisfaction a declaration by the Allied and Associated Powers, that the territorial integrity and true boundaries of Russia shall be respected. These boundaries should properly include the whole of the former Russian Empire, with the exception of Finland proper, ethnic Poland, and such territory as may by agreement form a part of the Armenian State. The aspirations of these nations for independence are legitimate. Each was forcibly annexed and their liberation from oppressive alien rule involves no aggressions against Russia’s territorial rights, and has received the sanction of the public opinion of all free peoples. Such a declaration presupposes the withdrawal of all foreign troops from the territory embraced by these boundaries, and in the opinion of this Government should be accompanied by the announcement that no transgression by Poland, Finland or any other Power, of the line so drawn and proclaimed will be permitted.
Thus only can the Bolshevist regime be deprived of its false, but effective, appeal to Russian nationalism and compelled to meet the inevitable challenge of reason and self-respect which the Russian people, secure from invasion and territorial violation, are sure to address to a social philosophy that degrades them and a tyranny that oppresses them.
The policy herein outlined will command the support of this Government.
Accept [etc.]
(Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920 (in three volumes). Volume III. Washington. 1936. P. 463, 468.)
Перевод: «Суммируя позицию этого Правительства, я хотел бы поэтому сказать в ответ на запрос Вашего Превосходительства, что оно с удовлетворением отнесётся к заявлению Союзников и Ассоциированных Держав о том, что территориальная целостность и истинные границы России должны уважаться. Эти границы должны надлежащим образом включать в себя всю бывшую Российскую Империю, за исключением собственно Финляндии, этнической Польши и такой территории, которая может по соглашению войти в состав Армянского Государства. Стремление этих народов к независимости правомерно. Каждая из них была насильственно присоединена, и освобождение их от гнетущего чужеземного господства не связано с посягательствами на территориальные права России и получило санкцию общественного мнения всех свободных народов. Такое заявление предполагает вывод всех иностранных войск с территории, охватываемой этими границами, и, по мнению настоящего Правительства, должно сопровождаться заявлением о том, что никакое нарушение Польшей, Финляндией или какой-либо другой Державой линии, проведённой и провозглашённой таким образом, не будет разрешено. Только таким образом Большевистский режим может быть лишен своей фальшивой, но действенной апелляции к Русскому национализму и вынужден ответить на неизбежный вызов разума и самоуважения, который Русский народ, защищённый от вторжений и территориальных посягательств, непременно бросит социальной философии, которая их унижает, и тирании, которая их угнетает.
Изложенная здесь политика будет пользоваться поддержкой этого Правительства.
Примите [и т.д.]
Показателен ответ на это представителя в Соединённых Штатах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Л. Мартенса («L. Martens.
Representative in the United States of the Russian Socialist Federal Soviet Republic»), который в письме итальянскому послу возмущался, что американский госсекретарь в числе угнетавшихся «Царской Россией» народов, помимо Польши, Финляндии и Армении, не считает грузин, азербайджанцев, литовцев, латышей, эстонцев и украинцев:
«Mr. L. Martens to the Italian Ambassador (Avezzana)
No. A–15 New York, October 4, 1920.
Excellency: I am instructed by the People’s Commissar for Foreign Affairs of my Government to transmit to you his despatch in reply to the note of the Secretary of State, Bainbridge Colby, addressed to you under date of August 10, 1920. The despatch of the Commissar for Foreign Affairs, George Chicherin, follows:
“Secretary of State Bainbridge Colby’s note to the Italian Ambassador contains an attack upon Soviet Russia’s policy and her political system. Soviet Russia cannot leave unheeded these false and malicious accusations of a character quite unusual in diplomacy, and desires to bring them before the bar of public opinion.
“The American Government bases its objections to the policy of the British and Italian Governments on the principle of the territorial integrity of the former Russian Empire and would enter into friendly relations and intercourse only with such a Russian Government as would not be a Soviet Government. The only exceptions made by Mr. Colby from the principle of the territorial inviolability of the former Russian Empire are Poland, Finland and Armenia. The demand for independence of those nations is considered by him as legal, inasmuch as they were annexed to Russia by force, wherefore their secession does not infringe Russia’s territorial sovereignty. Mr. Colby imagines that the other oppressed nationalities of Tsarist Russia were not annexed by force and that the aspirations of the Georgian, Azerbeidjan, Lithuanian, Latvian, Esthonian and Ukrainian peoples for independence in the form of either secession or state sovereignty and federation with Russia are illegal. The discrimination on the part of the American Government in favor of some of these nationalities as against the others is unintelligible, being probably due to lack of information concerning national conditions in Eastern Europe». (Там же. P. 474-475.) И т.д.
PDF 100 МБ: https://search.library.wisc...
EPUB 1,71 МБ: https://history.state.gov/h...
Вооружённые силы Юга России и французы:
https://my.mail.ru/communit...
На юге России союзнические поставки не требовались. Достаточно было передать Белым военные склады Российской Императорской Армии в Румынии. Но союзники присвоили их себе, выдавая русским их же имущество лишь понемногу.
Северная армия и англичане.
В Архангельск войска Антанты пригласили большевики: «2 марта 1918 г., заручившись принципиальным согласием большевистского руководства, Мурманский совет заключил «словесное соглашение» с представителями Англии и Франции об оказании ему военной и продовольственной помощи. В апреле 1918 г. совет преобразован в независимый от Архангельска Мурманский краевой совет, что официальное распространило его власть и действие соглашения на территорию Александровского и Кемского уездов Архангельской губернии.
Хотя первоначально чисто военные последствия договора были незначительны – 6 марта на берег сошли лишь 170 солдат британской морской пехоты с судов союзной эскадры, – в течение весны присутствие союзных войск в регионе стало усиливаться. Мурманский совет приветствовал такое развитие событий, так как вопреки Брестскому миру немецкие подводные лодки на Севере продолжали атаковать и даже топить промысловые и торговые суда». (Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере 1917-1920. М.: «Новое литературное обозрение», 2011. С. 70.)
«Ещё в начале осени 1919 г. могло показаться, что худшее уже позади, так как на горизонте вновь показался призрак белой победы. Не успели союзные войска покинуть Северную область, как военная обстановка на архангельском фронте начала улучшаться. В августе британские части в своей последней атаке против большевиков смяли красные позиции, прикрывавшие Котлас. Затем в наступление перешёл Мурманский фронт, оттеснив противника более чем на 40 км к югу. Когда союзные части, дезорганизовав таким образом красный фронт, начали грузиться на корабли, белые войска неожиданно успешно продолжили наступление. Они потеснили красных на участке фронта по Архангельской железной дороге и вынудили противника оставить Онежский район, 10 сентября вновь заняв Онегу. Затем белые части возобновили атаки и в октябре взяли станцию Плесецкая, которую они безуспешно пытались захватить с осени 1918 г. В последующие недели под контроль Архангельска также перешли обширные территории на Пинеге и в Мезенско-Печорском районе. Под властью белого правительства оказался даже ряд волостей Яренского и Усть-Сысольского уездов Вологодской губернии, когда отряд полковника Н.П. Орлова глубоким рейдом в красный тыл дезорганизовал оборону противника. Удачное наступление принесло белым войскам более 14 тыс. пленных красноармейцев, множество орудий, пулемётов и боеприпасов.
/.../
Однако чем быстрее росла северная армия, тем труднее становилось белому правительству её обслуживать и содержать. В значительной мере трудности снабжения армии были связаны с прекращением союзных поставок. Ещё накануне эвакуации союзники перестали поставлять на Север продовольствие, предметы первой необходимости и вооружение. Более того, полагая, что белым одним долго не продержаться, союзное командование вывезло или уничтожило значительную часть уже находившихся на Севере запасов. Продукты и оружие часто топились в реке прямо на глазах у белых солдат. Только в Мурманском крае, который, как предполагалось, мог продержаться дольше, союзники оставили шестимесячный запас снабжения. Ожидая со дня на день падения Архангельска, союзные власти не спешили передавать белому командованию и находившиеся в их пользовании русские ледоколы. И даже имевшиеся на Севере суда часто нельзя было задействовать для организации снабжения, так как для них не было угля.
Осенью 1919 г. перед северным руководством вновь остро встала продовольственная проблема». (Там же. С. 237, 239.)
Северо-Западная армия и англичане.
«Въ рукахъ большевиковъ и слугъ III интернацiонала было все, что нужно для созданiя армiи: военные заводы и склады, фабрики, орудiя, пулеметы, ружья, снаряды и патроны. У казаковъ и добровольцевъ кромѣ сердца, страдающаго за родину не было ничего. Все приходилось добывать кровью своихъ братьевъ.
/.../
На моихъ глазахъ совершилась петроградская операцiя. На моихъ глазахъ одѣли солдатъ и офицеровъ великолѣпной по духу сѣверо-западной армiи въ прекрасные френчи и пальто и не дали патронташей. Тылъ былъ в восторгѣ и благословлялъ англичанъ, фронтъ недоумѣвалъ. Привезли испорченные танки, дали пушки и не дали лошадей къ нимъ, дали русскiя винтовки и не дали патроновъ, дали англiйскiя винтовки и русскiе патроны, обѣщали взять Кронштадтъ и дали два выстрѣла по Красной Горкѣ, а потомъ предали эстонцамъ, обратили офицеровъ и солдатъ въ бѣлыхъ рабовъ на торфяныхъ, сланцевыхъ и лѣсныхъ работахъ, потомъ бросили ихъ воевать заодно съ Польшей, которая дралась не съ большевиками, а съ Россiей и, наконецъ, посадили за рѣшетку». (Красновъ П.Н. Весна 1921 г. // Русская Лѣтопись (съ 1917 года). Кн. I. Парижъ. 1921. Стр. 189, 190.)
Также:
Образованiе Сѣверо-Западнаго Правительства. Гельсингфорсъ. 1919.
https://rev-lib.com/obrazov...
Купринъ А.И. Куполъ св. Исаакiя Далматскаго. Рига. 1928.
https://imwerden.de/publ-10...
Западная Добровольческая армия и англичане.
https://my.mail.ru/communit...
Верховный правитель России и Антанта.
https://my.mail.ru/communit...
Золото Колчака. Документальный фильм. 2020. Автор фильма Елена Чавчавадзе. https://smotrim.ru/brand/64736
Такое вероломное отношение к русскому союзнику объясняется в письме государственного секретаря США итальянскому послу. В нём заявляется, что, по отделении от России Польши, Финляндии и земель в Закавказье (независимость Литвы, Латвии и Эстонии большевики к этому времени уже признали сами), русский народ должен быть предан во власть большевиков:
«760c.61/300b
The Secretary of State to the Italian Ambassador (Avezzana)
Washington, August 10, 1920.
/.../
To summarize the position of this Government, I would say, therefore, in response to your Excellency’s inquiry, that it would regard with satisfaction a declaration by the Allied and Associated Powers, that the territorial integrity and true boundaries of Russia shall be respected. These boundaries should properly include the whole of the former Russian Empire, with the exception of Finland proper, ethnic Poland, and such territory as may by agreement form a part of the Armenian State. The aspirations of these nations for independence are legitimate. Each was forcibly annexed and their liberation from oppressive alien rule involves no aggressions against Russia’s territorial rights, and has received the sanction of the public opinion of all free peoples. Such a declaration presupposes the withdrawal of all foreign troops from the territory embraced by these boundaries, and in the opinion of this Government should be accompanied by the announcement that no transgression by Poland, Finland or any other Power, of the line so drawn and proclaimed will be permitted.
Thus only can the Bolshevist regime be deprived of its false, but effective, appeal to Russian nationalism and compelled to meet the inevitable challenge of reason and self-respect which the Russian people, secure from invasion and territorial violation, are sure to address to a social philosophy that degrades them and a tyranny that oppresses them.
The policy herein outlined will command the support of this Government.
Accept [etc.]
Bainbridge Colby»
(Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920 (in three volumes). Volume III. Washington. 1936. P. 463, 468.)
Перевод: «Суммируя позицию этого Правительства, я хотел бы поэтому сказать в ответ на запрос Вашего Превосходительства, что оно с удовлетворением отнесётся к заявлению Союзников и Ассоциированных Держав о том, что территориальная целостность и истинные границы России должны уважаться. Эти границы должны надлежащим образом включать в себя всю бывшую Российскую Империю, за исключением собственно Финляндии, этнической Польши и такой территории, которая может по соглашению войти в состав Армянского Государства. Стремление этих народов к независимости правомерно. Каждая из них была насильственно присоединена, и освобождение их от гнетущего чужеземного господства не связано с посягательствами на территориальные права России и получило санкцию общественного мнения всех свободных народов. Такое заявление предполагает вывод всех иностранных войск с территории, охватываемой этими границами, и, по мнению настоящего Правительства, должно сопровождаться заявлением о том, что никакое нарушение Польшей, Финляндией или какой-либо другой Державой линии, проведённой и провозглашённой таким образом, не будет разрешено. Только таким образом Большевистский режим может быть лишен своей фальшивой, но действенной апелляции к Русскому национализму и вынужден ответить на неизбежный вызов разума и самоуважения, который Русский народ, защищённый от вторжений и территориальных посягательств, непременно бросит социальной философии, которая их унижает, и тирании, которая их угнетает.
Изложенная здесь политика будет пользоваться поддержкой этого Правительства.
Примите [и т.д.]
Бейнбридж Колби».
Показателен ответ на это представителя в Соединённых Штатах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Л. Мартенса («L. Martens.
Representative in the United States of the Russian Socialist Federal Soviet Republic»), который в письме итальянскому послу возмущался, что американский госсекретарь в числе угнетавшихся «Царской Россией» народов, помимо Польши, Финляндии и Армении, не считает грузин, азербайджанцев, литовцев, латышей, эстонцев и украинцев:
«Mr. L. Martens to the Italian Ambassador (Avezzana)
No. A–15 New York, October 4, 1920.
Excellency: I am instructed by the People’s Commissar for Foreign Affairs of my Government to transmit to you his despatch in reply to the note of the Secretary of State, Bainbridge Colby, addressed to you under date of August 10, 1920. The despatch of the Commissar for Foreign Affairs, George Chicherin, follows:
“Secretary of State Bainbridge Colby’s note to the Italian Ambassador contains an attack upon Soviet Russia’s policy and her political system. Soviet Russia cannot leave unheeded these false and malicious accusations of a character quite unusual in diplomacy, and desires to bring them before the bar of public opinion.
“The American Government bases its objections to the policy of the British and Italian Governments on the principle of the territorial integrity of the former Russian Empire and would enter into friendly relations and intercourse only with such a Russian Government as would not be a Soviet Government. The only exceptions made by Mr. Colby from the principle of the territorial inviolability of the former Russian Empire are Poland, Finland and Armenia. The demand for independence of those nations is considered by him as legal, inasmuch as they were annexed to Russia by force, wherefore their secession does not infringe Russia’s territorial sovereignty. Mr. Colby imagines that the other oppressed nationalities of Tsarist Russia were not annexed by force and that the aspirations of the Georgian, Azerbeidjan, Lithuanian, Latvian, Esthonian and Ukrainian peoples for independence in the form of either secession or state sovereignty and federation with Russia are illegal. The discrimination on the part of the American Government in favor of some of these nationalities as against the others is unintelligible, being probably due to lack of information concerning national conditions in Eastern Europe». (Там же. P. 474-475.) И т.д.
PDF 100 МБ: https://search.library.wisc...
EPUB 1,71 МБ: https://history.state.gov/h...
Антон Павлов,
19-07-2022 03:45
(ссылка)
Русские и советские пехотные разведчики. Примеры.
Российская Императорская Армия.
Приказом по военному ведомству 1886 года № 260 были узаконены при отдельных частях охотничьи команды, появившиеся явочным порядком в Крымскую и Русско-турецкую 1877-78 годов войны, а также на Кавказе.
«В 1887 году в полку была сформирована охотничья команда, имевшая целью соответственными упражнениями заблаговременно подготовить некоторое число людей к исполнению в военное время отдельных поручений, соединенных с особою опасностью и требующих личной находчивости. Команда состояла из заведывавшаго ею офицера, одного унтер-офицера и 64 рядовых, — людей энергичных, сильных, ловких, назначаемых в команду по непосредственному выбору командира полка. Специальныя занятия в команде заключались в исполнении значительных переходов партиями и отдельными людьми для изучения местности и разведывания, в охоте за дичью и зверем, в управлении гребными и парусными лодками, в беге на лыжах и коньках и усиленных занятиях гимнастикой; для таковых надобностей в команду были приобретены: охотничьи ружья с патронташами, лыжи, коньки, компасы, охотничье и матросское платье, рыболовныя сети, лодки с парусами и морской десятивесельный катер “Красноярец”, которому Его Высочество генерал-адмирал разрешил носить флаг присвоенный для этого рода судов. Широкое развитие культуры в квартирном раионе полка и полное отсутствие зверя не давали охотникам практики в охоте на хищников, но в то же время близость моря, с безчисленными островами, способствовала к процветанию во всех видах морского спорта, сопряженнаго иногда с большими опасностями». (Крючков Вл. 95-й пехотный Красноярский полк. История полка 1797-1897 гг. СПб. 1897. С. 390-391.)
В данном случае охотник – выказавший охоту (желание) к этому делу, то есть, доброволец.
Охота на зверя в пехотных частях требовалась для приобретения чинами команды навыка незаметно подкрадываться к неприятелю. В кавалерии проводились парфорсные охоты (конная охота с гончими собаками), но для другого. Всадники должны были научиться преследовать цель, не разбирая дороги, какие бы препятствия для езды ни представляла местность. По этой причине парфорсные охоты являлись неотъемлемой частью обучения в Офицерской кавалерийской школе в конце XIX – начале XX века.
См. также: Поручик Веселовский. Охотничьи команды. // Военный сборник. Т. CCXXXV. СПб. 1897. http://www.vrazvedka.ru/mai...
27 октября 1914 г.: «Через час в различных местах впереди послышалась стрельба, которая спустя несколько минут прекратилась. Разведка, вернувшаяся около 12 часов, обнаружила охранение противника в 4–5 верстах от нашей линии на высотах восточнее (в нашу сторону) от Падыжвана. Подобные разведки велись непрерывно целую ночь. Они большей частью доходили до сторожовки противника, но иногда на пути сталкивались с их разведчиками. Меня удивило, почему каждый раз при отправке новой партии на разведку было столько желающих идти вперёд. Даже мои пулемётчики, которые вовсе не должны были ходить, и те стали проситься. Дело объяснилось просто: в удачных случаях в ранцах убитых турок находили люди табак и иногда кое-что съестное. Охота была рискованная, но, очевидно, тоска «по цигарке» брала своё». (Левицкий В.Л. На Кавказском фронте Первой мировой. Воспоминания капитана 155-го пехотного Кубинского полка.1914-1917. М.: «Кучково поле», 2014. С. 45.)
«Официальные цифры о составе 6-го Финляндского стрелкового полка к 19 августа 1915 г., когда я его принял, гласили: 13 кадровых офицеров, 22 прапорщика, 1614 штыков, 519 безоружных, 267 — младший командный состав, 113 — учебная команда, 66 телефонистов и ординарцев, 63 для связи, 98 — пулемётная команда, 57 — конных разведчиков, 90 каптенармусов, кашеваров и рабочих на кухне, 118 — санитаров, ротных и полковых, 111 — денщиков и конюхов, 31 слабосильных; последние по-видимому представляли неофициальное увеличение штата обоза II разряда. Безоружные представляли ценную рабочую силу для своевременной подготовки тыловых позиций. …
/.../
Конные разведчики представляли исключительно надёжных кадровых солдат. За недохватком шашек при мобилизации, они, кроме винтовок, были вооружены внушительными кирасирскими палашами в гремящих металлических ножнах. Для рубки палаши были малогодны, владели они ими плоховато». (Свечин А. Искусство вождения полка по опыту войны 1914-18 гг. Т. 1. М.-Л. 1930. С. 61.)
1915-17 г.: «...прапорщик Красовский, начальник команды конных разведчиков, мой телохранитель, отличался личной мне преданностью; свою массивную фигуру он в бою всё время стремился держать, как бруствер, защищающий меня от неприятельских пуль. Конная разведка работала прекрасно; когда при позиционном сидении, штаб дивизии приставал с контрольным пленным, а роты такового не давали, Красовский спешивал 5-6 своих молодцов, уходил ночью и притаскивал австрийского дозорного». (Там же. С. 37.)
1915 г. «Посмотрим, как в этой обстановке складывался отход 6-го Финляндского полка.
16 сентября в 20 ч. 20 м. штаб 10-й армии предупредил V Кавказский и гвардейский корпуса, что вскоре последует приказ об отходе; это предупреждение до полков 2-й Финляндской дивизии не дошло. В 20 ч. 45 м. в штаб 10-й армии поступила директива главнокомандующего Западным фронтом, которую ожидали, чтобы приступить к редактированию приказа по армии. На изготовление приказа по армии, передачу его в гвардейский корпус и изготовление приказа по корпусу ушло 2 ч. 15 м. В 23 час. приказ по гвардейскому корпусу начался передаваться в штаб 2-й Финляндской дивизии, и около этого времени полки были предупреждены об отходе. В 24 часа началось передача по телефону в полки распоряжений штаба дивизии по отходу. В 1 час 17 сентября батареи снялись уже с позиции. Полки задерживались эвакуацией раненых. Моему полку удалось с крайним напряжением отправить в Вильну всех раненых, за исключением 2 ужасных обрубков, которых старший врач, с моего разрешения, решил не подвергать лишним мучениям и оставил в хорошем жилом доме умирать на попечении местных жителей.
К 2 часам, совершенно непроглядной ночью, полк покинул окопы, которые упорно отстаивал. Предстояло совершить переход около 14 км. Полк двигался по хорошей, большой дороге на г. дв. Верки, но движение было трудно; я не видел шеи собственной лошади, и скоро спешился. Несколько стрелков споткнулось и упало в канаву, один наткнулся на штык. Последние километры итти стало легче, так как начало светать. Полк занял самый правый участок тет-де-пона, между р. Вилией и дорогой на Б. Решу, протяжением около 4 км. Дойдя до линии окопов, батальоны начали расходиться по своим участкам. Пришлось в боевую часть назначить все 3 батальона, так так состав рот сильно ослаб. Это расхождение прикрывалось командой конных разведчиков, так как немцы заметили очищение нами окопов и к рассвету на хвосте моей колонны оказался немецкий разъезд. В 7 час. утра, когда окопы были уже заняты и конные разведчики отходили в резерв, в 300 шагах перед окопами, на глазах не заснувших ещё стрелков, происходила конная дуэль между двумя уланами и отходившим дозором из двух конных разведчиков. Всадники дрались холодным оружием — немцы пиками, русские — не слишком острыми палашами. Кучка их, маскируемая оставленными перед окопами высокими соснами, сплелась так тесно, что стрелки не могли отличить своих от чужих и не стреляли. Вопреки курсам тактики, столкновение холодным оружием с упрямившимися и заносившими в сторону лошадьми, продолжавшееся 1-2 минуты, не дало никакого результата, кроме синяков и царапин у людей и лошадей; несомненно,что в конном спорте обе стороны не были сильны. Тогда один из моих конных разведчиков вспомнил, что он — посаженный на лошадь первоклассный стрелок 6-го Финляндского полка. В гуще рукопашной схватки он соскочил с лошади, бросил её, и прикрываемый своим товарищем изготовил к бою винтовку, застрелил одного улана, а другому — прострелил ногу и коня. Трофеями это-го забавного боя 2 отборных бойцов 6-го полка была 1 лошадь, 2 седла, 1 раненый улан. Последний, так неудачно коловший пикой, оказался по профессии зубным врачом; когда его несли мимо меня, он выкрикивал по-немецки, что его полк вступит завтра в Вильну, а ему предстоит честь вступить в этот город на сутки раньше. Он несомненно был уверен, что очень скоро мы, свободные, поменяемся с ним, пленником, ролями». (Там же. С. 148.)
Отход 19 сентября 1915 г.: «Колонна, пока я обдумывал сложившуюся обстановку, втянулась в густой лес. Я выслал вперед команду конных разведчиков. Разделившись на 2 взвода, она должна была свернуть налево, на север, по просёлкам от з. Крапивницы и з. Котловки, организовать разведку, спешиться и задержать огнём немцев. Батареям я приказал принять на правую сторону большака; по левой стороне дороги, подбегая, подтянулись мои роты и стали между орудиями и немцами. 5-6 км, которые оставались до самого опасного пункта, з. Котловки, колонна покрыла в течение одного часа. Ни малых, ни больших привалов на всём переходе не было. Лица у стрелков стали серьёзны; я объяснил стрелкам, что слева на колонну могут выскочить 1-2 роты немцев; они знали, что им делать, и немец днём в упор их не пугал; едва ли бы нам удалось увезти орудия, но свалка произошла бы изрядная — роты были готовы огрызнуться, как следует.
Прошло минут 20, как команда конных разведчиков со своим лихим командиром ускакала. Впереди и влево, в нескольких стах шагах, отчётливо застучали винтовки конных разведчиков — они наткнулись на заставы немцев очень близко от большака, спешились и открыли частый огонь. Изредка над нашими головами просвистывала немецкая пуля, выпущенная отъявлено плохим стрелком. В момент начала перестрелки, командир артиллерийского дивизиона, ехавший рядом со мной, обратился ко мне с просьбой — разрешить ему свернуть батареи в первый попавшийся просёлок вправо, наудачу. На руках у нас были не прекрасные двухвёрстные карты, а очень устарелая трехвёрстка, по которой разобраться в лесных дорожках не представлялось возможным. Не заведёт ли лесная дорога в огромное болото Мидяты, находившееся в нескольких километрах южнее большака, или не закончится ли она тупиком, у какой-нибудь лесосеки? Я отказал: «Ответственность за ваши батареи лежит на мне; если они погибнут, то только в рядах моего арьергарда, на своём законном месте».
Утро было сухое, прохладное, прекрасное, бодрящее. Немецкие заставы, встреченные огнём, остановились; противник подтягивал свои силы, чтобы броситься на большак. А мы скользили полным ходом вдоль их фронта. Нервы у всех были напряжены до крайности. Особенно тяжело было самочувствие у артиллеристов, которым могла предстоять лишь очень пассивная роль; у них были очень бледные лица. Наконец показались избушки Котловки; голова колонны пронеслась мимо; перестрелка разгорелась и начала смолкать; когда хвост колонны кончил проходить з. Котловку, из леса начали выскакивать на большак конные разведчики. Через 5 минут после ухода последней роты из Котловки, к ней надвинулась немецкая цепь. Пронесло! Дальше было спокойнее — слева на большак не выходило ни одной дороги вплоть до з. Осиновка, конечного пункта нашего следования по большаку. Особенно артиллеристам стало легче на сердце». (Там же. С. 154-156.)
1916 г.: «Пешими разведчиками заведывал прапорщик Сметанка. Лет двадцать он прослужил фельдфебелем гвардейской батареи, прекрасно знал артиллерийскую стрельбу, вел себя в боях блестяще, был лично известен многим высоким особам мира сего. … Однажды, глубокой осенью 1916 г., он с моими разведчиками выследил идеально замаскированную австрийскую батарею, стоявшую почти в линии пехотных окопов, соединился по телефону с нашей батареей, попросил выполнять его команду и вдребезги разбил австрийскую батарею. Когда этот разгром совершился и остатки разбитой батареи стали ясны и нашим артиллеристам, они поражались искусству офицеров 6-го полка даже в артиллерийской стрельбе». (Там же. С. 42.)
1916 г., Франция: «Русские устраивали ночные вылазки на позиции противника намного чаще, чем соседние французские части, и немцам пришлось также усиливать свою активность.
Приведём лишь некоторые наиболее яркие примеры таких действий, отмеченные в донесениях и приказах. Боевым эпизодом, характерным для этого периода пребывания 1-й бригады на позиции, был «поиск» команды добровольцев из 2-го полка под командованием прапорщика Гука, произведённый в ночь на 27 июля. Команда без выстрелов и шума подкралась к вражеским траншеям, закидала их гранатами и, ворвавшись в расположение противника, захватила пленных. Позже, в ночь с 8 на 9 сентября солдаты 2-го полка под командованием подпоручика Тихомирова совершили нападение на немецкий караул и снова взяли пленных. Донесение об этом деле было передано в русскую Ставку. (Рапорт командира 2-го особого полка полковника Дьяконова от 9 сентября 1916 г. // РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1151. Л. 27.)». (Павлов Андрей Юрьевич. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах. М.-СПб.: «Вече», 2011. С. 66.)
Красная армия.
1941 г.:
«Как я стал разведчиком
Стать разведчиком мне пришлось в необычной обстановке, но на фронте бывает и такое. Начал войну в должности помощника начальника оперативного отделения штаба 133-й Новосибирской стрелковой дивизии. В боях под Ельней был офицером связи при 100-й дивизии генерала Русьянова. Довелось быть и начальником охраны и обороны железнодорожного моста через Днепр западнее Вязьмы. На меня была возложена ответственность своевременно взорвать мост в случае угрозы захвата его немцами.
Дивизию перебросили в Калининскую область под Андреаполь. Однажды, возвратившись с ночного боевого задания по разгрому немцев в Стеклино, в штабе дивизии я встретил моего близкого друга майора И.И. Крюкова. Обращаясь ко мне, он сказал: «Жаль, браток, с тобой расставаться, но придется». «Иди к начальнику штаба, возьми документы и отправляйся на станцию Мещерское для выброски парашютным десантом в тыл врага, только не забудь получить на дорогу сухой паёк, а то изголодаешься».
Получив документы и положенный сухой паек, распростившись с друзьями-товарищами, я отправился на ближайшую станцию Соблаго.
/.../
На станции Голицино я повстречался с группой бойцов из 50-й стрелковой дивизии, направлявшихся на сборный пункт в Звенигород. Но я не решился идти с ними, заедала совесть, ведь ещё по-настоящему не воевал, в окружении не был и идти на сборный пункт было преступно!
/.../
Попутного транспорта не было. Пешком я отправился к станции Дорохово. По дороге не раз пришлось слышать язвительные слова от отдельных лиц, выходящих из окружения: «Ишь, какой герой! Все идут от фронта в тыл, а он, одиночка, к фронту, думает исправить там положение. Под Вязьмой всех окружили и разбили, иди с нами». К вечеру я добрался до станции Дорохово. Решил отойти подальше в лес, развести костёр, испечь картошки, поесть и отдохнуть. За дорогу я основательно проголодался, сухой паёк уже давно был съеден. Заходить в дома и просить поесть было совестно. Не раз приходилось слышать упреки и причитания женщин: «Куда же вы уходите, на кого нас покидаете? Мы вас кормили, поили, а вы окаянного Гитлера пустили в нашу страну». Особенно едко язвили подростки. Они без обиняков называли нас трусами и беглецами. В оправдание нечего было сказать. Приходилось отходить к Москве с опущенной головой. Такие упреки особенно задевали нас – кадровых офицеров.
/.../
Собрав вещевой мешок, я отправился на станцию. Пошли со мной и ребята, забыв про коров. К своему удивлению, по дороге услышал голос своего друга майора И.И. Крюкова: «По вагонам, приготовиться к разгрузке.» Повстречавшись с Крюковым, рассказал ему о случившемся в дороге.
В это время подошли ещё два эшелона, разгрузились и составили сводный отряд. Прибывшие офицеры штаба дивизии с эшелонами были распределены на должности. Мне выпала должность начальника разведки отряда. Так должность разведчика закрепилась за мной вплоть до назначения меня на должность командира 315-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии.
/.../
Возглавил остатки отряда майор И.И. Крюков, как старший по званию. К утру 26 октября мы вышли в Локотню и поступили в распоряжение полковника Переверткина. Остатки нашего отряда во главе с капитаном Никифоровым заняли для обороны Апальщино. По опушке рощи восточнее Колюбакина занял оборону моторизованный батальон 18-й танковой бригады.
Мы с майором Крюковым остались при начальнике отряда. Крюков – начальником штаба отряда. Я, как и прежде, начальником разведки. Части противника стремились прорваться в Локотню. Сплошного фронта не было. В такой сложной обстановке я два раза чуть не попал в плен. Каждый раз выручал разведчик Евгений Лютов – москвич, кадровый солдат, разведчик». (Рубан Н.А. Воспоминания Николая Рубана, начальника разведки 144-й стрелковой дивизии. Звенигород. 2021. С. 6, 7-8, 9.)
1943 г.: «Фронтовыми разведчиками не рождаются, их надо учить».
«На фронте два состояния – или оборона, или наступление. В обороне разведчикам хуже всего было добывать «языков». Вообще-то охотиться за ними было достаточно бессмысленно именно в обороне, когда многое о противнике уже известно давно. На каждого взятого «языка» теряли ранеными, убитыми иногда человек двадцать. Лазить в тыл через нейтралку в условиях позиционной обороны дело непростое. Под Старой Руссой ширина нейтральной полосы иногда была 600-800 метров, до одиннадцати рядов колючей проволоки – нашей, немецкой, минные поля вперемешку – наши, немецкие. За прошедшие годы с сентября 1941 года всё поперепуталось, линия фронта иногда перемещалась. Где, чьи минные поля? Если попадались немецкие, можно было сориентироваться, ставились они чаще всего в шахматном порядке, обойти, обезвредить такое поле было проще. Наши минировали по-разному, а концов было уже не найти, нашим картам минирования верить было нельзя, сменявшие друг друга части карты эти передавали кое-как. Зачастую у разведчиков целая ночь уходила на прокладывание проходов в своих же минных полях, следующая ночь – через немецкие поля, и счастливый случай – брали «языка» втихую, не обстреляли, все вышли из операции целыми, живыми. В обороне вся активность держалась на разведчиках, да на снайперах. А разведчики только и делали, что хоронили товарищей: даром поиски не давались.
/.../
В условиях Старой Руссы взятие «языка» было событием не чаще раза в месяц, а так – сплошные потери людей. Немцы за «языками» не лазили вовсе, тем более в условиях вялого, затяжного Северо-Западного фронта. Ну, а по существу, что может дать «язык»? Это или солдат с переднего края, знающий «от и до», чаще всего рядовой, часовой. Ну, знает соседнюю роту, кроме своей – и не более того, Результативность чрезвычайно низкая, а цена невообразимо высокая – жизни, жизни, жизни. Традиция взятия «языков» потянулась от «охотников» Первой мировой войны. Критически на это никто не удосужился посмотреть. Надо – и всё! Столь же сомнительны были и подслушивания, разве что для натаскивания в жаргонной немецкой речи... Больше за всю войну Игорь с подслушиваниями не сталкивался». (Бескин И. Алексеева-Бескина Т. Правда фронтового разведчика. М.: «Яуза», «Эксмо», 2010. С. 36, 39, 42.)
http://vrazvedka.com/762_vr...
Потому что, по советской традиции, внешне заимствовали чужое и насадили на советское содержание. Оттого и получалось, не как у охотников 1-й Мировой.
1944 г.: «1 ноября
Ночи стали заметно холоднее. Только что пришёл с позиций и попытался ненадолго уснуть. Как долго я спал — не знаю. Меня разбудил винтовочный огонь. Сразу же вскочил и пошёл наверх. Вдруг всё сразу стихло. Я устало опять спустился в подвал с надеждой, что в эту ночь больше не будет никаких сюрпризов. Снова шаги на лестнице. Я схватился за пистолет. В двери стояли два моих солдата. Один из них едва держался на ногах. Даже в слабом свете фонаря я видел рану на левой стороне его головы. Его трясло. Я встал и усадил его на свой стул.
— Что случилось?
Второй ответил:
— На нас напала штурмовая группа. Я как раз вылез из окопа, и тут атаковали русские. Они уже давно, наверное, лежали у наших траншей. Все было бесшумно. Его, — показал на своего товарища, — они ударили по голове и потащили с собой.
— А как оказалось, что он сейчас здесь?
— Дозорный слева от нас услышал шум и выстрелил в темноту. Наверное, он в кого-то попал, потому что раненый в возникшей суматохе смог вырваться и убежать.
Раненый сидел, дрожа, на стуле. Глаза его блестели, подбородок двигался. Он хотел говорить, но не мог выдавить из себя ни слова.
— Тревога! Обыщем поле.
Вчетвером мы прошли вдоль фронта роты — от ячейки к ячейке. Солдаты были встревожены стрельбой. Я внимательно рассмотрел ячейку, на которую было совершено нападение. На дне лежал шлем раненого. Он его снял, чтобы лучше слышать, и это едва не стоило ему жизни.
Осторожно мы проползли по предполагаемому пути отхода разведгруппы противника. Метров через пятьдесят я рассмотрел в темноте предмет, напоминающий лежащего человека. Держа пальцы на спусковых крючках, мы приблизились к нему. Осталась пара шагов — сомнений нет, кто-то лежит. Я приказал прикрыть меня со всех сторон и подошёл к нему.
На земле лежал русский. Рядом с ним — автомат. Я перевернул его, он был мертв.
— Взять его, заберём с собой!
С большим трудом мы дотащили этого человека богатырского сложения вверх по склону до Шварценау. Под прикрытием стены обыскали его карманы. Нашли фото девушки и вырезки из газет с его именем и фотографиями. Я разобрал это, несмотря на кириллицу. На груди у него было много орденов, среди них — Красная Звезда. Наверное, был большой птицей в своём полку.
Вот этот советский человек откуда-то с Волги добрался до Восточной Пруссии (как мы до Сталинграда), и случайный выстрел положил конец его карьере. «Берлина он уже не увидит», — пришло мне в голову. Я это не сказал и не испытал никакого удовлетворения от этой мысли.
Награды и документы убитого русского я упаковал в пакет и отправил с посыльным в батальон. Может быть, они заинтересуют начальника разведки дивизии.
Снова наступила тишина. Я попробовал уснуть». (Кноблаух К. Кровавый кошмар Восточного фронта. Откровения офицера парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг». М.: «Яуза-пресс», 2010. С. 61-62.)
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
