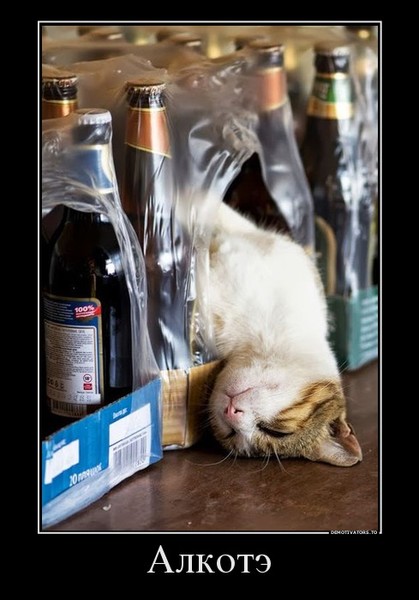Максим Теньгушев,
08-09-2015 09:00
(ссылка)
АЛТАЙСКАЯ ЗМЕЯ
Тут мне дама одна из города Змеиногроска на сайте знакомств оказывать знаки внимания стала. Теперь в недоумении - как дудка индийская для общения с подобного рода дамами называется и продаётся ли она в омских комиссионках?

Максим Теньгушев,
20-04-2015 21:34
(ссылка)
ПРАВИЛЬНОЕ ПИСЬМО

Предыдущие главы:
1.http://my.mail.ru/community...
2.http://my.mail.ru/community...
3.http://my.mail.ru/community...
4.http://my.mail.ru/community...
5.http://my.mail.ru/community...
6.http://my.mail.ru/community...
7.http://my.mail.ru/community...
8.http://my.mail.ru/community...
9.http://my.mail.ru/community...
Новая семья, образовавшаяся из объединения детей от прежних браков отца и мачехи, оказалась не слишком дружной. Между родителями довольно часто возникали споры, кто из детей лучше, а кто хуже. Каждый норовил похвалить именно свой выводок. Мы – дети, тоже ощущали это разделение и вслед за родителями выясняли отношения уже между собой. Мне вот идёт уже восьмой десяток и, как ни суди, как ни говори, но нам с Маней жилось в нашей новой объединённой семье тяжелее, чем остальным ребятам. Периодически между отцом и мачехой, случались ссоры по поводу детей. Обычно ссоры происходили, когда отец с мачехой выпивали. Такое стало иногда случаться, поскольку финансовое состояние семьи стало позволять тратить часть денег на приобретение спиртного. В материальном плане жить в Челябинске мы стали значительно лучше, а по сравнению с жизнью в Саратовской губернии, так вообще, как «небо и земля». Родители за короткий промежуток времени купили аж два дома: первый – очень скромную избу в Заречной части города, в так называемом Глухом переулке. Следом, после продажи вышеупомянутой избушки, купили домишко, который был уже значительно лучше - на Уральской улице, во второй половине усадьбы мещанина Малышева.
Я к тому времени работал в торговой конторе в самом центре Челябы на Сибирской улице рядом с большим магазином братьев Яушевых.

Конторе в какой то момент как раз понадобился подросток в качестве рассыльного и в помощь швейцару для уборки помещения. Моя кандидатура была утверждена на данный высочайший пост не только по медицинским, как я уже говорил выше, показаниям, но и исходя из свойственных мне высоких морально-этических качеств: а я был не из шалунов - не курил и не баловался винцом, что было замечено за многими пареньками моего возраста. В компании сверстников лет по 15-16 тогда было принято хвастаться «подвигами», совершёнными на прошедших накануне вечеринках. С гордостью предъявлялись друзьям- товарищам и доказательства «подвигов»: то фингал под глазом, то распухший нос, то губы, похожие на вареники. Ребята хвалились друг другу, что вчера были навеселе, в связи с чем и пришлось выяснять с другими, столь же весёлыми ребятами, за что и по какому такому праву те их – настоящих героев, не слишком уважают. Предъявителям опухших от побоев доказательств слушатели в некоторой степени даже завидовали и иной раз были сами не прочь испить пивка с известным продолжением и предъявлением доказательств собственного героизма. Так уж повелось, что я водил дружбу с ребятами, имеющими другие предпочтения в жизни – в свободные часы и праздничные дни они увлекались рыбной ловлей, ловлей певчих птиц и просто птичек: щеглов, да синиц, в а в 15 лет отец по моей просьбе купил ружьё-берданку и я с тех пор повадился ходить на охоту на утку и зайца. Увлечение охотой и рыбной ловлей прошло через всю мою жизнь.
То есть примерно к 1905-му году, в целом «мужчиной» я стал крайне сурьёзным и вместе с изменением моего мироощущения, изменился и мой внешний вид. Ведь теперь я представлял уже не рабочее - чаеразвесочное, а служивое сословие, и выглядеть должен был соответственно: вместо лаптей – сверкающие, поскрипывающие при ходьбе сапоги, вместо самотканой рубахи – пиджак с карманами и обязательно с точащим из нагрудного кармана уголком белого носового платка. Ну, просто вылитый приказчик! Был, правда, один серьёзный недостаток, мешающий ощутить себя полноценным представителем «умственного труда» – я категорически не знал грамоты, хоть и знал почти все цифры. Неумение читать и писать серьёзно осложняло мою профессиональную деятельность и ограничивало возможности карьерного роста, если не в качестве помощника швейцара и уборщика конторы, то точно в качестве рассыльного. Мальчишкой я был услужливым и старался угодить всем сотрудникам торговый конторы, любое поручение выполнял беспрекословно и в кратчайшие сроки. Служащим конторы нравилась моя учтивость, и они от доброты душевной стали меня учить, как правильно выражаться, борясь с моим саратовским распевным говорком и неуместной в серьёзном учреждении приставкой «чай». В конторе был один очень хороший человек, лет пятидесяти на вид, некто Ефим Степанович Осипов, приехавший в Челябинск из Тюмени. Семьи у Ефима Степановича не было, в связи с чем он часто вечеровал и ночевал в конторе, делая свою работу. В съёмную квартиру спешить было ему не к кому. Узнав о моей проблеме, Ефим Степанович по собственной инициативе взял надо мною шефство и стал обучать меня грамоте. Буквально за одну зиму, благодаря этому замечательному человеку, я научился читать и писать, чему Вы, мои дорогие потомки, и являетесь свидетелями. Теперь я уверенно мог расписываться в сопроводительных документах, пририсовывая к своей фамилии дополнительный витиеватый хвост с завитушками и мне не нужно было запоминать данных адресата – на бегу мог нужное прочесть. Более того, через пол года я понял, что сам в состоянии изложить необходимую информацию, а также собственные и чужие мысли на бумаге. Родители знали о моих успехах в грамоте и решили их использовать по полной при написании писем нашим деревенским родственникам из России. В один прекрасный момент, усадив меня за стол, родители стали диктовать мне то, что я должен был по их представлениям не медля сообщить нашим родственникам в деревне.
Конечно, дословно я своё первое письмо не помню, но смысл был примерно таким. Мать или отец говорили мне: «Пиши - Здравствуйте, кум Иван Иванович и кума Мария Петровна! Кланяемся до сырой земли Вам и Вашим деткам!»
Я, обмакнув перо в чернильнице, замялся, пребывая некоторое время в задумчивости. Уж очень смущала меня эта формулировка «Кланяемся до сырой земли». Какой-то жуткий деревенский провинциализм! Вульгаризмы сплошные. Негоже так. Не по-городскому.
Тут стоит заметить, что к тому времени, будучи рассыльным, худо-бедно обученным грамоте, я определённо знал, что письма так не пишутся. В конторе иногда мне поручали переписывать в журнал содержание писем продавцов чая покупателям и наоборот. Так вот – никаких поклонов до сырой земли там не было! Ни одного!
В настоящих городских письмах писалось так: «Милостивый Государь, Пётр Петрович! Сообщаем Вам, что Ваш заказ получен и в ближайшее время будет исполнен».
Где здесь сырая земля, а? Где поклоны?
Вышеупомянутую фразу о неведомом мне исполненном заказе я считал обязательным ритуалом для любого письма, поскольку именно так все копируемые мною в журнале письма начинались. Правда, при этом, совершенно не понимал её смысла. Да и нужен ли смысл в Фигуре речи?
Заканчивались все прочитанные мною в конторе письма опять же совершенно однотипной фразой: «С истинным почтением к Вам. Ждем дальнейших заказов. По доверенности… Далее следовала чья-нибудь фамилия. Шестаков какой-нибудь. Или Петров-Водкин.
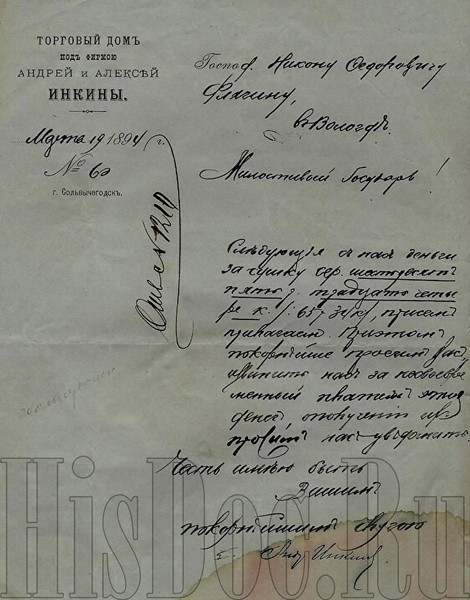
Так или иначе, но я считал наличие вышеупомянутых фраз обязательным условием для любого письма, включая и письмо родственникам в деревню. Ровно таким же, как хвост или завитушки при написании фамилии там, где должна ставиться подпись.
В общем, после некоторой паузы я решил несколько отступить от текста, диктуемого своими неграмотными родителями и написать письмо в деревню в полном соответствии с городскими стандартами:
« Милостивый Государь Иван Иванович и Ваша супруга – милостивая Государыня Мария Петровна!»
Далее перечислялись по имени-отчеству все дети, включая и тех, которым было всего несколько месяцев от роду, естественно с обязательным обращением в зависимости от половой принадлежности ребёнка «Милостивый Государь» или «Милостивая Государыня».
Конечно, тот факт, что малолетняя «Милостивая Государыня Ефросинья Никаноровна», чумазая ещё где-то под столом ползает, меня ничуть не смущал. Церемониал – вещь немаловажная.
Закончив высокопарные приветствия многочисленных деревенских родственников, я вставил в письмо ту самую непонятную мне словесную загогулину: «Сообщаем Вам, что Ваш заказ получен и в ближайшее время будет исполнен», вогнав в длительный ступор всех многочисленных Государей и Государынь из Иванисовки, включая и главных адресатов - Ивана Ивановича с Марией Петровной.
Концовка письма также полностью соответствовала стандартам деловой переписки чайной торговой конторы: «Имею быть с истинным к Вам почтением. Ждём от Вас дальнейших заказов. По доверенности Кузьма Теньгушев.» И обязательные хвостик с завитушками.
Всё содержание письма, не слишком далёкое от надиктованного родителями, я сдобрил совершенно непонятными и оттого красивыми, словечками, которые я часто встречал в конторской деловой переписке.
Нужно, наконец, приводить деревню в порядок, чтоб знали, как переписку с серьёзными людьми вести! Если не я, то кто?
Деревня восприняла мою писанину своеобразно и совершенно не так, как я ожидал. Без рукоплесканий. Мне ещё повезло, что ответ родственников пришёл в моё отсутствие и был прочитан не мною, а другим человеком. Иначе, наверное, я бы попал «под горячую ногу» и, как поганый пёс, был бы немедленно изгнан из отчего дома. Родственники не оценили изящества и многообразия форм настоящего городского письма и восприняли его, как насмешку над простыми людьми. В каждом слове родственников из деревни сквозила обида. Они с возмущением писали отцу, мол, слава Богу, что Ваше письмо не видел урядник или кто другой из начальства. Если б видел, то посадили бы и того, кто писал и того, кто читал. Да разве можно, мне – простому мужику, писать, что я милостивый Государь? И с каких таких пор баба моя Государыней стала? А какие Государи из ребятишек несмышлёных? Как Вам, кум Иван, не грех смеяться над нами, простыми крестьянами? Мы Вам всё время от души всего наилучшего желали, как милым сродникам поклоны слали, а Вы нам за это насмешки какие-то! Уж лучше не Государями, а дураками назвали бы – не так обидно. Не пишите нам писем больше. Если пришлёте, мы всё равно их читать не будем и сразу в печь бросим от греха. Не хотим из-за Вас- умников городских в тюрьме сидеть или на каторгу отправляться. Сами себя в Государи произвели. Ну Вас и письма Ваши!
Так вместо фурора я произвёл в Саратовской губернии форменный переполох. Отец всыпал мне за мои «загогулины» и «фигуры речи» хорошего ремня и от моих писчих услуг отказался. Навсегда… Такой вот я писец оказался.
P.S. от правнука писаря. Сподобился перепечатать кусочек мемуаров прадеда аккурат на Радоницу. Не знаю, услышит ли меня прадед,и не в курсе, насколько плотно пользуются интернетом в загробной жизни, но и исключить этого категорически тоже не могу. Соответственно, я просто обязан помянуть его и прабабушку по-христиански, в полном соответствии с православным обычаем.

Кузьма Иванович в правом нижнем углу фото
Упокой, Господи, души усопших рабов твоих Кузьмы и Анны и прости им все согрешения, вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
04-02-2015 11:28
(ссылка)
НОВАЯ СЕМЬЯ И БЕГСТВО ИЗ КАЗАХСТАНА
Продолжаю потихоньку переводить воспоминания своего прадеда в электронный вид.
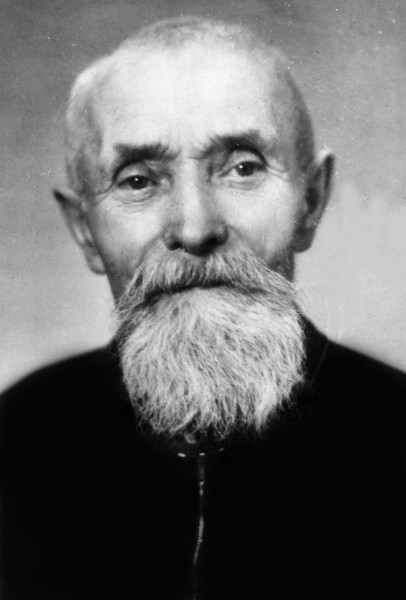
1.http://my.mail.ru/community...
2.http://my.mail.ru/community...
3.http://my.mail.ru/community...
4.http://my.mail.ru/community...
5.http://my.mail.ru/community...
Смерть мамы была для нас с сестрой настоящей трагедией. Однако, жить дальше как-то надо. Папа несколько раз ездил в Кокчетав продавать овёс. К тому времени овёс подорожал с 6-ти копеек до 10-ти и даже до 12-ти. К весне отец выменял на овёс пшеницы, чтоб весной посеять десятины две пшеницы и десятину овса. Ближе к лету он стал подрабатывать у зажиточных старожилов, пилил им брёвна на доски ещё с одним нашим земляком. В связи с доступностью леса, распиловочной работы в посёлке было достаточно. В тот период материально мы зажили неплохо. Хоть корову, как планировали раньше, не купили, но молока пили вволю. Помимо молока старожилы рассчитывались с моим отцом куриными яйцами и даже мясом. В сравнении с жизнью в России питаться мы стали гораздо лучше. Муки нам хватило на всю зиму и весну. Мы с гордостью сообщали в письмах родным и знакомым в России,о том, что ежедневно едим белый хлеб, калачи из пшеничной муки и пьём каждый день молоко. Яйца дешёвые - от 10 до 15 копеек сотня, недорого продавали и мясо кур, уток и гусей. Птицы у старожилов было много, поскольку корма для неё имелось достаточно, зерно и отходы зерна были у всех. Жили, конечно, в глуши, но сытно, если не лениться.
Дело стало двигаться опять к весне. Из наших мест приехали ещё новосёлы из села Веденяпино – мужик по фамилии Беляков со своей семьёй, состоящей из жены и двоих детей - дочерью восьми лет и сыном пяти. Сам Беляков был моложе моего отца на два года, выше его ростом и крупнее телосложением, но вскоре что-то заболел, стал чахнуть и отдал душу Богу. Месяца через два после его смерти, наш отец сошёлся с вдовой и всех нас, ребят, соединили в одну семью. Беляковы богатством не отличались, лошадью обзавестись ещё не успели, да и деньжат у них было "кот наплакал". Зато наша объединённая семья стала теперь состоять аж из 7 человек! Отец с новой женой посеяли весной 2 десятины пшеницы и десятину овса, но урожай в тот год не задался. Август месяц на носу, а хлеб не растёт, да и деньги, имевшиеся у вдовы подошли к концу. Поднялась в народе суматоха. Старожилы не хотели продавать зерно, а у вновь приехавших его и не было. Если пшеница раньше стоила 25 копеек, то теперь рубль. И то не купишь – опасались люди остаться в неурожайный год без зерна, поскольку больших запасов почти ни у кого не было, да и амбаров тогда почти не строили. На работу тоже из соображений экономии отца брать не стали. Новосёлы заметались, многие уехали кто куда. Засуха охватила большой район, вёрст за 150 хлеб нигде не вырос. Три семьи из наших переселенцев, включая и нашу, решили ехать поближе к России, где урожай зерна ожидался получше, плюс имелась работа, чтоб не умереть с голода. Отправились до Петропавловска, рассчитывая оттуда добираться по железной дороге, кто куда пожелает. На этот раз без слёз и причитаний – родных-то в Степной Сибири (или Казахстане, как принято сейчас говорить)не оставалось. Оставалась в Степной Сибири только могила нашей любимой мамы, но её уже не вернёшь и мама нас не услышит. Перед отъездом сходили с бабушкой на кладбище, помолились, поклонились, поцеловали крест на могиле.
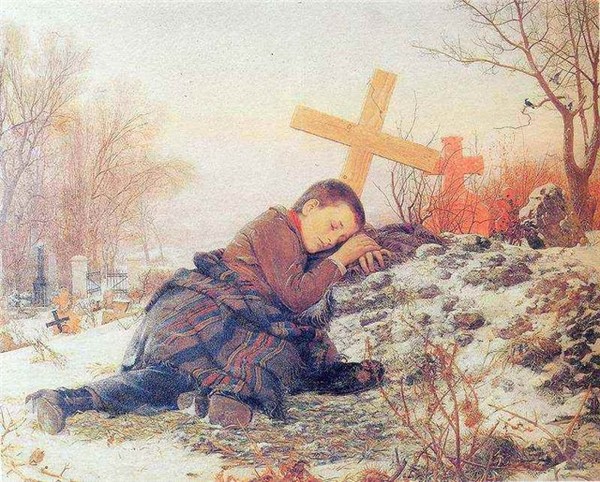
Отец соорудил над телегой балаган из холста. Путь предстоял неблизкий – 420 верст. Была вторая половина августа, на улице было тепло и в этом отношении ехать было полегче, чем из России. Ехали к Петропавловску около 10 семей не меньше 20 дней. На вокзале оказалось настоящее столпотворение, все бежали от засухи, куда глаза глядят. Очень много народа ехало в центр России. Отец почувствовал, что дело плохо: нет денег, нет корма для лошади, которая нет-нет и через некоторое время падёт от бескормицы. Высадил он нас под открытым небом, а лошадь продал вместе с упряжкой и балаганом всего за пять рублей. На эти деньги долго не проживёшь. Отец, бабушка и мачеха продали кое-что из своих пожитков и наскребли кое как денег на билеты: мне, отцу и его новой семье до Челябы, а бабушке и моей сестрёнке Мане до станции Чаадаевка Саратовской губернии к оставшимся там двум дочерям бабушки.
В конечном итоге получилось так, что до Челябы мы ехали все вместе всемером, а дальше от Челябы до Чаадаевки поехали лишь бабушка и моя сестрёнка Маня. Мы же, оказавшись в Челябе, побрели в переселенческие бараки. Обосновавшись там, отец на следующий день отправился искать работу и съёмное жильё, но ни постоянной работы, ни жилья не нашёл, подрабатывая впоследствии где придётся: где дрова пилить, где помойку чистить, не отказываясь ни от какой поденной работы. Когда выяснилось, что мы бежали с новых земель, нас выгнали из переселенческого пункта и с той поры мы стали не переселенцы, а просто бездомные – голь перекатная, шатающаяся по белому свету, людьми, ищущими какого-то особого счастья. В поисках этого счастья, отцу пришлось искать квартиру. Он уже 7 дней проработал в городе и кое что разузнал. На этот раз квартиру он нашёл почти сразу на улице Мастерской, благо, что в те времена всё стоило дешево. Квартиру отец снял за 1 рубль 50 копеек в месяц при готовом отоплении. Не особняк, конечно, а просто угол в одной большой комнате, площадью около 30 квадратных метров. Эту же комнату снимали ещё три семьи и всего в комнате располагалось человек 13-15. Все одного сословия – та же «голь перекатная». Ни у кого кровати не было и спали все вповалку прямо на полу. Справедливости ради нужно сказать, что квартира оказалась тёплой и даже с освещением - висячей керосиновой лампой. Обязанность покупки керосина для лампы лежала естественно на квартирантах. Так мы после всех мытарств по новым землям Степной Сибири, которые в настоящий момент называют Казахстаном, стали на некоторое время горожанами - жителями Челябинска. Отец продолжал поденно работать на различных работах, а мать с другими квартирантками стала чинить мешки для ссыпного пункта, где скупали зерно пшеницы и овса для отправки по железной дороге. За починку одного мешка платили одну копейку и в день мачеха зарабатывала около 25-30 копеек, в то время, как отец приносил 50-60 копеек в день. Устроившись на демонтаж старого склада сельхоз машин «Аксай», отец стал брать меня с собой помогать ему пилить дрова и укладывать их в поленницы. На сытую жизнь нам хватало: мука-сеянка стоила 50 копеек за пуд, крупчатка – 72 копейки пуд, мясо 4-5 копеек фунт, а разные мясные отходы и обрубки – 2 копейки фунт. Так жить было бы можно и дальше, но тут стали писать из России родители мачехи, звать нас к себе жить, писали, что они стали старые, работать уже не могут, а у них надел земли имеется в собственности, есть лошадь и корова. Всё это старики готовы были отдать нам, с расчетом, что мы будем хозяйствовать на их земле и ухаживать за ними до смерти. Мачеха начала подбивать отца на переезд к её родителям. Отец сомневался и даже поинтересовался у меня: «Ну, что Кузьма, поедешь жить к новым дедушке с бабушкой?», хоть я советник был никудышный. Я в свою очередь поинтересовался, далеко ли они живут от моей родной бабушки? Отец сказал, что их деревня недалеко, к бабушке от них можно будет ходить пешком каждый день. Меня это сильно обрадовало, так как новая мать была не особенно ласкова по отношению ко мне и часто жаловалась отцу, что я её не слушаюсь, обижаю её ребят, много таскаю на улицу хлеба и делаю другие нехорошие дела. С одной стороны мне очень хотелось жить рядом с родными бабушкой и сестрёнкой, но с другой - не очень хотелось уезжать из Челябы, так как здесь мы могли есть досыта белый пшеничный хлеб и варить щи с мясом, а там опять один ржаной хлеб и ржаная тюря. Не знаю, насколько весомым оказалось для отца моё мнение, но узнав о моём желании жить рядом с бабушкой и сестрой, отец принял решение о возвращении в Россию. За пол года жизни в Челябинске отец с мачехой подзаработали денег. Отец даже приобрёл себе сапоги, чтоб удивить сельчан обновкой при походе на обедню в церковь. Отец был набожный человек и в церковь ходить любил.
И вот Великим постом мы семьёй поехали в Россию. Доехали поездом до Чаадаевки (http://www.travellers.ru/ci...) и оттуда на подводе добрались уже к месту назначения. Встретили нас хорошо, даже устроили что-то вроде праздника или гулянки. Пришли в гости брат с сестрой мачехи. Много было разговоров о Степной Сибири. Мы угостили всех белыми калачами и кренделями, привезёнными из Челябы. Кроме того, даже стряпали блины из привезённой белой муки и рассказали, что в Челябе каждый день ели это, да ещё в добавок с мясом. Гости, не стыдясь, называли отца дураком, из-за того, что он бросил такую жизнь, разменяв её на тюрю и здешнюю нудную и тяжёлую жизнь. Некоторые гости, находясь под впечатлением от угощений и рассказов о Челябе, не медля собрались сами туда и, более того, некоторые позднее действительно уехали. Ну а отец, раз уж приехал в деревню, вынужден был вновь заняться сельским хозяйством, тем более уже начинал помаленьку таять снег. Земли у тестя оказалось очень мало, что-то около половины десятины и то не сотенной, как в Сибири, а тридцатки, то есть здесь считалось 40 сажен длины и 30 сажен ширины. На таком клочке земли прокормить 8 человек невозможно, соответственно нужно искать какую-то работу или идти на барский двор работать от темна до темна за 3 рубля в месяц. Это при том, что в Челябе эти же деньги можно было заработать за 3-4 дня, особо не утомляя себя. Отец, произведя эти расчеты в уме, сопоставив факты, пришёл к выводу, что уехал из Челябы напрасно, однако, сразу давать заднюю было как-то не с руки – нужно было попытаться хотя бы немного продержаться на новом месте. Отец с новым дедушкой засеяли клок земли и стали ждать обильного урожая, но лето выдалось засушливое и хорошего урожая не случилось. Отец стал пилить у помещика лес, подрабатывая на прожиток. Я стал с мачехой нередко спорить, а она меня бранить. Новая бабушка тоже смотрела на меня косо и почти не разговаривала. Дедушка же был хороший человек – приветливый и ласковый, он нас, ребят, не разделял на своих и чужих и ко всем относился одинаково. Маня – моя сестра пошла было поначалу , жить к нам, но с мачехой ужиться у неё не получилось и я отвёл Маню назад в деревню Иванисовка (http://inpenza.ru/gorodisch...), где жила наша родная бабушка. Да и я сам недели через две перебрался туда же. Бабушка в тот период времени жила у абсолютно посторонних людей: старушки и её дочери по имени Васена – старой девы лет сорока на вид. Васена внешне была некрасивой женщиной, отчего, наверное, её никто и не взял замуж, но как человек она была очень хорошей, задушевной и ласковой, помогала нам всегда, всем, чем могла. Бабушка пряла пряжу и брала у людей кое-какую оплату за это: хлебом, картошкой или молоком. У дочерей ей так и не пришлось пожить. Одна – младшая дочь (моя крестная) жила с мужем и пятерыми ребятишками в семье родителей мужа. Кроме них там же жили ещё три сына со своими жёнами и детьми. Ютились пять семей в двух больших избах и бабушку взять просто не могли, поскольку и самим было тесно. Вторая дочь жила далеко от этой деревни в селе Русский Комешкарь (http://www.travellers.ru/ci...). Муж занимался извозом, у него было три лошади. Бабушку он брать не хотел, тем более с внучкой Маней. Так мы с Маней и жили у Васены и её матери какое-то время, зарабатывая на жизнь старым, испытанным способом – стоя на паперти возле церкви в селе Лопатино (http://www.travellers.ru/ci...(penzenskaya-oblast))с протянутой рукой.

Нашим заработком были кусочки хлеба, а чаще пирогов с горохом, кашей и картошкой. Конечно, всё это было ржаное и после пшеничного белого хлеба, опять привыкать к такому рациону питания было тяжеловато, но, как говорится, голод – не тётка. Отец, осознавая, что его родные дети живут у чужих людей и вынуждены просить милостыню, а посеянное весной не сулит хорошего урожая и сытой жизни не предвидится, решил ехать один обратно в Челябу . Ехать решил зайцем, поскольку денег не было даже на один билет, не говоря уж о том, чтобы брать с собой семью. Однако, даже для проезда зайцем нужны были хоть какие-то деньги. Раньше так было заведено: если заяц натыкался на кондуктора, то в качестве оправдания говорил, что билет не успел купить на станции и обещал, что на следующей станции обязательно купит, а дальше шёл за кондуктором и в укромном месте, желательно без свидетелей, предлагал кондуктору сумму, значительно меньшую стоимости билета, 40-50 копеек, к примеру. Если кондуктор брал деньги, то была гарантия, что он до конца своей смены зайца не выгонит, а там, глядишь, и пункт назначения близок. Для наличия хоть каких-то оснований для переговоров с кондукторами, отец вынужден был продать свои сапоги, которые с момента приезда из Челябы так холил и лелеял. За 3 рубля… Перед отъездом пришёл к нам в Иванисовку и, сообщив о своём намерении, сказал, что дальше здесь жить невозможно, что в Челябе он заработает денег и вышлет нам, а мы с мачехой на эти деньги приедем к нему. «Тебя, Кузьма, отдам в Челябе в школу, она там не шибко дорого стоит» - говорил отец.
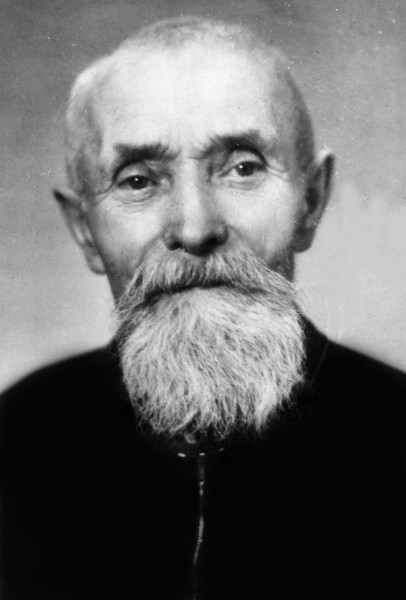
1.http://my.mail.ru/community...
2.http://my.mail.ru/community...
3.http://my.mail.ru/community...
4.http://my.mail.ru/community...
5.http://my.mail.ru/community...
Смерть мамы была для нас с сестрой настоящей трагедией. Однако, жить дальше как-то надо. Папа несколько раз ездил в Кокчетав продавать овёс. К тому времени овёс подорожал с 6-ти копеек до 10-ти и даже до 12-ти. К весне отец выменял на овёс пшеницы, чтоб весной посеять десятины две пшеницы и десятину овса. Ближе к лету он стал подрабатывать у зажиточных старожилов, пилил им брёвна на доски ещё с одним нашим земляком. В связи с доступностью леса, распиловочной работы в посёлке было достаточно. В тот период материально мы зажили неплохо. Хоть корову, как планировали раньше, не купили, но молока пили вволю. Помимо молока старожилы рассчитывались с моим отцом куриными яйцами и даже мясом. В сравнении с жизнью в России питаться мы стали гораздо лучше. Муки нам хватило на всю зиму и весну. Мы с гордостью сообщали в письмах родным и знакомым в России,о том, что ежедневно едим белый хлеб, калачи из пшеничной муки и пьём каждый день молоко. Яйца дешёвые - от 10 до 15 копеек сотня, недорого продавали и мясо кур, уток и гусей. Птицы у старожилов было много, поскольку корма для неё имелось достаточно, зерно и отходы зерна были у всех. Жили, конечно, в глуши, но сытно, если не лениться.
Дело стало двигаться опять к весне. Из наших мест приехали ещё новосёлы из села Веденяпино – мужик по фамилии Беляков со своей семьёй, состоящей из жены и двоих детей - дочерью восьми лет и сыном пяти. Сам Беляков был моложе моего отца на два года, выше его ростом и крупнее телосложением, но вскоре что-то заболел, стал чахнуть и отдал душу Богу. Месяца через два после его смерти, наш отец сошёлся с вдовой и всех нас, ребят, соединили в одну семью. Беляковы богатством не отличались, лошадью обзавестись ещё не успели, да и деньжат у них было "кот наплакал". Зато наша объединённая семья стала теперь состоять аж из 7 человек! Отец с новой женой посеяли весной 2 десятины пшеницы и десятину овса, но урожай в тот год не задался. Август месяц на носу, а хлеб не растёт, да и деньги, имевшиеся у вдовы подошли к концу. Поднялась в народе суматоха. Старожилы не хотели продавать зерно, а у вновь приехавших его и не было. Если пшеница раньше стоила 25 копеек, то теперь рубль. И то не купишь – опасались люди остаться в неурожайный год без зерна, поскольку больших запасов почти ни у кого не было, да и амбаров тогда почти не строили. На работу тоже из соображений экономии отца брать не стали. Новосёлы заметались, многие уехали кто куда. Засуха охватила большой район, вёрст за 150 хлеб нигде не вырос. Три семьи из наших переселенцев, включая и нашу, решили ехать поближе к России, где урожай зерна ожидался получше, плюс имелась работа, чтоб не умереть с голода. Отправились до Петропавловска, рассчитывая оттуда добираться по железной дороге, кто куда пожелает. На этот раз без слёз и причитаний – родных-то в Степной Сибири (или Казахстане, как принято сейчас говорить)не оставалось. Оставалась в Степной Сибири только могила нашей любимой мамы, но её уже не вернёшь и мама нас не услышит. Перед отъездом сходили с бабушкой на кладбище, помолились, поклонились, поцеловали крест на могиле.
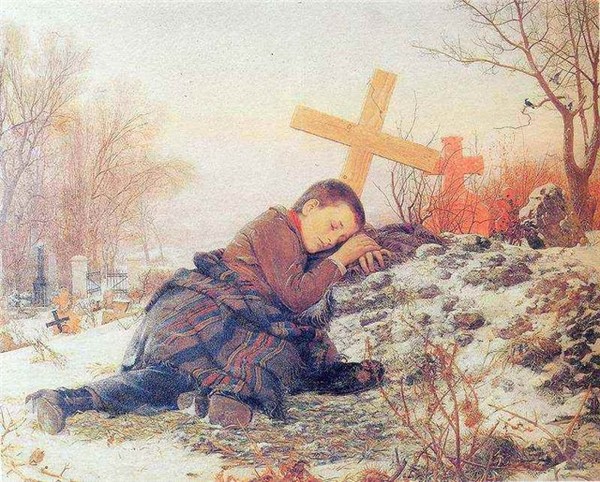
Отец соорудил над телегой балаган из холста. Путь предстоял неблизкий – 420 верст. Была вторая половина августа, на улице было тепло и в этом отношении ехать было полегче, чем из России. Ехали к Петропавловску около 10 семей не меньше 20 дней. На вокзале оказалось настоящее столпотворение, все бежали от засухи, куда глаза глядят. Очень много народа ехало в центр России. Отец почувствовал, что дело плохо: нет денег, нет корма для лошади, которая нет-нет и через некоторое время падёт от бескормицы. Высадил он нас под открытым небом, а лошадь продал вместе с упряжкой и балаганом всего за пять рублей. На эти деньги долго не проживёшь. Отец, бабушка и мачеха продали кое-что из своих пожитков и наскребли кое как денег на билеты: мне, отцу и его новой семье до Челябы, а бабушке и моей сестрёнке Мане до станции Чаадаевка Саратовской губернии к оставшимся там двум дочерям бабушки.
В конечном итоге получилось так, что до Челябы мы ехали все вместе всемером, а дальше от Челябы до Чаадаевки поехали лишь бабушка и моя сестрёнка Маня. Мы же, оказавшись в Челябе, побрели в переселенческие бараки. Обосновавшись там, отец на следующий день отправился искать работу и съёмное жильё, но ни постоянной работы, ни жилья не нашёл, подрабатывая впоследствии где придётся: где дрова пилить, где помойку чистить, не отказываясь ни от какой поденной работы. Когда выяснилось, что мы бежали с новых земель, нас выгнали из переселенческого пункта и с той поры мы стали не переселенцы, а просто бездомные – голь перекатная, шатающаяся по белому свету, людьми, ищущими какого-то особого счастья. В поисках этого счастья, отцу пришлось искать квартиру. Он уже 7 дней проработал в городе и кое что разузнал. На этот раз квартиру он нашёл почти сразу на улице Мастерской, благо, что в те времена всё стоило дешево. Квартиру отец снял за 1 рубль 50 копеек в месяц при готовом отоплении. Не особняк, конечно, а просто угол в одной большой комнате, площадью около 30 квадратных метров. Эту же комнату снимали ещё три семьи и всего в комнате располагалось человек 13-15. Все одного сословия – та же «голь перекатная». Ни у кого кровати не было и спали все вповалку прямо на полу. Справедливости ради нужно сказать, что квартира оказалась тёплой и даже с освещением - висячей керосиновой лампой. Обязанность покупки керосина для лампы лежала естественно на квартирантах. Так мы после всех мытарств по новым землям Степной Сибири, которые в настоящий момент называют Казахстаном, стали на некоторое время горожанами - жителями Челябинска. Отец продолжал поденно работать на различных работах, а мать с другими квартирантками стала чинить мешки для ссыпного пункта, где скупали зерно пшеницы и овса для отправки по железной дороге. За починку одного мешка платили одну копейку и в день мачеха зарабатывала около 25-30 копеек, в то время, как отец приносил 50-60 копеек в день. Устроившись на демонтаж старого склада сельхоз машин «Аксай», отец стал брать меня с собой помогать ему пилить дрова и укладывать их в поленницы. На сытую жизнь нам хватало: мука-сеянка стоила 50 копеек за пуд, крупчатка – 72 копейки пуд, мясо 4-5 копеек фунт, а разные мясные отходы и обрубки – 2 копейки фунт. Так жить было бы можно и дальше, но тут стали писать из России родители мачехи, звать нас к себе жить, писали, что они стали старые, работать уже не могут, а у них надел земли имеется в собственности, есть лошадь и корова. Всё это старики готовы были отдать нам, с расчетом, что мы будем хозяйствовать на их земле и ухаживать за ними до смерти. Мачеха начала подбивать отца на переезд к её родителям. Отец сомневался и даже поинтересовался у меня: «Ну, что Кузьма, поедешь жить к новым дедушке с бабушкой?», хоть я советник был никудышный. Я в свою очередь поинтересовался, далеко ли они живут от моей родной бабушки? Отец сказал, что их деревня недалеко, к бабушке от них можно будет ходить пешком каждый день. Меня это сильно обрадовало, так как новая мать была не особенно ласкова по отношению ко мне и часто жаловалась отцу, что я её не слушаюсь, обижаю её ребят, много таскаю на улицу хлеба и делаю другие нехорошие дела. С одной стороны мне очень хотелось жить рядом с родными бабушкой и сестрёнкой, но с другой - не очень хотелось уезжать из Челябы, так как здесь мы могли есть досыта белый пшеничный хлеб и варить щи с мясом, а там опять один ржаной хлеб и ржаная тюря. Не знаю, насколько весомым оказалось для отца моё мнение, но узнав о моём желании жить рядом с бабушкой и сестрой, отец принял решение о возвращении в Россию. За пол года жизни в Челябинске отец с мачехой подзаработали денег. Отец даже приобрёл себе сапоги, чтоб удивить сельчан обновкой при походе на обедню в церковь. Отец был набожный человек и в церковь ходить любил.
И вот Великим постом мы семьёй поехали в Россию. Доехали поездом до Чаадаевки (http://www.travellers.ru/ci...) и оттуда на подводе добрались уже к месту назначения. Встретили нас хорошо, даже устроили что-то вроде праздника или гулянки. Пришли в гости брат с сестрой мачехи. Много было разговоров о Степной Сибири. Мы угостили всех белыми калачами и кренделями, привезёнными из Челябы. Кроме того, даже стряпали блины из привезённой белой муки и рассказали, что в Челябе каждый день ели это, да ещё в добавок с мясом. Гости, не стыдясь, называли отца дураком, из-за того, что он бросил такую жизнь, разменяв её на тюрю и здешнюю нудную и тяжёлую жизнь. Некоторые гости, находясь под впечатлением от угощений и рассказов о Челябе, не медля собрались сами туда и, более того, некоторые позднее действительно уехали. Ну а отец, раз уж приехал в деревню, вынужден был вновь заняться сельским хозяйством, тем более уже начинал помаленьку таять снег. Земли у тестя оказалось очень мало, что-то около половины десятины и то не сотенной, как в Сибири, а тридцатки, то есть здесь считалось 40 сажен длины и 30 сажен ширины. На таком клочке земли прокормить 8 человек невозможно, соответственно нужно искать какую-то работу или идти на барский двор работать от темна до темна за 3 рубля в месяц. Это при том, что в Челябе эти же деньги можно было заработать за 3-4 дня, особо не утомляя себя. Отец, произведя эти расчеты в уме, сопоставив факты, пришёл к выводу, что уехал из Челябы напрасно, однако, сразу давать заднюю было как-то не с руки – нужно было попытаться хотя бы немного продержаться на новом месте. Отец с новым дедушкой засеяли клок земли и стали ждать обильного урожая, но лето выдалось засушливое и хорошего урожая не случилось. Отец стал пилить у помещика лес, подрабатывая на прожиток. Я стал с мачехой нередко спорить, а она меня бранить. Новая бабушка тоже смотрела на меня косо и почти не разговаривала. Дедушка же был хороший человек – приветливый и ласковый, он нас, ребят, не разделял на своих и чужих и ко всем относился одинаково. Маня – моя сестра пошла было поначалу , жить к нам, но с мачехой ужиться у неё не получилось и я отвёл Маню назад в деревню Иванисовка (http://inpenza.ru/gorodisch...), где жила наша родная бабушка. Да и я сам недели через две перебрался туда же. Бабушка в тот период времени жила у абсолютно посторонних людей: старушки и её дочери по имени Васена – старой девы лет сорока на вид. Васена внешне была некрасивой женщиной, отчего, наверное, её никто и не взял замуж, но как человек она была очень хорошей, задушевной и ласковой, помогала нам всегда, всем, чем могла. Бабушка пряла пряжу и брала у людей кое-какую оплату за это: хлебом, картошкой или молоком. У дочерей ей так и не пришлось пожить. Одна – младшая дочь (моя крестная) жила с мужем и пятерыми ребятишками в семье родителей мужа. Кроме них там же жили ещё три сына со своими жёнами и детьми. Ютились пять семей в двух больших избах и бабушку взять просто не могли, поскольку и самим было тесно. Вторая дочь жила далеко от этой деревни в селе Русский Комешкарь (http://www.travellers.ru/ci...). Муж занимался извозом, у него было три лошади. Бабушку он брать не хотел, тем более с внучкой Маней. Так мы с Маней и жили у Васены и её матери какое-то время, зарабатывая на жизнь старым, испытанным способом – стоя на паперти возле церкви в селе Лопатино (http://www.travellers.ru/ci...(penzenskaya-oblast))с протянутой рукой.

Нашим заработком были кусочки хлеба, а чаще пирогов с горохом, кашей и картошкой. Конечно, всё это было ржаное и после пшеничного белого хлеба, опять привыкать к такому рациону питания было тяжеловато, но, как говорится, голод – не тётка. Отец, осознавая, что его родные дети живут у чужих людей и вынуждены просить милостыню, а посеянное весной не сулит хорошего урожая и сытой жизни не предвидится, решил ехать один обратно в Челябу . Ехать решил зайцем, поскольку денег не было даже на один билет, не говоря уж о том, чтобы брать с собой семью. Однако, даже для проезда зайцем нужны были хоть какие-то деньги. Раньше так было заведено: если заяц натыкался на кондуктора, то в качестве оправдания говорил, что билет не успел купить на станции и обещал, что на следующей станции обязательно купит, а дальше шёл за кондуктором и в укромном месте, желательно без свидетелей, предлагал кондуктору сумму, значительно меньшую стоимости билета, 40-50 копеек, к примеру. Если кондуктор брал деньги, то была гарантия, что он до конца своей смены зайца не выгонит, а там, глядишь, и пункт назначения близок. Для наличия хоть каких-то оснований для переговоров с кондукторами, отец вынужден был продать свои сапоги, которые с момента приезда из Челябы так холил и лелеял. За 3 рубля… Перед отъездом пришёл к нам в Иванисовку и, сообщив о своём намерении, сказал, что дальше здесь жить невозможно, что в Челябе он заработает денег и вышлет нам, а мы с мачехой на эти деньги приедем к нему. «Тебя, Кузьма, отдам в Челябе в школу, она там не шибко дорого стоит» - говорил отец.
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
15-02-2015 14:31
(ссылка)
ЧАЙ РОДИМЕНЬКИЙ

Предыдущие главы:
1.http://my.mail.ru/community...
2.http://my.mail.ru/community...
3.http://my.mail.ru/community...
4.http://my.mail.ru/community...
5.http://my.mail.ru/community...
6.http://my.mail.ru/community...
7.http://my.mail.ru/community...
8.http://my.mail.ru/community...
В действительности весной следующего 1902-го года чаеразвесочную фабрику в Челябе доделали-таки. Из Тюмени приехало около ста рабочих. Как я понял, фабрику перевели из Тюмени в Челябинск с перспективой укрупнения производства. Челябинск к тому времени становился достаточно крупным промышленным центром. В городе открылась государственная таможня, аналогичная тем, что уже имелись в Москве, Одессе и Самарканде. Чай тогда непосредственно в России практически не выращивали и он почти весь импортировался из-за границы (из Китая, из Индии, с Цейлона и с острова Ява). Между городом и железнодорожным вокзалом вдоль железнодорожного полотна построили множество деревянных складов, часть из которых отводилась как раз под привозимый из заграницы чай. Отпускали чай местным фирмам лишь после того, как те оплачивали гос. пошлину. После этого чай развозился фирмачами со складов на чаеразвесочные фабрики, где развешивался и упаковывался, после чего доставлялся железнодорожным транспортом практически по всей Сибири, Дальнему Востоку и частично по центральной России. В Челябе на поставках чая специализировалось аж 4 фирмы, одна из которых называлась: «Губкин, Кузнецов и Ко». И вот эта фирма как раз и достроила чаеразвесочную фабрику, завезла необходимое оборудование, а затем стала добавочно набирать людей. Так на 13-м году своей жизни я стал работником чаеразвесочной фабрики чайной компании «Губкин, Кузнецов и Ко».

Челябинскъ. Чаеразвесочная фабрика "Губкин, Кузнецов и Ко"
В то время на чаеразвесочных фабриках примерно 40-45% от общей численности рабочих составляли подростки в возрасте от 12-ти до 17-ти лет. Сама работа по упаковке чая физически была не слишком тяжела, в этом деле в первую очередь важны были сноровка, быстрота и ловкость рук. Работодатель был заинтересован в найме подростков, поскольку платили им значительно меньше, чем взрослым рабочим, а работали они зачастую ничуть не хуже. Суть работы заключалась в том, что в электрический станок, расфасовывающий чай по определённому весу, подсовывалась бумага и тут же рядом отодвигалась «вертельщику», которым был рабочий старше 17-ти лет. За 55 минут нужно было произвести 1200 подобных операций. Физический труд не большой, нужно в первую очередь не зевать и быстро работать руками, иначе автомат высыплет чай не в бумажную пачку, а на прилавок. Взрослый «вертельщик» упаковывал чай в так называемую «первую бумагу», после чего чай, завёрнутый в «первую бумагу» подхватывал стоящий рядом подросток – «свинцовщик», в свою очередь оборачивавший пачку в свинцовую бумагу и передававший пачку «этикетчику», которым был также взрослый работник, стоявший на высшей ступени чаеразвесочной рабочей иерархии. В задачу «этикетчика» входила проверка правильности «первобумажной» и «свинцовой» упаковки, а также наклейка на пачку этикетки с рисунком и надписями в полном соответствии с установленными стандартами. Далее пачка чая передавалась по прилавку ещё одному подростку, который в случае крупного завеса от ½ до 1-го фунта завязывал пачку ниткой, в случае меньшего завеса, оставлял пачку без завязки, а затем передавал пачку по прилавку очередному подростку, оклеивавшему пачку таможенной бандеролью и клавшему её на сетку, отправляющуюся в сушилку. После просушки пачки с чаем поступали в упаковочное отделение, где их укладывали в фанерные ящики по 50 фунтов в каждый. Мальчишки также использовались при разборе поступившей бумаги, в которую впоследствии завёртывался чай, а также на других работах, не требовавших особого физического перенапряжения. Всего на фабрике упаковывалось до 35-ти разных сортов или марок чая. По указанию лаборатории схожие по запаху, вкусовым качествам и цене марки сортировались на большие группы, смешивались, засыпались в большой вращающийся барабан до 1000 фунтов и минут 15-20 чай крутился, смешиваясь в этом барабане, потом после пробы лаборатории поступал на автоматы веса, а уж затем на развесную. Всего на фабрике работало не менее 600 рабочих. Меня поначалу поставили укладывать пачки на сетки для последующей просушки. Когда я адаптировался к новому месту работы, меня перевели на крупную расфасовку пачек с чаем весом ½ фунт, а затем недели через 2-3 поставили уже на мелкую расфасовку. За 55 минут я должен был расфасовать на автомате 1200 пачек. 5 минут отводилась взрослым работникам на перекур, а подростки в это время обучались профессии. Я использовал ежечасные 5 минут на повышение своего профессионального мастерства и за несколько месяцев прошёл этапы от «оклейщика» таможенной бандеролью до «свинцовщика», коим и проработал до 1905-го года.

Челябинскъ. Чаеразвесочная фабрика Высоцкого.

Челябинскъ. Чаеразвесочная фабрика И.П.Колокольникова.1903 год.
К тому времени с момента поступления на работу моя заработная плата увеличилась с 4-х до 10-ти рублей в месяц, но мой карьерный рост и рост моего материального благосостояния прервались в один миг, когда я умудрился заболеть, в связи с чем и был переведён на значительно менее почётную в служебной лестнице должность помощника швейцара в торговой конторе, где в мою задачу входили вопросы протирки столов двадцати служащих конторы, вопросы подметания конторских полов и вопрос натирки пола мастикой в кабинете заведующего конторой - Ивана Егоровича Шестакова.
Психологически в тот период я чувствовал себя не слишком хорошо, поскольку мои сверстники частенько подшучивали надо мной, в особенности над моим саратовским говорком и внешним видом. Одевать штаны с карманами и обувать сапоги родители разрешали мне только по особо торжественным случаям, поэтому большую часть времени я продолжал шляться в самотканых портках и лаптях. Мой не презентабельный внешний вид усугубляли особенности саратовского произношения - не принятая на Урале певучая растяжка слов с добавлением, где надо и не надо уже упомянутой мною приставки «чай». Нужно признать, что данная приставка оказалась вполне созвучна с местом моей работы на чаеразвесочной фабрике. Наверное, насмешников данное обстоятельство особенно веселило. Они даже придумали для меня обидную кличку «Чай родименький», видимо увязывая моё сельское происхождение с моей настоящей работой.
Взрослые же, напротив, относились ко мне хорошо, поскольку я был смышлёным и шустрым парнишкой. Довольно быстро освоил работу «свинцовщика» и неплохо справлялся с ней, если бы не моя болезнь, прервавшая мой дальнейший рост по рабочей карьерной лестнице. Тогда я, конечно, переживал по этому поводу, но сейчас думаю, что судьба в этом отношении ко мне благоволила, так как работа в развесной была очень вредна для здоровья. От чёрного чая шла коричневая пыль, оседавшая на рабочих прилавках и достигавшая толщины до 3-х миллиметров. Люди, работавшие в развесной 5 и более лет, заболевали туберкулёзом и фабрика нередко хоронила своих ещё совсем не старых рабочих. Вообще, при наличии возможности, часть рабочих после нескольких лет работы на развесной, переводилась на другие места, не связанные с воздействием смертоносной пыли, либо увольнялась, но большинство оставалось работать годами, рискуя своими жизнью и здоровьем.

Челябинскъ. Упаковка и взвешивание продукции на чаеразвесочной фабрике Высоцкого. Нач. XX в.
ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ СОЦИАЛКА
Шли на осознанный риск люди из-за хорошей оплаты труда и неплохих по тем временам условий работы: 9-часового рабочего дня с ежечасным пятиминутным перерывом, шестидневной рабочей недели. По воскресеньям фабрика не работала. Кроме того, не работали люди в так называемые «царские дни» и дни многочисленных церковных праздников. В частности в Пасху народ не работал аж в течение 11 дней: 8 дней Пасхи и перед Пасхой четверг, пятницу и субботу люди говели и ходили в церковь. Но это по желанию, если не верующий – делай в эти дни, что хочешь. В Рождество Христово – 5 дней выходных, на Крещение Господня – 3 дня, на Масленицу – 4. Помимо этого, в предпраздничные рабочие дни и по субботам работу заканчивали на 2 часа раньше. Выходной день давался также именинникам, при этом все праздничные нерабочие дни обходились без какого-либо вычета из заработной платы, то есть зарплата с увеличением количества выходных не уменьшалась. Рабочим, проработавшим не менее года, давался отпуск пол месяца с сохранением зарплаты. На собственную свадьбу давали неделю опять же с сохранением зарплаты, на свадьбу детей – три дня, на похороны близких родственников – один день. Всем рабочим, проработавшим не менее года, аккуратно выдавали к Рождеству и Пасхе по месячному окладу, а проработавшим на фабрике непрерывно 25 лет платили до смерти пенсию в размере оклада, а правление из Москвы присылало ветерану труда серебряный четвертной самовар с дарственной надписью.
На фабрике имелся медпункт, где работал фельдшер. В случае невыхода работника на рабочее место, фельдшер выезжал к отсутствующему на дом, выяснял, в чём дело и в случае необходимости оказывал медицинскую помощь. Кроме того, все рабочие в обязательном порядке по понедельникам проходили медицинский осмотр, который осуществляли врач и фельдшер. Рабочих лечили бесплатно и лекарства давали бесплатно. Туберкулёз в те времена лечению не поддавался и многие рабочие нашей фабрики, несмотря на медицинское обслуживание, умерли от этого заболевания. Как я уже писал выше, неплохие зарплата и условия труда для многих перевешивали вредное производство и люди шли на риск. На фабрике было довольно много семейных династий. В частности на фабрике в одно время работало сразу 4 члена нашей семьи: я, отец, мой сводный брат и моя сестра Маня.
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
08-02-2015 11:13
(ссылка)
БАБУШКА

Предыдущие главы:
1.http://my.mail.ru/community...
2.http://my.mail.ru/community...
3.http://my.mail.ru/community...
4.http://my.mail.ru/community...
5.http://my.mail.ru/community...
6.http://my.mail.ru/community...
Действительно месяца через 3 отец прислал деньги. В письме написал, чтобы мачеха забирала нас и нашу родную бабушку в Челябу. Мачеха, получив деньги, пришла к нам в деревню Иванисовку (http://inpenza.ru/gorodisch...), сообщив нам с сестрой, что отец ждёт нас в Челябе. К бабушке мачеха обратилась витиевато: «Если ехать охота, езжайте с нами, может, прокормимся все как-нибудь там».
Бабушка, осознав, что её приглашают без особого желания, чисто для проформы, ехать с нами отказалась, сославшись на то, что ей не так уж и долго осталось жить на этом Свете. "Об одном прошу - не обижайте моих внучат" - сказала она.
И вот через неделю мы собрались ехать к отцу в Челябу. На улице было уже прохладно, приближалась осень. Я, моя сестрёнка Маня и бабушка пошли в Веденяпино (http://inpenza.ru/gorodisch...) к нашей мачехе. Там дедушка запряг лошадь и начались проводы. Новые бабушка с дедушкой плакали, провожая свою дочь и своих внучат на чужбину, а наша бабушка плакала обо мне с Маней. Мы же плакали о нашей дорогой и любимой бабушке. Обе бабушки отправились провожать нас пешком до Чаадаевки, нас же дедушка довёз до Чаадаевки на телеге. Взяли билеты 4-го класса.
Когда мы стали садиться в поезд, наша бабушка стала просто падать на землю, цепляться за наши ноги, целуя нас и плача навзрыд. У меня до сих пор стоит перед глазами эта щемящая сердце сцена, как перед удаляющимися вдаль вагонами поезда стоит на коленях худенькая и маленькая старушка и протягивает к уходящему поезду руки, словно пытаясь остановить эту здоровенную металлическую махину.
Я и моя сестра Маня нашу дорогую и горячо любимую бабушку больше никогда не видели…
Бабушка умерла вдали от нас года через 4 после нашего отъезда. У абсолютно чужих людей…
В молодости бабушка была крепостной сенной девушкой. Господа отдали её замуж за такого же крепостного человека - мужичка, старше её аж на 20 лет. Муж умер, когда детей нужно было ещё ставить на ноги. Бабушка растила дочерей фактически одна. Когда наш отец пришёл к ней в дом жить с её дочерью, у бабушки было своё небольшое хозяйство: изба, надворные постройки, корова, лошадь, домашняя утварь и посуда и вот после наших сибирских мытарств осталась наша бабушка одна-одинёшенька, без гроша за душой и какого-либо имущества. Всё прожили, всё проездили её дочь, муж дочери и внучата. И вот на старости лет остаться ни с чем, не имея даже своего угла, где можно спокойно умереть. Пришлось бабушке поскитаться по чужим углам и просить милостыню у добрых людей.
Оставляя свою любимую бабушку, старую и убогую, на произвол судьбы среди чужих людей, поступали мы очень нехорошо. Она отдала нам всё, что имела, а мы ей даже спасибо не сказали. И как, вероятно, тяжела была её сума, с которой она ходила, прося подать, что Господь дал. И тяжела была не от того, что много было в ней подаяний, а тяжела была оттого, что влачила она с нами жизнь очень тяжёлую. Вот пишу я эти строки спустя 65 лет, как мы расстались. Сам уже глубокий старик, доживающий восьмой десяток лет, вскормленный собранными тобой кусочками и корочками ржаного хлеба. Помню до сих пор, как богата была твоя сума, когда придя с обхода одной-двух деревень, уставшая до крайности, ты высыпала нам всё содержимое на стол. Я вот сейчас пишу о тебе, роняя слёзы, хотя ты очень редко приходишь на память, так как жизнь заставляет думать о повседневном, как-то всё торопимся куда-то, всё скорее и скорее, лишь бы успеть и не отстать от быстро идущей жизни.А жизнь сейчас, бабуся, кипучая, живая и дума у людей не о куске хлеба, а об украшении своей жизни. Вот, бабушка, уже прошло так много лет, а я тебя всё ещё вспоминаю и как будто сейчас смотрю на тебя, на твоё измождённое, всё в морщинках лицо, на такую худенькую и маленькую.
Когда я смотрюсь в зеркало, словно вижу тебя – я стал такой же седой, худой и ростом не вышел, хотя и отец и мать были здоровыми по телосложению, а я получился какой-то неказистый. Гляжу на свои морщины, провожу по ним своей рукой и словно переношусь почти на семьдесят лет назад, где я - совсем ещё мальчишка, радуюсь вываленной из бабушкиной сумы милостыне - краюхам ржаного хлеба, кусочкам пирогов с горохом и тянусь обнять неказистую старушку, случайно дотрагиваясь пальцами до морщин на её измождённом лице. Прости нас всех, милая бабулечка!
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
13-02-2015 09:45
(ссылка)
ЧЕЛЯБА
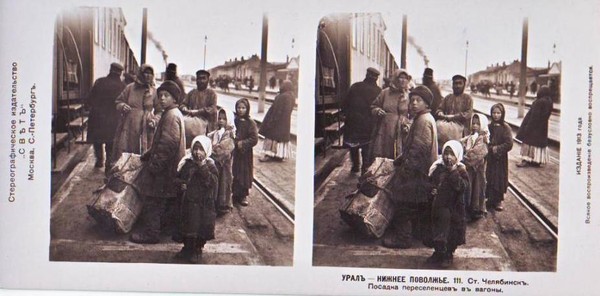
Предыдущие главы:
1.http://my.mail.ru/community...
2.http://my.mail.ru/community...
3.http://my.mail.ru/community...
4.http://my.mail.ru/community...
5.http://my.mail.ru/community...
6.http://my.mail.ru/community...
7.http://my.mail.ru/community...
Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой магазин в городе, занимал в центре целый квартал из трёх улиц: Азиатской, Ивановской и Уфимской (http://www.book-chel.ru/ind...).

У магазина имелся большой двор, на котором распологалось очень много различных построек, складов и домов. В домах жили приказчики – молодёжь, человек 20, которых взяли на курсы торгового дела. Брали туда лишь грамотных ребят преимущественно из служивого сословия. Там они жили, там их кормили и поили, там их одевали и обували. И были там рабочие двора: грузчики, возчики и другие разнорабочие, включая и моего отца. А всего у купца Стахеева было рабочих, приказчиков и канцелярских служащих примерно 70-80 человек. Отцу в то время платили 12 рублей в месяц жалования и кормили обедом. Подобные условия считались очень хорошими, и не каждый такими мог похвастаться. Мать по приезду в Челябу тоже без работы не осталась - снова стала чинить мешки. Мне к тому времени исполнилось одиннадцать. Поскольку в школу меня пристроить сразу отцу не удалось, я вынужден был заниматься «хозяйственной деятельностью», то есть помогать родителям по хозяйству. Ребята моего возраста тоже были на посылках: кто воду носит, кто дрова колет, кто картошку чистит. Моя сводная сестра Матрёна, к примеру, помогала матери чинить мешки, а я таскал эти мешки с ссыпного пункта домой, а потом после починки нёс обратно на ссыпной пункт. Поиграть доводилось только вечерами, поскольку днём все ребята были чем-то заняты.
ТОРГОВЕЦ ДРОЖЖАМИ

Вскоре я познакомился с одним предприимчивым пареньком моих лет. Тот занимался торговлей дрожжами и предложил мне присоединиться к занятию этим промыслом, что я и сделал без особых раздумий. Так я стал «купцом», не знамо какой гильдии. Суть торговой операции заключалась в следующем. Вместо магазина или лавки я стал обладателем небольшого ящика из под гвоздей, к которому прибил матерчатую тесёмку. Перекинув тесёмку через шею, вместе со своим напарником и компаньоном, я каждое утро отправлялся на край города, где располагался дрожжевой завод купца Аникина. Там мы покупали в будние дни один-два фунта дрожжей, а в выходные по три-четыре фунта и возвращались с товаром в город на базарную площадь, где уже проявляли таланты настоящих рекламных агентов, выкрикивая как можно громче: «А вот кому сухие, свежие дрожжи? Налетай!». «Налетевшие» покупали палочку дрожжей, кто на одну копейку, а кто на две-три. Иногда случалось, что у нас покупали весь дрожжевой брикет, весивший ¼ фунта. Непосредственно на заводе мы приобретали дрожжи по 30 копеек за фунт, а продавали на базарной площади уже по 40 копеек. То есть с каждого фунта наша «торговая сеть», состоящая из вышеупомянутого ящика из под гвоздей с тесёмкой и двух подростков, получала целых 10 копеек чистой прибыли. Потрясающий оборот средств! За день выходило по 20-25 копеек выручки на брата. Справедливости ради нужно заметить, что существовали и издержки производства, которые стоило бы учитывать при подсчёте барыша. Куда ж без них? В частности, к таким издержкам можно отнести изношенную в хлам за несколько месяцев не одну пару моих лаптей. (Купечество, извините, вынуждено много ходить - купца ноги кормят).

Родители довольно часто роптали по данному поводу, ставя под сомнение мою предпринимательскую хватку, но мне-то, пацану, не приходило в голову, что лапти могут иметь отношение к извлекаемой из дрожжевого бизнеса прибыли. Так или иначе, но примерно через пол года, отец, на котором как раз и лежала обязанность изготовления и ремонта моих лаптей, с целью уменьшения издержек, волевым решением перевёл меня на другое место работы – в городскую управу, где я должен был помогать в уборке помещения проживающему прямо в управе внутреннему сторожу. По утрам, ещё до занятий в управе, я около 4-х часов щёткой подметал пол, тряпкой протирал столы и стулья, таскал вёдра с водой со двора и помогал сторожу растапливать печь. Примерно тоже самое я делал и в течение 4-х часов вечером после окончания работы в управе. День у меня был свободным. Данный график работы не слишком меня устраивал по некоторым причинам, но моему работодателю по большому счёту было на это наплевать. И не исключено, что с высокой колокольни. Соответственно, я вынужден был мириться с этими маленькими неудобствами. Получал я за свой труд жалованье в размере 3-х рублей 50-ти копеек в месяц.
Поскольку трудиться я начал не в какой-нибудь там шарашкиной конторе, а в весьма серьёзном заведении, родители посчитали, что и выглядеть я должен соответствующе. Для соответствия моменту мне купили сапоги, а также штаны, Вы не поверите, аж с двумя карманами! Примерив обновки, глянул я на себя в зеркало и обомлел – передо мной стоял настоящий франт: не какой-нибудь деревенщина в лаптях, а городской красавчик в сапогах и в штанах с двумя (двумя!!!) карманами. Вдобавок отец смазал новёхонькие сапоги дёгтем. Ах, как приятно пахли те сапоги! Кажется, что я сейчас чувствую их запах. Мало того, что сапоги пахли замечательно, так они ещё и смачно поскрипывали. Наслаждаясь визуальными и аудио-эффектами, я ежеминутно крутился и изгибался перед зеркалом, то засовывал руки в карманы по одной и обе сразу, то высовывал их из карманов, важно складывая руки на груди, и мечтая прямо сейчас, немедленно оказаться по щучьему веленью, по моему хотенью в родной Иванисовке. Я будто бы даже видел вытянутые от удивления лица тамошних иванисовских ребят «Откуда это такой городской хлыщ у нас выискался?»
- Да уж не чета Вам – деревенщинам!

Как-то вечером отец попросил одного служку из церкви написать письмо нашим родственникам в России, о том, как живётся нам в Челябе. В письме без ложной скромности рассказывалось о том, что живём мы сейчас очень даже хорошо, так как в семье уже работают четыре человека: отец, мать, я, да сестра моя сводная Матрёна. Конечно, не обошли в письме и факт приобретения для меня сапог со штанами. Насчёт последних естественно было подчёркнуто, что они не какие-нибудь там самотканые, а куплены задорого на базаре и имеют аж два кармана! Чтоб уж совсем сдобрить эту благостную картину маслом, служка по настоянию отца добавил предложение о том, что питаемся мы каждый день щами с мясом и закусываем эти мясные щи белыми калачами. В завершение отец сообщал родственникам, что в Челябе собираются строить чайную фабрику, приспосабливая под неё кирпичные склады. Весной по информации отца на строящуюся фабрику собирались завозить из Тюмени оборудование и рабочих, которые должны заниматься упаковкой чая. Не исключено, сообщал родственникам отец, что появятся свободные вакансии, которыми мы намерены воспользоваться.
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
07-12-2014 18:14
(ссылка)
УТРАТА
Продолжение. Начало.
1.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/3DB790339E187819.html
2.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/1E7EE7C391E736E8.html
3.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/559836E69158C8E7.html
4.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/62AF29158818A17F.html

Меж куч периодически мелькали какие-то тени. Нетрудно было догадаться, что это жители посёлка Новая Васильевка бродят между своих куч то ли по своим делам, то ли совершенно бесцельно.
Наблюдая за этими передвижения местных жителей, наши бабы заголососили и запричитали, куда это их из матушки России привезли, в какую такую тьму-таракань, где хоть и не видно ни каторжан, ни киргизов, но люди живут внутри грязных куч в ямах или берлогах, словно медведи.
Мужикам причитать не престало, в надежде разыскать нашего земляка, они стали угрюмо обходить кучи одну за другой, которые на проверку оказались не просто кучами, а заваленными по самую макушку снегом крестьянскими избами. Понять, как избы выглядели, было совершенно невозможно, но стало очевидно, что они не велики размерами. Земляк довольно быстро нашёлся, поскольку посёлок оказался совсем небольшим, семей на 25-30. Кое-как наши пять семей и наши возчики расположились на ночлег. Всю ночь напролёт наши мужики и бабы расспрашивали местных жителей об их житье-бытье и рассказывали о том, как самим жилось в России. Выяснилось, что посёлок начал строиться всего лишь три года тому назад.
Народ местный жил по-разному: кто приехал с деньгами, те обустроились неплохо, поставили домишки, купили скот – лошадей, коров, овец и кое-кто даже свиней, которых в тех местах было довольно мало, поскольку настоящие местные аборигены – киргизы свиней не держали из своих религиозных соображений. Вот лошадей, коров и овец у скотоводов-киргизов было много, продавали их они охотно и не слишком дорого. Содержали животных киргизы самым примитивным образом. Скот был предоставлен сам себе и был обучен пастись самостоятельно даже зимой, расковыривая снег копытами до травы. Частенько скот у киргизов гиб в степи. Переселенцы же строили дома не только для себя, но и сооружали дворы для домашнего скота. Те переселенцы, которые были при деньгах, имели по 2-4 лошади, 2-3 коровы и до 10 овец, сами обрабатывали свою землю, пекли свой хлеб, имели собственное молоко и даже мясо. Некоторые завели домашнюю птицу. Большинство же переселенцев жили довольно скудно, поскольку ехали в Сибирь изначально не самые зажиточные из крестьян.
К данной категории можно было отнести и моих родителей, поскольку из тех денег, которые изначально были припасены в России, осталось от силы половина, на которую не шибко-то разгуляешься. Табун скота на 50 рублей не купишь и палатей себе не отстроишь. Заработать тоже особо негде, так как основная масса крестьян перебивалась с хлеба на квас, как тогда говорили о бедняках. Побеседовав с местными жителями, наши мужики пришли к заключению, что всем нам в посёлке обосноваться невозможно. Три семьи приняли решение ехать в посёлок Каменку, через который мы уже проезжали. Данный посёлок был значительно больше – домов на 100-120, и считался старым, так как основан был около 10 лет назад. У большинства тамошних старожилов имелись порядочные посевы, скотина и птица. Некоторые имели уже по две избы: одну – небольшую, ту, которую построили сразу после переселения, и вторую - большой пятистенный рубленый дом.
Каменка стояла на реке, богатой рыбой, а за рекой рос сосновый бор, где разрешалось рубить новосёлам лес на строительство и даже на растопку. Бор никто не охранял, приезжай и пили, сколько хочешь, никто слова не скажет. Рядом с посёлком имелась сопка гектар на 400-500, которую назвали горой, поросшая малиной. Итак, наши мужики договорились с теми же возчиками, увезти нас в Каменку. Наш приезд пришёлся на последний день Масленицы. С жильём всё устроилось довольно быстро, а вот с обработкой земли вышла заминка. Ребятишкам из наших семей требовалось молоко, а для обработки земли нужна была тягловая сила – на семью хотя бы одна лошадёнка. На совете выбор пал в пользу лошадей, с покупкой коров решили погодить до осени. Собрались мужики ехать в находящийся в 50-60 верстах Атбисар на ярмарку. Вернулись назад с лошадьми, кто с одной, а кто и с двумя. Мой отец привёл серого жеребчика лет 6-7, киргизской породы, который возил до этого только верхом, а в запряжке ещё не ходил. Пришлось обучать коня ходьбе в запряжке. Конёк был небольшим, но оказался крепким и очень шустрым. Отец договорился с одним крестьянином помогать ему в севе, отдав в работу своего коня, а хозяин участка подвязался посеять отцу десятину овса на своей земле и своими семенами. Десятину сотенную, то есть 40 сотен ширины и 100 сотен длины. Отцу одному, конечно, сеять было нельзя на одной лошади, так как сохами там не пахали. И вот посеял тот крестьянин нам эту десятину, а мы стали ждать урожая.
Мать не забывала про своё ремесло и на новом месте и вскоре после посева родила девочку. Роды оказались неблагополучными. Ребёночек хоть и родился живым, но не прожил и суток. У матери во время родов и после был сильный жар. Доктора в посёлке естественно не было, родами заведовали бабки – местные знахарки. Они прикладывали матери лёд от жара, делали холодные компрессы. В итоге мать простудилась и заболела уже не родовой болезнью, а случилась с нею водянка.
Мать вся опухла, лицо и тело сделались будто стеклянными и водянистыми. Какая бы она крепкая и рослая не была, но промаялась с этой болезнью всё лето. Поспела уже десятина овса. Мать, несмотря на болезненное состояние, как могла помогала в сборе урожая, который удался на славу – намолотили 300 пудов с одной десятины. Отец ссыпал собранный урожай в сарайчик, где мы квартировались, укрыл соломой, нагрёб воз овса и поехал его продавать в Кокчетав, намереваясь на выручку купить лекарства для жены. Поскольку хороший урожай овса выдался не только у нас, цены на овёс оказались чрезвычайно низкими, да и охотников его купить особо не было, а везти далеко в места с не столь богатым урожаем, не имелось никакой возможности. В общем отец кое-как продал овёс по 4 копейки за фунт То есть на пуд овса можно было купить лишь полтора фунта керосина. Отец привёз матери лекарства, но это её состояние никак не улучшило.
Как сейчас вижу, поманит мама нас с Маней, своих ненаглядных деток к своей кровати, обнимет нас и начинает целовать, заливаясь горючими слезами, причитая, на кого она нас оставляет, говоря, как ей хотелось бы пожить с нами, вырастить нас, дождаться внуков. Мы, целуя нашу маму, просили: «Не умирай, пожалуйста!». Тут же с нами плакала наша милая бабушка, которая нас растила, поила и кормила, чем могла, лишая себя порой даже самого необходимого, всё отдавая нам – своим внучатам. И вот как не крепилась наша дорогая и любимая мама, болезнь делала своё нехорошее дело.

Мама уже не могла вставать с постели и даже садиться. Бывало лежит смотрит на нас, да так смотрит, что начинают из глаз выступать горючие слёзы, видимо, оплакивая нас и себя. Порой мама забывалась и начинала бредить. В один из дней рано утром будят меня и Маню бабушка и отец, плачут навзрыд и говорят: «Вставайте ребятки, мама зовёт Вас благословить и проститься». Мы соскочили со своих нар и подошли к постели матери. Мама тяжело дышала. Поманила нас кивком головы. Мы подошли к ней совсем близко и стали её целовать, плача навзрыд. Бабушка, прощаясь со своей любимой дочкой, взяла икону и стала креститься, благославляя нашу маму и тут же наша любимая мама начала как-то редко-редко икать, реже и реже вздыхать, после чего как-то качнулась в сторону и замерла навсегда. Так мы лишились своей дорогой мамы, отец своей любимой жены и помощницы в жизни, а бабушка своей дочери. Мама умерла осенью 1897-го года. Отец и бабушка, плача и причитая, стали готовить похороны, сделали гроб. Отец привёз из волостного села Балкашино священника, где уже строилась небольшая церквушка. Мне в это время было около 9 лет, а Мане около трёх лет. Я смерть матери и похороны перенёс как-то легче сестры. Когда гроб занесли в избу и стали класть в него тело умершей, Маня стала плакать и страшно кричать: «Мама, миленькая, возьми меня на ручки! Вставай! Вставай!». Находившиеся в доме взрослые пытались успокоить Машу, но она в ответ била взрослых по рукам, даже кусалась. В момент выноса гроба, Маня всё рвалась к нему и кричала: «Мама, вставай! Тебя хотят закопать в яму! Я боюсь без тебя». Как ни кричала моя сестрёнка, гроб с телом мамы всё-таки вынесли, священник отпел умершую, все попрощались с ней, поцеловали в последний раз, довезли на лошади до кладбища, где опустили в могилу и закопали, сказав последнее «Прости», перекрестились и вернулись домой. Вот так неласково приютила нас Сибирь, отняв у нас самого дорогого человека.
1.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/3DB790339E187819.html
2.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/1E7EE7C391E736E8.html
3.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/559836E69158C8E7.html
4.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/62AF29158818A17F.html

Меж куч периодически мелькали какие-то тени. Нетрудно было догадаться, что это жители посёлка Новая Васильевка бродят между своих куч то ли по своим делам, то ли совершенно бесцельно.
Наблюдая за этими передвижения местных жителей, наши бабы заголососили и запричитали, куда это их из матушки России привезли, в какую такую тьму-таракань, где хоть и не видно ни каторжан, ни киргизов, но люди живут внутри грязных куч в ямах или берлогах, словно медведи.
Мужикам причитать не престало, в надежде разыскать нашего земляка, они стали угрюмо обходить кучи одну за другой, которые на проверку оказались не просто кучами, а заваленными по самую макушку снегом крестьянскими избами. Понять, как избы выглядели, было совершенно невозможно, но стало очевидно, что они не велики размерами. Земляк довольно быстро нашёлся, поскольку посёлок оказался совсем небольшим, семей на 25-30. Кое-как наши пять семей и наши возчики расположились на ночлег. Всю ночь напролёт наши мужики и бабы расспрашивали местных жителей об их житье-бытье и рассказывали о том, как самим жилось в России. Выяснилось, что посёлок начал строиться всего лишь три года тому назад.
Народ местный жил по-разному: кто приехал с деньгами, те обустроились неплохо, поставили домишки, купили скот – лошадей, коров, овец и кое-кто даже свиней, которых в тех местах было довольно мало, поскольку настоящие местные аборигены – киргизы свиней не держали из своих религиозных соображений. Вот лошадей, коров и овец у скотоводов-киргизов было много, продавали их они охотно и не слишком дорого. Содержали животных киргизы самым примитивным образом. Скот был предоставлен сам себе и был обучен пастись самостоятельно даже зимой, расковыривая снег копытами до травы. Частенько скот у киргизов гиб в степи. Переселенцы же строили дома не только для себя, но и сооружали дворы для домашнего скота. Те переселенцы, которые были при деньгах, имели по 2-4 лошади, 2-3 коровы и до 10 овец, сами обрабатывали свою землю, пекли свой хлеб, имели собственное молоко и даже мясо. Некоторые завели домашнюю птицу. Большинство же переселенцев жили довольно скудно, поскольку ехали в Сибирь изначально не самые зажиточные из крестьян.
К данной категории можно было отнести и моих родителей, поскольку из тех денег, которые изначально были припасены в России, осталось от силы половина, на которую не шибко-то разгуляешься. Табун скота на 50 рублей не купишь и палатей себе не отстроишь. Заработать тоже особо негде, так как основная масса крестьян перебивалась с хлеба на квас, как тогда говорили о бедняках. Побеседовав с местными жителями, наши мужики пришли к заключению, что всем нам в посёлке обосноваться невозможно. Три семьи приняли решение ехать в посёлок Каменку, через который мы уже проезжали. Данный посёлок был значительно больше – домов на 100-120, и считался старым, так как основан был около 10 лет назад. У большинства тамошних старожилов имелись порядочные посевы, скотина и птица. Некоторые имели уже по две избы: одну – небольшую, ту, которую построили сразу после переселения, и вторую - большой пятистенный рубленый дом.
Каменка стояла на реке, богатой рыбой, а за рекой рос сосновый бор, где разрешалось рубить новосёлам лес на строительство и даже на растопку. Бор никто не охранял, приезжай и пили, сколько хочешь, никто слова не скажет. Рядом с посёлком имелась сопка гектар на 400-500, которую назвали горой, поросшая малиной. Итак, наши мужики договорились с теми же возчиками, увезти нас в Каменку. Наш приезд пришёлся на последний день Масленицы. С жильём всё устроилось довольно быстро, а вот с обработкой земли вышла заминка. Ребятишкам из наших семей требовалось молоко, а для обработки земли нужна была тягловая сила – на семью хотя бы одна лошадёнка. На совете выбор пал в пользу лошадей, с покупкой коров решили погодить до осени. Собрались мужики ехать в находящийся в 50-60 верстах Атбисар на ярмарку. Вернулись назад с лошадьми, кто с одной, а кто и с двумя. Мой отец привёл серого жеребчика лет 6-7, киргизской породы, который возил до этого только верхом, а в запряжке ещё не ходил. Пришлось обучать коня ходьбе в запряжке. Конёк был небольшим, но оказался крепким и очень шустрым. Отец договорился с одним крестьянином помогать ему в севе, отдав в работу своего коня, а хозяин участка подвязался посеять отцу десятину овса на своей земле и своими семенами. Десятину сотенную, то есть 40 сотен ширины и 100 сотен длины. Отцу одному, конечно, сеять было нельзя на одной лошади, так как сохами там не пахали. И вот посеял тот крестьянин нам эту десятину, а мы стали ждать урожая.
Мать не забывала про своё ремесло и на новом месте и вскоре после посева родила девочку. Роды оказались неблагополучными. Ребёночек хоть и родился живым, но не прожил и суток. У матери во время родов и после был сильный жар. Доктора в посёлке естественно не было, родами заведовали бабки – местные знахарки. Они прикладывали матери лёд от жара, делали холодные компрессы. В итоге мать простудилась и заболела уже не родовой болезнью, а случилась с нею водянка.
Мать вся опухла, лицо и тело сделались будто стеклянными и водянистыми. Какая бы она крепкая и рослая не была, но промаялась с этой болезнью всё лето. Поспела уже десятина овса. Мать, несмотря на болезненное состояние, как могла помогала в сборе урожая, который удался на славу – намолотили 300 пудов с одной десятины. Отец ссыпал собранный урожай в сарайчик, где мы квартировались, укрыл соломой, нагрёб воз овса и поехал его продавать в Кокчетав, намереваясь на выручку купить лекарства для жены. Поскольку хороший урожай овса выдался не только у нас, цены на овёс оказались чрезвычайно низкими, да и охотников его купить особо не было, а везти далеко в места с не столь богатым урожаем, не имелось никакой возможности. В общем отец кое-как продал овёс по 4 копейки за фунт То есть на пуд овса можно было купить лишь полтора фунта керосина. Отец привёз матери лекарства, но это её состояние никак не улучшило.
Как сейчас вижу, поманит мама нас с Маней, своих ненаглядных деток к своей кровати, обнимет нас и начинает целовать, заливаясь горючими слезами, причитая, на кого она нас оставляет, говоря, как ей хотелось бы пожить с нами, вырастить нас, дождаться внуков. Мы, целуя нашу маму, просили: «Не умирай, пожалуйста!». Тут же с нами плакала наша милая бабушка, которая нас растила, поила и кормила, чем могла, лишая себя порой даже самого необходимого, всё отдавая нам – своим внучатам. И вот как не крепилась наша дорогая и любимая мама, болезнь делала своё нехорошее дело.

Мама уже не могла вставать с постели и даже садиться. Бывало лежит смотрит на нас, да так смотрит, что начинают из глаз выступать горючие слёзы, видимо, оплакивая нас и себя. Порой мама забывалась и начинала бредить. В один из дней рано утром будят меня и Маню бабушка и отец, плачут навзрыд и говорят: «Вставайте ребятки, мама зовёт Вас благословить и проститься». Мы соскочили со своих нар и подошли к постели матери. Мама тяжело дышала. Поманила нас кивком головы. Мы подошли к ней совсем близко и стали её целовать, плача навзрыд. Бабушка, прощаясь со своей любимой дочкой, взяла икону и стала креститься, благославляя нашу маму и тут же наша любимая мама начала как-то редко-редко икать, реже и реже вздыхать, после чего как-то качнулась в сторону и замерла навсегда. Так мы лишились своей дорогой мамы, отец своей любимой жены и помощницы в жизни, а бабушка своей дочери. Мама умерла осенью 1897-го года. Отец и бабушка, плача и причитая, стали готовить похороны, сделали гроб. Отец привёз из волостного села Балкашино священника, где уже строилась небольшая церквушка. Мне в это время было около 9 лет, а Мане около трёх лет. Я смерть матери и похороны перенёс как-то легче сестры. Когда гроб занесли в избу и стали класть в него тело умершей, Маня стала плакать и страшно кричать: «Мама, миленькая, возьми меня на ручки! Вставай! Вставай!». Находившиеся в доме взрослые пытались успокоить Машу, но она в ответ била взрослых по рукам, даже кусалась. В момент выноса гроба, Маня всё рвалась к нему и кричала: «Мама, вставай! Тебя хотят закопать в яму! Я боюсь без тебя». Как ни кричала моя сестрёнка, гроб с телом мамы всё-таки вынесли, священник отпел умершую, все попрощались с ней, поцеловали в последний раз, довезли на лошади до кладбища, где опустили в могилу и закопали, сказав последнее «Прости», перекрестились и вернулись домой. Вот так неласково приютила нас Сибирь, отняв у нас самого дорогого человека.
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
04-11-2014 08:05
(ссылка)
ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

Удивительное, всё-таки, существо - человек! То делает из мухи слона, раздувая какую-нибудь мелочь до безумных размеров и превращая во вселенскую трагедию, то поводом для ликования и необузданных восторгов становится абсолютная никчёмная белиберда (даже белиберда в кубе!), на которую и внимания обращать-то не стоило. Гениям русской словесности в особенности. Ан нет - обратило. Существо в смысле. Да так, что прям приспичило за перо взяться, коим больше года не баловался (занят был шибко). И, главное, тема крайне деликатная, о которой вслух не принято. Разве что у Елены Малышевой какой-нибудь. Ибо только у неё ассоциативный ряд между воротом свитера и крайней плотью существует.

С другой стороны приятно первооткрывателем быть. Амундсеном каким-нибудь. Первопроходцев неблагодарные потомки запоминают лучше. Постараюсь обойтись без грубой физиологии, заменяя её приличными синонимами, многозначительными паузами или пошловатым хихиканьем в потный кулачок. А то читательницы моего бложика, обуеваемые праведным гневом, разбегутся все нафиг. (Тут я по обыкновению кокетничаю - за год затворничества итак разбежались все до единой)
Воооот.
Общеизвестным является факт, что всем двуногим и даже членистоногим, вне зависимости от степени гениальности, пола, возраста и иных параметров, периодически нужно (мммм, как бы это сказать-то?) - опорожнять свой организм. Без этого подавляющему большинству человеческих организмов существовать крайне сложно. В лучшем случае человек становится крайне невнимательным даже во время решения вопросов жизни и смерти, начинает ни к месту и несообразно серьёзности, а порой и трагичности ситуации,как бы радостно пританцовывать на месте, либо замирать в неестественной и натужной позе с выпученными глазами. Взгляд его становится отвлечённым и блуждающим, даже в те моменты, когда перед тобой стоит объект твоего искреннего обожания и с трепетом ждёт решительного шага, определяющего всю Вашу дальнейшую судьбу. А то и вообще организм вышеупомянутый в самый что ни на есть кульминационный и важный момент неожиданно, без какого-либо объяснения причин, кааак ломанётся в ближайщий бурелом, сверкая худыми голеностопами. О худшем случае даже и говорить не хочется. Проклятый Голливуд на этом целую индустрию пошлятины построил. Со специфическим сортирно-голливудским юмором. Но это они там, в обителях разврата своих совсем страх потеряли. Русский человек не таков - он благоообразен, богобоязнен, плавен в движениях и помыслах и крайне стыдлив. Лишь в редкие минуты расслабления исконно русского человека тянет на иррациаональное

А я, несмотря на периодически терзающие сомнения, специфическую морду лица и финно-угорскую фамилию, по своей так сказать ментальности, человек безусловно исконно русский. До костей мозга. Аж скулы сводит, когда расслабиться не могу. И в прямом и физиологическом смыслах.Дня три подряд - одни понты дешёвые, разочарование с последующим вздутием. Хожу злой, как собака. Окружающих жалко. Ни за что, по большому счёту, страдают. Сегодня с утра встал и пошёл, как обычно, номер отбывать. Без особой надежды на успех. Сижу. Пыль в глаза непонятно кому пускаю. И тут неожиданное озарение. До дрожи по телу с победными гортанными звуками. На глазах в потолок с надеждой устремлённых, слёзы радости. Был бы я мастером слова, описал бы обязательно всю гамму положительных эмоций на моём лице. Но я ж не Салтыков-Шедрин какой. Мне до него, как до Парижа пешком. Поэтому выйду из щекотливой ситуации штампом литературных недорослей - На лице радость неописуемая! А тут ещё встал и плоды дел своих на фоне ярко-белой керамики исключительными по красоте форм и консистенции показались. Как, всё-таки, хорошо жить! Принимая впоследствии душ, пел что-то такое бодрое и жизнеутверждающее.
По-моему вот это
Мы — кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!
Мы светлый путь куем народу,
Полезный труд для всех куем...
И за желанную свободу
Мы все страдали и умрем, умрем, умрем.
Мы — кузнецы, Отчизне милой,
Мы только лучшего хотим.
И мы недаром тратим силы,
Недаром молотом стучим, стучим, стучим!
И после каждого удара
Редеет мгла, слабеет гнет,
И по полям родным и ярам
Народ измученный встает, встает, встает.
Причём, в полном соответствии с настроем, в месте где "мы все страдали и умрём, умрём, умрём" преобладала интонация недоверия и как бы невинной шутки, а вот концовку "встаёт, встаёт, встаёт" пел намеренно громко, исключительно чётко, подчёркивая согласные, словно ставя жизнеутверждающее многоточие.Вышел на улицу бодр и свеж, вприпрыжку, несмотря на очевидную даже невооружённому глазу, хромоту. Опять напевал себе под нос что-то весёленькое. Пересекаясь курсами с прехорошенькими и просто дамочками, продолжая весело напевать, демонстративно отворачивался, а потом резко впивался взором в наполненные явным интересом женские прекрасные и просто глаза. Дамочки тут же стеснительно тупили свой взор. И столько в этом туплении было многозначительности! Меня так и порывало рассказать прекрасным незнакомкам о причине своего противоестественного задора.
В который раз поражаюсь, насколько у меня невероятно тонкая душевная организация и необычайно развитое чувство прекрасного!
Метки: личное
Максим Теньгушев,
13-11-2014 19:57
(ссылка)
ПОСЛАНИЕ ИЗ ЭГРЕГОРА 3
Руководствуясь чувством долга перед предками, отправляю в электронное пространство очередную порцию воспоминаний моего прадеда Сергея Кузьмича Теньгушева. Надеюсь, он оценит мои старания и где-нибудь там наверху, удобно усевшись в кругу других почивших родственников, вспомнит былое и пустит скупую мужскую ностальгическую слезу.
Начало:
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...

Крестьяне в тех местах жили очень бедно: жилища - крестьянские избы были небольшими, обычно одна комната, выполняющая одновременно роль кухни. Одну четвёртую часть комнаты занимала русская печь, топившаяся по-чёрному, то есть дымовая труба отсутствовала вовсе и дым из трубы выходил внутрь избы, стелясь по потолку и сползая по стене к приоткрытой двери, а дальше на волю. Ребятишки, старики и старухи зимой жили прямо на печи. Потолки были настолько высокими, что позволяли взрослым ходить по палатям в полный рост, не задевая головой потолка. Палати занимали до 4-х квадратных метров. На краю печи имелась так называемая задарга, то есть деревянный брусок, толщиной не менее 10 см, который задерживал находившиеся на печи предметы и не давал им упасть на играющих внизу ребятишек. Топились избы больше обмолотками, снопами ржаной соломы, заработанной у помещиков. Потолок и стены были чёрными от копоти, но, как ни странно, не особенно пачкали находившихся в избе людей. Освещались избы лучиной. Женщины при свете лучины пряли, ткали и вязали, мужчины плели лапти, а кустари – ремесленники занимались своим ремеслом, выполняя самые разнообразные заказы купцов-заказчиков. Основным видом питания для крестьян являлся ржаной хлеб и то не всегда ели его досыта. Хлеб пекли из ржаной муки, предварительно просеивая её через решето. Из той же ржаной муки, но просеянной более тщательно через сито, пекли хлеб к праздникам или каким-нибудь торжествам. Такой вот хлеб уже считался лакомством. Про пшеничную муку крестьяне толком не слыхивали и даже не знали, как из неё печь хлеб. Из ржаной муки можно было приготовить несколько привычных крестьянских блюд. Одним из наиболее распространённых блюд была тюря – покрошенный в чашку с квасом довольно крупными ломтями ржаной хлеб.

Для детишек хлеб крошили помельче и называли покрошенные кусочки тюреньчиками.
Итак мой отец начал жить у тёщи, занимаясь сельским хозяйством и кормя семью из 5 человек. Содержать такое количество людей было крайне сложно, практически невозможно, поэтому тёща довольно быстро выдала замуж задержавшихся в девках двух дочерей: одну – в село Комешкарь, другую – в посёлок Лопатино, являющийся Родиной отца. Поскольку год выдался тяжёлым из-за неурожая, тёща вынуждена было продать и корову и лошадь. В итоге хозяйства как такового не стало и мои родители пошли работать на барский двор, отец – дворником, а мать – стряпухой, печь хлеб и готовить нехитрую пищу для других крестьян, работавших на барина. Жили родители в дворовой избе вместе с другими рабочими. Жалование получали по 2,5 рубля на человека за работу от зари до зари. От зари до зари – именно такая была мера времени, поскольку крестьяне часов тогда не знали и естественно не имели. Материалы для одежды и обуви рабочих предоставлял их хозяин помещик. В частности хозяева давали возможность в принадлежащих им лесах надрать лыка для лаптей. То есть материал был хозяйский, а "обувное производство" собственное. Никакой другой обуви, помимо лаптей, тогда крестьянство не знало. Некоторые в дождливую погоду привязывали к лаптям деревянные колодки П-образной формы, но большая часть обходилась без них. Лапти ковыряли в три-четыре слоя, так, чтобы они пропускали как можно меньше влаги, но как бы ни хороши были лапти, ноги к вечеру всё равно становились мокрыми. Нужно сказать, что народ в то время был крепкий и простуде в большинстве своём не поддавался. Если крестьянин всё-таки имел неосторожность заболеть, то его заболеванию, несмотря на различные у разных людей проявления и симптомы, ставился единственный и не терпящий научных возражений диагноз - «Лихорадка».

То есть, болели крестьяне исключительно лихорадкой. Это была такая специфическая крестьянская болезнь, имевшая аж 12 разновидностей.
Если выступала на теле человека сыпь, то это называлось крапивной лихорадкой, болит голова – головная, человек простудился и начало его трясти – трясучая, начинает чахнуть и сохнуть – сухотная, человек опять же чахнет, кашляет и тяжело дышит – скрипучая, появились на теле чирии и болячки – болячковая, человек мучается поносом несколько дней – прогонная.
Врачей в сёлах и деревнях практически не было, а ехать в город крестьянам было не на что. Без денег в городе не лечили и выживали в те времена крестьяне самые сильные и крепкие. Те, кто послабее, мерли, как мухи и их кроме близких родственников никто особо не жалел. Простых людей в те времена было много, работы мало, соответственно цена на людей была дешёвая. В то же время господам-помещикам жилось весьма недурственно и до крестьян им заботы никакой не было: «один умрёт, а родятся двое». Болеть на барском дворе не разрешали и заболевший крестьянин вынужден был отлёживаться у себя в деревне. Время болезни, конечно, никто не оплачивал, человек в этот период должен был лечиться и питаться за собственный счёт. Если не было хоть каких-то денег, отложенных на чёрный день и родственников, способных помочь, хоть помирай.
Когда у моих отца с матерью на барском дворе родился первенец, мать с младенцем на руках сразу оказалась помещикам не нужна и вынуждена была вернуться в свою деревню - к матери. Первенец вскоре умер, после чего начался настоящий крестьянский конвейер с участием моих драгоценных родителей по воспроизводству себе подобных.

Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зрелости и старости. Мать после смерти первенца вернулась к отцу на барский двор, что вскоре вновь отразилось на размерах её живота. Не прошло и года, как мать разродилась очередным потомком, который тоже не стал напрягаться и цепляться за жизнь. Мама на протяжении многих лет курсировала по одному и тому же маршруту: барский двор – производитель крестьян с лицом моего бати - ребёнок, а то и двойня или даже тройня – поездка к маме в деревню – деревенское кладбище – барский двор – производитель крестьян с лицом моего бати и далее по кругу. Справедливости ради нужно отметить, что попадались редкие индивиды, миновавшие этап кладбища. Таким индивидом оказался как раз я. Мой чётвёртый «помёт» оказался на редкость живучим, не чета трём предшествующим «помётам», когда дети рождались как поодиночке, так и парами, но заканчивали все в одном месте, так и не успев понять, кто они такие есть и зачем появились на белый свет. Скорее всего, все мои многочисленные скончавшиеся во младенчестве братья и сёстры оказались не в восторге от увиденного и предпочли сразу «сделать ручкой».
Мама, понянчив меня какое-то время, вновь отправилась к отцу запускать конвейер, а я остался с бабушкой. Судя по очередному пополнению нашей семьи двойней, конвейер вновь заработал без сбоев. Брат и сестрёнка оказались лишь временными попутчиками и вскоре отправились на погост. За ними последовали две сестрёнки-двойняшки. Об умерших детках не шибко горевали, поскольку знали наверняка – ещё будут. И, скорее всего, много. Так и было: мама аккуратно раз в год приносила в подоле детишек. Один из принесённых в подоле «подарков» оказался чуть менее нахальным, чем я и умудрился прожить с нами аж 3 года. Звали его Василием. Потом в 1896-м году родилась девочка. Помню, как её крестили на барском дворе и нарекли Марией. Крёстной была молодая барыня, а крёстным - управляющий Пантелей Фёдорович Яговитов. Несмотря на это, через полтора-два месяца малолетняя крестница ими была отправлена в деревню к бабушке. Мария так увлеклась процессом жизни, что живёт и по сей день. Сейчас она Мария Ивановна Чёрная. Отец говорил мне, что мама за время своего замужества по 1898 год родила 14 детей, в том числе 4 раза рожала двойню, но жить остались только я и моя сестра Мария.
Вот так на 5 рублей, зарабатываемых на барском дворе родителями, потом после повышения зарплаты на 6 рублей жила наша перманентно пополняющаяся и сокращающаяся семья. Как бы там ни было, но 5-7 открывающихся ртов всегда имелись в наличии, несмотря на чрезвычайно высокую смертность молодого поколения. На барском дворе родители, признаться, питались довольно сносно, но ведь всем членам семьи какую-никакую, а одежёнку и бельё нужно иметь. Пускай даже самые простенькие. И то верно – бельё крестьяне в те времена носили исключительно самотканое из москани и даже льна. Такое белье получалось очень крепким. К примеру, рубаху носили 3-5 лет, имея, как правило, лишь одну смену, в исключительных случаях 2 или 3. Немало было и таких мужиков, которые имели единственную рубаху. Если рубаха уж совсем загрязнится, снимет её мужик, кинет в корчагу, залитую водой, накинет зипун на голое тело, после чего бабы засыпали в корчагу с водой пару горстей золы, ставили корчагу кипятиться в печь, после кипячения рубаха доставалась из корчаги , прополаскивалась, сохла и была готова для носки ещё полтора-два месяца. И никакого мыла или порошка при этом! Конечно, некоторые девушки в тихую от родителей покупали кусочек мыла, так называемое духовое, но использовали его исключительно для собственной помывки перед важными встречами, праздниками и торжествами. Расходовали мыло они крайне экономно с расчётом на год-два. Справедливости ради, нужно сказать, что девушки и без мыла были милы, белы и румяны, носили длинные косы были крепкого телосложения и обладали недюжинной силой, мало в чём уступая мужчинам, не то, что в нынешние времена. Зеркал почти не имели и смотрели на себя через воду, либо просто просили подружку рассказать о состоянии своей внешности.
Бабушка по праздничным дням водила меня и сестру в церковь в посёлок Лопатино. В те времена весь народ был верующим и в церковь приходило очень много народа, включая и господ со своими детьми и челядью.
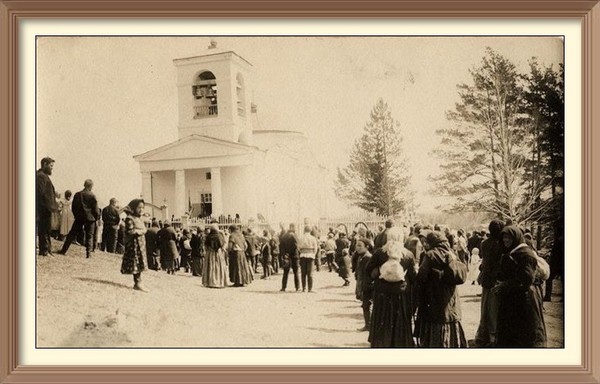
Так вот, пока господа молились, мы с бабушкой становились на паперти при выходе из церкви в очередь крестьян, просящих милостыню. Нищие составляли, наверное, четвёртую часть от всех молящихся в церкви. И вот стоишь, бывало, с протянутой рукой и гнусишь: «Пода-а-а-йте, Христа ради!». Выходившие из церкви подавали маленькие кусочки пирогов с кашей, горохом, зелёным луком, калиной, испечённых, конечно же, из ржаной муки. Однако, случалось, когда кто-то из помещиков или их челяди подавал то кусочек сахара, то кусочек кренделя из белой пшеничной муки. Такую милостыню мы с Машей поедали очень, очень бережно и по самой малости, лишь бы ощутить и подольше посмаковать вкус сахара или кренделя, неведомый нам в повседневной жизни. Сахар, конечно, не пили с чаем, а ели в прикуску. Точнее, лизали. Берешь такой кусочек, лизнёшь разок-два, завёртываешь обратно в тряпочку и прячешь назад в карман. Иногда вздумаешь угостить свою сестрёнку Маню своим паем сахара и говоришь: «Язык не сильно высовывай и больно не прижимай его к сахару, а то много слижешь». Во избежание такого развития событий страхуешься - подносишь кусок сахара своей рукой к её рту, а сам контролируешь уровень высовывания языка, чтоб в случае чего немедленно эту благотворительность, грозящую собственным разорением, свернуть. Бывало, расщедришься и дашь лизнуть сахар сестре несколько раз. Сестра в эти удивительные минуты от удовольствия долго тёрла себе губы, продлевая как бы момент наивысшего наслаждения. Случалось и так, что отец по какой-то надобности ездил в ближайшие большие сёла и даже в город Кузнецк, откуда привозил нам с базара гостинцы – по одному, а то и по 2 кренделя. Вот в таких случаях у нас с сестрой была громадная радость. Существовал целый ритуал поедания таких вот супер-гостинцев. Сначала примерно раза 3 в день брали крендель и понемногу мизерными крошками отгрызали горбушку. Затем завёртывали крендель в тряпочку и клали перед сном под подушку, чтобы и во сне ощущать близость чего-то такого сладкого и хорошего. Бывало, лежишь на топчане или печи с блаженной улыбкой и думаешь о лежащей под подушкой вкусности. Нужно сказать, что подушки у крестьян сильно отличались от барских. Набиты крестьянские подушки были не пухом, не пером, а мочалом. Про существование пуховых подушек и перин народ знал преимущественно по рассказам сенных девушек, работавших у господ помещиков и занимавшихся подготовкой господ ко сну.
Лакомился одним кренделем я 7-10 дней, не меньше, стремясь как можно дольше продлить приятные ощущения. Чай с сахаром в деревнях практически не пили. В среднем на 20-30 дворов имелся один самовар. У большинства же имелись глиняные чайники, в которых вместо чая заваривали различные травы и ягоды, а вместо сахара использовали осолодковый корень, завозимый в деревню торгашами. Едет такой торгаш по деревне и кричит: «Кому чего, подходи! Затратьте – получите, что душе угодно: веретено, гребень, бусы, горшки »
Несколько слов о том, как в тех местах была заселена территория. Сёла и деревни были большими, при этом самое малое село состояло минимум из 100 дворов, а были сёла на 500 и больше дворов. Вдоль реки Кадада – притока реки Суры стояли селения, практически примыкавшие одно к другому на расстоянии не более версты. Или селения разделяли усадьбы помещиков, которых в тех местах было довольно много. Другая сторона реки была лесная с небольшими пролесками, на которых также располагались усадьбы помещиков. Лес простирался на много верст и тоже принадлежал помещикам. У крестьян же не было в собственности и чахлого куста. Летом, когда начинало вечереть, народ выкапывал картофель и нёс его на берег реки, разводил множественные костры и начинал принесённый картофель кто варить, а кто печь в золе. Ничего нет на свете вкуснее этого картофеля! Обжигались и ели, будто боялись, что отнимут. Утолив голод, девушки и те, кто не на работах, парни и даже молодые женщины, а иногда не отставали старики со старухами, садились на крутой берег реки и заводили песни, да ещё какие – саратовские и пензенские! Народ в тех местах славился своей голосистостью. Так вот, начинали петь в Ведняпино (это в 2-х верстах от нашей деревни), потом подхватывали песню жители посёлка Лопатино, а тут не отстаёт и наша деревня и другие посёлки. В вечернее тихое время невозможно было не заслушаться этим прибрежным пением. Репертуар был самым разнообразным: то певцы искренне оплакивают свою нелёгкую судьбу, а то ударят весёлую плясовую, да так, что не возможно было усидеть даже старикам со старухами, которые в меру своих возможностей вспоминали молодость, выделывая разнообразные коленца. Те, кто уже в силу немощи не мог плясать, выделывал коленца сидя, перебирая своими измождёнными руками и ногами. Прибрежные песнопения происходили в порядке соревнования: кто кого перепоёт. Бывало, что песенные состязания между сёлами затягивались до первых петухов. Вот такие развлечения были в те далёкие времена. Крестьяне не имели понятия ни о театре, ни о кино, не говоря уж о радио и телевидении. Да и не до развлечений особо было. Главная забота, как бы прокормить себя и семью. Сёла и деревни в тех местах были застроены густо, дома стояли один к одному, крыши всех домов были покрыты соломой и постоянно существовала высокая опасность пожара, который таки случился в нашей деревне. Бабушка в тот день отвела меня с сестрой полоть в поле посевы и пока мы находились в поле, загорелся именно тот порядок, в котором находилась и наша изба. Когда бабушка с поля увидела, что горит наша деревня, подхватила нас с сестрёнкой и наказала мне вести едва начавшую ходить сестру в деревню, а сама побежала вперёд. И я вот помню, словно это было вчера, как мы с Маней подошли к нашему порядку. Огнём уже было охвачено до 10 изб, в том числе и наша. Повсюду метался испуганный народ, пытающийся спасти домашнюю утварь, то, что ещё не было охвачено огнём. Крыша нашей избы уже горела, как факел, но сам дом огонь ещё не охватил. Какие-то чужие люди выкидывали из окон наш нехитрый скарб, но удалось спасти не всё. На пожар сбежалось множество народа из нашей деревни, из Лопатино и из барского двора. Притащили пожарную машину из Лопатино. Начали тушить пожар. Мужчины стали разбирать и растаскивать баграми горящие брёвна, а женщины тем временем таскали вёдра с водой и заливали огонь. Прибежали с барского двора и мои отец с матерью. Наша изба была сложена из толстых сосновых брёвен, а матка, косяки и двери были дубовые. Наша изба обгорела лишь частично и после пожара на этом же месте стали ставить избу из обгоревшего леса. Строить в те времена было заведено помочами, то есть просили соседей и своих родных прийти на помочи. Те приходили, кто мог и строили. Так делало большинство крестьян, у которых не на что было нанять строителей. По окончании работы всех помочан нужно было угостить. В зависимости от числа работавших покупали вина ведро-полтора. В те времена вино продавали на розлив, вёдрами, четвертями и бутылками. Ведро вина стоило 1 рубль 20 копеек. Конечно, готовилось для помочей и кое-какое угощение в виде ржаной лапши, варёной с солёным мясом, называемым солонина, так как в те времена свежего мяса не продавали, а лавочники откуда то привозили в кадках солёное мясо, именовавшееся солониной. На закуску подавалась квашенная капуста и картошка. Короче говоря, у кого, что было, тем и угощали. И вот таким образом наши помочи за два-три дня построили нам новую избу. Новая изба вышла поменьше предыдущей: в прежней было 4 окна, а в новой только 2. Печь сложили из старого кирпича.. Долго нам в восстановленной после пожара избе жить не пришлось. Жизнь становилось всё тяжелее и в какой-то момент по деревне пошёл гулять слух о переселении в Сибирь на новые, ещё не обжитые места, где земли дают по 15 десятин на душу. Охотников ехать оказалось много, чуть ли не вся деревня, но всех сковывал страх. Слово «Сибирь» было тогда в народе «пугалом». Говорили, что живут там одни каторжане, злой-презлой народ.
Средь бела дня зарежут и пикнуть не успеешь. Мало каторжан, так ещё в степях обтают дикие киргизы, по-русски не разговаривают, пешком ходить плохо умеют, все мужики, бабы, большие и малые дети ездят верхом на лошадях злые-презлые и все с длинными палками, а на концах верёвочные петли.
Чуть что ловят русских людей на эти петли и потом с пойманным на петлю человеком скачут что есть духу на лошади. А как задавит ни в чём не повинного русского человека своей удавкой, остановится, снимет удавку, отрежет нос и ускачет в степь.
Начало:
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...

Крестьяне в тех местах жили очень бедно: жилища - крестьянские избы были небольшими, обычно одна комната, выполняющая одновременно роль кухни. Одну четвёртую часть комнаты занимала русская печь, топившаяся по-чёрному, то есть дымовая труба отсутствовала вовсе и дым из трубы выходил внутрь избы, стелясь по потолку и сползая по стене к приоткрытой двери, а дальше на волю. Ребятишки, старики и старухи зимой жили прямо на печи. Потолки были настолько высокими, что позволяли взрослым ходить по палатям в полный рост, не задевая головой потолка. Палати занимали до 4-х квадратных метров. На краю печи имелась так называемая задарга, то есть деревянный брусок, толщиной не менее 10 см, который задерживал находившиеся на печи предметы и не давал им упасть на играющих внизу ребятишек. Топились избы больше обмолотками, снопами ржаной соломы, заработанной у помещиков. Потолок и стены были чёрными от копоти, но, как ни странно, не особенно пачкали находившихся в избе людей. Освещались избы лучиной. Женщины при свете лучины пряли, ткали и вязали, мужчины плели лапти, а кустари – ремесленники занимались своим ремеслом, выполняя самые разнообразные заказы купцов-заказчиков. Основным видом питания для крестьян являлся ржаной хлеб и то не всегда ели его досыта. Хлеб пекли из ржаной муки, предварительно просеивая её через решето. Из той же ржаной муки, но просеянной более тщательно через сито, пекли хлеб к праздникам или каким-нибудь торжествам. Такой вот хлеб уже считался лакомством. Про пшеничную муку крестьяне толком не слыхивали и даже не знали, как из неё печь хлеб. Из ржаной муки можно было приготовить несколько привычных крестьянских блюд. Одним из наиболее распространённых блюд была тюря – покрошенный в чашку с квасом довольно крупными ломтями ржаной хлеб.

Для детишек хлеб крошили помельче и называли покрошенные кусочки тюреньчиками.
Итак мой отец начал жить у тёщи, занимаясь сельским хозяйством и кормя семью из 5 человек. Содержать такое количество людей было крайне сложно, практически невозможно, поэтому тёща довольно быстро выдала замуж задержавшихся в девках двух дочерей: одну – в село Комешкарь, другую – в посёлок Лопатино, являющийся Родиной отца. Поскольку год выдался тяжёлым из-за неурожая, тёща вынуждена было продать и корову и лошадь. В итоге хозяйства как такового не стало и мои родители пошли работать на барский двор, отец – дворником, а мать – стряпухой, печь хлеб и готовить нехитрую пищу для других крестьян, работавших на барина. Жили родители в дворовой избе вместе с другими рабочими. Жалование получали по 2,5 рубля на человека за работу от зари до зари. От зари до зари – именно такая была мера времени, поскольку крестьяне часов тогда не знали и естественно не имели. Материалы для одежды и обуви рабочих предоставлял их хозяин помещик. В частности хозяева давали возможность в принадлежащих им лесах надрать лыка для лаптей. То есть материал был хозяйский, а "обувное производство" собственное. Никакой другой обуви, помимо лаптей, тогда крестьянство не знало. Некоторые в дождливую погоду привязывали к лаптям деревянные колодки П-образной формы, но большая часть обходилась без них. Лапти ковыряли в три-четыре слоя, так, чтобы они пропускали как можно меньше влаги, но как бы ни хороши были лапти, ноги к вечеру всё равно становились мокрыми. Нужно сказать, что народ в то время был крепкий и простуде в большинстве своём не поддавался. Если крестьянин всё-таки имел неосторожность заболеть, то его заболеванию, несмотря на различные у разных людей проявления и симптомы, ставился единственный и не терпящий научных возражений диагноз - «Лихорадка».

То есть, болели крестьяне исключительно лихорадкой. Это была такая специфическая крестьянская болезнь, имевшая аж 12 разновидностей.
Если выступала на теле человека сыпь, то это называлось крапивной лихорадкой, болит голова – головная, человек простудился и начало его трясти – трясучая, начинает чахнуть и сохнуть – сухотная, человек опять же чахнет, кашляет и тяжело дышит – скрипучая, появились на теле чирии и болячки – болячковая, человек мучается поносом несколько дней – прогонная.
Врачей в сёлах и деревнях практически не было, а ехать в город крестьянам было не на что. Без денег в городе не лечили и выживали в те времена крестьяне самые сильные и крепкие. Те, кто послабее, мерли, как мухи и их кроме близких родственников никто особо не жалел. Простых людей в те времена было много, работы мало, соответственно цена на людей была дешёвая. В то же время господам-помещикам жилось весьма недурственно и до крестьян им заботы никакой не было: «один умрёт, а родятся двое». Болеть на барском дворе не разрешали и заболевший крестьянин вынужден был отлёживаться у себя в деревне. Время болезни, конечно, никто не оплачивал, человек в этот период должен был лечиться и питаться за собственный счёт. Если не было хоть каких-то денег, отложенных на чёрный день и родственников, способных помочь, хоть помирай.
Когда у моих отца с матерью на барском дворе родился первенец, мать с младенцем на руках сразу оказалась помещикам не нужна и вынуждена была вернуться в свою деревню - к матери. Первенец вскоре умер, после чего начался настоящий крестьянский конвейер с участием моих драгоценных родителей по воспроизводству себе подобных.

Этот безжалостный конвейер чем-то напоминал воспроизводство в животном мире каких-нибудь черепашек: из сотен родившихся, только единицы добирались до обычных ступеней детства, отрочества, юности, зрелости и старости. Мать после смерти первенца вернулась к отцу на барский двор, что вскоре вновь отразилось на размерах её живота. Не прошло и года, как мать разродилась очередным потомком, который тоже не стал напрягаться и цепляться за жизнь. Мама на протяжении многих лет курсировала по одному и тому же маршруту: барский двор – производитель крестьян с лицом моего бати - ребёнок, а то и двойня или даже тройня – поездка к маме в деревню – деревенское кладбище – барский двор – производитель крестьян с лицом моего бати и далее по кругу. Справедливости ради нужно отметить, что попадались редкие индивиды, миновавшие этап кладбища. Таким индивидом оказался как раз я. Мой чётвёртый «помёт» оказался на редкость живучим, не чета трём предшествующим «помётам», когда дети рождались как поодиночке, так и парами, но заканчивали все в одном месте, так и не успев понять, кто они такие есть и зачем появились на белый свет. Скорее всего, все мои многочисленные скончавшиеся во младенчестве братья и сёстры оказались не в восторге от увиденного и предпочли сразу «сделать ручкой».
Мама, понянчив меня какое-то время, вновь отправилась к отцу запускать конвейер, а я остался с бабушкой. Судя по очередному пополнению нашей семьи двойней, конвейер вновь заработал без сбоев. Брат и сестрёнка оказались лишь временными попутчиками и вскоре отправились на погост. За ними последовали две сестрёнки-двойняшки. Об умерших детках не шибко горевали, поскольку знали наверняка – ещё будут. И, скорее всего, много. Так и было: мама аккуратно раз в год приносила в подоле детишек. Один из принесённых в подоле «подарков» оказался чуть менее нахальным, чем я и умудрился прожить с нами аж 3 года. Звали его Василием. Потом в 1896-м году родилась девочка. Помню, как её крестили на барском дворе и нарекли Марией. Крёстной была молодая барыня, а крёстным - управляющий Пантелей Фёдорович Яговитов. Несмотря на это, через полтора-два месяца малолетняя крестница ими была отправлена в деревню к бабушке. Мария так увлеклась процессом жизни, что живёт и по сей день. Сейчас она Мария Ивановна Чёрная. Отец говорил мне, что мама за время своего замужества по 1898 год родила 14 детей, в том числе 4 раза рожала двойню, но жить остались только я и моя сестра Мария.
Вот так на 5 рублей, зарабатываемых на барском дворе родителями, потом после повышения зарплаты на 6 рублей жила наша перманентно пополняющаяся и сокращающаяся семья. Как бы там ни было, но 5-7 открывающихся ртов всегда имелись в наличии, несмотря на чрезвычайно высокую смертность молодого поколения. На барском дворе родители, признаться, питались довольно сносно, но ведь всем членам семьи какую-никакую, а одежёнку и бельё нужно иметь. Пускай даже самые простенькие. И то верно – бельё крестьяне в те времена носили исключительно самотканое из москани и даже льна. Такое белье получалось очень крепким. К примеру, рубаху носили 3-5 лет, имея, как правило, лишь одну смену, в исключительных случаях 2 или 3. Немало было и таких мужиков, которые имели единственную рубаху. Если рубаха уж совсем загрязнится, снимет её мужик, кинет в корчагу, залитую водой, накинет зипун на голое тело, после чего бабы засыпали в корчагу с водой пару горстей золы, ставили корчагу кипятиться в печь, после кипячения рубаха доставалась из корчаги , прополаскивалась, сохла и была готова для носки ещё полтора-два месяца. И никакого мыла или порошка при этом! Конечно, некоторые девушки в тихую от родителей покупали кусочек мыла, так называемое духовое, но использовали его исключительно для собственной помывки перед важными встречами, праздниками и торжествами. Расходовали мыло они крайне экономно с расчётом на год-два. Справедливости ради, нужно сказать, что девушки и без мыла были милы, белы и румяны, носили длинные косы были крепкого телосложения и обладали недюжинной силой, мало в чём уступая мужчинам, не то, что в нынешние времена. Зеркал почти не имели и смотрели на себя через воду, либо просто просили подружку рассказать о состоянии своей внешности.
Бабушка по праздничным дням водила меня и сестру в церковь в посёлок Лопатино. В те времена весь народ был верующим и в церковь приходило очень много народа, включая и господ со своими детьми и челядью.
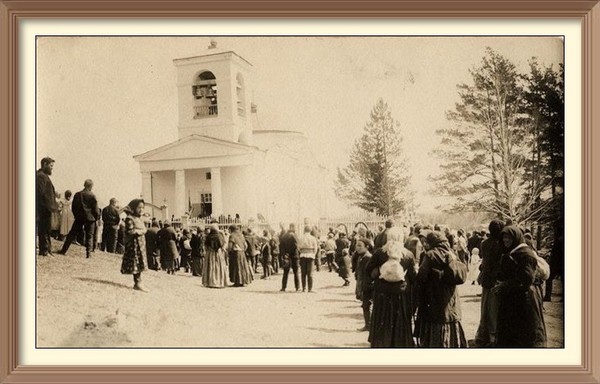
Так вот, пока господа молились, мы с бабушкой становились на паперти при выходе из церкви в очередь крестьян, просящих милостыню. Нищие составляли, наверное, четвёртую часть от всех молящихся в церкви. И вот стоишь, бывало, с протянутой рукой и гнусишь: «Пода-а-а-йте, Христа ради!». Выходившие из церкви подавали маленькие кусочки пирогов с кашей, горохом, зелёным луком, калиной, испечённых, конечно же, из ржаной муки. Однако, случалось, когда кто-то из помещиков или их челяди подавал то кусочек сахара, то кусочек кренделя из белой пшеничной муки. Такую милостыню мы с Машей поедали очень, очень бережно и по самой малости, лишь бы ощутить и подольше посмаковать вкус сахара или кренделя, неведомый нам в повседневной жизни. Сахар, конечно, не пили с чаем, а ели в прикуску. Точнее, лизали. Берешь такой кусочек, лизнёшь разок-два, завёртываешь обратно в тряпочку и прячешь назад в карман. Иногда вздумаешь угостить свою сестрёнку Маню своим паем сахара и говоришь: «Язык не сильно высовывай и больно не прижимай его к сахару, а то много слижешь». Во избежание такого развития событий страхуешься - подносишь кусок сахара своей рукой к её рту, а сам контролируешь уровень высовывания языка, чтоб в случае чего немедленно эту благотворительность, грозящую собственным разорением, свернуть. Бывало, расщедришься и дашь лизнуть сахар сестре несколько раз. Сестра в эти удивительные минуты от удовольствия долго тёрла себе губы, продлевая как бы момент наивысшего наслаждения. Случалось и так, что отец по какой-то надобности ездил в ближайшие большие сёла и даже в город Кузнецк, откуда привозил нам с базара гостинцы – по одному, а то и по 2 кренделя. Вот в таких случаях у нас с сестрой была громадная радость. Существовал целый ритуал поедания таких вот супер-гостинцев. Сначала примерно раза 3 в день брали крендель и понемногу мизерными крошками отгрызали горбушку. Затем завёртывали крендель в тряпочку и клали перед сном под подушку, чтобы и во сне ощущать близость чего-то такого сладкого и хорошего. Бывало, лежишь на топчане или печи с блаженной улыбкой и думаешь о лежащей под подушкой вкусности. Нужно сказать, что подушки у крестьян сильно отличались от барских. Набиты крестьянские подушки были не пухом, не пером, а мочалом. Про существование пуховых подушек и перин народ знал преимущественно по рассказам сенных девушек, работавших у господ помещиков и занимавшихся подготовкой господ ко сну.
Лакомился одним кренделем я 7-10 дней, не меньше, стремясь как можно дольше продлить приятные ощущения. Чай с сахаром в деревнях практически не пили. В среднем на 20-30 дворов имелся один самовар. У большинства же имелись глиняные чайники, в которых вместо чая заваривали различные травы и ягоды, а вместо сахара использовали осолодковый корень, завозимый в деревню торгашами. Едет такой торгаш по деревне и кричит: «Кому чего, подходи! Затратьте – получите, что душе угодно: веретено, гребень, бусы, горшки »
Несколько слов о том, как в тех местах была заселена территория. Сёла и деревни были большими, при этом самое малое село состояло минимум из 100 дворов, а были сёла на 500 и больше дворов. Вдоль реки Кадада – притока реки Суры стояли селения, практически примыкавшие одно к другому на расстоянии не более версты. Или селения разделяли усадьбы помещиков, которых в тех местах было довольно много. Другая сторона реки была лесная с небольшими пролесками, на которых также располагались усадьбы помещиков. Лес простирался на много верст и тоже принадлежал помещикам. У крестьян же не было в собственности и чахлого куста. Летом, когда начинало вечереть, народ выкапывал картофель и нёс его на берег реки, разводил множественные костры и начинал принесённый картофель кто варить, а кто печь в золе. Ничего нет на свете вкуснее этого картофеля! Обжигались и ели, будто боялись, что отнимут. Утолив голод, девушки и те, кто не на работах, парни и даже молодые женщины, а иногда не отставали старики со старухами, садились на крутой берег реки и заводили песни, да ещё какие – саратовские и пензенские! Народ в тех местах славился своей голосистостью. Так вот, начинали петь в Ведняпино (это в 2-х верстах от нашей деревни), потом подхватывали песню жители посёлка Лопатино, а тут не отстаёт и наша деревня и другие посёлки. В вечернее тихое время невозможно было не заслушаться этим прибрежным пением. Репертуар был самым разнообразным: то певцы искренне оплакивают свою нелёгкую судьбу, а то ударят весёлую плясовую, да так, что не возможно было усидеть даже старикам со старухами, которые в меру своих возможностей вспоминали молодость, выделывая разнообразные коленца. Те, кто уже в силу немощи не мог плясать, выделывал коленца сидя, перебирая своими измождёнными руками и ногами. Прибрежные песнопения происходили в порядке соревнования: кто кого перепоёт. Бывало, что песенные состязания между сёлами затягивались до первых петухов. Вот такие развлечения были в те далёкие времена. Крестьяне не имели понятия ни о театре, ни о кино, не говоря уж о радио и телевидении. Да и не до развлечений особо было. Главная забота, как бы прокормить себя и семью. Сёла и деревни в тех местах были застроены густо, дома стояли один к одному, крыши всех домов были покрыты соломой и постоянно существовала высокая опасность пожара, который таки случился в нашей деревне. Бабушка в тот день отвела меня с сестрой полоть в поле посевы и пока мы находились в поле, загорелся именно тот порядок, в котором находилась и наша изба. Когда бабушка с поля увидела, что горит наша деревня, подхватила нас с сестрёнкой и наказала мне вести едва начавшую ходить сестру в деревню, а сама побежала вперёд. И я вот помню, словно это было вчера, как мы с Маней подошли к нашему порядку. Огнём уже было охвачено до 10 изб, в том числе и наша. Повсюду метался испуганный народ, пытающийся спасти домашнюю утварь, то, что ещё не было охвачено огнём. Крыша нашей избы уже горела, как факел, но сам дом огонь ещё не охватил. Какие-то чужие люди выкидывали из окон наш нехитрый скарб, но удалось спасти не всё. На пожар сбежалось множество народа из нашей деревни, из Лопатино и из барского двора. Притащили пожарную машину из Лопатино. Начали тушить пожар. Мужчины стали разбирать и растаскивать баграми горящие брёвна, а женщины тем временем таскали вёдра с водой и заливали огонь. Прибежали с барского двора и мои отец с матерью. Наша изба была сложена из толстых сосновых брёвен, а матка, косяки и двери были дубовые. Наша изба обгорела лишь частично и после пожара на этом же месте стали ставить избу из обгоревшего леса. Строить в те времена было заведено помочами, то есть просили соседей и своих родных прийти на помочи. Те приходили, кто мог и строили. Так делало большинство крестьян, у которых не на что было нанять строителей. По окончании работы всех помочан нужно было угостить. В зависимости от числа работавших покупали вина ведро-полтора. В те времена вино продавали на розлив, вёдрами, четвертями и бутылками. Ведро вина стоило 1 рубль 20 копеек. Конечно, готовилось для помочей и кое-какое угощение в виде ржаной лапши, варёной с солёным мясом, называемым солонина, так как в те времена свежего мяса не продавали, а лавочники откуда то привозили в кадках солёное мясо, именовавшееся солониной. На закуску подавалась квашенная капуста и картошка. Короче говоря, у кого, что было, тем и угощали. И вот таким образом наши помочи за два-три дня построили нам новую избу. Новая изба вышла поменьше предыдущей: в прежней было 4 окна, а в новой только 2. Печь сложили из старого кирпича.. Долго нам в восстановленной после пожара избе жить не пришлось. Жизнь становилось всё тяжелее и в какой-то момент по деревне пошёл гулять слух о переселении в Сибирь на новые, ещё не обжитые места, где земли дают по 15 десятин на душу. Охотников ехать оказалось много, чуть ли не вся деревня, но всех сковывал страх. Слово «Сибирь» было тогда в народе «пугалом». Говорили, что живут там одни каторжане, злой-презлой народ.
Средь бела дня зарежут и пикнуть не успеешь. Мало каторжан, так ещё в степях обтают дикие киргизы, по-русски не разговаривают, пешком ходить плохо умеют, все мужики, бабы, большие и малые дети ездят верхом на лошадях злые-презлые и все с длинными палками, а на концах верёвочные петли.
Чуть что ловят русских людей на эти петли и потом с пойманным на петлю человеком скачут что есть духу на лошади. А как задавит ни в чём не повинного русского человека своей удавкой, остановится, снимет удавку, отрежет нос и ускачет в степь.
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
30-11-2014 12:37
(ссылка)
ГОЛУБЬ МИРА
Продолжение. Начало: http://my.mail.ru/community...
Обедаю в носно-перегородошном отделении мед. сан. части № 4 славного города Омска. В ухо-горло-носном. В столовой. Как белый человек.

На первое – суп гречневый. На второе – каша пшённая. Ну, и хлеб, соответственно, пшеничный. Когда наполнял кружку из чайника с инвентарным номером, вааще жесткача ждал – брикеты с киселём или даже с какой-нибудь кашей каак начнут из горлышка вываливаться! Оказался кисель. В жидком виде. Розоватенький. Впечатление смазано. Уж лучше в брикетах. Сухую пищу, такие, как я,суровые сибирские парни привыкли киселём и кашей в брикетах зализывать. Наряду с присущей мне жёсткостью, в наличии и благоговение. Да Вы ж мои сладкие! Это ж надо в рождественский пост так о нас, православных, заботиться! А я, дурак, переживал: идти - не идти. С другой стороны опять из-за мелочей глобальные мысли из меня попёрли. О геополитике. Видать, голубем Мира себя почувствовал. С соответствующим рационом питания…

Слышь, Обама – ястреб ушастый! Эту стану не победить НИ-КОГ-ДА! Ни томогавками, ни першингами…

Обедаю в носно-перегородошном отделении мед. сан. части № 4 славного города Омска. В ухо-горло-носном. В столовой. Как белый человек.

На первое – суп гречневый. На второе – каша пшённая. Ну, и хлеб, соответственно, пшеничный. Когда наполнял кружку из чайника с инвентарным номером, вааще жесткача ждал – брикеты с киселём или даже с какой-нибудь кашей каак начнут из горлышка вываливаться! Оказался кисель. В жидком виде. Розоватенький. Впечатление смазано. Уж лучше в брикетах. Сухую пищу, такие, как я,суровые сибирские парни привыкли киселём и кашей в брикетах зализывать. Наряду с присущей мне жёсткостью, в наличии и благоговение. Да Вы ж мои сладкие! Это ж надо в рождественский пост так о нас, православных, заботиться! А я, дурак, переживал: идти - не идти. С другой стороны опять из-за мелочей глобальные мысли из меня попёрли. О геополитике. Видать, голубем Мира себя почувствовал. С соответствующим рационом питания…

Слышь, Обама – ястреб ушастый! Эту стану не победить НИ-КОГ-ДА! Ни томогавками, ни першингами…

Максим Теньгушев,
11-12-2014 17:41
(ссылка)
ЭПИЧНОЕ СПАСЕНИЕ БАРСИКА
Наткнулся в очередной раз на сюжет об эпичном спасении кота Барсика в Нижнем Новгороде. На баян, так сказать. Увидел его впервые несколько месяцев назад. Посмеялся и забыл. Вроде бы... Ан нет, оказывается. Спасение Барсика где-то в подкорке застряло. И, судя по всему, не только у меня. Выяснилось, что в интернете гуляет масса кавер-версий эпичного спасения. Особо впечатлительные натуры даже песни этому событию посвящают. Не исключено, что сейчас кто-то где-то посвящает котоспасению даже танцы. Почему бы и нет? Россия испокон веков классическим балетом славилась. Там даже лебеди от перевозбуждения пляшут. Маленькие. Сегодня вот попытался сам что-нибудь эдакое по поводу героического бойца, спасённого им Барсика, разбитого окна и оборванной электролинии перед зеркалом пластично изобразить. Вышло не очень. Либретто определённо не хватает.
Максим Теньгушев,
29-11-2014 13:17
(ссылка)
МУХА

Лежу в носно-перегородошном отделении мед. сан. части № 4 славного города Омска. В ухо-горло-носном. В палате № 3 на 6 коек. Шнобель свой в порядок привожу. А то, как турецкая сабля стал. Вчера аж трое обитателей из палаты съехали. Из оставшихся трёх один-глуховат, второй- молодцеват, третий, как воды в рот набрал. Странноватая публика.
Ну, раз так, тогда и я насупился.
Странноватый тип – думают они.
Сами Вы странноватые – думаю в ответ я.
Вот так 3 часа уже лежим, молча раздумывая о всяких странностях. Вдруг откуда ни возьмись, муха громко зажужжала. Крупный, похоже, экземпляр. Где-то там под кроватями скрипучими. Всё бы ничего, да только вот на дворе минус 27. Зима. Какие, нафиг, мухи? Тем более, крупные.
Продолжает громко жужжать, из угла в угол невидимо перемещается. Свисаю голову под кровать. Кровь прилила к лицу, вид идиотский, рот приоткрыт, лицо одутловатое, чубо-затылочные волосы болтаются.
«Слышите?» – спрашиваю.
«Слышим» – отвечают свиснутые в разных местах головы.
«Муха, штоле?»
«Какие, нафиг, мухи, зима на дворе!»
«Да дрель это!» - вставляет глуховатый (и как только услышал?)
«Нее-е, не дрель. Дрель по-другому жужжит» (тут я пытаюсь подражать звукам работающей дрели и даже изобразить на своём лице работающую дрель. Без особого успеха, впрочем)
«Дрель под кроватями из угла в угол не должна самостоятельно перемещаться» - изрекаю глубокомысленно.
Для убедительности даже направляю в окрашенный белой известью потолок свой указующий перст. Как одному известному литературному персонажу хочется в завершение сказать нечто невообразимо научное с союзом «Ибо», чтоб уж совсем размазать не шибко-то разговорчивых оппонентов по стенке. Ничего сугубо научного в голову не приходит.
«Ибо… Дрель – это ж не муха» - завершаю я горячую околонаучную дискуссию.
Не знаю, можно ли расценивать последующее длительное молчание оппонентов, как:
а) Как полный разгром и осознание ими своего окончательного фиаско;
б) Как «повисшую неловкую паузу». Если у кого чего повисло, то никакой неловкости во взглядах я не заметил. Да и взглядов-то, признаться, тоже – они ж куда-то в потолок были устремлены.
в) Как «гробовое молчание». Вот тут я категорически против. Ничего гробового в этом молчании не было! Хоть режь! Да и не уместно как-то в больнице о гробах размышлять. Типун Вам на язык.
А вот интересно, как выглядит этот «типун»? Его кто-нибудь видел? Каково возможное соотношение по размерам этого самого типуна относительно его носителя – языка? Впрочем, я по обыкновению отвлёкся.
После нескольких произнесённых вслух слов, мои молчаливые оппоненты, перевернулись с бока на бок, покряхтели и замолкли ещё на несколько часов. Не исключено, что и вообще до следующего утра.
А я начал по обыкновению думать. Если всё-таки муха, то какой модификации? А вдруг цЭ-цЭ? Или мушка-дрозофилла? (до сих пор не знаю, как правильно произносится и пишется). Или муха, в конце-концов, цокотуха? И так меня эта тема разволновала, так разбередила старые раны (я не молод), что не выдержал, ноутбук достал и давай строчить фигню разную. Молодцеватый и глуховатый спят давно, а я тут мозг напрягай - формулировки всякие не пойми для чего выдумывай.
Пораззительное, всепоглащающее безделье!
Скажет кто-то. И будет абсолютно прав. А с другой стороны, кто благодарность окружающим меня замечательным людям в электронное пространство выплеснет? Кто, если не я? Вот сегодня, к примеру, с утра помыться в ванную комнату пошёл. А там смесителя для душа нету. Да Вы ж мои хорошие! Не хотят, видать, чтоб расплескал, разбрызгал водичку по полу. На скользком кафеле поскользнуться можно и башкой шандарахнуться о тупые твёрдые предметы сильно.
Закрыться решил в ванной комнате, а то неудобно как-то. А щеколды-то тю-тю. Да Вы ж мои заботливые! Правильно. В больницах обычно люди больные лежат. Неровен час, залезет в ванную такой больной во всю голову и плохо ему. С сердцем. Или с печенью. А вода-то открыта! А он ни бЕ, ни мЕ. А дверь-то изнутри закрыта на щеколду долбанную! Этажом ниже утопленники по коридору об стены прибоем стукаются. Кому ж нужны стихийные бедствия? Предотвратили, значит.
Трусы того, а сам на дверь зыркаю. Мало ли чо. Вдруг Наяда какая прекрасная? А я ещё позу соблазнительную не принял! Залез кое-как, под краном сконцентрировал по возможности тело своё великолепное. Вентиль кручу, а из воды – только горячая. Да Вы ж мои драгоценные! На улице минус 27 по Цельсию! Зима! Крестьянин, торжествуя…
Не хотят, чтоб замёрз, выходит. Берегут, получается, золотой генофонд нации…
Части тела совал под струю движениями отрывистыми и сопровождал выражениями резкими. Всё-таки, я чОткий пацан, а не мямля какая.
В итоге вернулся в палату. На всякий случай дополнительно намотал полотенце на генофонд свой и так по мне всему тепло человеческих рук растеклось! До мурашек аж! Как же я люблю в больницах болеть! Как же обожаю суровых специалистов в халатах белых! Тут ещё после принятия ванны решил чайку хлобызднуть, ни и к медсестре за кипяточком зашёл. Мол, не богата ли, сударыня, кипяточком-с? Казашка. Смотрит вопросительно. Почему-то сурово. Странно. Казашки в моих представлениях все приветливые. Бишбармак, конина, сало по бороде, благодарная отрыжка гостя, а тут ничего и близко нет. Начинаю по-ленински кривляться и кагтавить. Пальцы по воображаемой жилетке нервно снуют – весь в революционном перевозбуждении. Мол, кипяточка шибко хочется. У меня, почему-то, Вождь с кипяточком, да с революционными матросами ассоциируется. Молча встала и на рычажок нажала электрочайника, вздохнув тяжело при этом. Что в такой вздох казашки вкладывают, не знаю даже. Не специалист я по вздохам казахским. Одно понял – Я люблю тебя, Земля!
И ещё одно – что-то меня по поводам странным в последнее время торкает. Сегодня вот муха. Или перемещающаяся самостоятельно из угла в угол дрель? А в прошлый раз неудобно даже. Всё-таки я очень чудной тип….
Максим Теньгушев,
21-11-2014 20:34
(ссылка)
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ПОВОЛЖЬЯ В СИБИРЬ
Продолжение. Начало:
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Вот читаю я мемуары своего прадедушки и поражаюсь превратностям судьбы. Мало того, что угораздило прадедушку с прабабушкой не столбовыми дворянами или боярами какими родиться, а крестьянами крепостными,

так их ещё и понесло туда, хрен знает куда! Нет, чтобы предки мои ломанулись в Майами с благоприятными климатическими условиями,

ну или там в Рио Де Жанейро какой-нибудь. Ходил бы сейчас в белых штанах, любовался бы мулатками. Или в Москву на худой конец. Получал бы стопитьсот тыщ рублёв и гордился бы сейчас, что маааасквич в каком-нибудь там колене или поколении. Так нет же – к каторжанам потянуло, блин! Даже гордиться нечем. Разве что Достоевским. Каторжанином… Или декабристами. Каторжанами… Во глубине сибирских руд, Храните гордое терпенье.
Эх, дер-р-р-ревня! Впрочем, продолжаю угождать почившим пращурам…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подобные рассказы о суровом сибирском быте удержали от переселения в Сибирь довольно много крестьян, мало кто захотел отдавать свой нос злым-презлым киргизам, которые и ходить то по-человечески толком не умеют. Однако всё-таки эти страшилки не смутили 5 самых отчаянных семей, включая и семью моего отца. Будущие переселенцы начали выхлопатывать себе паспорта и документы на переселение в Сибирь, в Акмолинскую область. Стали распродавать всё, что имели, оставив себе лишь кое-какую одежёнку, обувь, да посуду, плюс соху, борону и сбрую для лошади, а также несложный сельский инвентарь: серпы, мотыги, грабли, косы и прочее.
Везти должны были переселенцев бесплатно железной дорогой, на больших станциях обещали кормить задарма обедами и хлебом. Мой отец продал всё, что было не нужно на новом месте: избу и какую-то рухлядь, получив за всё около ста рублей. Как сейчас вижу – горит в светце лучина, а отец с матерью и бабушкой сидят на полу и считают деньги, высыпав их из большого кисета. Пересчитывая их по десять раз, раскладывая по стопкам серебро, медяки, золотые монеты. Немного было и бумажных денег, которые мать постоянно разглаживала, чтоб выглядели не такими помятыми.
Наступил день проводов. У кого имелись в деревне лошадёнки, отдали их, чтобы отвезти все пожитки и самих отъезжающих. Отец выпросил на барском дворе у кума по сестрёнке Мане - управляющего пару лошадей в разнарядку и в назначенный день собрался народ со всей деревни и родственники из других деревень. Начались проводы, поднялся рёв и плач родственников с причитаниями. Наша бабушка прощалась с остающимися двумя дочерьми и внуками, понимая, что больше их никогда уже не увидит. Отъезжали мы в феврале, когда на улице стоял сильный мороз. Но, несмотря на это до станции Чаадаевка родственники и односельчане отправились провожать переселенцев пешком, а это вёрст 12-14. Получилась целая процессия, ведь было подвод штук 15, не меньше, и провожающих человек сто.
Переселенцев остающиеся просили сообщить в письмах, как те обустроились, не обижает ли их тамошний народ - каторжане и киргизы, отрезают ли русским людям носы и действительно ли в Сибири дают аж по 15 десятин земли. Придя на станцию, узнали, что сегодня поезда не будет. Пришлось ждать на платформе, сгрузив в кучу всё имущество. Лошади с провожающими поехали обратно в деревню. Перед отправлением все порядком попричитали и поплакали.
А раньше существовал такой негласный порядок, почти, как закон – без причитаний не плакали. Именно в причитаниях человек рассказывал, из-за чего он так сокрушается, по какой причине слёзы льёт.

Вот в настоящее время порядок плача стал совсем другой.

Иной раз спросишь человека, о чём тот плачет, а он в ответ скажет: «А ну тебя! И без тебя тошно» и отвернётся. Не тот уже плач стал, не тот… Не то, что в прежние времена. Э-хе-хех.
Из-за холода нас ребят, женщин и стариков разместили по домам на станции, кого, где могли, а мужчины стали по очереди караулить имущество на платформе. Для отправки переселенцев в то время ходили специальные поезда – обыкновенные товарные вагоны с установленными в них железными печами. Это и были так называемые теплушки для переселенцев.

Багаж отправлялся обычными товарняками малой скорости. Его мы сдали заранее. Подошёл из Пензы долгожданный переселенческий поезд. Нам на пять семей выделили целый вагон, в котором мы, несмотря на тесноту, разместились. Тронулся поезд часа через два и мы поехали без пересадки до Челябы, как в то время называли Челябинск. По пути довольно часто останавливались. Чем больше была станция, тем дольше стояли. В городах таких, как Сызрань, Самара и Уфа стояли по 15 часов. Во время столь длительных стоянок нас кормили бесплатными обедами и давали хлеб. До Челябы ехали дней 10, не меньше. Поездка не слишком утомила, так как большинство пассажиров ехало на поезде впервые в жизни. Раньше-то расстояния всё больше пешком преодолевали с котомкой за плечом. В теплушках под стук колёс старики со старухами иногда запевали заунывные песни, в которых говорилось о сильном душевном беспокойстве при переезде с любимой Родины в неведомый, диковатый край с недобрыми аборигенами.
Однако я и прочие дети ехали себе, ехали и особо не тужили, всё для нас было ново и весело. Мы наслаждались настоящим, совершенно не задумываясь о будущем. Плюс был ещё один существенный момент, сильно скрашивающий всем ребятишкам поездку. Отцы на станциях покупали нам белые калачи, которых мы отродясь не пробовали. Калач из белого хлеба с кипятком – это какое-то сверхъестественное празднество! Для нас - ребят везде и всюду всё было ново и весело, мы торчали по очереди в окнах и с огромным интересом рассматривали проносящиеся мимо города и веси.
Наступил день приезда. Мы прибыли в Челябу. Высадили нас из вагонов и отвели в переселенческие бараки, которые составляли целый городок. Большие деревянные, рубленные дома, где нас должны были рассортировать и направить дальше: кого поездом, а кого на подводах в кустанайские степи.
Туда ехало тоже немало людей, но наши ехали дальше до Петропавловска, откуда уже на лошадях в акмолинские степи за город Кокчетав. Багаж запоздал аж на 19 дней. Затем по прибытии багажа был сформирован поезд до Петропавловска. Часа через два паровоз тронулся на Курган и Петропавловск. Мы торчали в окнах в надежде увидеть страшных каторжан и киргизов с палками. Но пойди, пойми, кто каторжник, а кто нет – кандалы то никто не носит! И ходят все не в лаптях, а в валенках. У нас на Родине в валенках ходили только господа, купцы и лавочники, а тут почти все. Видать, богатый край – думали мы. Дней через 5-6 мы прибыли в город Петропавловск, где нас разместили уже не в рубленных домах, а в киргизских юртах. Здесь мы впервые увидели живых киргизов и живых верблюдов, которых раньше никто из нас никогда не видел. Киргизами называли всех людей азиатской расы. Ещё одной особенностью было то, что киргизы кроме лошадей, запрягали и быков. Киргизы с русскими не говорили, но были такие толмачи-переводчики из татар и самих киргизов, знающих киргизский и русский языки. И вот лишь через этих толмачей велись нужные разговоры. Дальше на Кокчетав от Петропавловска 300 верст и от Кокчетава до места ещё 130 верст, куда нам было дано место на приписку и мы должны тут ехать на лошадях или верблюдах и быках, кому как желательно и уже не бесплатно, а за свой счёт. Вот тут и задумались наши мужики и бабы – удовольствие переезда на расстояние в 430 верст с багажом весьма дорогое, а денег на всех «кот наплакал». Мои отец и мать вместе с бабушкой, когда распродавали в России имущество, подолгу втроём считали вырученные деньги, раскладывая серебро и медяки по кучкам и набрали денег около ста рублей целый кисет. На эти деньги мы должны были доехать до места, прокормиться какое-то время, купить хоть одну лошадёнку и семян на посев. О возможности заработать денег в Сибири мы ничего не знали. Устроиться на работу было не к кому, продавать уже нечего, а добираться до места как-то надо! И затягивать отъезд уже нельзя – скоро весна и к посевной нужно быть на месте, успеть прописаться и получить надел земли. Да и из переселенческих юрт нас уже торопили побыстрее убраться. И вот наши сельчане с моими родителями начали искать подводы до Кокчетава. Родители пришли к выводу, что нам будет достаточно двух подвод. И так все семьи посчитали, кому сколько нужно подвод. Прожив в юртах Петропавловска трое суток, на четвёртые рано утром погрузились и тронулись в путь дорогу до Кокчетава. Возчики посоветовали запастись в дорогу хлебом, так как вплоть до Кокчетава что-либо съестное по пути будет купить негде. Кроме того, нельзя исключить и того обстоятельства, что где-то придётся задержаться из-за пурги или сильного снегопада. От Петропавловска до Кокчетава сплошная голая степь, ни одной речки и ни одного посёлка на всём пути следования. В этой ситуации могли спасти путника лишь так называемые бикеты – построенные правительством специально для переселенцев большие деревянные избы и возле такой избы 2-3 киргизские юрты. В этих бикетах жила нанятая семья, в обязанность которой входило временное размещение проезжих переселенцев, следующих к месту своего назначения. В их задачу также входил отпуск сена для лошадей переселенцев. Денег за ночёвку и постой с переселенцев не брали, но за корм с возчиков взимали какую-то плату. На бикетах были выкопаны колодцы, около некоторых имелись пресные озёра, но таких мест с пресными озёрами было крайне мало и, как мне помнится, отец говорил, что такие озёра были на нашем пути лишь в двух или трёх местах. И вот ехали мы по этим бикетам и через каждые 25 верст делали остановку, кормили лошадей и сами пили кипяток с заваренным шиповным цветом – довольно распространённым напитком, заменяющим чай. Если погода или дорога были плохими, либо шёл сильный снег, мы ехали по одной, как тогда говорили, пряжке, в день, если погода и дорога были хорошими, то делали по две пряжки за день, то есть покормили, попоили лошадей и поехали дальше. Однажды нас настигла метель, а ночью разразилась настоящая буря и мы пробыли на одном бикете трое суток. Думали, что при такой буре нас просто занесёт снегом вместе с юртами, с лошадьми и с нашими поклажами, но буран и снегопад прошли, выглянуло предвесеннее солнце и погода установилась тихая и тёплая, что позволило нам спокойно делать в дальнейшем по две пряжки в день. На одиннадцатый или двенадцатый день мы приехали в город Кокчетав. Кокчетав назывался городом весьма условно – по величине и постройкам он напоминал, скорее, среднюю деревню, домов на 50-60, не больше. Даже церкви не было, чтоб назвать это поселение селом. Но, как бы там ни было, Кокчетав считался новым уездным городом с сопутствующими гос. учреждениями, включающими и краевое переселенческое управление, где все переселенцы обязаны были зарегистрировать своё прибытие с последующим отбытием к месту назначения, что сделали и наши мужики. Там было штук пять юрт, где переселенцы делали остановку и подыскивали подводы для дальнейшего следования. Наши мужики договорились с местными возчиками довезти всех нас до посёлка Новая Васильевка, находящейся в 130 верстах от Кокчетава. На этом расстоянии бикетов уже не было, но имелись новые посёлки, заселённые переселенцами от двух до пяти лет назад, но располагались данные посёлки очень редко в 20-30 верстах один от другого. Степь, да степь кругом, а жили в этих степях одни киргизы, ныне переименованные в казахов. Выехав из Кокчетава, на пятый день мы прибыли на место – в посёлок Новая Васильевка. В этом посёлке жил наш земляк, приехавший сюда на два года раньше нас. Одна из ехавших с нами семей была как раз родственниками этого мужика. Собственно и отправились мы именно туда, основываясь на рассказах о местном житье этого земляка, изложенных в его письмах. Посёлок был на берегу степной реки. Названия её уже не помню. Возле посёлка не было никакого леса, ни даже кустарника – одна заснеженная степь. Когда мы подъехали к посёлку, самого посёлка было не видно и не слышно. Виднелись на белоснежном фоне лишь какие-то кучи из заледеневших комьев грязного снега. Из некоторых куч шёл струйкой вверх дым, как бы давая нам понять, что где-то там внутри этих грязных куч существует какая-то, неведомая нам, русским людям, жизнь. Кто копошится там внутри было совершенно не ясно: то ли злые-презлые каторжане, с тяжёлыми кандалами, но в справных валенках, то ли не менее злые киргизы, ныне переименованные в казахов, с ожерельями из отрезанных ни в чём не повинных носов простых русских людей.
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Вот читаю я мемуары своего прадедушки и поражаюсь превратностям судьбы. Мало того, что угораздило прадедушку с прабабушкой не столбовыми дворянами или боярами какими родиться, а крестьянами крепостными,

так их ещё и понесло туда, хрен знает куда! Нет, чтобы предки мои ломанулись в Майами с благоприятными климатическими условиями,

ну или там в Рио Де Жанейро какой-нибудь. Ходил бы сейчас в белых штанах, любовался бы мулатками. Или в Москву на худой конец. Получал бы стопитьсот тыщ рублёв и гордился бы сейчас, что маааасквич в каком-нибудь там колене или поколении. Так нет же – к каторжанам потянуло, блин! Даже гордиться нечем. Разве что Достоевским. Каторжанином… Или декабристами. Каторжанами… Во глубине сибирских руд, Храните гордое терпенье.
Эх, дер-р-р-ревня! Впрочем, продолжаю угождать почившим пращурам…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подобные рассказы о суровом сибирском быте удержали от переселения в Сибирь довольно много крестьян, мало кто захотел отдавать свой нос злым-презлым киргизам, которые и ходить то по-человечески толком не умеют. Однако всё-таки эти страшилки не смутили 5 самых отчаянных семей, включая и семью моего отца. Будущие переселенцы начали выхлопатывать себе паспорта и документы на переселение в Сибирь, в Акмолинскую область. Стали распродавать всё, что имели, оставив себе лишь кое-какую одежёнку, обувь, да посуду, плюс соху, борону и сбрую для лошади, а также несложный сельский инвентарь: серпы, мотыги, грабли, косы и прочее.
Везти должны были переселенцев бесплатно железной дорогой, на больших станциях обещали кормить задарма обедами и хлебом. Мой отец продал всё, что было не нужно на новом месте: избу и какую-то рухлядь, получив за всё около ста рублей. Как сейчас вижу – горит в светце лучина, а отец с матерью и бабушкой сидят на полу и считают деньги, высыпав их из большого кисета. Пересчитывая их по десять раз, раскладывая по стопкам серебро, медяки, золотые монеты. Немного было и бумажных денег, которые мать постоянно разглаживала, чтоб выглядели не такими помятыми.
Наступил день проводов. У кого имелись в деревне лошадёнки, отдали их, чтобы отвезти все пожитки и самих отъезжающих. Отец выпросил на барском дворе у кума по сестрёнке Мане - управляющего пару лошадей в разнарядку и в назначенный день собрался народ со всей деревни и родственники из других деревень. Начались проводы, поднялся рёв и плач родственников с причитаниями. Наша бабушка прощалась с остающимися двумя дочерьми и внуками, понимая, что больше их никогда уже не увидит. Отъезжали мы в феврале, когда на улице стоял сильный мороз. Но, несмотря на это до станции Чаадаевка родственники и односельчане отправились провожать переселенцев пешком, а это вёрст 12-14. Получилась целая процессия, ведь было подвод штук 15, не меньше, и провожающих человек сто.
Переселенцев остающиеся просили сообщить в письмах, как те обустроились, не обижает ли их тамошний народ - каторжане и киргизы, отрезают ли русским людям носы и действительно ли в Сибири дают аж по 15 десятин земли. Придя на станцию, узнали, что сегодня поезда не будет. Пришлось ждать на платформе, сгрузив в кучу всё имущество. Лошади с провожающими поехали обратно в деревню. Перед отправлением все порядком попричитали и поплакали.
А раньше существовал такой негласный порядок, почти, как закон – без причитаний не плакали. Именно в причитаниях человек рассказывал, из-за чего он так сокрушается, по какой причине слёзы льёт.

Вот в настоящее время порядок плача стал совсем другой.

Иной раз спросишь человека, о чём тот плачет, а он в ответ скажет: «А ну тебя! И без тебя тошно» и отвернётся. Не тот уже плач стал, не тот… Не то, что в прежние времена. Э-хе-хех.
Из-за холода нас ребят, женщин и стариков разместили по домам на станции, кого, где могли, а мужчины стали по очереди караулить имущество на платформе. Для отправки переселенцев в то время ходили специальные поезда – обыкновенные товарные вагоны с установленными в них железными печами. Это и были так называемые теплушки для переселенцев.

Багаж отправлялся обычными товарняками малой скорости. Его мы сдали заранее. Подошёл из Пензы долгожданный переселенческий поезд. Нам на пять семей выделили целый вагон, в котором мы, несмотря на тесноту, разместились. Тронулся поезд часа через два и мы поехали без пересадки до Челябы, как в то время называли Челябинск. По пути довольно часто останавливались. Чем больше была станция, тем дольше стояли. В городах таких, как Сызрань, Самара и Уфа стояли по 15 часов. Во время столь длительных стоянок нас кормили бесплатными обедами и давали хлеб. До Челябы ехали дней 10, не меньше. Поездка не слишком утомила, так как большинство пассажиров ехало на поезде впервые в жизни. Раньше-то расстояния всё больше пешком преодолевали с котомкой за плечом. В теплушках под стук колёс старики со старухами иногда запевали заунывные песни, в которых говорилось о сильном душевном беспокойстве при переезде с любимой Родины в неведомый, диковатый край с недобрыми аборигенами.
Однако я и прочие дети ехали себе, ехали и особо не тужили, всё для нас было ново и весело. Мы наслаждались настоящим, совершенно не задумываясь о будущем. Плюс был ещё один существенный момент, сильно скрашивающий всем ребятишкам поездку. Отцы на станциях покупали нам белые калачи, которых мы отродясь не пробовали. Калач из белого хлеба с кипятком – это какое-то сверхъестественное празднество! Для нас - ребят везде и всюду всё было ново и весело, мы торчали по очереди в окнах и с огромным интересом рассматривали проносящиеся мимо города и веси.
Наступил день приезда. Мы прибыли в Челябу. Высадили нас из вагонов и отвели в переселенческие бараки, которые составляли целый городок. Большие деревянные, рубленные дома, где нас должны были рассортировать и направить дальше: кого поездом, а кого на подводах в кустанайские степи.
Туда ехало тоже немало людей, но наши ехали дальше до Петропавловска, откуда уже на лошадях в акмолинские степи за город Кокчетав. Багаж запоздал аж на 19 дней. Затем по прибытии багажа был сформирован поезд до Петропавловска. Часа через два паровоз тронулся на Курган и Петропавловск. Мы торчали в окнах в надежде увидеть страшных каторжан и киргизов с палками. Но пойди, пойми, кто каторжник, а кто нет – кандалы то никто не носит! И ходят все не в лаптях, а в валенках. У нас на Родине в валенках ходили только господа, купцы и лавочники, а тут почти все. Видать, богатый край – думали мы. Дней через 5-6 мы прибыли в город Петропавловск, где нас разместили уже не в рубленных домах, а в киргизских юртах. Здесь мы впервые увидели живых киргизов и живых верблюдов, которых раньше никто из нас никогда не видел. Киргизами называли всех людей азиатской расы. Ещё одной особенностью было то, что киргизы кроме лошадей, запрягали и быков. Киргизы с русскими не говорили, но были такие толмачи-переводчики из татар и самих киргизов, знающих киргизский и русский языки. И вот лишь через этих толмачей велись нужные разговоры. Дальше на Кокчетав от Петропавловска 300 верст и от Кокчетава до места ещё 130 верст, куда нам было дано место на приписку и мы должны тут ехать на лошадях или верблюдах и быках, кому как желательно и уже не бесплатно, а за свой счёт. Вот тут и задумались наши мужики и бабы – удовольствие переезда на расстояние в 430 верст с багажом весьма дорогое, а денег на всех «кот наплакал». Мои отец и мать вместе с бабушкой, когда распродавали в России имущество, подолгу втроём считали вырученные деньги, раскладывая серебро и медяки по кучкам и набрали денег около ста рублей целый кисет. На эти деньги мы должны были доехать до места, прокормиться какое-то время, купить хоть одну лошадёнку и семян на посев. О возможности заработать денег в Сибири мы ничего не знали. Устроиться на работу было не к кому, продавать уже нечего, а добираться до места как-то надо! И затягивать отъезд уже нельзя – скоро весна и к посевной нужно быть на месте, успеть прописаться и получить надел земли. Да и из переселенческих юрт нас уже торопили побыстрее убраться. И вот наши сельчане с моими родителями начали искать подводы до Кокчетава. Родители пришли к выводу, что нам будет достаточно двух подвод. И так все семьи посчитали, кому сколько нужно подвод. Прожив в юртах Петропавловска трое суток, на четвёртые рано утром погрузились и тронулись в путь дорогу до Кокчетава. Возчики посоветовали запастись в дорогу хлебом, так как вплоть до Кокчетава что-либо съестное по пути будет купить негде. Кроме того, нельзя исключить и того обстоятельства, что где-то придётся задержаться из-за пурги или сильного снегопада. От Петропавловска до Кокчетава сплошная голая степь, ни одной речки и ни одного посёлка на всём пути следования. В этой ситуации могли спасти путника лишь так называемые бикеты – построенные правительством специально для переселенцев большие деревянные избы и возле такой избы 2-3 киргизские юрты. В этих бикетах жила нанятая семья, в обязанность которой входило временное размещение проезжих переселенцев, следующих к месту своего назначения. В их задачу также входил отпуск сена для лошадей переселенцев. Денег за ночёвку и постой с переселенцев не брали, но за корм с возчиков взимали какую-то плату. На бикетах были выкопаны колодцы, около некоторых имелись пресные озёра, но таких мест с пресными озёрами было крайне мало и, как мне помнится, отец говорил, что такие озёра были на нашем пути лишь в двух или трёх местах. И вот ехали мы по этим бикетам и через каждые 25 верст делали остановку, кормили лошадей и сами пили кипяток с заваренным шиповным цветом – довольно распространённым напитком, заменяющим чай. Если погода или дорога были плохими, либо шёл сильный снег, мы ехали по одной, как тогда говорили, пряжке, в день, если погода и дорога были хорошими, то делали по две пряжки за день, то есть покормили, попоили лошадей и поехали дальше. Однажды нас настигла метель, а ночью разразилась настоящая буря и мы пробыли на одном бикете трое суток. Думали, что при такой буре нас просто занесёт снегом вместе с юртами, с лошадьми и с нашими поклажами, но буран и снегопад прошли, выглянуло предвесеннее солнце и погода установилась тихая и тёплая, что позволило нам спокойно делать в дальнейшем по две пряжки в день. На одиннадцатый или двенадцатый день мы приехали в город Кокчетав. Кокчетав назывался городом весьма условно – по величине и постройкам он напоминал, скорее, среднюю деревню, домов на 50-60, не больше. Даже церкви не было, чтоб назвать это поселение селом. Но, как бы там ни было, Кокчетав считался новым уездным городом с сопутствующими гос. учреждениями, включающими и краевое переселенческое управление, где все переселенцы обязаны были зарегистрировать своё прибытие с последующим отбытием к месту назначения, что сделали и наши мужики. Там было штук пять юрт, где переселенцы делали остановку и подыскивали подводы для дальнейшего следования. Наши мужики договорились с местными возчиками довезти всех нас до посёлка Новая Васильевка, находящейся в 130 верстах от Кокчетава. На этом расстоянии бикетов уже не было, но имелись новые посёлки, заселённые переселенцами от двух до пяти лет назад, но располагались данные посёлки очень редко в 20-30 верстах один от другого. Степь, да степь кругом, а жили в этих степях одни киргизы, ныне переименованные в казахов. Выехав из Кокчетава, на пятый день мы прибыли на место – в посёлок Новая Васильевка. В этом посёлке жил наш земляк, приехавший сюда на два года раньше нас. Одна из ехавших с нами семей была как раз родственниками этого мужика. Собственно и отправились мы именно туда, основываясь на рассказах о местном житье этого земляка, изложенных в его письмах. Посёлок был на берегу степной реки. Названия её уже не помню. Возле посёлка не было никакого леса, ни даже кустарника – одна заснеженная степь. Когда мы подъехали к посёлку, самого посёлка было не видно и не слышно. Виднелись на белоснежном фоне лишь какие-то кучи из заледеневших комьев грязного снега. Из некоторых куч шёл струйкой вверх дым, как бы давая нам понять, что где-то там внутри этих грязных куч существует какая-то, неведомая нам, русским людям, жизнь. Кто копошится там внутри было совершенно не ясно: то ли злые-презлые каторжане, с тяжёлыми кандалами, но в справных валенках, то ли не менее злые киргизы, ныне переименованные в казахов, с ожерельями из отрезанных ни в чём не повинных носов простых русских людей.
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
21-12-2013 21:06
(ссылка)
МУСОРНЫЙ МЕШОК

Короче это... Решил я тут намедни очередное по счёту гениальное произведение замутить. В свете предстоящего закрытия блогов на мэйле. А то закроют блоги, а у меня гениальных произведений в процентном соотношении значительно меньше, чем негениальных. Практически, раз-два и обчёлся. Чё потомки-то благодарные про меня думать будут? Стоя у бюста моего на линейках торжественных с барабанами и горнами.
А сёдня, как назло, ничего такого гениального со мною и не происходило вовсе. В отличие от моего растворившегося в пространстве психоделического соавтора - Тимурыча, я про гипотетических еврейских старушек складно излагать на пустом месте не умею.

Тот самый неутомимый исследователь еврейских бабушек - Тимурыч в натуральном виде (блоги на мэйле закрывают, чего уж шифроваться-то теперь?) Кстати, человек он абсолютно не от мира сего - на голове леопарда систематически носит, собственноручно, к слову, распотрошённого (Сказываются, наверное, корни кавказские. Правда, раньше на Кавказе витязи в тигровых шкурах, а не с леопардами распотрошёнными на головах ходили)
В этом смысле я, в отличие от Тимурыча, натуральный акын - пою исключительно то, что сам вижу.

Так по жизни случилось, что ни одной психоделической еврейской старушки в поле моего зрения сейчас не попадается. Чем же тогда мониторы марать?
Вот мусор вынес, разве что.
"Тоже мне тема!" - скажет недовольный случайный читатель, а я ему возражу тут же:
"Нихрена ты, недовольный случайный читатель, не понимаешь! Ты до конца дочитай сначала!"
(Настоящий художник может красоту рассмотреть в вещах самых обыденных и обычному, невооружённому глазу малозаметных).
Я вот знаю одного гениального автора, который в глубоком детстве, сидя на горшке, в причудливых наслоениях и потёках засохшей краски на окрашенной туалетной двери абсолютно невооружёнными глазами выискивал персонажей всяких сказочных. И ведь находил! Более того, находил персонажей даже вполне реальных. Воспитательниц, нянечек, учителок школьных или ещё кого. Фантазии у него немерено было. Так и тут. Вот пример из фабрики грёз - американского кинематографа.
Кадр из кинофильма "Красота по-американски"
Известного кинорежиссёра американского - Сэма Мендеса полиэтиленовый пакет не по-детски однажды вдохновил, к примеру. В итоге получилось кино гениальное. Я решил пойти ещё дальше и копнуть на самую глубину, классиками отечественной литературы неизведанную - полиэтиленовым мусорным мешкам свое очередное нетленное произведение посвятить (полиэтилен, как известно, тлену практически не подвержен). Точнее, не мешкам, а одному совершенно конкретному мусорному мешку, с которым лично вчера "нос к носу" столкнулся.
Короче, если кто не знает, щас мусор не просто в ведро помойное сваливают, как в старые, добрые времена, а предварительно в мешки полиэтиленовые и только потом в ведро. Страсть, как наша жизнь усложнилась! Во всех своих множественных аспектах и проявлениях! Ну чем не повод повысить процент собственной гениальности на ниве этой?
Всё, обратный отсчёт на тревожном английском пошёл...
С мешком этим у меня как-то сразу не заладилось. Рука-то у меня одна. Действующая. Мешки для таких, как я, не придумали ещё. Натягиваю, короче один край полиэтиленового мешка этого на ободок ведра с одной стороны, а с другой стороны мешок сползает. Чертыхаюсь. Представляю ведро фаллическим символом, а мусорный мешок презервативом. Опять ничего не выходит. Совсем навыки утратил. Жёстко прижимаю фаллический символ в виде ведра боком к кухонному столу. Всё равно мешок с одной стороны ползёт. Ставлю ведро на колени и зажимаю мешок на ведре зубами. Получилось. Раскатываю краешек мешка по свободной стенке ведра. Та-даммм!!! Сваливаю мусор: банку из под кабачковой икры, жирный контейнер из под морских водорослей, огрызки яблок, косточки от фиников, апельсиновые корки и прочую белиберду.
Пытливый случайный читатель спросит: "А чёй-то у тебя снедь такая хитрая?"
Отвечу и ему: "Я и сам парень не простой, вообще-то"
Пост на дворе рождественский, если чё! Хозяин квартиры моей, тот посты не соблюдает, вот у него снедь, как и положено, не хитрая: куски сала, торты недоеденные какие-то, окурки, бутылки из под шампанского и даже вискаря! (аж три девочки к нему позавчера приходили - выпендривался). Ну и это...
В общем, содержание мусорного ведра оказалось вполне обыкновенным, как у любой среднестатистической российской (и не только!) домохозяйки. Мне даже стрёмновастенько немножко стало, из-за того, что я такой, как все среднестатистические российские домохозяйки, когда с утреца мешочек из ведра доставать начал. Ведь удивительное дело - мешки какие-то тонкие до невозможности производители мешков производят. Только сверху мешок схватил, он по бокам давай расползаться.
Эй, производители! Вам там чё, полиэтилена жалко, что ли?
То горлышко бутылки из гнезда выпорхнет, то бычок, то банка консервная. В общем, намаялся я, с одной-то рукой. И с мешком, с этим. Ну, и это...
Выхожу из квартиры на лестничную площадку нарядный такой: пуховичок новенький - красивенький, шапочка, брючки отутюженные. Сам себе нравлюсь. Потом думаю: "А действительно ли я так хорош, как думаю?" Не поленился, вернулся обутый в квартиру к зеркалу. Одно хреново - зеркало аж в спальне через зал проходной. Смотрюсь. Действительно хорош: пуховичок новенький - красивенький, брючки отутюженные, шапочка... В руке действующей мешок мусорный и содержимое наружу из гнёзд норовит выскочить. Ладно, хватит любоваться, пойду - думаю. И ведь пошёл! Дверь закрыл, мешок взял и по маршу лестничному хромать начал. А шаговая амплитуда у меня теперь необычная, производителями мешка не предусмотренная. Чую в ходе спуска: щас произойдёт авария на лестнице. А время то буднее, раннее - народ на работу прёт вовсю. Ща расплзётся, бля! И вся хитрая и нехитрая снедь на лестнице! Точнее, остатки ихние. А я со злобными соседками страсть, как не люблю разговаривать! Да и побаиваюсь я их. Короче, поставил мешок на подоконник и решил всем телом его обхватить, к груди и животу действующей рукой плотно прижав. Наверное, со стороны странно выглядел, мол, откуда у чувака столько любви к мусору? Мимо тётки и дядьки озабоченные снуют. Я делаю вид, что всё время так мусор свой обнимаю, мол, дорог, как память он мне. Для достоверности движения тазобедренные. Уж не знаю, сколько тёток местных движениями своими распугал. От движений и амплитуды необычной шаговой на глазах мешок расползаться начал в стороны разные. Я, как эквилибрист какой, верхней половиной тела (той, что мешок обхвачен был) горизонтальное положение принял, живот запрокинув, так, чтоб мусор с меня вниз не скатывался. С пуховичка красивенького, новенького. И вот так, абсолютно нетривиальным способом, в позе буквы Г-наоборот из подъезда вывалил. На груди и животе белиберда всякая: банка из под кабачковой икры, жирный контейнер из под морских водорослей, огрызки яблок, косточки от фиников, корки апельсиновые и сам я в позе необычайной, буквой Г-наоборот, словно спину жутко прострелило в момент, когда я от пуль уворачивался по-матричному.
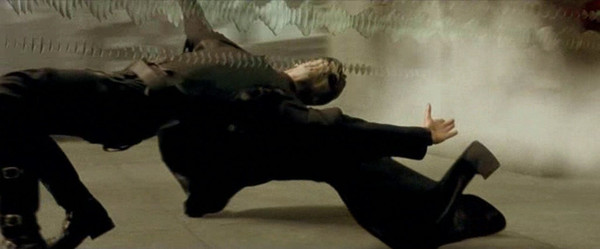
Расползающийся мусор всей пятернёй к телу своему прекрасному неистово прижимаю. Не уронил и косточки финиковой, как мне кажется. У, подъездной двери на улице мужик стоит в ожидании. Вот чево дома с самого утра забыл? Навстречу я в позе абсолютно нетривиальной, мусором обвешанный, как ёлка новогодняя игрушками. Надо было видеть мужика физиономию. Энергично отряхнулся я, щеками, словно мастиф какой неаполитанский, тряся и чавкая.
Остатки снеди различной по степени хитрости с меня листьями осенними попадали. Словно так и надо, шагом я уверенным в дальнюю даль похромал, постепенно в точку превращаясь.
Мужик утренний наверняка до сих пор а недоумении.
Так что не только Сэма Мэндеса от мешков полиэтиленовых по творчеству торкает....
Нравится
Метки: личное
Максим Теньгушев,
06-09-2013 22:30
(ссылка)
ЧЁРНЫЙ КОФЕ
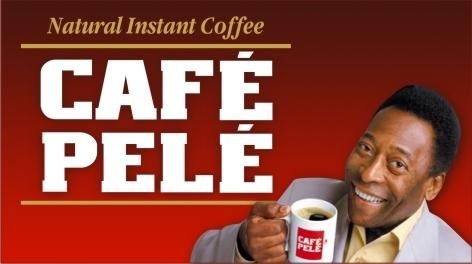
Удивляет меня способность человеков некоторых буквально всё воспринимать. Тут написал давеча, что лещёй с арбузами употреблять вовнутрь люблю. Теперь по гостям хожу с опаскою - а вдруг хозяева фантазии мои нездоровые опять за чистую монету примут? Так дело дойдёт и до того, что живого леща специально для меня внутрь арбуза поместят - пускай к приходу гостя дорогого мякоть повыгрызает. Или отборного леща арбузом нашпигуют. Раба-фиш, типа. Астраханская.
Хочу спросить человеков этих: "И где же Ваш полёт фантазии-то?" Не летает фантазия, штоле? Одна волшебная женщина на свой лад всё переиначила, когда про арбузное пиво прочитала. С укором пишет: "Эх, Максим, Максим, заканчивай ты свои пивные загулы. Не доведут они тебя до добра. Ты даже писать стал хуже!"
А я-то с пивом не гуляю вовсе. Дома сижу. День рождения у меня всего лишь. Была мысль, конечно, с гостями на турниках покувыркаться - не стал развивать. У меня по старинке всё: свинина, курица, салат под шубой, селёдочка с лучком в маслице и этот... Как его?... Салат греческий (придумала женщина одна удивительная).

Максимка, удивительная женщина и греческий салат (в дальнем левом углу стола)
И арбуз, конечно. Ну, и это посидели, конечно. Повспоминали про баб и политику. Сегодня вот колбасит меня. От арбуза гербицидного. Ртом пукаю! Ну что отвратительнее может ещё быть? Это ж не значит, что я каждый день арбузы гербицидные кушаю. И это самое. Таво.
А тут одноклассник приезжал. Бывший. Шимус. Лет 20 живёт в Чехии. Редко видимся. И аккурат про человеков рассказал. Буквально всё воспринимающих. Короче, Шимус в Чехии живёт. Давно. А мы это...
Музоном шибко по молодости увлекались: хард-роками и хэви металами. Журнал "Ровесник" кромсали. Из «Кругозора» пластинки мягкие на патефонах слушали. Ну, и замучила Шимуса ностальгия по року отечественному. А чехи - это ж лимитрофы все несчастные. Как прибалты. Не хотим, говорят, роки оккупантские слушать, у нас в магазинах всё американское - неоккупантское. Ну, или там Вондрачкова какая. Хелена с Карелом Готтом – соловьём чешским, блин. Роки русские из соображений политкорректности чехи не слушают и не торгуют ими даже. А как меломану из Омска бывшему скупую мужскую слезу пустить по умершему рок,н, роллу и ушедшей молодости? Написал Шимус мамане в Омск письмецо, купи, мол, року отечественного на Родине исторической и мне пришли, а я уж здесь понастальгирую. И списочек небольшой приложил. Образчиков.
А маманя у Шимуса – женщина весьма колоритная. На крановщицу похожа. Или торговку рыбой свеже-мороженной. На пенсии. Голос с хрипотцой. Дитя Ленинграда блокадного. Она ж по бутикам специализированным не ходила сроду. Только до продовольственного. Магазин «Садко» называется. В Омсках к тому времени торговля буйным цветом зацвела. Даже в магазинах продовольственных. Есть буквально всё: и выпить-закусить и от комбайнов роторы и статоры. И даже роки отечественные в наличии имеются! Пошла, короче, бабушка в «Садко» компашку прикупить для сЫночки. Стиль в одежде стандартный для пожилой женщины: пальтишко драповое с воротником из лисички давно умершей накинула, на ноги варикозные валенки стоптанные. На голове платок пуховый старенький. В руках авоська, варежки. Подходит к отделу с компашками, достаёт списочек. Два лба стоят и скалятся. Торговец компашками и корешок его.
Чего, мол, хотела, бабушка?
«Чёрный кофе» - отвечает со списком в соответствии.

Рок-группа "Чёрный кофе" (Не путать с напитком!)
«Так это Вам в другой отдел с чаЯми и кофЕями»
Замялась пожилая женщина. Потом нашлась.
«Варшавского» (написано было в скобочках).
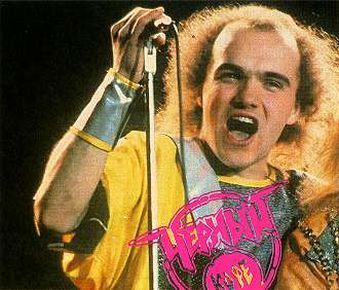
Дмитрий Варшавский (Не путать с Польшей!)
Лбы смотрят на блокадницу и изыскам её вкусовым поражаются. Мол, отродясь кофе польского не видели. Ассоциативный ряд выстроили с учётом её пожилого возраста. Возможно, дама – участница восстания Варшавского кофейка попить захотела, решила вспомнить молодость.
А старушка не унимается, подай ей кофею и всё тут!
"Вам кофе вредно. Давление повысится".
"Дык?"
"В гастрономический Вам нужно, сказали же!" - лбы раздражаются.
Так на первом пункте списка всё застопорилось. Ушла ни с чем маманя Шимуса. В недоумении.
В итоге Шимус под чашку кофею Хелену Вондрачкову с соловьём чешским со слезами слушает. И вспоминает с ностальгией Варшавский дОговор. А всё из-за человеков буквально всё воспринимающих. Не долетает у них фантазия до пенсионерки - поклонницы хард роков, хэви металов.
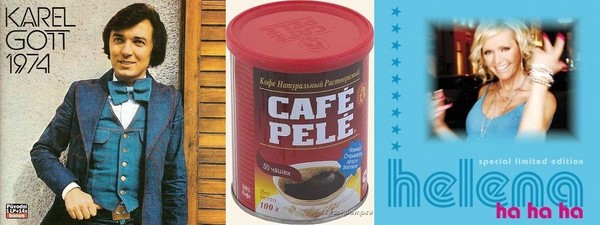
Нравится
Максим Теньгушев,
04-10-2013 10:41
(ссылка)
бЕлки

Я тут в санатории «Колос» баклуши бью, хотя даже не знаю, как они выглядят, где растут и за какие такие прегрешения побои терпят. Ну и это….

Максимка и оглобля, как орудие для избиения баклуш
Времени–то свободного вал. После раннего ужина в особенности. Решил вот свои наблюдения в интернет-пространство впрыснуть. Потом как-нибудь на досуге почитаю, когда стареньким буду – вспомню молодость. Относительную, канешна.
Короче, первое, что мне в глаза бросилось – это вот это вот объявление.

Судя по содержанию, сразу понять можно, что ты находишься в месте совершенно необыкновенном. Вот эти милые создания с пушистым хвостиком, нападают на людей?

Чё ж мне сразу-то не сказали? Я ж по наивности своей думал, что они только орешки грызут. И то, на конфетах преимущественно. 
Да грибы какие. Получается, не совсем вегетарианцы, белки эти. На мясное, как и меня, тянет порою. В общем, поскольку я в лесу оказался, как житель сугубо городской, поднапрягся немножко. Привык в четырёх стенах бетонных. Когда в беседку на улицу покурить выхожу, от каждого шороха вздрагиваю, и в кроны сосен настороженно всматриваюсь. Сегодня показалось, что кто-то с ветки на ветку прыгает. Движение в кроне какое-то непонятное. Белки? А может, обезьяны какие?
А если это не обычные белки какие-нибудь, а, предположим, белки-летяги, тогда чего? Нападения с воздуха опасаться? Так весь отдых в полном напряжении и пройдёт – не знаешь, откуда приключений ждать. Поскольку лес в районе санатория наполнен крайне агрессивными существами, на свежий воздух практически не выхожу. Сижу, как в келье. Затворником. Из дома прихватил четыре бутылки коньяка. Для аппетита. Так вчера белки прямо в дверь ломиться начали! Ужас.
Наверняка белками-летягами сюрпризы не ограничатся. Лес-то в районе Красноярки густой. Типа смешанного. Тут, наверное, ещё еноты полоскуны живут какие-нибудь. И птицы-секретари. Не знаю, как Вам, а мне такое соседство не по нутру. В Омсках-то эта хрень отродясь не водилась.
Зато сегодня двух обычных котов видел. Проживающих при санаториевской столовой. Пузаны оба невероятные: один рыжий, другой – серый. Сидят и едят с ленцой тунца с ананасами и рябчиками. На мордах безразличие, апатия и даже какая-то брезгливость. Телятину мраморную жрать привыкли, штоле? Вот так наблюдаю я за ихней неторопливой трапезой и думаю: «Отчего так несправедливо устроен мир?» Другие коты мыло хозяйственное жрать готовы. В особенности, если на хвосты наступить, а эти….
С рождения на всём готовеньком. Мало того, что сами из котлов, небось, половниками черпают, так ещё тётки-отдыхающие сердобольные жрачку таскают. Кусочки вкусненькие.
Фото не самое лучшее, но степень упитанности рыжего очевиднв (степень упитанности серого на фото не видна - фото с загадкой "найди третьего кота на фотографии")
Вы бы лучше мне пожрать притащили! Месяца четыре назад, когда из дома, как Лев Толстой, босиком ушёл.
Рыжего от еды обильной стошнило даже! Вот угороаздило же их родиться не в подвале каком, а в санатории со столовой и сердобольными тётками. На всю жизнь себя и своих потомков обеспечили. До колена седьмого. А я вот с мОлоду в поисках условного скудного пропитания рыщу. Даже мыло хозяйственное съесть готов. Если на хвост кто наступит.

Максимка и оглобля, как орудие для избиения баклуш
Времени–то свободного вал. После раннего ужина в особенности. Решил вот свои наблюдения в интернет-пространство впрыснуть. Потом как-нибудь на досуге почитаю, когда стареньким буду – вспомню молодость. Относительную, канешна.
Короче, первое, что мне в глаза бросилось – это вот это вот объявление.

Судя по содержанию, сразу понять можно, что ты находишься в месте совершенно необыкновенном. Вот эти милые создания с пушистым хвостиком, нападают на людей?

Чё ж мне сразу-то не сказали? Я ж по наивности своей думал, что они только орешки грызут. И то, на конфетах преимущественно.

Да грибы какие. Получается, не совсем вегетарианцы, белки эти. На мясное, как и меня, тянет порою. В общем, поскольку я в лесу оказался, как житель сугубо городской, поднапрягся немножко. Привык в четырёх стенах бетонных. Когда в беседку на улицу покурить выхожу, от каждого шороха вздрагиваю, и в кроны сосен настороженно всматриваюсь. Сегодня показалось, что кто-то с ветки на ветку прыгает. Движение в кроне какое-то непонятное. Белки? А может, обезьяны какие?
А если это не обычные белки какие-нибудь, а, предположим, белки-летяги, тогда чего? Нападения с воздуха опасаться? Так весь отдых в полном напряжении и пройдёт – не знаешь, откуда приключений ждать. Поскольку лес в районе санатория наполнен крайне агрессивными существами, на свежий воздух практически не выхожу. Сижу, как в келье. Затворником. Из дома прихватил четыре бутылки коньяка. Для аппетита. Так вчера белки прямо в дверь ломиться начали! Ужас.
Наверняка белками-летягами сюрпризы не ограничатся. Лес-то в районе Красноярки густой. Типа смешанного. Тут, наверное, ещё еноты полоскуны живут какие-нибудь. И птицы-секретари. Не знаю, как Вам, а мне такое соседство не по нутру. В Омсках-то эта хрень отродясь не водилась.
Зато сегодня двух обычных котов видел. Проживающих при санаториевской столовой. Пузаны оба невероятные: один рыжий, другой – серый. Сидят и едят с ленцой тунца с ананасами и рябчиками. На мордах безразличие, апатия и даже какая-то брезгливость. Телятину мраморную жрать привыкли, штоле? Вот так наблюдаю я за ихней неторопливой трапезой и думаю: «Отчего так несправедливо устроен мир?» Другие коты мыло хозяйственное жрать готовы. В особенности, если на хвосты наступить, а эти….
С рождения на всём готовеньком. Мало того, что сами из котлов, небось, половниками черпают, так ещё тётки-отдыхающие сердобольные жрачку таскают. Кусочки вкусненькие.
Фото не самое лучшее, но степень упитанности рыжего очевиднв (степень упитанности серого на фото не видна - фото с загадкой "найди третьего кота на фотографии")
Вы бы лучше мне пожрать притащили! Месяца четыре назад, когда из дома, как Лев Толстой, босиком ушёл.
Рыжего от еды обильной стошнило даже! Вот угороаздило же их родиться не в подвале каком, а в санатории со столовой и сердобольными тётками. На всю жизнь себя и своих потомков обеспечили. До колена седьмого. А я вот с мОлоду в поисках условного скудного пропитания рыщу. Даже мыло хозяйственное съесть готов. Если на хвост кто наступит.
Нравится
Максим Теньгушев,
09-12-2013 19:22
(ссылка)
МАНДЕЛА

Тут пыль с телевизора решил протереть и нечаянно на кнопку сенсорную нажал. Он как заорёт! Я аж подпрыгнул. Тряпочку влажную, намыленную мылом хозяйственным, в сторону отложил, смотрел-смотрел в телевизор, рот проникновенно разинув, и вдруг себя частью глобального мира почувствовал. Сижу на кровати теперь своей панцирной - связь с мировым сообществом ощущаю.

Тот там связь заколет, то здесь зачешется. Тесно-то как на планете Земля стало! Ушедшего от нас Манделу телевизор уже четвёртый день оплакивает. По всем каналам отечественным и евроньюсу, конечно. В европах-то теперь манделы одни. И у нас в Омсках борьба с апартеидом щас тоже страсть, как актуальна. Не отставать же нам от европейцев этих. Омск ведь тоже в некотором смысле - ЦЭ ЕВРОПА. Не то, что раньше. Раньше я негров этих и апартеидов в Сибири своей не видел ни разу. Только в кино. Не растут они здесь, наверное. На огороде у меня одна картошка только. Пырей ползучий и амарант запрокинутый... Ни одного банана даже! Откуда ж им взяться-то здесь? Холодно. Да я ж их съедаю сразу, опять же. С лещами и арбузами... Вместо того, чтобы в лУнки глазкАми вверх садить. Ну и это...
А тут в подземном переходе с невнятным освещением иду, а навстречу мне в капюшоне что-то тёмное, большое, без лица, но с глазами. То-то я страху с непривычки натерпелся. Пока мимо не прошло. До сих пор штанина мокрая. И с тех пор всё чаще и чаще встречаю. В районе рынка Ленинского. Учатся они тут, оказывается. В университете путей сообщения. Манделы. Чё, потеплее университет не нашли, штоле? В Сочи каком-нибудь. Хотя и там теперь Олимпиада зимняя. Податься-то некуда. Кругом вьюжит, пургит. Лыжи, сани, палки, сопли замерзшие, коньки и варежки. Даже в СочАх. Вот и занесло на каторгу, во глубину Сибирских руд, блин! И, главное, милые такие! С французским акцентом мягким по-русски гутарят. Впрочем, это только догадки мои - у нас в омсках французов меньше даже, чем негров. И французы не растут, похоже. Хоть лягушек летом, в отличие от бананов, куча. Не те лягушки, штоле? Поди разбери, прованский прононс или бургундский у африканцев этих из университета путей сообщения омского.
И ведь не первый раз приступметеоризма глобализма у меня приключился. В 2011-м целую неделю за свадьбой Уильяма и Кейт Мидлтон с оралом своим раззявленным наблюдал. По каналам отечественным.

На кровати всё той-же.

Пару раз от переизбытка чувств на улицу даже выбегал - чепчики в воздух подбрасывать. Отобрал у детей малых. Два. Подбросил. Соотечественники тёмные, как на дурака смотрели. Дер-р-р-ревня! Я ж весь мир волосками на спине, руках, ногах, ноздрях и груди чувствую. Дыхание малейшее. Кстати, выбор Мидлтон до сих пор не шибко одобряю. Уж слишком у принца этого морда лошадиная (жаль, конечно, что я на тот момент женат ещё был). Теперь вот жаль дедушку, хоть и девяносто пять ему стукнуло. Мог пожить бы ещё. Лицо доброе-предоброе. Отважный был. Я в честь него женщину свою волшебную "моей Манделой" в порыве страсти стал из уважения называть. Обижается. Хуторянка, блин! С местечковым самосознанием. Не то, что я.
Пойду, пожалуй, провожу Манделу песнями и плясками. По старинной южно-африканской традиции. Земля пухом. Я ж не чех бездушный, какой-нибудь.

Тот там связь заколет, то здесь зачешется. Тесно-то как на планете Земля стало! Ушедшего от нас Манделу телевизор уже четвёртый день оплакивает. По всем каналам отечественным и евроньюсу, конечно. В европах-то теперь манделы одни. И у нас в Омсках борьба с апартеидом щас тоже страсть, как актуальна. Не отставать же нам от европейцев этих. Омск ведь тоже в некотором смысле - ЦЭ ЕВРОПА. Не то, что раньше. Раньше я негров этих и апартеидов в Сибири своей не видел ни разу. Только в кино. Не растут они здесь, наверное. На огороде у меня одна картошка только. Пырей ползучий и амарант запрокинутый... Ни одного банана даже! Откуда ж им взяться-то здесь? Холодно. Да я ж их съедаю сразу, опять же. С лещами и арбузами... Вместо того, чтобы в лУнки глазкАми вверх садить. Ну и это...
А тут в подземном переходе с невнятным освещением иду, а навстречу мне в капюшоне что-то тёмное, большое, без лица, но с глазами. То-то я страху с непривычки натерпелся. Пока мимо не прошло. До сих пор штанина мокрая. И с тех пор всё чаще и чаще встречаю. В районе рынка Ленинского. Учатся они тут, оказывается. В университете путей сообщения. Манделы. Чё, потеплее университет не нашли, штоле? В Сочи каком-нибудь. Хотя и там теперь Олимпиада зимняя. Податься-то некуда. Кругом вьюжит, пургит. Лыжи, сани, палки, сопли замерзшие, коньки и варежки. Даже в СочАх. Вот и занесло на каторгу, во глубину Сибирских руд, блин! И, главное, милые такие! С французским акцентом мягким по-русски гутарят. Впрочем, это только догадки мои - у нас в омсках французов меньше даже, чем негров. И французы не растут, похоже. Хоть лягушек летом, в отличие от бананов, куча. Не те лягушки, штоле? Поди разбери, прованский прононс или бургундский у африканцев этих из университета путей сообщения омского.
И ведь не первый раз приступ

На кровати всё той-же.

Возможно, между кроватью и моим неистовым глобализмом существует незримая связь
Пару раз от переизбытка чувств на улицу даже выбегал - чепчики в воздух подбрасывать. Отобрал у детей малых. Два. Подбросил. Соотечественники тёмные, как на дурака смотрели. Дер-р-р-ревня! Я ж весь мир волосками на спине, руках, ногах, ноздрях и груди чувствую. Дыхание малейшее. Кстати, выбор Мидлтон до сих пор не шибко одобряю. Уж слишком у принца этого морда лошадиная (жаль, конечно, что я на тот момент женат ещё был). Теперь вот жаль дедушку, хоть и девяносто пять ему стукнуло. Мог пожить бы ещё. Лицо доброе-предоброе. Отважный был. Я в честь него женщину свою волшебную "моей Манделой" в порыве страсти стал из уважения называть. Обижается. Хуторянка, блин! С местечковым самосознанием. Не то, что я.
Пойду, пожалуй, провожу Манделу песнями и плясками. По старинной южно-африканской традиции. Земля пухом. Я ж не чех бездушный, какой-нибудь.
Нравится
Максим Теньгушев,
24-08-2013 00:35
(ссылка)
БОЖЬИ ТВАРИ

Не люблю ос. Давеча тут укусила одна. В ступню. После этого чрезвычайного происшествия понял, что не люблю ос. Плюс они неприличные какие-то. Давно сформулировать пытался, что именно мне в них не нравится. Сегодня сформулировал. Озабоченные они. Вот казалось бы, чего в арбузах и дынях сексуального? Лично у меня при виде бахчевых культур ничего не шевелится даже. И перверсий никаких. Съесть хочется разве что. Вчера вот на огороде к приезду гостей готовился: бычки и пустые бутылки все пособирал. Навёл порядочек. На стоящий рядом со скамейкой стол накинул матерчатую скатерть с красивой синей бахромой. Скатерть, как и всё на огороде, у меня двойного назначения. В обычной жизни, когда ко мне не собираются приехать медведи с цыганами и балалайками, она используется в качестве покрывала с красивой синей бахромой. Во-от…
И это-самое, короче. Взял большую вазу и поставил в неё арбуз. Красивейшая экибана получилась! Сел на скамейку и любоваться натюрмортом стал. Ворсистая скатерть-покрывало с красивой синей бахромой, большая ваза, в ней стоит большой полосатый арбуз. Поначалу восторгался произведённым на меня эстетическим эффектом. Минут пять. Потом меня охватило какое-то беспокойство и неясное душевное смятение. Занялся самокопанием и докопался до вывода, что смятение накатило из-за незавершённости композиции. Тут же соскочил со скамейки, зашёл в домик, достал из сумки припасённого к пиву здоровенного копчёного леща, вернулся к натюрморту, положил леща рядом с арбузной вазой. Отошёл к калитке, глянул на композицию глазами ожидаемых и неприехавшихещё гостей. Вернулся к столу, развернул леща башкой к ближнему левому углу стола, хвостом к дальнему правому, после чего наступило полное умиротворение. Минут на десять. Сидел, молчал и
думал: «Боже, красота-то какая!». Потом вспомнил о том, что одна удивительная женщина называет меня чревоугодником. Действительно, я люблю не только вещАть своим чревом, но и обожаю ему угождать. Теперь накатило желание ещё раз угодить чреву. Разрезал арбуз и в разрезе он оказался ещё красивее. Красный-прекрасный. Откусил кусочек. Тает во рту. Вместе с коркой! Положил таять в рот ещё один. Закрыл глаза. Неописуемое блаженство! Решил в добавок кусочек леща откусить. Откусил, не открывая глаз. Непередаваемая гамма вкусовых ощущений: лещ под арбузик. Или арбузик под леща.

Начал благодарить Господа за ниспосланные яства. Во время чтения молитвы почувствовал благоговение и необычайный духовный подъём. По щекам потекли слёзы умиления (я всегда плачу, когда умиляюсь или благоговею). Посмотрел на композицию глазами ожидаемых и неприехавшихещё гостей. Ворсистая скатерть-покрывало с красивой синей бахромой, большая ваза, в ней стоит половина большого полосатого арбуза, рядом почти целый копчёный лещ. Солнышко светит, птички поют, кузнечики стрекочут, сорняки колышутся от легкого дуновения тёплого летнего ветерка. И на фоне всего этого буйства красок одинокий высокоодухотворённый мущщина приятной полноты со слезинками на одутловатых щеках. Ну что ещё может быть красивее? В кульминационный пик душевного подъёма, одухотворённости и умиления открыл глаза и поперхнулся арбузной коркой от отвращения: И арбуз и лещ оказались облеплены осами, которые, ничуть не смущаясь моего присутствия, совершали своими тазами характерные антниобандеровские движения. Эта выходка наглых насекомых показалась мне похлеще отвратительного действа девок из Пусси Райот. Осы осквернили мои святыни, мою экибану, надругавшись на моих глазах над арбузом и лещом. Эстетическое удовлетворение вмиг улетучилось и с криком: «Так не доставайтесь же Вы никому!», я начал с отвращением доедать поруганное, запивая горе припасённым для ожидаемых и неприехавшихещё гостей пивом. Когда последние таки приехали, их очам предстала следующая картина:
Залитая арбузным соком или пивом ворсистая скатерть-покрывало с красивой синей бахромой, разбросанные по скатерти и всему огороду в хаотичном порядке арбузные корки и семечки, большая ваза, наполненная арбузными корками и семечками, ошмётки и кишки леща вместе с частью его скелета, рядом сидящий на скамейке одинокий высокоодухотворённый мущщина приятной полноты с одутловатыми щеками и пузом, с блестками-чешуйками леща и арбузными семечками на волосистых одутловатостях и текущими по щекам то ли пивом, то ли арбузным соком, то ли слезами. Из правого уголка рта мущщины торчит рыбий хвост с остатками рыбьего скелета. Возле мущщины роятся осы, выделывая даже в воздухе коленца с характерными антониобандеровскими движениями. Мущщина, пережевывая хвост с ошмётками, чешуёй и кишками рыбы, тычет пальцем в воздух в направлении наглых насекомых и невнятно пытается что-то объяснить своим набитым ртом. Приехавшие медведи, цыгане и балалайки понимают только, что мущщина что-то талдычит о каких-то божьих тварях, которые похлеще наглых баб из Пусси Райот и даже комаров. Теперь они и читатели моего бложика знают, отчего я не люблю ос. Испортили, твари, всю одухотворённость и изгадили эстетическое наслаждение.


Нравится
Максим Теньгушев,
14-08-2012 12:36
(ссылка)
НАХОДКА
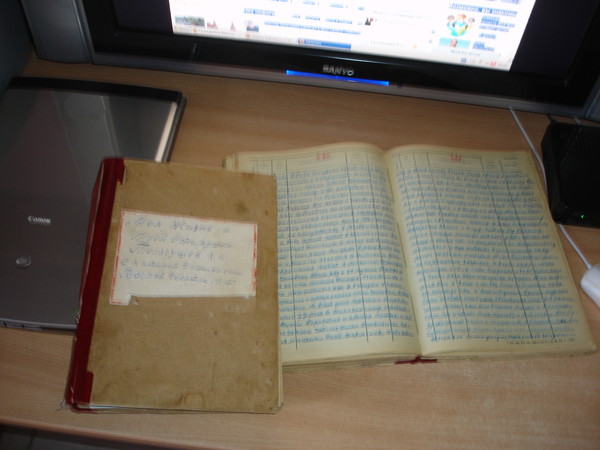
Как-то я уже заикался,что склонность к графоманству мне передалась по наследству, минуя, правда, 2 поколения. Мой прадед - Кузьма Иванович Теньгушев, скончавшийся в 1966-м году - за год до моего рождения, тоже был своего рода блоггером. Причём, стал им уже в глубокой старости, когда, несмотря на "2 класса церковно-приходской", засел за мемуары, заполнив 2 толстенные амбарные книги. Наличие оных было всегда предметом особой семейной гордости, поскольку крестьянская жизнь моих относительно далёких предков никак не располагала к наличию у них каких-либо литературных талантов. Несмотря на имевшую место гордость, насколько я знаю, обе книги, никто из моих близких родственников так и не осилил. То ли в силу лени, то ли в силу рукописного текста мемуаров. Я, будучи подростком, пару раз начинал их читать, но в конечном итоге забрасывал, в результате чего впоследствии даже испытывал некие угрызения совести. Обе книги хранились у моей мамы и исчезли после её переезда на новое место жительства. О возможном местонахождении воспоминаний прадеда мама ничего толком пояснить не могла и лишь высказывала на данный счёт предположения о том, что они могут находиться у кого-либо из наших родственников. Опросы вышеуказанных лиц оказались безрезультатными. Короче, на протяжении 15-ти последних лет я считал воспоминания прадеда безвозвратно утраченными и тут - О, чудо!
Тёща затеяла в нашем садовом домике перестановку и обнаружила послание потомкам в целости и сохранности!
Решил немедля заняться перепечатыванием послания для не лишённых лени, неблагодарных потомков. Текст оказался вполне читабелен. По крайней мере,его начало. Раз я его всё равно печатаю, решил запульнуть распечатку в электронное и космическое пространства.
Ловите и это, зелёные человеки! Наверняка пригодится через тысячи лет для создания киборга - моей точной копии. Тут ведь и генетический код всего древа имеется.
Ну, а если йети окажутся столь же ленивы, как и мои родственники, не исключено, что кто-нибудь из обыкновенных посторонних человеков заинтересуется.
Передаю слово Кузьме Ивановичу Теньгушеву:
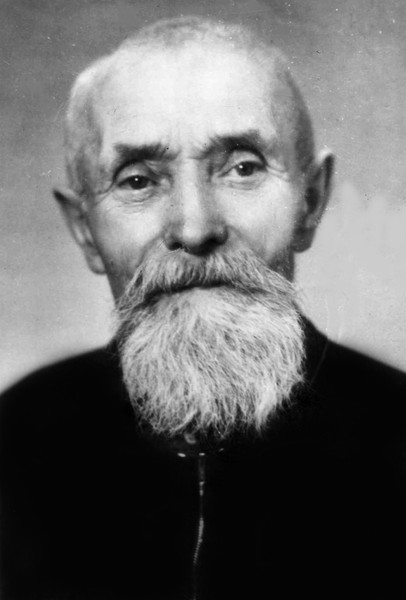
Теньгушев К.И. 1888 - 1966
МОЯ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ МОЕЙ СТАРУШКИ
На память моим дорогим внукам и правнукам.
Кто из них пожелает, пусть прочитает, как прожили их бабушка и дедушка Теньгушевы свою не такую уж и короткую жизнь. Пусть знают, как жилось нам и нашим родителям при царизме и Советской власти.
Наш год рождения – 1888-й
Ваш дедушка Теньгушев Кузьма Иванович – 12 октября
Ваша бабушка Теньгушева Анна Матвеевна - 22 октября
[ читать дальше → ]
МОЯ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ МОЕЙ СТАРУШКИ
На память моим дорогим внукам и правнукам.
Кто из них пожелает, пусть прочитает, как прожили их бабушка и дедушка Теньгушевы свою не такую уж и короткую жизнь. Пусть знают, как жилось нам и нашим родителям при царизме и Советской власти.
Наш год рождения – 1888-й
Ваш дедушка Теньгушев Кузьма Иванович – 12 октября
Ваша бабушка Теньгушева Анна Матвеевна - 22 октября
[ читать дальше → ]
Метки: Теньгушев Кузьма
Максим Теньгушев,
22-04-2012 12:49
(ссылка)
ОПЯТЬ ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ
Давно картинками свой бложик не баловал. Потерял в этом плане эксклюзивность даже. Куча сайтов развелось с демотиваторами. Куда мне с ними тягаться...
Просто отдаю дань традиции.

Просто отдаю дань традиции.

[ читать дальше → ]
Метки: демотиваторы
Максим Теньгушев,
29-06-2013 13:31
(ссылка)
12-ый ПОДВИГ ИЗОЛЬДЫ

В жизни каждого творческого человека когда-нибудь наступает такой момент, когда отчаянно хочется какого-нибудь допинга. Чтоб торкнуло. Ну, а мы с Тимурычем натуры не просто творческие, а, можно сказать, артистические. Ну, не можем без всех этих фуэте, батман-тандю и всё тут! Вот и сегодня, дабы раскорячило меня, решил болванку Тимуркину обстругать. А то валяется без дела уж пару месяцев как.
Тимурыч-то пока бабло зарабатывает и в перерывах меж зарабатыванием тугриков на диктофон свои глубокие мысли о психоделической старушке - Изольде в салоне своего авто сам для себя излагает. А я в догадках изнемогаю весь. Как там дела у беспредельщицы нашей? Замуж в очередной раз не вышла? За Мордыхая какого или Менахема?
И, главное, выбора у меня теперь никакого: в связи с нахлынувшей глобальной послеразводной финансовой катастрофой, за чекалдой по велению Души сгонять теперь не в состоянии. Я-то, в отличие от Тимурыча, на пензии. Мне осталась одна забава – пальцы в рот, да весёлый свист.
Ну, или болванки Тимурыча стругать…
Вот он Буратино наш очередной. По обыкновению недоделанный. Пускай себе Тимурка мягким, бархатистым голосом про Изольду и дальше нашептывает себе под нос чего-то. (Кстати, как дурак выглядит!).
«12-ый подвиг Изольды» называеца.
«Почему сразу 12-й? А первые 11-ть где?» - спросит любопытствующий читатель моего бложика.
Отвечу. Дело в том, что Тимурыч, когда увлекается, и под нос себе бурчать про подвиги Изольды начинает, делает это крайне нечленораздельно – вместе с соплями и все слова жуёт. В общем, чего там Изольда за 11 подвигов понаделала, я не разобрал. Только в 12-ый подвиг врубился. И то не до конца. Пришлось домысливать. Вот чё получилось…
«ТОЛПА ХАВАЕТ!!!» - громко подумал вот уже в третий раз выдвиженец - действующий мэр города Саратова, заходя в свой кабинет и сворачивая боевой плакат, напоминающий переходящее знамя с примитивным лозунгом " Вся власть народу!". Не лишённый артистизма трижды выдвиженец зашёл в свой кабинет с балкона, как всегда элегантно, лицом к собравшимся под балконами мэрии заинтересованным в одном-двух отгулах горожанам, задом к кулисообразным шторам, словно он уходящий после премьеры со сцены Цискаридзе какой-нибудь. Отпускать благодарственные поклоны и корчить бенитомуссолиниевскую самодовольную харю, мэр на этот раз не стал, поскольку спинным мозгом и шейными отделами позвоночника почувствовал, что в кабинете он не один.
Чувство это породила трость с изогнутой в форме петли рукояткой, которая и помогла мэру, обхватив его за шею сзади, зайди целиком и довольно быстро в кабинет...
Мэр пришел в сознание, когда уже сидел на стуле, примотанный шершавой туалетной бумагой к стульей спинке. Ровно напротив него сидели три милые дамы в малиновых, как на подбор, мохеровых беретах, готовые начать с ним диалог.
«БАБКИ!!!!!!!!!!!!! ЭТО НЕЗАКОННО!!!!!!!!!!!!!!!!!» - с ужасом подумал про себя и тут же крикнул вслух мэр.
«Вот и мы думаем, что бабки, которые ты тратишь на себя - это незаконно» - произнесла одна из старушек.
«ЧТО ВЫ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ?!!!!!!!» - не унимался народный слуга.
«Да в принципе много мы себе позволить не можем, а хотелось бы» - ответили мохеровые переговорщицы.
«Я ВАС ПОСАЖУ!!!!!!!!!» - перейдя на визг, сопротивлялся мэр.
«Куды ты нас пасодишь? Тут один удобный стул и ты на нем сидишь» - парировали линчеватели.
Мэр в какой-то момент стал отчётливо понимать, что эти старухи, мало того, что стоят перед ним во множественном числе, так еще они достаточно уверенно оппонируют его недвусмысленным угрозам.
К тому же у одной из них с собой был серьезный аргументатор - это дед в красноармейской рубахе с усами, как у Будённого, и в кирзовых сапогах с галошами.
В мозолистой руке Будённого было услужливо сжато не оружие пролетариата, а вещь пострашнее Фауста Гёте - свернутый в плотную трубку журнал BURDA MODEN.
Этим если получить по мордасам, то придется опять выезжать на слет мэров в Цюрих, который проходил в прошлом году в одной стоматологической клинике.
Мэр оценил ситуацию и свое состояние: «Если не договорюсь с воинствующими пенсионерами, то моё состояние потянет лет на 10» - подумал про себя мэр.
«На 15 потянет твое состояние!» - внезапно произнесла женщина в малиновом мохеровом берете с бардовым отливом и с торчащей из под берета пергидролевой чёлкой.
«Да-да, на 15, не меньше потянет твое состояние, не думай, внучок» - повторно произнесла она.
Мэр итак старался не думать. Он где-то читал, что если активно пользоваться мозгом, то тот может выйти из строя. Думающий чиновник - это вообще опасно для самого чиновника, для тех, кто его окружает и, главное, если мозг чиновника выйдет из строя, то как он будет служить своему хозяину, то есть народу???
Но тут мэру, несмотря на все его опасения, относительно мозговых перенапряжений, всё-таки подумалось, что диалог с ним, скорее всего, начала лидер налетчиков и она, судя по всему, умеет читать мысли. Особенно подлые и глупые.
Он сменил тон на воздыхательно-уважительные ноты и спросил – «Кто Вы, бабушка?»
«Я - бессменный лидер «Мохеровых беретов». Зовут меня Изольда Наумовна Штык. Слышал?» - скрипящим голосом произнесла бабуська.
«Нет!» - трясущимся голосом ответил мэр.
«Вооооооот» - протянула Изольда Наумовна.
«А должен был не только слышать, но и поддерживать нас, спонсировать нас, выделить нам помещение какое-нибудь скромное. В центре города с евроремонтом. Мы люди пожилые, у нас многие ходят с трудом, им нужна машина мне ездить. Опять же Акакию Назаровичу Зимбильштейну помочь вот надо»
Старый будёновец в галошах оживился и полез доставать из кармана свернутые листки, где было записано все то, что ему не хватает и ещё то, чего хватает с избытком другим, что его особенно раздражало.
«Это невозможно!» - произнес ошеломленный мэр.
Изольда Наумовна замерла, выдержала паузу, глядя на него вопрошающим взглядом и, спустя несколько секунд, отчётливо слышных в оглушающей кабинетной тиши, благодаря секундной стрелке висящих на стене часов, произнесла: «Ну договаривай. Предложение явно не закончил. Повторяй за мной, я тебе помогу»
Дирижируя карандашом, чтобы мэру было удобнее домысливать несказанное, Изольда Наумовна произнесла, продолжая оброненное мэром начало предложения: «Это не возможно… откладывать. И я готов прямо сейчас выдать вам помещение, как Вы просите».
Мэр явно не попадал в такт и Изольда Наумовна сделала ему замечание, что надо быть порасторопнее и не стесняться в своих порывах. Продолжая задавать правильный темп карандашом, она стала и дальше от лица градоначальника сеять разумное, доброе, вечное.
«Как раз у меня есть на примете отличное помещение в самом центре напротив центральной площади - косметический салон. Он все равно моей жене не нужен».
«Ну вот, молодец, смотри, как хорошо предложение построил! Порадовал пожилых людей - мы теперь сможем помочь в городе навести порядок».
Мэр отчётливо кожей и спинным мозгом почувствовал, как начинают падать его доходы и артериальное давление, но понял что с этими людьми лучше договориться.
«В конце-концов, от одного потерянного салона красоты жена не обеднеет, другой отниму у кого-нибудь, делов-то. Одним больше – одним меньше. Народ у нас в городе добрый, кто-нибудь пожертвует» - проанализировал мэр.
После этой маленькой морально-этической, я бы даже сказал – эстетической, победы над всенародно любимым и всенародно трижды избранным мэром, неожиданные передвижения подвижнОй боевой группы «Мохеровых беретов» стали характерной отличительной чертой обыденного саратовского городского пейзажа. Спешащие по своим и чужим делам горожане даже перестали обращать внимание на спорадические перемещения каких-то странных пожилых персонажей по вылизанным, в отличие от остальных улиц и площадей, центральным улицам и площадям Саратова. С другой стороны, эти передвижения стали визитной карточкой города для его случайных гостей и даже иностранцев! И сейчас в какой-нибудь несчастной Оклахоме легко можно найти любопытного негра или китайца, который с привеликим удовольствием покажет Вам полароидные фотки с улыбающимися неграми или китайцами на фоне фанерного макета танка Т-34 с торчащей из картонного люка головой с роскошными усами или закомуфлированных в огромные листья лопуха и стебли крапивы пожилых женщин с запутавшимся в волосатых беретах репейником. В центре почти каждой фотографии, для придания пейзажу экспрессии и рок,н,ролла, почти всегда располагается стул с сидящим на нём безвестным (а иногда и известным) чиновником саратовской мэрии, депутатом городской или областной Думы, примотанным к спинке мотком шершавой туалетной бумаги. Пожилые персонажи в мохеровых беретах в момент, когда обычно вылетает птичка,больно щипали за ляжки пленённых чиновников, чтобы от групповых фотографий не разило официозом. Фото с такими естественными выражениями лиц саратовских чиновников до сих пор особенно ценятся у оклахомских негров и китайцев. Среди россыпи множественных полароидных фотографий, любопытный читатель, знакомый с нашим с Тимурычем творчеством не понаслышке, мог бы найти и одну – уже знакомую...
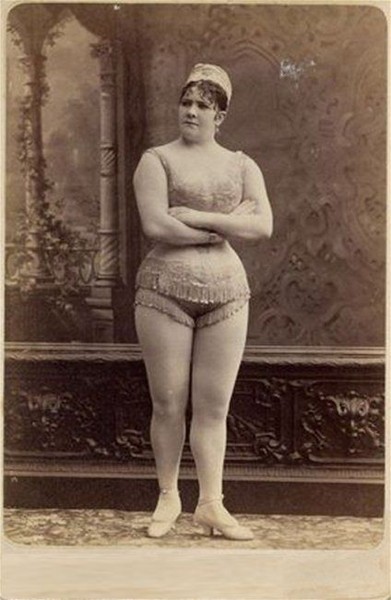
Это «прошлогоднее» фото, Изольда Наумовна Штык всучивала любому первому попавшемуся негру или китайцу, в надежде на то, что тот рано или поздно доберётся-таки до Бастиона Свободы и вручит в интимной обстановке небезызвестному Джеймсу Хэтфилду – бессменному, как и сама Изольда Наумовна, лидеру группы «Металлика»...
Тимурыч-то пока бабло зарабатывает и в перерывах меж зарабатыванием тугриков на диктофон свои глубокие мысли о психоделической старушке - Изольде в салоне своего авто сам для себя излагает. А я в догадках изнемогаю весь. Как там дела у беспредельщицы нашей? Замуж в очередной раз не вышла? За Мордыхая какого или Менахема?
И, главное, выбора у меня теперь никакого: в связи с нахлынувшей глобальной послеразводной финансовой катастрофой, за чекалдой по велению Души сгонять теперь не в состоянии. Я-то, в отличие от Тимурыча, на пензии. Мне осталась одна забава – пальцы в рот, да весёлый свист.
Ну, или болванки Тимурыча стругать…
Вот он Буратино наш очередной. По обыкновению недоделанный. Пускай себе Тимурка мягким, бархатистым голосом про Изольду и дальше нашептывает себе под нос чего-то. (Кстати, как дурак выглядит!).
«12-ый подвиг Изольды» называеца.
«Почему сразу 12-й? А первые 11-ть где?» - спросит любопытствующий читатель моего бложика.
Отвечу. Дело в том, что Тимурыч, когда увлекается, и под нос себе бурчать про подвиги Изольды начинает, делает это крайне нечленораздельно – вместе с соплями и все слова жуёт. В общем, чего там Изольда за 11 подвигов понаделала, я не разобрал. Только в 12-ый подвиг врубился. И то не до конца. Пришлось домысливать. Вот чё получилось…
«ТОЛПА ХАВАЕТ!!!» - громко подумал вот уже в третий раз выдвиженец - действующий мэр города Саратова, заходя в свой кабинет и сворачивая боевой плакат, напоминающий переходящее знамя с примитивным лозунгом " Вся власть народу!". Не лишённый артистизма трижды выдвиженец зашёл в свой кабинет с балкона, как всегда элегантно, лицом к собравшимся под балконами мэрии заинтересованным в одном-двух отгулах горожанам, задом к кулисообразным шторам, словно он уходящий после премьеры со сцены Цискаридзе какой-нибудь. Отпускать благодарственные поклоны и корчить бенитомуссолиниевскую самодовольную харю, мэр на этот раз не стал, поскольку спинным мозгом и шейными отделами позвоночника почувствовал, что в кабинете он не один.
Чувство это породила трость с изогнутой в форме петли рукояткой, которая и помогла мэру, обхватив его за шею сзади, зайди целиком и довольно быстро в кабинет...
Мэр пришел в сознание, когда уже сидел на стуле, примотанный шершавой туалетной бумагой к стульей спинке. Ровно напротив него сидели три милые дамы в малиновых, как на подбор, мохеровых беретах, готовые начать с ним диалог.
«БАБКИ!!!!!!!!!!!!! ЭТО НЕЗАКОННО!!!!!!!!!!!!!!!!!» - с ужасом подумал про себя и тут же крикнул вслух мэр.
«Вот и мы думаем, что бабки, которые ты тратишь на себя - это незаконно» - произнесла одна из старушек.
«ЧТО ВЫ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ?!!!!!!!» - не унимался народный слуга.
«Да в принципе много мы себе позволить не можем, а хотелось бы» - ответили мохеровые переговорщицы.
«Я ВАС ПОСАЖУ!!!!!!!!!» - перейдя на визг, сопротивлялся мэр.
«Куды ты нас пасодишь? Тут один удобный стул и ты на нем сидишь» - парировали линчеватели.
Мэр в какой-то момент стал отчётливо понимать, что эти старухи, мало того, что стоят перед ним во множественном числе, так еще они достаточно уверенно оппонируют его недвусмысленным угрозам.
К тому же у одной из них с собой был серьезный аргументатор - это дед в красноармейской рубахе с усами, как у Будённого, и в кирзовых сапогах с галошами.
В мозолистой руке Будённого было услужливо сжато не оружие пролетариата, а вещь пострашнее Фауста Гёте - свернутый в плотную трубку журнал BURDA MODEN.
Этим если получить по мордасам, то придется опять выезжать на слет мэров в Цюрих, который проходил в прошлом году в одной стоматологической клинике.
Мэр оценил ситуацию и свое состояние: «Если не договорюсь с воинствующими пенсионерами, то моё состояние потянет лет на 10» - подумал про себя мэр.
«На 15 потянет твое состояние!» - внезапно произнесла женщина в малиновом мохеровом берете с бардовым отливом и с торчащей из под берета пергидролевой чёлкой.
«Да-да, на 15, не меньше потянет твое состояние, не думай, внучок» - повторно произнесла она.
Мэр итак старался не думать. Он где-то читал, что если активно пользоваться мозгом, то тот может выйти из строя. Думающий чиновник - это вообще опасно для самого чиновника, для тех, кто его окружает и, главное, если мозг чиновника выйдет из строя, то как он будет служить своему хозяину, то есть народу???
Но тут мэру, несмотря на все его опасения, относительно мозговых перенапряжений, всё-таки подумалось, что диалог с ним, скорее всего, начала лидер налетчиков и она, судя по всему, умеет читать мысли. Особенно подлые и глупые.
Он сменил тон на воздыхательно-уважительные ноты и спросил – «Кто Вы, бабушка?»
«Я - бессменный лидер «Мохеровых беретов». Зовут меня Изольда Наумовна Штык. Слышал?» - скрипящим голосом произнесла бабуська.
«Нет!» - трясущимся голосом ответил мэр.
«Вооооооот» - протянула Изольда Наумовна.
«А должен был не только слышать, но и поддерживать нас, спонсировать нас, выделить нам помещение какое-нибудь скромное. В центре города с евроремонтом. Мы люди пожилые, у нас многие ходят с трудом, им нужна машина мне ездить. Опять же Акакию Назаровичу Зимбильштейну помочь вот надо»
Старый будёновец в галошах оживился и полез доставать из кармана свернутые листки, где было записано все то, что ему не хватает и ещё то, чего хватает с избытком другим, что его особенно раздражало.
«Это невозможно!» - произнес ошеломленный мэр.
Изольда Наумовна замерла, выдержала паузу, глядя на него вопрошающим взглядом и, спустя несколько секунд, отчётливо слышных в оглушающей кабинетной тиши, благодаря секундной стрелке висящих на стене часов, произнесла: «Ну договаривай. Предложение явно не закончил. Повторяй за мной, я тебе помогу»
Дирижируя карандашом, чтобы мэру было удобнее домысливать несказанное, Изольда Наумовна произнесла, продолжая оброненное мэром начало предложения: «Это не возможно… откладывать. И я готов прямо сейчас выдать вам помещение, как Вы просите».
Мэр явно не попадал в такт и Изольда Наумовна сделала ему замечание, что надо быть порасторопнее и не стесняться в своих порывах. Продолжая задавать правильный темп карандашом, она стала и дальше от лица градоначальника сеять разумное, доброе, вечное.
«Как раз у меня есть на примете отличное помещение в самом центре напротив центральной площади - косметический салон. Он все равно моей жене не нужен».
«Ну вот, молодец, смотри, как хорошо предложение построил! Порадовал пожилых людей - мы теперь сможем помочь в городе навести порядок».
Мэр отчётливо кожей и спинным мозгом почувствовал, как начинают падать его доходы и артериальное давление, но понял что с этими людьми лучше договориться.
«В конце-концов, от одного потерянного салона красоты жена не обеднеет, другой отниму у кого-нибудь, делов-то. Одним больше – одним меньше. Народ у нас в городе добрый, кто-нибудь пожертвует» - проанализировал мэр.
После этой маленькой морально-этической, я бы даже сказал – эстетической, победы над всенародно любимым и всенародно трижды избранным мэром, неожиданные передвижения подвижнОй боевой группы «Мохеровых беретов» стали характерной отличительной чертой обыденного саратовского городского пейзажа. Спешащие по своим и чужим делам горожане даже перестали обращать внимание на спорадические перемещения каких-то странных пожилых персонажей по вылизанным, в отличие от остальных улиц и площадей, центральным улицам и площадям Саратова. С другой стороны, эти передвижения стали визитной карточкой города для его случайных гостей и даже иностранцев! И сейчас в какой-нибудь несчастной Оклахоме легко можно найти любопытного негра или китайца, который с привеликим удовольствием покажет Вам полароидные фотки с улыбающимися неграми или китайцами на фоне фанерного макета танка Т-34 с торчащей из картонного люка головой с роскошными усами или закомуфлированных в огромные листья лопуха и стебли крапивы пожилых женщин с запутавшимся в волосатых беретах репейником. В центре почти каждой фотографии, для придания пейзажу экспрессии и рок,н,ролла, почти всегда располагается стул с сидящим на нём безвестным (а иногда и известным) чиновником саратовской мэрии, депутатом городской или областной Думы, примотанным к спинке мотком шершавой туалетной бумаги. Пожилые персонажи в мохеровых беретах в момент, когда обычно вылетает птичка,больно щипали за ляжки пленённых чиновников, чтобы от групповых фотографий не разило официозом. Фото с такими естественными выражениями лиц саратовских чиновников до сих пор особенно ценятся у оклахомских негров и китайцев. Среди россыпи множественных полароидных фотографий, любопытный читатель, знакомый с нашим с Тимурычем творчеством не понаслышке, мог бы найти и одну – уже знакомую...
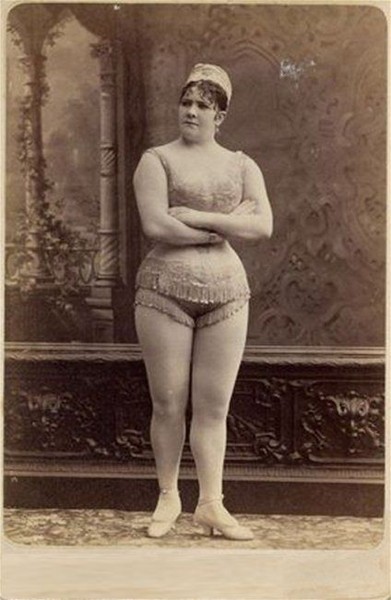
Это «прошлогоднее» фото, Изольда Наумовна Штык всучивала любому первому попавшемуся негру или китайцу, в надежде на то, что тот рано или поздно доберётся-таки до Бастиона Свободы и вручит в интимной обстановке небезызвестному Джеймсу Хэтфилду – бессменному, как и сама Изольда Наумовна, лидеру группы «Металлика»...
Нравится
Метки: Сыновья Альфреда Шнитке
Максим Теньгушев,
24-06-2013 07:15
(ссылка)
БАЙКИ ОДИНОКАГО НАТУРАЛИСТА

В новом качестве выступаю. Юного натуралиста. Затевахина какого-нибудь. Или Дроздова Николая.
"Здравствуйте дорогие друзья, я Николай Дроздов, и сегодня в программе «В мире животных» мы с вами будем наблюдать спаривание шмелей в их естественной среде обитания"
Спаривание шмелей тема, безусловно, интересная и захватывающая воображение, но я сегодня про другое молотить буду. Про чувака со странным именем Несри продолжение. В конце концов, не в моих правилах останавливаться на достигнутом. А тема с голубями и пушистой хренью, как Вы поняли, меня, как крайне одинокого мущщину, за живое цепляет. Да и за частично отмирающее тоже. Извиняюсь, конечно, перед читателями моего бложика за повтор возможный. Но они-то в большинстве своём народ довольно странноватый. Могут и второй раз прочесть, если уж на первый угораздило. Короче, приручил я на лоджии голубя. Тот с голубкой стал прилетать, которая что-то пушистое в своём клюве таскала. Я от умиления даже заутипусничал и слезу пустил. Ну, как же? Раз фиговину какую-то таскают, значит, гнездо строят. А я - то типец крайне сентиментальный, плюс во всякие знамения с некоторых пор верю. Ну, думаю, щас и мне щастия привалит. Полные штаны…
И ведь было на примете объектов несколько: одна - в мечтах и штуки две – в реальности. Пока я с приоритетами определялся, голубка с хренью с лоджии свалила куда-то. Остался голубь один-одинёшенек. Как я. С корнями итальянскими – Несри Набалконе (тут уж со мной ничё общего). Ну и это…
У меня в жизни личной, прям хрень какая-то попёрла. Пушистая. В некоторых местах. Объекты как-то в раз взъерепенились, дурковать
маленько начали. И мечта моя далёкая ручкой сделала. Вроде как. Не, ну а я-то чё? Я ж по-прежнему добрый и ласковый.
- Не оправдал доверия, говорят, нашего высокого.
А меня-то злить нельзя в принципе. В итоге в моих мозгах воспалённых всякие ультиматумы возникают с угрозами: «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас»
А клеюсь-то я к красоткам только. Детородного возраста. Воспроизводиться чтоб. И размножаться. Я ж не на помойке себя нашёл. Красотки от меня, как чёрт от ладана теперь бегают. Выхожу после очередной «сбежавшей невесты» в трусах такой, измождённый и морально уставший на лоджию. Курю. Молчаливого чувака Несри по плечу ободряюще хлопаю.
Типа, мы одной с тобой бобылёвской крови, брат.
Сочувствую. Есть моменты между мужиками, когда ясно всё и без слов. Вот и тут. Через пару дней моего сочувствия, решил я верёвку для сушки белья поднять таки. С пола лоджии. В прошлом годе уроненную (бельё сейчас сушу на дверцах шкапчиков). А один конец верёвки в хламе подзастрял. В угле лоджии по обыкновению сваленном. В глубине развалин дивана кухонного я гнездо обнаружил с двумя птенцами голыми.
Так выходит, зря Несри я сочувствовал? Зря, выходит, по плечу голубиному нахлапывал?
У него-то как раз в поряде всё. Сразу начало душить одиночество. От осознания своего. Когда в мужском коллективе есть помимо тебя заморыш какой несчастный, спокойней на душе как-то делается. А тут! Угораздило же поселиться на лоджии моей Бандеросу!
То рыдать вдруг начинаю неожиданно, то зло срываю. На персонажах из ноутбука и даже телевизора! Тут голубка чувака объявилась вновь на лоджии. Невзрачненькая. С клювиком. Чё нашёл-то в ней? У Несри вид вполне довольный. И расслабленный.
Может, я зря с молодыми красотками, с этими? Может, и мне какую-нибудь пожилую, с клювиком?
Теперь за потомство чужое чувствую ответственность (я ответственный). Помогаю пернатым продуктами. Чувак-то борзый, а голубка его - скромненькая. Рису сыплю – чувак долбит всё. Чувиха голодная с клювиком. Да за крысятничество подобное его бы в армии! Решил я гостинцы положить поближе чувихе и к птенчикам – на утёс разломов дивана кухонного. Чтоб чуток досталось женщине. Сижу. Жду. Возле окна окопался, травой, ветками закамуфлировался. И это в комнате!

Нету, ни Несри, ни чувихи евоной. Рис на месте. Не стороне нашли спонсоров ироды, штоле? В изнеможении заснул, голову на живот свесив. Никто не заметил даже. Я ж ветках и в камуфляже весь.
Утром просыпаюсь – нету риса. С одной стороны - хожу довольный, а с другой – где благодарность-то? От себя, можно сказать, оторвал.
Кутью сварил бы. Накрутил бы в мясорубке суши с ролами… Я одиночество с чужой неблагодарностью во флаконе одном терпеть ненавижу!
Две ночи прошло. И два дня.
Жрачку, значит, схавали и свалили фестивалить куда-то. Довольные и сытые.
Третьи сутки пошли.
Выхожу на балкон размышлять о своём одиночестве и крайней голубиной неблагодарности. Краем глаза глянул на завал диванно-кухонный.
И чё думаете?
Там, где на утёсе рис лежал, нечто отвратительное валяется. Эдакое кроваво-сопливое. Меня аж передёрнуло всего от омерзения. Странно – гостей-алкашей больных на лоджии не было. Шо ж за мерзость-то? Подхожу поближе, а это не сопли кровавые, а червячки дождевые. Чуть
пожёванные. От пернатых алаверды с кисточкой.

Да мои ж Вы хорошие! Пернатые! Гули-гули, блин!
Опять слезу пустил от умиления. А я ж не знаю, может, гули за мной зырят с крыш. У них же тоже может быть высокая нервная организация. Не съем – обидятся. Ну и это… Рот раскрыл, глаза закрыл, голову назад с живота запрокинул и стою. Соплю пережёвываю...

Передёрнуло разок, но физиономию в довольной улыбке скривил. Типа, «Сыыыр!» Дареному-то коню в зубы не смотрят. Да и червячкам тоже…
Нравится
Максим Теньгушев,
12-06-2013 05:26
(ссылка)
БОБЫЛИ
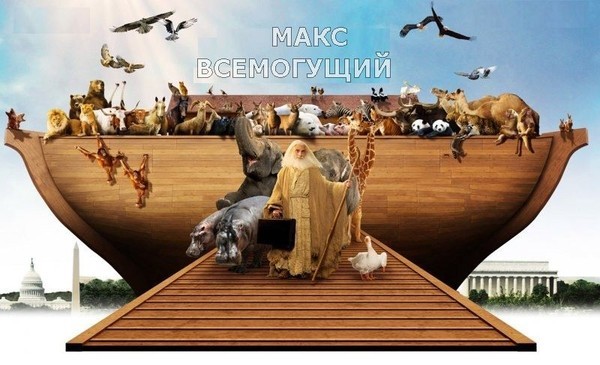
Я тут недавно голубя Мира на лоджии приручил. Говорил же когда-то, что я повелитель всего живого. Оказывается, в натуре повелитель. Сначала голубь с чувихой прилетал. У меня, как у одинокаго мущщины с высокой нервной самоорганизацией, сразу ассоциации романтические. Тем более, голубка какую-то хрень пушистую в клюве таскала. Ну, думаю, гнездо строят. А я-то в квартире съёмной сейчас обитаю. По мне так, пускай хоть бобры плотину на лоджии соорудят. Я теперь добрый. Но бобры на лоджиях в омсках не водятся. И не летают пока. Типа "Я свободе-е-ен, словно птица в не-е-ебесах. Я свободе-е-ен, я забыл, что значит страх"
Закомплексованные бобры какие-то. Зажатые. Летали бы себе меж домами свободные. С брёвнами в зубах.
Ну и это. Себя на месте голубя представил. Воображение-то литературное не пропить. Я ж тоже свободный теперь. С завистью поглядываю на его голубку с пушистой хренью. Ну, думаю, не спроста это всё. И давай свою голубку рыскать. На "Одноклассниках".
И ведь нашёл! Не зря повелителем всего живого меня кличут. Ну, думаю, если голубями я могу повелевать, значит и женщщщинами.
Закомплексованные бобры какие-то. Зажатые. Летали бы себе меж домами свободные. С брёвнами в зубах.
Ну и это. Себя на месте голубя представил. Воображение-то литературное не пропить. Я ж тоже свободный теперь. С завистью поглядываю на его голубку с пушистой хренью. Ну, думаю, не спроста это всё. И давай свою голубку рыскать. На "Одноклассниках".
И ведь нашёл! Не зря повелителем всего живого меня кличут. Ну, думаю, если голубями я могу повелевать, значит и женщщщинами.

Ну разве она не ангел?
Да, главное, подействовало сначала. Повелевание моё. Ангел мне пишет послания подбадривающие: "Давай, типа, дерзай. Иди к своей мечте". Ну, я и потопал мелкими шажочками. А потом, глядь, голубка с хренью куда-то исчезла. И моя, как только я шажочками мелкими и прыжками тройными приближаться к мечте вдруг начал - в кусты.
- Ты же, говорит, "всё понимаешь".
Ага! Подбадривать-то все горазды. Короче, чувак пернатый один теперь на лоджии обитает. Я ему из чувства мужской солидарности по утрам хавчик носить стал. Сам-то борща тоже хочу, руками женскими изготовленного. А то всё чойс, да чойс. Не борщ нифига, хоть название и похожее. Из четырёх букв. Из солидарности чуваку самую красивую тарелку на лоджию вынес. Ну, не в сухомятку же ему жрать!
Так он ещё и выпендривается - от чойса горячего и икры кабачковой отказывается! Несмотря на всё моё повелевание...
Я ему: "Жри! Жри, давай!" А потом думаю - он же языка человеческого не знает.
Начали с азов. С "гули-гули". Чувак на лоджии со временем освоился. Хозяином себя почувствовал. Часов в 8 утра проснётся, сядет на перилу и давай гулькать: "Курлы! Курлы!" Ничё не поделаешь - приходится вставать каждый день и хлебом кормить. С рисом, освящённым церковнослужителем. Сам по ходу тоже его пожёвываю (рис - не служителя) и про голубку думаю. Авось церковная замута сработает?
Чувак меня теперь даже обязанным себе считает. Ходит степенно по периле, не шугается. Мне кажется, когда хавчик ему вынести забуду, обижается. Во всяком случае, на морде его выражение соответствующее.
Эх, бобыли мы с тобой, бобыли!
Дык, главное, местные голубки все с забабахами какими-то, хоть всё на месте: лапки, пёрышки.
Ты, говорит, себя шибко любишь. «Мне, типа, одного козла вполне оказалась достаточно. Теперь меня облизывать нада, а я никому ничего не должна»
Ты, говорит, себя шибко любишь. «Мне, типа, одного козла вполне оказалась достаточно. Теперь меня облизывать нада, а я никому ничего не должна»
- Ты чё, зерна на току обклевалась, штоле? Да я себя, можно сказать, ненавижу! (когда сплю) И облизывать тебя люблю!
А тут ещё МЕЧТА моя роялю уподобилась – в кусты спряталась. И эта - с хренью, куда-то запропастилась.
- Эх, не везёт нам с тобой, чувак. С женским полом…
Так стоим вечерами на лоджии. Молчим. Курим. Всё понимаем,но не говорим. А чё разговаривать-то?
Нахохлились…
Но, жить-то как-то нада. Короче, уроки лёнинга русского продолжаются. Решил тут чуваку имя придумать. А то всё чувак, да чувак. Чувак тупит пока. Думает, что его имя на египетско-итальянский манер «Несри Набалконе» называется.
Просто я при встрече нашей очередной начинаю лёнинг с этого….

Нравится
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу