"Далекая песня Арктура"
http://compulenta.computerr...
Статья А. Березина описывает работу Дункана Форгана, физика из Эдинбургского университета. Форган же, в свою очередь, говорит о "двигателях Шкадова". Эту идею огромного зеркала, с помощью которого можно заставить всю нашу планетную систему изменить "курс" и направиться к выбранной звезде, предложил в 1983 году Леонид Михайлович Шкадов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники.
Но Леонид Михайлович все же не был первым, кто предложил идею "Солнца в упряжке". Вот цитата из моего рассказа "Далекая песня Арктура", опубликованного в июне 1975 года в журнале "Уральский следопыт" (написан рассказ был значительно раньше, в 1968 году и семь лет "путешествовал" по разным редакциям):
"...Два дня я выходил только к завтраку, обеду и ужину. Мы болтали на посторонние темы, Буров вспоминал старые идеи.
– Я придумал, как передвигать звезды, – сказал он однажды. – Давно придумал, прошлым летом. Все казалось очень просто, но Гена подсчитал, и выяснилось, что идея – пшик.
– Что за идея? – спросил я.
– О сфере Дайсона ты, конечно, слышал? А я придумал построить около Солнца параболоид так, чтобы Солнце оказалось в его фокусе. Люди расселятся на внутренней поверхности параболоида, станут потреблять какую-то часть солнечного излучения. Вся остальная энергия будет отражаться. Представляешь прожектор с диаметром зеркала в триста миллионов километров? И вместо электрической дуги – само Солнце! Сила отдачи излучения заставит зеркало двигаться, и Солнце начнет двигаться вместе с ним, ведь они связаны взаимным тяготением. Можно будет лететь куда угодно – к центру Галактики, к туманности Андромеды... Но вот этот, – кивок в сторону Синяева, – этот подсчитал и заявил, что такая ракета разгонится до скорости один метр в секунду за сто тысяч лет... Будто обухом по голове! А ведь как было красиво: Солнце в упряжке!
– Красиво, – протянул я без особого энтузиазма. – Красиво...
– Но нереально, – закончил Гена. – А значит – не нужно...
Вечером я вспомнил про Солнце в упряжке, подумал: что бы ответил я, получив письмо с таким проектом? Наверно, написал бы: зачем заглядывать так далеко? Но ведь это ненамного дальше звездных голосов. Как, в сущности, глупо получается: произведение искусства оценивается по его значимости, красоте, по чисто эстетическим критериям, а ведь хорошая идея – тоже искусство, придумать ее не легче, чем написать картину. Почему же они – лишние, неожиданные, бессмысленные и при этом, может быть, гениальные идеи – лежат мертвым грузом?
И я подумал: неплохо было бы открыть музей. Музей неосуществленной мечты, на стендах которого выставлялись бы идеи. Люди бродили бы по залам, смотрели, читали, посмеивались, спорили, но пришло бы время – и кто-нибудь, заглянув в дальний уголок, увидел бы смысл в одной из похороненных заживо идей. Кто знает, может быть, так появится новая физика?"
Метки: фантастика, журналы, воспоминания
Это таинственное Сколково
И всё.
Собственно, лучше увидеть:





А я-то, читая о том, какое это замечательное место, где делается современная наука, воображал красивые корпуса... широкий проспект... современная архитектура... институты... лаборатории...
Игорь Минаков (m_inackov) посвятил феномену Сколкова стихотворение, которое мне остается только процитировать, ибо лучше не скажешь.
Посредине колхозного поля,
Утонувших в грязи тракторов,
Гиперкуб был построен по воле
Мегажуликов, нановоров.
И премьер наш, милашка и душка,
Чтоб не сделалось пробок в Москве,
Прилетает туда на вертушке,
Как на поле грачи по весне.
Ни стилисты в тот день, ни схоласты,
Ни меньшинства — Чайковский, прости —
Собрались в Гиперкубе фантасты,
Чтобы в массы науку нести.
Но фантастов туды не пускают,
Не пускают — хоть криком кричи:
Нанодушка премьер примеряет
Чудо чудное — киберочки.
Вы, фантасты, теперь не в борделе,
Не пивной, не в журнале «Если»,
Ваши деды и дольше терпели,
А страну от фашистов спасли.
На распилке родного бюджета
Наломать не хотелось бы дров —
Не дождаться вам нанофуршета
Наножуликов, мегаворов.
Тем временем в палатке происходило вот что:
настроение: Боевое
Метки: фантастика, премии, Сколково
"Млечный путь", № 1, 2013

Содержание:
Повесть Далии Трускиновской «Лихая звезда».
Миниатюра Семена Цевелева «Пёс».
Рассказ Елены Трифоненко «Материнская любовь».
Рассказ Леонида Шифмана «Ковчег Завета».
Философское фэнтези Наталии Ипатовой «Время невинности».
Сатира Виталия Бабенко «ОП!».
Эдвард Митчелл: «Часы, которые шли вспять».
Этьен Лаграв: «Второй вторник июля».
Эдвард Бенсон: «Фарфоровая чашка».
Луиза Болдуин: «Как он ушел из отеля».
Благио Туччи «Вариант Мак-Кэтчона».
Эссе Станислава Лема «Зонд в рай и ад будущего».
Триптих Фрэдди Зорина «Старые вещи».
Эссе Эльвиры Вашкевич «Осторожно, инопланетяне!».
Статья Юрия Лебедева «Нобелевские лауреаты – 2012».
Подборка стихотворений Андрея Медведева, Тани Гринфельд, Владимира Васильева (Василид-2) и Уистена Одена.
Метки: фантастика, журналы
"Раскопай своих подвалов..."





А еще обнаружились выпущенные тогда же экслибрис и этикетки на бутылки с минеральной водой и с пивом:
И всё это было аккуратно обернуто листом бумаги, на котором обнаружилась грамота, которую я давным-давно считал утерянной безвозвратно:
Да... Надо время от времени устраивать инвентаризацию в книжных шкафах...
Метки: фантастика, воспоминания
"Ладонь дьявола"




Метки: фантастика, Иллюстрации
"Цапли"

Так она начинается:
Солнце светило в глаза, и, наверно, поэтому Игорь сначала прошел мимо, заметив лишь женский силуэт на фоне окна. Фанни, медсестру, присматривавшую за отцом, он нашел в ординаторской, куда посторонним вход был воспрещен. Подождав несколько минут за дверью, Игорь, раздосадованный, пошел обратно в южный корпус. Он мог и теперь не обратить внимания на женщину, сидевшую в кресле у окна. Солнце немного опустилось, и лучи теперь падали на ее лицо. Игорю показалось, что женщина посмотрела ему прямо в глаза и что-то сказала, но он не расслышал. Ощущение очарования и близости чего-то неизмеримо более прекрасного, чем вся его прошедшая жизнь, заставило Игоря сделать несколько шагов и оказаться в другом времени, в другом пространстве, с другим пониманием собственного предназначения, наконец.
На самом деле – и это стало причиной его изумления, когда полчаса спустя Игорь вышел на шумную улицу Игаля Алона – не произошло ничего, выходившего за рамки обыденности. Он подошел к сидевшей в кресле женщине и поздоровался, как здоровался со всеми в хостеле «Бейт-Веред ». Он и отцу сказал привычное: «Добрый вечер, папа», но отец, конечно, не ответил – посмотрел рассеянно, покачал головой, пробормотал что-то о хорошей погоде и углубился в размышления, которые, скорее всего, были беспорядочными обрывками воспоминаний.
– Добрый вечер, – произнес Игорь, глядя женщине в ее яркие голубые глаза.
Ответа он не получил.
Женщине было лет сорок на вид, гладкие светлые волосы (Игорю показалось, что крашеные), черты лица европейские, мягкий подбородок с небольшой ямочкой, и руки... Игорь обратил внимание на руки, в которых женщина держала что-то вроде вязанья – что-то вроде, поскольку то, что она вязала, не было одеждой: бесформенная на первый взгляд вещица, но в ней все же угадывалась некая упорядоченность. Пальцы ловко управлялись с вязальными спицами.
Женщина неотрывно смотрела на Игоря и что-то хотела сказать своим взглядом. Или прочитать что-то в его мыслях. Будто поняла, о чем он думал. Будто он сам это только что понял, а поняв, упустил, и мысль перетекла к этой женщине по возникшему в воздухе невидимому, но определенно материальному каналу.
– Простите, – сказал Игорь, понимая, с одной стороны, что вмешивается в ее частную жизнь, а, с другой стороны, ее взгляд, умный и приветливый, определенно говорил, что женщина не против завести разговор – скучно ей, наверно, сидеть здесь и вязать нечто бесформенное, подобно девочке из сказки Андерсена «Дикие лебеди».
– Простите, – повторил он и произнес совсем глупую фразу. Пришло в голову – и сказал: – Если хотите, я принесу чего-нибудь выпить. Душно здесь, вы не находите?
Женщина подставила лицо солнцу и вся наполнилась солнечным светом, такое у Игоря возникло впечатление. Пальцы ее стали двигаться еще быстрее, будто жили своей жизнью, и что-то знакомое почудилось Игорю в создаваемой ими форме, знакомое настолько, что узнать было невозможно, как не узнаешь в зеркале собственное лицо, увидев его неожиданно и не соотнеся с обыденностью реального.
Не получив ответа, Игорь смешался, отступил, поняв, наконец, что женщине нет до него дела, он был навязчив и некорректен, но, с другой стороны, ее взгляд...
С одной стороны, с другой стороны... Он привык любое явление, любое событие, любой поступок оценивать с разных сторон: нормальная привычка научного работника.
Кто-то тронул его за рукав, и Игорь обернулся.
– Она не ответит, – сказала Фанни с сожалением.
– Она... – Игорь подумал, а Фанни поняла и покачала головой:
– Нет, Тами не глухонемая, она прекрасно слышит и разговаривает... когда хочет.
– Когда хочет, – повторил Игорь.
– Тами слепа от рождения.
Фанни потянула Игоря за рукав, а он сопротивлялся, сам не зная почему: ему хотелось стоять здесь и смотреть; ему казалось, что он никогда не видел таких красивых женщин, таких больших, ясных и выразительных глаз... и только тогда до него дошло.
– Слепа? – переспросил он пораженно. – Но...
– Взгляд? Поражает, верно? Тем не менее...
Игорь точно знал, что эта женщина, Тами, только что увидела в его душе многое из того, что он, возможно, от себя скрывал. Она теперь это знала, и он знал, что она знает. Взглядом можно сказать столько, сколько не скажешь за час проникновенного разговора. Только потому он и счел возможным... уместным... правильным... спросить, не хочет ли она пить... и вообще.
Тами. Красивое имя. Красивая женщина.
– Пойдемте, – Фанни все еще крепко держала Игоря за локоть и подталкивала в сторону холла, отделявшего северное крыло здания от южного. – Вы хотели спросить об отце? Динамики никакой, и это, вообще-то, неплохо, вы же понимаете. Динамика в его состоянии может быть только отрицательной...
– Мне показалось, – Игорю хотелось выдать желаемое за действительное, – что папа сегодня узнал меня, он сказал что-то вроде: «Сынок, ты неплохо выглядишь».
– Может быть. Это ни о чем не говорит в его состоянии.
– Я понимаю. Хотел спросить... Эта женщина, Тами...
– Она не любит, когда с ней заговаривают чужие. Не делайте больше этого, пожалуйста.
– Простите, я не знал... Слепая, вы сказали? Она...
Он затруднялся задать вопрос.
– Почему она здесь, вы хотели спросить? Множество слепых в ее возрасте живут с родными и даже одни. Справляются.
– Сколько ей лет? – перебил Игорь, удивляясь своей настойчивости. – Мне показалось, не больше сорока.
– Сорок три. Они обычно выглядят моложе своих лет, хотя чаще умирают молодыми.
– Они?
– Аутисты.
Вот оно что! Отрешенность, руки, живущие будто сами по себе...
Решив, что сказала достаточно, Фанни оставила Игоря посреди холла и поспешила в южный корпус. Игоря она знала третий год, с того дня, когда он привез в «Бейт-Веред» отца, с которым уже не мог справиться сам. Знала, что он научный работник, кажется, физик, да, точно физик, работает в Технионе. Владимир Тенцер, его отец, пять лет назад похоронил жену, несчастный случай, и вскоре у него начались проблемы с памятью – ранняя стадия Альцгеймера. Слишком ранняя: Владимиру, работавшему в химической лаборатории Водного управления, не было тогда и шестидесяти. Сын возился с отцом три года, но у него, видимо, оказалось своих проблем достаточно...
Игорь опустился на диван, рядом с двумя стариками: женщина кормила мужчину йогуртом, подбирая ложечкой остатки из баночки, а тот что-то ей говорил и есть не хотел. Это были – Игорь узнал обоих – Рут и Гай Варзагеры, обоим за восемьдесят, оба бывшие кибуцники, всю жизнь проработали на апельсиновых плантациях и в «Бейт-Веред» ушли вместе, пенсия позволяла. Смотреть на стариков было и жалко, и замечательно: как они ухаживали друг за другом, как друг друга поддерживали, когда шли, качаясь, по коридору...
Дожить бы до их лет.
Тами. Игорю хотелось узнать больше об этой женщине. Как она-то здесь оказалась? Разве в хостелях есть отделения для аутистов? Может быть. Игорь никогда этим не интересовался. И никогда не думал, что у слепых могут быть такие живые глаза. Он знал, что Тами... красивое имя... видела его, заметила в нем то, что он... похоже, мысль его двигалась сейчас по кругу, и Игорь тряхнул головой, отчего почему-то сразу понял, что представляло собой вязанье в руках Тами. Женщина вязала фракталы. Фигурки переходили сами в себя, уменьшаясь, повторяясь и уходя в глубину материала.
Как она могла? Не видя, только ощущая пальцами? Аутистка. Игорь мало что знал о людях с этим... как правильнее сказать... недостатком? Болезнью? Свойством организма? Он помнил фильм «Человек дождя», великолепную игру Дастина Хофмана. Видел – мельком, правда – фильм об аутистах на канале документального кино. Много лет назад читал о детях-аутистах и решил, что все аутисты – дети. Персонаж Хофмана выглядел реальным, но все равно фантастическим – взрослого аутиста можно сыграть, но... Почему он тогда не сопоставил, ведь дети-аутисты вырастали, и что-то с ними происходило.
Но они, по крайней мере, видели.
настроение: Бодрое
Метки: журналы, фантастика
2012
Что в этом году опубликовано:
«Чайка», рассказ, «Если», № 2
http://fan.lib.ru/editors/a...
«Я пришел вас убить…», рассказ, «Полдень, XXI век», № 3
http://fan.lib.ru/a/amnuelx...
«Свидетель», повесть, «Млечный Путь», № 1
http://fan.lib.ru/a/amnuelx...
http://litgraf.com/detail.h...
«Право на возвращение», повесть, «Искатель», № 6
http://fan.lib.ru/a/amnuelx...
«Угловой Дом», рассказ, «Полдень, XXI век», № 12
Написано, но пока не опубликовано:
«Цапли», повесть, будет в «Искателе», № 1, 2013
«Я вошел в эту реку…»
Статьи и всякое такое...
«Миры», «Полдень, XXI век», № 1
«Потерянный гигант…», «Наука и жизнь», № 12
http://www.nkj.ru/archive/a...
Широко распахнутое окно, «Троицкий вариант», № 18 (112)
http://elementy.ru/lib/431723
Премии:
«Аэлита»
http://amnuel.livejournal.c...
Премия журнала «Полдень, XXI век» за статью «Мудрость против разума», опубликованную в № 2 (2011)
http://www.relga.ru/Environ...
Книги, выпущенные издательством «Млечный путь» (Иерусалим) в рамках программы print-on-deand:
«Имя твое…»
http://litgraf.com/detail.h...
«Дорога на Элинор»
http://litgraf.com/detail.h...
«Обратной дороги нет»
http://litgraf.com/detail.h...
«Капли звездного света»
http://litgraf.com/detail.h...
«Каббалист»
http://litgraf.com/detail.h...
Вышли первые три номера нашего бумажного журнала «Млечный Путь»
http://litgraf.com/detail.h...
http://litgraf.com/detail.h...
http://litgraf.com/detail.h...
Потери года.
Ушли из жизни: Нил Армстронг, Рэй Брэдбери, Гарри Гаррисон, Борис Натанович Стругацкий…
Перестал выходить журнал «Если».
настроение: Нормальное
Метки: воспоминания, книги, журналы
"Млечный путь", номер 3

В номере:
Фантастический детектив Андрея Силенгинского "Дело о невинном убийце".
Рассказы:
Джон Маверик, "Ржавый золотой ключик",
Наталия Сорокоумова, "Зависимость",
Юрий Лопотецкий, Инна Уланова "01:11",
Олеся Чертова, "Пациент",
Дмитрий Козлов, "Милосердие".
Переводы:
Эдвард Митчелл, "Тахипомпа",
Роберт Чандлер, "Чудесный вечер",
Луис Т. Фоули, "Призрак семьи",
Станислав Лем, "От эргономики до этики",
Яцек Дукай, "Кто написал Станислава Лема?",
Благио Туччи, "Пожелтевшие листки".
Эссе:
Александр Николенко, Юрий Лебедев, "Преждевременные открытия".
Наука на просторах Интернета:
Юрий Лебедев, "Что случилось в Женеве?.."
Стихи Сильвии Браун, Владимира Васильева, Елены Литвиновой, Юрия Нестеренко.
В ближайшие дни журнал в бумажной и электронной версиях можно будет заказать на сайте книжного магазина издательства "Млечный Путь":
http://litgraf.com/shop.htm...
Метки: фантастика, журналы
"Угловой Дом"

Вот начало:
Случай – вот что управляет нами в жизни. К этой мысли я пришел после долгих размышлений над человеческой природой, хотя отец вбивал в меня с детства, что рассуждать я не способен, зато с моей памятью мог бы стать адвокатом или даже судьей, поскольку в этом деле главное – помнить все статьи законов и произносить нужные слова в нужное время. На самом деле я не стал поступать в Колумбийский колледж, потому что по дороге в Нью-Йорк у дилижанса отвалилось колесо, я счел это плохим предзнаменованием и вернулся, решив не испытывать судьбу.
История, начавшаяся в ночь на 12 сентября 1876 года и круто изменившая мою жизнь, тоже стала результатом случайного совпадения. Я не собирался идти в Угловой Дом (так называлось одноэтажное строение в конце нашей Уайлдвуд-Террас, где лет уж десять никто не жил, но никто и не покупал его у нынешнего владельца, старого Морриса, потому что он заламывал цену, не соответствовавшую реальной стоимости этого длинного невзрачного здания времен Бостонского чаепития). Мне, как и никому из взрослых жителей Глен Риджа, нечего было там делать – тем более ночью. Но совершенно случайно в тот вечер кот миссис Чедвик, с которой моя матушка любила посудачить о жизни, забрался в Угловой Дом и, видимо, попал там в беду. Кот истошно орал, а старая женщина, скрученная артритом, не могла встать с постели и попросила меня вызволить любимца. В ответ на мои слабые возражения, мол, утро вечера мудренее, ничего с котом за ночь не случится, старушка так на меня посмотрела, что я вставил свечу в фонарь и пошел в дом, где мне, вообще говоря, знаком был каждый угол, потому что здесь мы с Джеком лет еще шесть или семь назад играли в пиратов и разбойников.
Я увидел его в большой зале, где во времена президента Линкольна, наверно, устраивали балы. Не кота я увидел (которого, к слову сказать, так и не нашел – к утру он сам явился домой, ободранный, злой и голодный), а бестелесную белесую, похожую на сконцентрированный туман, фигуру, стоявшую в углу и, как мне показалось, наблюдавшую за мной с целью озадачить или напугать. И то, и другое ей удалось – я выронил фонарь, отчего свеча погасла, а темнота стала непроницаемой.
Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: передо мной призрак. Где же ему и являться, если не в старом доме с многочисленными комнатами и коридорами? Наверняка здесь кто-нибудь умер насильственной смертью – не могло быть такого, чтобы за сотню лет никто никого не заколол, не отравил или не отправил на тот свет иным, не менее ужасным, способом.
– О-уж... – Голос у призрака оказался низким, будто шел из глубокого колодца. Я ничего не понял, и, когда он, протянув ко мне руки и завывая на манер безумного Роузена, двинулся в мою сторону, я перепугался не на шутку и помчался по коридорам, натыкаясь на стены, углы, мешки, камни – все, что попадалось на пути, а за спиной мне мерещилось шумное дыхание, и низкий голос повторял одно и то же:
– О-а-ур...
Повесть, тем не менее, не о призраке, хотя именно призрак является ее главным персонажем...
Метки: фантастика, журналы
"Млечный Путь", номер 2

Открывает номер рассказ Натальи Резановой «Третий день карнавала». Определить его жанр затруднительно. Тут довольно сложный рецепт: немного мистики, капля фэнтези, но главной героине этого показалось мало – она всеми силами пытается превратить рассказ в детектив!
Фантастический рассказ Виталия Забирко «Здесь живет Морок» по достоинству оценит прочитавший его до конца. Но сделать это несложно: рассказ написан легко и увлекательно.
Фантастический рассказ Леонида Моргуна «Найти филумбриджийца» написан еще в советские времена «в стол», так что читатели, помнящие старый добрый (?) Советский Союз, легко отгадают, что за планета такая – Филумбридж.
Новелла Семена Цевелева «Билет в Катманду» удачно стилизована под середину прошлого века.
Ира Кадин когда-то писала для КВН. Во что теперь превратился КВН? Но Ира Кадин все пишет и пишет. Пишет смешно. «Мошико и майор».
Модная ныне страшилка «конец Света»… А на самом деле? Ответ у Валерия Цуркана «Второй круг».
Константин Луковкин в рассказе «Лицо» оставил от имени своего героя лишь инициал, чем сразу отослал читателя к повести… Кафки «Процесс»! Казалось бы, на этом сходство и закончилось, но, прочитав рассказ «Лицо», понимаешь, что это не совсем так…
Фэнтези Наталии Ипатовой «Все коровы с бурыми пятнами» не просто ирландская легенда, там кое где разбросаны табакерки, из которых в подходящее время выскакивает… Нет, совсем не тот, о ком вы подумали… Это… Нет, даже не хочу упоминать здесь его имени.
Готический рассказ Татьяны Адаменко «Февертонская ведьма» не случайно подпирается снизу рубрикой «Переводы»…
Рассказ «Черное и белое» Станислава Лема был опубликован единственный раз в Германии и никогда не выходил на русском, а почему, вы узнаете из статьи Павла Околовского «Станислава Лема теология дьявола».
Два английских рассказа, Эдварда Бенсона «Сеанс мистера Тилли» и Уильяма Харви «Через болота», имеют много общего и неожиданно перекликаются с рассказом Лема «Черное и белое».
Эссе Владимира Гопмана «Рыцари фантастики» посвящено его другу писателю-фантасту Александру Миреру.
Статья Юрия Лебедева «Не гладко даже на бумаге…» об ученом-диссиденте Револьте Пименове не слишком легка для понимания. Но не пожалейте времени – перечитайте ее несколько раз…
«Дежурным по науке» в этом номере является инженер-физик Михаил Шульман.
Стихи Елены Сосниной, Александра Медведева и Александра Габриэля.
Приобрести журнал можно тут: бумажную версию http://litgraf.com/buy1.html, электронную - http://litgraf.com/buy1e.html
Метки: журналы
Еще одно интервью
Михаил Юдсон
Амнуэль и «Аэлита»
(«Окна», 16 августа 2012)
Странствуя безысходно по перенаселенной пустыне современной российской фантастики, тыча посохом в фанерные дюны средь тускло-зыбучих графоманских песков, натыкаешься внезапно на манну – Песаха Амнуэля. Мнится мне, что он последний из звездных могикан, могутных жрецов-магацитлов настоящей – научной! – фантастики еще прежнего, советского розлива. О дарящее солнце чтиво для интеллектуальной элиты, для здоровых лосей-инженеров, сынов неба и Академгородков, избранников эпохи-Аэлиты! Когда и грамотные редакторы были нередки, и зоркость корректоров не вызывала нареканий… А нынче на Руси диффузия фэнтези в фантастическую литературу обратила ее в аморфно-кисельный эфир – без руля и без светил, где плавает тьма-тьмущая того, что не тонет. Тоска, печалища – деревянные мечи да пластиковые лучеметы… Однако же прекратим стенать и с надеждой обратимся к Амнуэлю.
Поздравляю, вы получили нынче одну из самых престижных премий российской фантастики – «Аэлиту». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
«Аэлита» - старейшая среди российских премий по фантастической литературе. В 1981 году в Свердловске (теперь – Екатеринбург) прошел первый за всю советскую историю фестиваль фантастики, куда съехались сотни любителей и авторов. Фестиваль стал ежегодным и в советское время был вообще единственным, а в 1983 году впервые была присуждена премия «Аэлита», и первыми лауреатами стали братья Стругацкие и Александр Казанцев.
Стругацкие и Казанцев – это два полюса, не было в Союзе авторов, более противоположных!
Конечно. И оба (точнее, трое) были лучшими! Когда решено было присуждать всесоюзную премию за лучшее фантастическое произведение, сразу возникла коллизия: если присудить Казанцеву, это не поймет интеллигенция, для которой братья Стругацкие уже стали символом всего нового в литературе (и не только в литературе). А если присудить «Аэлиту» братьям Стругацким, то Казанцев устроит бурю – вплоть до писем в ЦК! Потому присудили и Стругацким, и Казанцеву. Любители фантастики пересылали друг другу уникальную фотографию: Аркадий Стругацкий на сцене рядом с Александром Казанцевым – все были уверены, что эти два антагониста никогда и ни за что не встанут рядом друг с другом! Так, со скандала, началась история премии «Аэлита».
Кто еще удостоился «Аэлиты» за эти годы?
Все лучшие советские и затем российские фантасты. После Стругацких и Казанцева премию получали Владислав Крапивин, Владимир Михайлов, Зиновий Юрьев, Сергей Снегов, Сергей Павлов, Ольга Ларионова, Север Гансовский… В более поздние годы, уже в России, лауреатами «Аэлиты» становились Кир Булычев, Вадим Шефнер, Геннадий Прашкевич, Сергей Лукьяненко, Владимир Савченко, Евгений Лукин, Святослав Логинов, Андрей Лазарчук… В прошлом году лауреатом «Аэлиты» стал Евгений Войскунский, патриарх нашей фантастики, ему в апреле исполнилось 90 лет.
Расскажите, как проходил фестиваль в нынешнем году.
На открытии вспомнили славную историю «Аэлиты» - как на первые фестивали собиралось до тысячи человек, и это было действительно всесоюзное собрание писателей и любителей. Но в девяностых конвенты расплодились, как кролики, и «Аэлита», оставаясь единственной в своем роде, все же перестала играть прежнюю роль. Естественно, и людей приезжало меньше. В этом году так и вовсе немного – человек шестьдесят, причем из Европы не было никого: все присутствовавшие были или с Урала, или восточнее: Томск, Тюмень, Новосибирск... Из Соединенных Штатов приехал Майкл Свонвик, создатель поджанра киберпанка в фантастике. После официального открытия был прием в Музее писателей Урала. Красивый музей, интересная экспозиция. Прием устроило в честь Свонвика американское консульство в Екатеринбурге.
Побывал в редакции журнала «Уральский следопыт». В советское время это был один из лучших журналов, печатавших фантастику. Редактором фантастики там был Виталий Иванович Бугров – он публиковал в «Следопыте» Стругацких, Крапивина, Ларионову, Колупаева – лучшие советские авторы фантастики (в том числе молодые) в то или иное время публиковались в «Следопыте». Было в старом «Следопыте» и несколько моих рассказов.
Встречались ли вы с читателями?
Конечно. Были и встречи с читателями и интервью. Во время автограф-сессии в книжном магазине «100 000 книг» зашел разговор о том, что современная наука, во-первых, закончилась (и потому чего ж о ней писать?), а во-вторых, она настолько сложна, что автору ее не понять, а если автору не понять, то читателю подавно. К примеру, темная материя или многомирие... Попробовал объяснить. Слушали внимательно, а потом молодой человек, задавший вопрос, с удивлением сказал: «Теперь я всё понял! Вы так доходчиво объяснили! Почему нет научно-популярной литературы по этим темам?» Вопрос, вообще-то, не ко мне, но на самом деле есть на русском хорошие научно-популярные книги, вот только выходят они мизерными тиражами, в магазинах их не найти.
Как вы вообще относитесь к институту литпремий? Они отражают тенденции времени или просто клановую подковерную рукопашную борьбу издательств? Хотя вы-то наособицу – мирный писатель-отшельник на краю Земли обетованной.
Премии, конечно, нужны – в той или иной степени, лучше или хуже, они позволяют читателю, как минимум, ориентироваться в море публикуемых произведений. Невозможно читать все подряд, хочется прочитать лучшее. Понять хотя бы, какие новые имена появились. Есть несколько способов такого выбора. Один – читать рецензии и по ним судить. Однако далеко не всегда вкусы рецензентов совпадают с моими, далеко не каждому рецензенту я склонен верить. Второй вариант – полагаться на мнение друзей, уже успевших прочитать какие-то новинки. И третий – следить за литературными премиями. Уж премированные произведения читать обязательно, не ошибешься. Это я рассуждаю как читатель, и в этом случае – чем больше премий, тем лучше. Если роман Васи Пупкина получил чуть ли не все премии по фантастике за год, то ясно, по крайней мере, что это надо прочитать.
Часто разочаровываешься, но это претензия не к премии, как таковой, а к методам, которыми эти премии порой присуждаются.
С профессиональной же точки зрения литературные премии лишь в двух случаях имеют реальное значение и смысл. Первый: если их не много – как, скажем, премий типа «Хьюго» и «Небьюла» в англоязычной фантастике. Первую присуждают любители во время ежегодных конвентов, вторую – жюри профессионалов. Лауреат премии «Хьюго» – знак качества. Эту премию получают за действительно выдающиеся произведения. Молодой автор, получивший «Хьюго» или «Небьюлу», или ставший хотя бы номинантом этих премий, становится известен, издательства охотнее публикуют его книги.
Второй случай: когда премия имеет достаточно внушительное денежное содержание. Такие премии выполняют роль стипендий, награждают обычно молодых авторов, чтобы они могли в течение определенного времени спокойно писать новые произведения, не думая о заработке. Ситуация обратная первой – чем больше таких премий, тем лучше. Значит, много авторов получат возможность писать.
В Советском Союзе была одна премия по фантастике – «Аэлита», и лауреаты этой премии определяли уровень и направление развития фантастической литературы. Что происходит сейчас? Чуть ли не каждый месяц собирается какой-нибудь конвент (конференция) любителей фантастики, где присуждаются премии в десятках номинаций – Роскон, Басткон, Интерпресскон, Звездный мост, Портал, Зиланткон, Аю-Даг и так далее. Естественно, значение и авторитет премий снижается. Еще в середине девяностых я видел на обложках новых книг фантастики: «Автор является номинантом премии Интерпресскон». Даже не лауреатом, только номинантом! Это уже выделяло автора от остальных. Сейчас сказать «я – номинант такой-то премии» – пустой звук.
Отражают ли книги лауреатов тенденции времени? В подавляющем большинстве – нет. Часто это результат если не подковерной борьбы (хотя и это, наверно, имеет место), то агитации за того или иного автора или книгу. В номинационный список Роскона, например, вносят все без исключения публикации за минувший год: сотни романов, повестей, рассказов. Подавляющее большинство участников Роскона, естественно, не читало подавляющее большинство номинированных произведений. В результате лауреатом становится или популярный автор, за которого можно проголосовать просто из-за имени, или автор (произведение), за которого очень хорошо агитировали. Все это к литературному процессу имеет очень малое отношение.
На ваш взгляд, как обстоят сейчас дела с фантастикой на кирилл-мефодице? Народ наелся, наконец, фэнтези – драконов с феями?
Дела с фантастикой обстоят по-разному, поскольку сама фантастика очень разнообразна. С научной фантастикой (особенно с ее «жесткой» разновидностью) так же плохо, как и несколько лет назад – на кирилл-мефодице такой фантастики практически нет. Что касается фэнтези, то, похоже, читателям действительно начинает надоедать эта разновидность фантастики. И не потому, что фэнтези сама по себе – некий ущербный вид фантастики, сказка, которую взрослые дяди и тети читают, чтобы «эскапнуть» от не очень приятной и не романтичной реальности. В поджанре фэнтези, как и в любом другом, выходили очень серьезные произведения, близкие к философскому направлению фантастики. Достаточно вспомнить Толкина, Льюиса, Желязны… Но это зарубежные авторы, а на кирилл-мефодице произведений такого или хотя бы близкого уровня не было. Есть очень немногие авторы фэнтези на кирилл-мефодице, которых я читаю с удовольствием, но не они, к сожалению, самые популярные. Основной же «вал» так однообразен и, на мой взгляд, скучен, что не мог не надоесть даже не очень взыскательному читателю. Тем более, когда в книгоиздании вообще кризис.
Мне всегда было интересно понять, что движет автором, когда он берется писать огромный роман о принцессах, эльфах и драконах. В редких случаях авторы говорили: «Это очень интересно, это позволяет поставить социальный эксперимент, придумать новый мир». В большинстве случаев отвечают так, как молодой автор в Екатеринбурге на последней «Аэлите». На вопрос читателя, почему он пишет фэнтези, автор честно ответил: потому что это нравится читателям. Любопытным был ответ на вопрос, чем лично его привлекает именно фэнтези. Оказывается, тем, что там автор может творить со своими героями все что угодно. Захотел – убил, захотел – воскресил, захотел – женил. А в научной фантастике это невозможно: там герои ведут себя не так, как хочется автору, а так, как требует научно-фантастическая идея. А идею ведь еще придумать надо... В общем, проще писать фэнтези.
Не знаю, в каком направлении будет развиваться фантастика на кирилл-мефодице (особых надежд на возрождение научной фантастики у меня нет, пока не началось возрождение российской науки), но хотелось бы, чтобы каждый поджанр имел своего читателя, как это происходит в англоязычной фантастике.
Толстые литературные журналы, заповедники раздобвечного, отродясь на Руси были рассадниками свежего слова и хорошего вкуса. Сейчас они влачат скромное существование на обочине масскультовского пикника. А что слышно о журналах фантастики, коих в США, скажем, тьмы и легионы?
В советское время дозволено было выпускать один журнал – «Искатель», который, кроме фантастики, публиковал также и детективы, и приключенческие произведения. На постсоветском пространстве не раз предпринимались попытки издавать журналы фантастики, но реально популярными были тот же «Искатель», а еще «Если», «Полдень, XXI век» и «Реальность фантастики». Однако «Реальность фантастики» прекратила свое существование, тираж «Искателя» уменьшился за десять лет от 40 до 2 тысяч экземпляров. Относительно стабильно выходят всего два журнала. Есть еще несколько изданий, которые так и не достигли популярности «Если» и «Полдня»: это, например, «Азимут», «Шалтай-Болтай» и тот же «Уральский следопыт», о котором я уже говорил.
Проблема российских журналов та, что известные авторы практически не пишут рассказов, редко – повести, а, в основном – романы и сериалы. Не журнальный формат. Поэтому в журналах чаще публикуют молодых и мало известных (или вовсе неизвестных) авторов. С одной стороны, это очень хорошо – молодым есть где печатать произведения малой формы, ведь именно на рассказах авторы должны оттачивать свое умение, достигать мастерства. С другой стороны, если журнал публикует только молодых и неопытных, это, во-первых, сказывается на тиражах, а во-вторых, молодым не у кого учиться, они варятся в собственном соку…
Ваше новое детище – журнал «Млечный Путь». Чему он посвящен, к кому обращается, какого счастья, так сказать, ищет?
Сам журнал – не новое детище, интернет-издание выходит уже больше двух лет, опубликовано более 60 выпусков. У нас достаточно внушительный список авторов – около ста. «Млечный Путь» с самого начала не определял себя как журнал именно и только фантастики. Публикуем мы и детективы, и реалистические произведения. По принципу: все жанры хороши, кроме скучного. Но так уж сложилось, что присылают нам больше все-таки фантастику, она и занимает примерно две трети места в журнале. Накопив двухлетний опыт работы с авторами, мы решили выпускать и бумажный «Млечный Путь», который распространяется по заказам, методом «печать по требованию». При желании можно приобрести и электронную копию.
Что это такое – печать по требованию? Покупатель требует, и ему печатают?
Именно так. На Западе это уже очень распространенный метод. Издательство готовит макет книги или журнала и выставляет анонс издания в интернет-магазине. Потенциальный покупатель может увидеть обложку, прочитать оглавление, «перелистать» несколько страниц, чтобы сделать для себя вывод – стоит ли покупать. Как это, собственно, делает покупатель в обычном книжном магазине. Решив покупать, вы оформляете покупку на сайте, оплачиваете, и в тот же день типография печатает вам экземпляр и высылает по вашему адресу. В результате издательство печатает ровно столько экземпляров, сколько заказано. Склады, как это сейчас происходит в России, не затовариваются книгами и журналами, которые никогда не будут проданы и, в конце концов, пойдут под нож.
Вы, пожалуй, один из последних хранителей традиций НАСТОЯЩЕЙ ФАНТАСТИКИ с классическим грифом НФ. Вы можете назвать своих учителей в литературе? А чью сегодняшнюю письменность вы почитаете, кто вам интересен в городе и мире?
Не только в литературе, но и в жизни у меня был замечательный учитель – советский изобретатель и писатель-фантаст, автор Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Генрих Саулович Альтшуллер (фантастику он писал под псевдонимом Генрих Альтов). Его рассказы и сейчас – образец лаконичности и точности. И главное, в каждом рассказе содержалась новая для фантастики научно-фантастическая идея. Генрих Саулович утверждал, что без новой интересной идеи не может быть хорошей фантастики. В реалистической прозе новизна может заключаться в замысле, стиле, сюжете, авторской философии, а в фантастике к этим видам «новизны» прибавляется фантастический посыл, фантастическая идея.
Альтов научил меня тому, что в литературе первична авторская мысль, а литературному умению я учился у Евгения Львовича Войскунского, старейшего советского писателя, писавшего замечательную фантастику в соавторстве с Исаем Борисовичем Лукодьяновым. В этом году Евгению Львовичу исполнилось 90 лет, и он продолжает писать романы о войне, наложившей отпечаток на всю его жизнь.
Кого читаю из сегодняшних авторов? Стараюсь не пропускать новые произведения Дэна Симмонса, Джаспера Ффорде, Грега Игана, Стивена Бакстера, Теда Чана. Симмонс интересен масштабностью сочинений, Ффорде – удивительной филологической игрой, очень редкой в фантастике. Из пишущих фантастику по-русски не пропускаю новые книги Вячеслава Рыбакова, Евгения Лукина, Андрея Лазарчука. Из нефантастов предпочитаю Дину Рубину, Виктора Пелевина (впрочем, Пелевин нравится все меньше и меньше). Люблю перечитывать детективную классику: Агату Кристи, Джона Диксона Карра, Эллери Квина.
Компьютеры, как и предсказывали умные люди, на глазах порабощают человечество. Бумажная книга исчезнет – Механический Пес, исчадие Брэдбери, не сожжет, так сожрет наши любимые книжки в обложках?
Умные люди, если иметь в виду писателей-фантастов середины прошлого века, в том числе таких корифеев, как Азимов и Лем, немного, по-моему, ошиблись. Фантасты, в том числе лучшие, чаще всего ошибались, предсказывая глобальные катастрофы, природные или техногенные. Человечество – динамичная и самоорганизующаяся система. Делая очень много для того, чтобы исчезнуть с лица земли, человечество делает еще больше, чтобы остаться в живых и развиваться. Компьютеры не поработят человечество, как не поработили нас самолеты, автомобили и телевизоры. Человечество приспосабливается, учится использовать новые изобретения. Теоретически поработить человечество может разве что пресловутый искусственный интеллект, некий супер-супер-компьютер, который однажды осознает себя, станет разумным и, вопреки всем заложенным в него программам, устроит человечеству Варфоломеевскую ночь. Не думаю, однако, что когда-нибудь это произойдет – во всяком случае, лично меня ни один из многочисленных описанных фантастами сценариев не убеждает. Начиная с «Франкенштейна» и «Острова доктора Моро». Пугать фантасты умеют, конечно. Труднее описать реальный процесс взаимодействия человечества с им же созданным искусственным интеллектом. Один из немногих подобных сценариев – в «Гиперионе» Симмонса.
Что до бумажной книги, то с ней будет то же, что с театром, когда появилось кино, и с кино – когда появилось телевидение. Бумажная книга, естественно, никуда не денется. Изменится книгоиздание. К примеру, книги перестанут печатать тиражами, как сейчас, а будут, как уже это многие издатели и сейчас делают, печатать по требованию. Наверно, многие предпочтут электронные версии книг. Но другие – тоже многие – захотят иметь бумажную книгу. Особенно – книги для детей, красивые «подарочные» альбомы с репродукциями или редкими изображениями… А фантастику и вообще художественную литературу большинство будет читать в электронном виде, хотя наверняка сохранятся и любители бумажных книг.
И напослед о воплощении фантазии – что свежего пишется, где печатается, когда выходит в свет?
Не знаю, что отвечать на такие вопросы. Очень их не люблю, поскольку о том, что пишется, рассказывать не хочется, пока не напишется (может, вообще не напишется, как уже бывало…). Где печатается то, что написалось – да нигде пока, поскольку то, что в этом году написалось, уже напечаталось (в «Искателе», «Если» и «Полдне»), а то, что еще пишется, оно, понятно, нигде не печатается, и когда выйдет в свет – трудно сказать. Иными словами, процесс идет…
Метки: фантастика, книги
Зачем летать на Марс?
http://www.youtube.com/watc...
Метки: космос
Интервью для Свонвика на "Аэлите-2012"
http://www.youtube.com/watc...
Метки: фантастика, книги, воспоминания
"Право на возвращение"
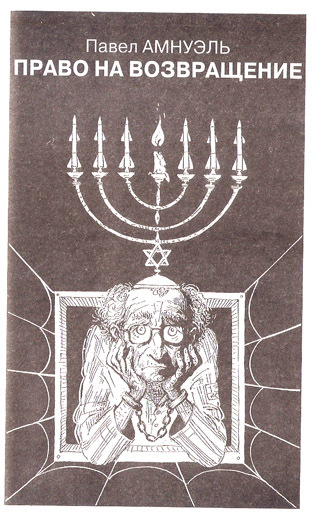
Метки: фантастика
Еще об "Аэлите-2012"
http://kot-ouchenyi.livejou...
http://kot-ouchenyi.livejou...
http://kot-ouchenyi.livejou...
http://fotki.yandex.ru/user...
http://vecherny-ekburg.ru/c...
http://teenbook-ekt.livejou...
http://urfu.ru/home/press/n...
Метки: фантастика
Аэлита-2012
Город обычный современный, где есть и здания старой постройки, как Университет, и новый небоскреб этажей в полсотни. Далеко ходить не стал, покрутился в центре, а ближе к вечеру было открытие фестиваля. В качестве почетного гостя на «Аэлите» присутствовал замечательный американский фантаст Майкл Свонвик (которого у нас всегда писали, как Суэнвика), один из основателей киберпанка. По-русски ни Свонвик, ни его жена, не говорили, кроме «спасибо» (а это они произносили без всякого акцента), так что с ними все время ходил переводчик.

На открытии вспомнили славную историю «Аэлиты» - как на первые фестивали собиралось до тысячи человек, и это было действительно всесоюзное собрание писателей и любителей. Но в девяностых конвенты расплодились, как кролики, и «Аэлита» стала не единственной в своем роде, а одной из десятков. Естественно, и людей приезжало меньше. В этом году так и вовсе немного – человек шестьдесят, причем из Европы не было никого: все присутствовавшие были или с Урала, или восточнее: Томск, Тюмень... В основном, молодые авторы – не приехали такие корифеи, как Прашкевич, Бушков, Крапивин, Успенский (если говорить о «восточном» характере фестиваля)...
После официального открытия был прием в Музее писателей Урала. Красивый музей, интересная экспозиция, о многих писателях я там впервые и узнал. Прием устраивало в честь Свонвика американское консульство в Екатеринбурге. Были речи, были тосты – за фантастику, за американского гостя, за вообще все на свете, за что можно достойно выпить. Подходили журналисты из местных бумажных и интернет-изданий, брали краткие интервью. Не привык я к интервью, а в тот вечер наговорил столько, сколько, кажется, никогда прежде. И автографы раздавал. И это было только начало... В музее есть любопытный зал мультимедиа, там замечательно на трех стенах показаны космические путешествия, биографии уральских фантастов и других писателей, все очень динамично и красиво.


Следующий день должен был начаться с пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, в которой должны были участвовать мы с Свонвиком. Но как же без накладок? Девушка, которая должна была сделать рассылку о пресс-конференции, ушла на сессию, забыв отправить рассылку, так что никто из журналистов не пришел, были только те, кто случайно в это время оказался на месте. Но все же одно интервью у меня взяли, и должен сказать, что практически все местные журналисты, с которыми общался, не задавали банальных вопросов, а спрашивали по делу – о состоянии современной русскоязычной фантастики, об электронных средствах массовой информации. В общем, было интересно.
Потом мы с Борисом Долинго спустились в подвал, где сейчас помещается редакция журнала «Уральский следопыт». В советское время это был один из лучших журналов, печатавших фантастику. Редактором фантастики там был Виталий Иванович Бугров – замечательный человек и редактор, он публиковал в «Следопыте» Стругацких, Крапивина, Другаля, Ларионову, Колупаева – да, собственно, все лучшие советские авторы фантастики (в том числе молодые) в то или иное время публиковались в «Следопыте». Было в старом «Следопыте» и несколько моих рассказов.
Сейчас «Уральский следопыт» печатают на прекрасной бумаге, с множеством цветных иллюстраций – не то что в советское время, когда бумага была серой, а иллюстрации черно-белыми. Но тогда «Уральский следопыт» читала вся страна, а сейчас журнал выходит тиражом в несколько тысяч экземпляров. Но фантастика есть в каждом номере – в отдельной вкладке: три-четыре рассказа обычно молодых авторов.
Потом были встреча с читателями (Свонвика и моя) и «автограф-сессия» в книжном магазине «100 000 книг».


Кроме нас с Свонвиком автографы раздавал уральский молодой автор фентези. На вопрос, почему он пишет фэнтези, автор честно ответил: потому что это нравится читателям. Правда, немного помедлив, добавил, что и ему самому это нравится. Любопытным был ответ на вопрос, чем же его привлекает именно фэнтези: тем, что там автор может творить со своими героями все что угодно. Захотел – убил, захотел – воскресил, захотел – женил. А в научной фантастике это невозможно: там герои ведут себя не так, как хочется автору, а так, как требует научно-фантастическая идея... Да ведь еще и идею придумать надо... В общем, лучше писать фэнтези.
Зашел разговор о том, что современная наука, во-первых, закончилась (и потому чего ж о ней писать?), а во-вторых, она настолько сложна, что автору ее не понять, а если автору не понять, то читателю подавно. Вот, к примеру, эта темная материя или многомирие... Попробовал я сидевшим рядом со мной объяснить немного про темную материю и многомирие: что там к чему и откуда взялось. Слушали внимательно, а потом молодой человек, задававший вопрос, с удивлением сказал: «Теперь я всё понял! Вы так доходчиво объяснили! Почему нет нормально научно-популярной литературы по этим темам?» Вопрос, вообще-то, не ко мне, но на самом деле есть на русском хорошие научно-популярные книги, вот только в магазинах их не найти. В магазинах (и в «100 000 книг») было много эзотерической литературы и вообще не было научпопа...
На третий день с утра опять побродил по центру города – в другом уже направлении. Увидел удивительное кладбище: одинаковые голубые надгробья, где на месте фотографий покойников были фотографии старых и старинных зданий, снесенных ради новых построек. Кладбище погибших домов – нигде больше такого не видел...
Потом был семинар, посвященный современным электронным издательствам. Борис Долинго рассказал об электронном издательстве «Аэлита», показал сайт издательства. А я рассказал о нашем издательстве «Млечный Путь», показал (работал интернет, и все можно было демонстрировать на большом экране) наши сайты: журнала и издательства, книжный магазин «Литграфа», обложки уже выпущенных книг. Были вопросы, всем было интересно, несколько молодых авторов после этого прислали в журнал рукописи. Но вот пойти на сайт и купить журнал или книгу... никто так и не зашел. Хотя если бы я привез с собой десяток-другой журналов или книг, то купили бы – многие изъявляли такое желание. Все-таки для российского читателя метод «книги по заказу» пока непривычен...
А после круглого стола Свонвик подошел и попросил интервью. И записал свои вопросы и мои ответы на видео. А то, мол, видел он, как ко мне обращались, как брали интервью, понял, что Амнуэль вроде бы известный в России аффтар, а он о нем ничего не знает. Попросил рассказать биографию, спросил названия книг, на какие темы я пишу. В общем, задал довольно много вопросов и сказал, что непременно расскажет обо мне своим американским коллегам. И попросил что-нибудь почитать. По-английски. А у меня на английском выходил только один рассказ «Иду по трассе» давным-давно, в 1982 году. Пообещал я ему сделать перевод хотя бы одного нового рассказа и прислать...
Потом было торжественное закрытие, вручение премий: имени Ефремова, за короткий рассказ, мемориальные премии имени В.И. Бугрова и И.Г. Халымбаджи, премия "Евразия", Орден Добра и Света... Подробную информацию о премиях и лауреатах можно найти в пресс-релизе:
http://aelitaek.livejournal...
В конце концов и мне вручили «Аэлиту». На том фестиваль и завершился.
А вечером Наташа Ипатова показала мне город – места, куда я бы сам никак не добрался. Собор, поставленный на месте Ипатьевского дома, много красивых зданий, парков, погуляли мы по набережной и, естественно, много разговаривали: о жизни, фантастике и вообще...
На следующий день был «пикник на обочине». Поехали мы (человек пятнадцать) сначала на городское кладбище, где положили цветы на могилы замечательных людей – Бугрова и Халымбаджи. К сожалению, я совсем не знал Халымбаджу, но зато хорошо знал Виталия Ивановича Бугрова: умного и интеллигентного человека. Я ему благодарен и за то, что он публиковал в «Следопыте» мои рассказы, и за «науку литературной жизни», которую он мне преподал в письмах...
А потом поехали на границу Европы и Азии, в лес. Обелиск и линия, символически отделяющая Азию от Европы, находятся на обочине шоссе, неподалеку мемориал памяти жертв политических репрессий.
А в лесочке устроили пикник и общались вполне неформально. Дэн Шорин (его рассказы публиковал и «Млечный Путь») получил последний приз фестиваля: премию «Аэлитр» (название говорит за себя).
Все было хорошо. Интересные встречи, интересные знакомства, которые, я надеюсь, продолжатся. Интересные интервью, вопросы, заседания...
А на следующее утро я улетел в Москву, где провел еще два с половиной дня, но это уже немного другая история.
настроение: Бодрое
хочется: мечтать
слушаю: марш из "Аиды"
Метки: фантастика, книги
"Млечный Путь", первый выпуск бумажного журнала
Перед вами не журнал фантастики, хотя большая часть текстов первого номера – фантастика.
Это не журнал детектива, хотя мы любим классические детектив и будем публиковать лучшие произведения этого литературного направления.
Это не журнал литературного мейнстрима, хотя и это направление найдет, конечно, место на наших страницах.
Реалистические произведения и фантастика, детективы и мистика. Произведения русскоязычных авторов и переводы. А также критические материалы, эссе, обзоры, научно-популярные статьи и размышления о современной науке. Многообразный мир современной художественной и научно-популярной литературы в одном флаконе – таким мы видим наш журнал. «Млечный путь» - наша литературная Галактика во всем многообразии звезд больших и малых, постоянных и переменных, вспыхивающих и уже погасших. Магнитные поля литературных пристрастий и галактические литературные течения...
Очень удачно нашему кредо в метафорической форме соответствует рассказ Майка Гелприна «Свеча горела», который и предваряет первый номер журнала в качестве своеобразного эпиграфа.
Так выглядит обложка:

Содержание первого номера:
Майк Гелприн «Свеча горела»
Павел Амнуэль «Свидетель»
Святослав Логинов «Вердикт»
Наталья Сорокоумова «Теория воспитания»
Александр и Дэн Шорины «Муза»
Ольга Чертова «Обратный отсчет»
Эдвард Митчелл «Эксперимент профессора Шванка»
Ханох Левин «Гость и хозяин»
Станислав Лем «Размышления о методе»
Роман Арбитман «Киберпанацея? Киберпанихида?»
Юрий Лебедев «Наука на просторах Интернета»
Стихи Натальи Бужиловой, Татьяны Топарковой, Тани Гринфельд, Уильяма Одена.
Журнал распространяется по подписке. В год предполагается выпуск четырех номеров. На сайте
http://milkyway2.com/paper....
можно заказать один номер и сделать подписку на несколько номеров, можно приобрести бумажную или электронную версию.
Во втором номере предполагается опубликовать повесть Кирилла Берендеева и Анны Райновой, рассказы Станислава Лема (впервые переведенные на русский), Эдварда Бенсона, Виталия Забирко, Наталии Резановой, эссе Юрия Лебедева. Как и в первом номере: новости науки, стихи...
Книги и библиотеки (интерлюдия)
История этого рассказа тоже достаточно любопытна, но о ней я уже рассказывал в статье "Избранные места из переписки с редакторами", а потому просто скопирую ту часть статьи, где речь шла о рассказе. Но сначала - картинки:





***
Итак, отрывок из статьи:
...Первая книга для любого автора – как новое рождение. Второй шанс представился мне лишь через десять лет, и конечно, не в "Молодой гвардии", а в другом издательстве – "Знание". Там у меня уже вышли две научно-популярные брошюры, а в сборниках "НФ" – несколько повестей и рассказов, в том числе повесть "Крутизна", которую редактор Валентина Михайловна Климачева и решила сделать заглавной в будущей книжке. Редкий по тем временам случай – благожелательно настроенный редактор, никаких проблем с отбором рукописей (одно требование – не превышать объем в 10 авторских листов). И переписки, собственно, никакой – даже вспомнить нечего…
До поры, до времени.
В середине 1983 года, когда в издательском плане "Крутизна" уже значилась, пришло письмо от В. Климачевой с неожиданной просьбой: "Нет ли у Вас какой-нибудь другой вещи, вместо "Крутизны", которая могла бы стать главной и дать название книге?"
Что случилось? О "Крутизне" в самом издательстве я слышал только лестные слова, и, к тому же, повесть уже выходила в сборнике "НФ"! К счастью, опять подвернулась служебная командировка в Москву, и чуть ли не прямо из аэропорта я отправился на Старую площадь (там, напротив здания ЦК партии, в помещении Политехнического музея располагалась редакция "Знания").
– "Крутизну" забодал главный, – объяснила Валентина Михайловна. – Видите ли, идея повести не соответствует марксистско-ленинскому материалистическому мировоззрению.
Что-то такое я уже слышал о другой повести в другом издательстве от другого редактора… Дежа вю? Научно-фантастическая идея "Крутизны" действительно продолжала и развивала "непроходную" идею "Странника" (кстати, разруганный в "Молодой гвардии", этот рассказ несколько лет спустя без каких-либо изменений благополучно был опубликован в сборнике "НФ").
– Может, поменять что-то в тексте, – начал я, – чтобы…
– Ничего не получится, главный сказал: ни в коем случае, и речи об этой повести быть не может!
– Хорошо, – смирился я. – Пусть вместо "Крутизны" пойдет "Сегодня, завтра и всегда". Там с материализмом вроде бы полный порядок.
Так и сделали, и первая моя книжка получила новое название.
– Да, вот еще, – продолжала Валентина Михайловна, – в книге есть рассказ "Через двадцать миллиардов лет после конца света".
Такой рассказ был – в каком-то смысле попытка полемики с известной повестью братьев Стругацких "За миллиард лет до конца света", однако и без этой ассоциации название абсолютно точно определяло то, о чем в моем рассказе шла речь.
– Главный говорит, что рассказ с таким названием у нас выйти не может. Какой конец света? Мы же научное издательство! Вселенная бесконечна и вечна! Рассказ надо переименовать. Давайте назовем "Двадцать миллиардов лет спустя". И смысл сохранился, и ассоциаций никаких.
– Кроме как с романом Дюма, – вздохнул я.
Название изменили, но это еще был не конец. Узнав, что автор в Москве, главный пригласил меня к себе, чтобы лично дать ценные наставления.
– В вашем рассказе, название которого вы изменили, – сказал он, перекладывая листы рукописи, – указаны конкретные марки машин: "вольво", "волга"… И названия улиц: Вторая парковая в Москве, Баннер-стрит в Вашингтоне… И страна указана – Соединенные Штаты. Этого нельзя.
– Почему? – удивился я.
– Не понимаете? – в свою очередь удивился главный. – У нас разрядка международной напряженности. А в вашем рассказе конкретно названы США, и понятно, что конфронтация происходит с СССР… Опубликуем мы этот рассказ, наши американские друзья могут обидеться, возникнут международные осложнения… Зачем нам это?
Честно говоря, я не нашелся, что ответить. Какие осложнения? Из-за фантастического рассказа? О чем он говорит-то?
– Вот и хорошо, – заключил главный, решив, что молчание – знак согласия. – Названия уберем, и все в порядке. Завтра подпишу книгу в печать.
Когда несколько месяцев спустя книга вышла, и я взял в руки пахнувший типографской краской сигнальный экземпляр, меня ожидало последнее потрясение. На обложке значился рассказ "20000000000 лет спустя".
– Длинное название, – объяснила В.М. Климачева. – На обложке места не хватило, вот и пришлось… Собственно, какая разница?
Интересно, нашелся ли читатель, который пересчитывал нули, чтобы определить, идет ли речь о двадцати миллиардах или двухстах миллионах? Какая действительно разница?
Но ведь все обошлось, книга вышла, а рассказ с этим нелепым названием был включен затем в том "Фантастика века", как лучший советский фантастический рассказ восьмидесятых годов. Начинался том (и век) рассказом Герберта Уэллса, заканчивался – моим…
Хоть такое утешение.
Метки: воспоминания, библиотеки
Книги и библиотеки (часть 3)
Собирались книжники каждое воскресенье, не рано, часам к десяти приходили первые «ранние пташки», а бурлить жизнь на рынке начинала обычно часам к двенадцати. Я и сейчас не знаю, когда продавцы-покупатели (разницы обычно между ними не было никакой) расходились по домам. Может, к вечеру, может, раньше. Сам я никогда не задерживался дольше, чем до часа или половины второго – дома меня ждали с обедом.
Сначала – в конце шестидесятых, начале семидесятых – я бывал на рынке один, потом, когда дочке исполнилось лет пять, начал брать ее с собой, а еще через несколько лет мы ездили уже втроем: с дочерью и сыном.
В конце шестидесятых книголюбы собирались на Приморском бульваре, в аллее неподалеку от знаменитой парашютной вышки, откуда и я как-то, будучи еще в школе, пробовал спрыгнуть, но случился конфуз – весил я тогда ровно полцентнера, столько же, сколько весил противовес, на котором висел парашют. Механизм был рассчитан на мужчину средней упитанности, который, оказавшись в воздухе, довольно быстро опускался на парашюте с семидесятиметровой высоты, испытав за несколько секунд все прелести полета. А я, спрыгнув, повис, болтая ногами. После небольшой паники (не моей – запаниковал оператор) меня вернули на «крыльцо», где собралась довольно длинная очередь, и я получил суровый наказ на вышку не подниматься, пока не поднакоплю нормальный вес. К слову сказать, я его так и не накопил до самого переезда в Израиль.

Рядом с аллеей люди прыгали с парашютом, а под деревьями прямо на асфальте, на каменных бордюрах, на расстеленных газетах и даже просто на земле лежали книги. Скамеек в аллее не было, сидеть было не на чем, и продавцы-покупатели вели диалоги, стоя или прохаживаясь вдоль разложенных книг.
Там можно было найти любую выходившую в Советском Союзе художественную литературу. От классики до фантастики и детских книг в ярких обложках. Никакой политики – этим «добром» были завалены магазины. Не было и научной литературы – слишком специфический товар.
Некоторые книги, купленные в шестидесятые еще годы на черном рынке, у меня и сейчас стоят на полке. В основном, это книги серии «Зарубежный детектив» издательства «Молодая гвардия» и «Зарубежная фантастика» издательства «Мир». Именно тогда и именно там, на бульваре, перелистывая только что вышедшие тома, я ощутил всю прелесть игры ума в классическом детективном романе. Прежде я читал шпионские романы Шпанова («Над Тиссой», к примеру, и я далеко не сразу понял, какой это был «шедевр»), детективы Леонова, Адамова – на самом деле это были милицейские романы, - и не представлял, что может быть другой жанр, вроде бы параллельный «милицейским детективам». Конечно, я читал рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, у меня даже была маленькая книжка, брошюра из «Библиотечки журнала «Огонек», называлась она «Пляшущие человечки», там было три рассказа о Холмсе, и я знал их чуть ли не наизусть. Потом вышел том Конан Дойля в Детгизовской «Библиотеке приключений», но я не имел представления о таких авторах, как Агата Кристи, Джон Диксон Карр – лишь слышал эти имена, даже читал об этих авторах в книге Богомила Райнова «Черный роман».
Однажды я взял в руки только что вышедший «Зарубежный детектив», в котором обнаружил повесть Агаты Кристи «Загадка «Эндхауза». Начал читать, но хозяин книги спросил: «Брать будешь?» Книга стоила огромную сумму: тридцать рублей. Таких денег у меня с собой не было, да и вообще я еще только учился на пятом курсе и, хоть и получал повышенную стипендию, но что это были за деньги: 45 рублей в месяц... «Беру, - сказал я, - только подожди, принесу деньги».
Как же! Никто никого ждать не собирался, желающих купить «Зарубежный детектив» было много и без меня. Продавец тут же продал книгу кому-то другому. Не помню, с каким нетерпением я ждал следующего воскресенья – но могу себе это представить. Через неделю, кстати, цена на книгу упала до двадцатки – видимо, в Баку «приехал» основной тираж, на рынке детективом торговали уже несколько человек, и десятку я тогда сэкономил. Правда, тут же ее и потратил, купив не помню какую книгу из серии «Зарубежная фантастика».
Агату Кристи я перечитывал раз десять – прекрасно знал, кто убийца, но завораживала работа мысли великого Эркюля Пуаро, и я не понимал, почему наши издательства не печатают эти книги большими тиражами. Почему нет подписки на Агату Кристи?
Другое четкое воспоминание – как я там же через год или два взял в руки очередной выпуск «Зарубежного детектива» и, обнаружив не известное мне тогда имя Джона Диксона Карра, зачитался «Табакеркой императора» так же, как не мог оторваться от Пуаро. Кристи и Карр (позднее к ним прибавился Эллери Квин) до сих пор остаются моими любимыми авторами в жанре классического детектива – жанре, который является, в общем, литературной игрой, достаточно далекой от реальной жизни, но игрой интеллектуальной, сложным и красивым литературным паззлом...
С бакинским черным рынком связано и мое первое литературное разочарование. В конце шестидесятых в сборниках фантастики «Молодой гвардии» вышли мои рассказы «Все законы Вселенной» и «Летящий Орел». Издательство авторские экземпляры не присылало, и оба сборника я купил, конечно, на черном рынке (они и сейчас у меня). Наверно, приятно было держать в руках эти книги, но за давностью лет я уже не помню своих тогдашних ощущений.

Зато помню другое. Мой рассказ «Странник» должен был выйти в молодогвардейском сборнике «Фантастика-72». Все шло нормально, мне прислали верстку, я ее подписал, отправил обратно (такие тогда были правила) и стал ждать выхода книги. Понятно, искал ее не в магазинах, а на черном рынке, и однажды действительно увидел: лежит. Заранее приготовив мысленно червонец, взял книгу в руки, открыл на странице, которую знал из верстки, и рассказа не обнаружил! Еще не поняв, что произошло, открыл оглавление (может, рассказ переставили, хотя после верстки сделать это трудновато, да и зачем?), но и там «Странника» не оказалось. Несколько раз перелистал книгу – нет рассказа. Поехал домой, ничего не понимая. Разумеется, в тот же день написал письмо в издательство. Не прошло и месяца, как получил ответ от редактора Светланы Николаевны Михайловой. Оказалось, что уже после верстки сборник ушел «наверх», к главному редактору издательства. Тот, прочитав «Странника», заявил, что такой рассказ может быть опубликован только через его (главного редактора) труп. В чем дело-то? Антисоветская идеология! Точнее – не советская. «Анти» в рассказе ничего не было, наоборот – дело происходит при коммунизме, главный герой – учитель... Но идея – генетическое изменение природы человека таким образом, чтобы он мог жить в космосе без скафандра и путешествовать к звездам «пешком», - оказалась противоречащей марксистско-ленинской идеологии. Вообще-то, я и сейчас не понимаю, что в этой идее идеалистического – вполне материалистическая идея, генетические изменения в организме, приспособление к окружающей среде... Но, похоже, даже в начале семидесятых генетика кому-то еще представлялась продажной девкой империализма... Рассказ из сборника выкинули, книгу пришлось переверстать, о чем автору, конечно, сообщено не было.
«Странник» все-таки опубликовали – не в «Молодой гвардии», а в альманахе научной фантастики издательства «Знание». Но произошло это семь лет спустя. Более того – рассказ вошел в число лучших, опубликованных в двадцати альманахах НФ «Знания». Обе эти книги я, конечно, тоже купил на черном рынке – каждую по червонцу.
В конце семидесятых, правда, «чернокнижники» собирались уже в другом месте, не на бульваре. Причина простая: торговля книгами – спекуляция (конечно, ведь продавали книги раз в десять дороже той цены, что стояла на обложке!). Со спекуляцией государство боролось. Разгоняли книжников регулярно еще и на бульваре. Вдруг с обеих сторон аллеи появлялись откуда ни возьмись милиционеры, в толпе пробегал возглас «Атас!», и все, прихватив книги и оставив газеты и подстилки, на которых книги лежали, бросались врассыпную. Это было похоже на бегство тараканов с кухонного стола при внезапном включении электричества. Через минуту в аллее оставались только милиционеры. Бегать они ни за кем не собирались, проходили, забирали кого-нибудь из зазевавшихся (бывали и такие), им было этого достаточно для отчетности. Через четверть часа люди постепенно начинали возвращаться, а еще через полчаса ничто не напоминало о прошедшей облаве. Бывало, что день проходил мирно, а случалось и три-четыре облавы за день. В начале семидесятых кто-то где-то окончательно решил, что Приморский бульвар, да еще рядом с символом города – парашютной вышкой, - да еще в двух шагах от Музея Ленина – место, где спекуляция недопустима. Кто-то это кому-то ясно объяснил, и как-то, придя на бульвар, я обнаружил аллею пустой. У выхода стояли два знакомых спекулянта, объяснявших приходившим, что собираться теперь будем в парке у детской железной дороги.
Там и собирались обычно. Правда, в начале восьмидесятых по какой-то причине (видимо, погнали и оттуда) пару лет собирались на площади Нариманова. Это в нагорной части города, у памятника Нариманову, одному из первых руководителей коммунистического Азербайджана. От центра города не очень близко, но рядом с республиканским Клубом книголюбов. И что интересно – в двух кварталах от огромного здания ЦК Компартии Азербайджана.

Место было не очень удобное: на землю книги не положишь, тротуар довольно узкий, приходилось сновать в толпе и смотреть, что у кого в руках. Оттуда тоже порой гоняли, но как-то лениво. Там, на черном рынке, году, кажется, в 1983 родился бакинский Клуб любителей фантастики. Это было время, когда в СССР клубы любителей фантастики разрастались, как на дрожжах. На черном рынке появились первые фэнзины – самиздатовские сборники, напечатанные ротапринтным способом. Свои фэнзины выпускали большие КЛФ: ростовский, например, николаевский, еще какие-то... Клубы начали присуждать премии авторам фантастики, и в 1982 году я тоже удостоился премии «Великое кольцо» - эта премия присуждалась голосованием всех клубов. Получил я ее с формулировкой «за наибольшую популярность среди читателей», узнал об этом на черном рынке из какого-то фэнзина и был немало удивлен, поскольку не подозревал, что хоть как-то где-то популярен: вышли у меня к тому времени десяток рассказов, большое дело...
Но в Баку клуба не было. Конечно, на черном рынке тусовались и любители фантастики – где ж еще было запастись любимыми книгами? В принципе, мы друг друга знали – но чисто визуально и не всех по именам. Если человек не желал представляться, его не спрашивали – дело было не просто в демократичности книжного сообщества, но и в том, что среди «нас» (и все это знали) паслись и филеры, причем не только из милиции (вычисляли спекулянтов), но из организации глубокого бурения (вычисляли диссидентов и неблагонадежных). Поэтому друг другу особенно не доверяли, разве уж совсем проверенным...
Как-то кто-то принес на черный рынок издательские планы. Каждое советское издательство выпускало списки книг – планы выпуска на будущий год. Большой дефицит, кстати – издательские планы обычно не продавали, каждый книголюб (да и простой спекулянт тоже) предпочитал держать их у себя, чтобы знать, какие предстоят новинки. Но на черный рынок приносили, показывали, давали подержать в руках. Однажды кто-то принес план издательства «Знание» на 1983 год. Там значилась моя первая книга, в плане у нее было название «Крутизна», так называлась заглавная повесть. Книжку передавали из рук в руки, посмотрел и я, убедился, что книга действительно в плане (правда, на самом деле вышла она не в 1983, как намечалось, а год спустя). А один из «наших», найдя страницу с объявлением о «Крутизне», принялся объяснять, что «этот Амнуэль, он бакинец, у него в журналах рассказы выходили». «Да, знаем, - пошли разговоры, - он сейчас чуть ли единственный фантаст в Баку остался. Войскунский уехал, Лукодьянов умер, Альтов и Журавлева фантастику забросили...»
Любопытно было все это слушать и даже поддакивать, но тот, кто принес издательский план, вдруг говорит: «А почему бы нам не сделать у нас Клуб любителей фантастики? И Амнуэля позвать в председатели». Впоследствии я узнал, что этого человека звали Толик Мирзоев, а другой знакомый по черному рынку (потом я узнал, что его зовут Гена Карпов) подхватил: «Да, пора сделать клуб, но как этого Амнуэля найти? Ни адреса, ни телефона»... «А может, он тоже сюда приходит?» - задал риторический вопрос кто-то. Я принялся понемногу выбираться из толпы и таки сбежал в тот день, ушел, как говорят, в несознанку.
Не помню уже, кто и как открыл мое инкогнито. Может, сам я и признался – мне тоже хотелось, чтобы бакинские любители фантастики собирались не на улице (часто в плохую погоду, бывало и под дождем, когда книги приходилось прятать в портфелях, дипломатах или вообще за пазухой), а в нормальной обстановке. Как бы то ни было, инкогнито было раскрыто, и решили мы обратиться официально в Республиканский Клуб книголюбов с просьбой организовать что-то вроде секции. Клуб книголюбов был тогда в Баку организацией уважаемой, у книголюбов даже было свое помещение, где они вполне официально обменивались книгами (не дай Бог, не продавали, конечно!). Председателем Клуба была известная в Баку женщина, Тамилла Салахова, сестра народного художника Азербайджана Таира Салахова. Салахов имел в республике огромный вес и влияние, а сестра этим пользовалась – в том числе и на благо любителей книги, за что ей я и сейчас благодарен.
Нам выделили комнату в помещении Республиканского клуба книголюбов, и бакинский КЛФ «Зодиак» собирался теперь дважды в месяц вполне официально.

Но история бакинского КЛФ – все-таки другая история, о ней тоже можно много рассказывать, а пока вернусь к черному рынку.
Разгоняли рынок и тогда, когда он перешел на площадь Нариманова: людное место, машины едут, книжники создают помехи движению, выходят на проезжую часть, мало им тротуара... Закончилось это тем, что однажды, когда я приехал на площадь, на тротуаре стояли только «информаторы», объяснявшие, что рынок опять поменял место жительства, и окончательно переехал в парк около Детской железной дороги.
Место для черного рынка было идеальное. Во-первых, там два парка – через дорогу один от другого. По дороге проходил трамвай, по одну сторону был парк, где располагалась детская железная дорога, по другую – аллеи сквера имени Рихарда Зорге (там и памятник ему был – очень, по тем временам, странный: стенка с двумя глазами).

В сквере – детская площадка: качели, карусель... Можно было не только книги купить, но и покататься на детской железной дороге, на качелях-каруселях. И с точки зрения тактики место было хорошее. По трамвайной линии проходила граница между двумя милицейскими «зонами влияния». За парк отвечало одно отделение милиции, за сквер – другое. Поэтому, если начиналась облава (а как же без них?), то книголюбы быстро собирали вещички и – через дорогу, в зону влияния соседнего отделения. Милиционеры границы соблюдали, и на чужой участок не посягали. Так, бывало, за день перебегали раза три-четыре.
И если уж говорить о книжных спекулянтах, то надо рассказать и о Саше (фамилию которого я так и не узнал, да и имя, думаю, у него было на самом деле другое, человек он был восточный, вряд ли у него было славянское имя). Саша «поставлял» мне журналы «Искатель», по три рубля за номер (стоил журнал, насколько помню, 60 копеек). На черный рынок он не ходил, боялся попасться с поличным. Когда он получал (от знакомого киоскера, скорее всего) очередной номер, то звонил мне и таинственным голосом назначал время и место встречи. Место всякий раз было другое, обычно неподалеку от какой-нибудь станции метро. Встречаясь, он вел себя согласно канонам плохого советского шпионского романа: появлялся будто ниоткуда, оглядывался по сторонам, быстро вел меня в какой-нибудь закуток, доставал из под полы (если зимой) или из дипломата (если летом) экземпляр журнала, зыркая при этом глазами по сторонам, я совал ему в руку трешку (непременно без сдачи), и Саша исчезал так же быстро, как появлялся.
Иногда он приносил не только журнал, но и книгу фантастики из зарубежной серии издательства «Мир». В результате у меня появилась полная библиотека «Искателей» лет за двадцать и практически все томики «Зарубежной фантастики». Жаль, конечно, что «Искатель» пришлось подарить друзьям перед отъездом, но ведь всего с собой не увезешь. Зато «Зарубежную фантастику» удалось сохранить.
Существует ли сейчас в Баку книжный рынок – не знаю. Черным он уже вряд ли может считаться – времена изменились, спекуляция стала нормальной коммерцией. В обычных книжных можно сейчас купить любую книгу, не то что в прежние времена. Впрочем, это в Москве и в Питере. Возможно, и в других крупных российских городах. А как обстоят дела с книготорговлей в глубинке и, тем более, в бывших республиках? Это тема совсем другого разговора, а я вернусь к нашим баранам – к библиотекам. Не сегодня, впрочем.
Метки: библиотеки, книги, размышления, воспоминания, фантастика
Книги и библиотеки (часть 2)
А вот обсерваторскую библиотеку помню, будто только сегодня бродил между стеллажами и делал выписки из журналов за столом в читальном зале. Помещалась библиотека на первом этаже так называемого Главного здания. Это было не очень-то презентабельное с виду двухэтажное строение, расположенное сразу при въезде на территорию обсерватории со стороны Шемахинской дороги.

В библиотеке были две большие комнаты – в одной располагался читальный зал, в другой – фонд. Окна читального зала выходили в сторону научного поселка, а в фонде окон не было вообще. Литература там была, конечно, научная – астрофизика, физика, математика. Из ненаучного библиотека получала газеты и два-три журнала: помню «Огонек», «Смену», «Здоровье»...
Когда я начал работать (в 1967 году), обсерватория – и ее библиотека – была еще молодой, ей не было и десяти лет, и фонд был не так уж велик, на полках оставалось много пустого места, постепенно заполнявшегося журналами и книгами. Естественно, доступ в фонд был свободный, и мне больше нравилось проводить время там, стоя у стеллажа и перелистывая нужный журнал, чем сидеть в зале.
В 1979 году наша лаборатория перешла из структуры Шемахинской обсерватории в штат Института физики АН в Баку, мы перестали ездить в Пиркули и обосновались в академгородке.
Занимались мы в нашей лаборатории «теории звездных атмосфер» исследованием астрофизических проявлений релятивистских звезд: нейтронных звезд и черных дыр (тогда это название не было общепринятым, и мы пользовались обозначением, придуманным академиком Я.Б. Зельдовичем: коллапсары, коллапсирующие звезды). Название лаборатории «физика звездных атмосфер» никак не соответствовало содержанию наших работ. Почему лабораторию назвали именно так, я понять не мог и сейчас не понимаю. Шеф туманно объяснял, что в Академии не утвердили правильную со всех точек зрения «лабораторию релятивистской астрофизики», вот и придумали отвлекающее название. Кому и почему наверху не приглянулось правильное название, ума не приложу. Кто-то усмотрел в слове «релятивистский» что-то антисоветское, вроде философского релятивизма, чуждого марксизму? Не знаю. Как бы то ни было, я 23 года проработал в лаборатории физики звездных атмосфер, имея об атмосферах обычных звезд весьма приблизительное представление.
Итак, занимались мы поиском нейтронных звезд и черных дыр в Галактике: изучали, сколько таких объектов может быть, как они себя проявляют, по каким признакам их нужно искать на небе. В оптическом диапазоне в те годы обнаружить нейтронную звезду или черную дыру было невозможно, искали их или в радиодиапазоне (пульсары), или в диапазоне рентгеновском. Рентгеновскими исследованиями в космосе (именно эти данные нам и были нужны в первую очередь) занимались в те годы только американцы, а результаты наблюдений на ракетах и спутниках публиковались в The Astrophysical Journal и других иностранных журналах.
Библиотека АН эти журналы не выписывала, у Института физики тоже не было денег выписывать непрофильные журналы, а читать иностранную литературы нам было необходимо. Но не ездить за журналами в обсерваторию за 140 километров! Пришлось «выкручиваться». Когда в Академию поступали свежие номера, их, прежде чем отправлять по организациям, выставляли в большом читальном зале академической библиотеки. И мы (говоря «мы», я понятно, имею в виду не себя лично, а всех сотрудников лаборатории), увидев новый номер, немедленно его просматривали, отмечали статьи, которые были нам нужны для работы, и шеф, руководитель лаборатории Октай Гусейнов, составлял довольно длинный список отмеченных статей. Список передавали в академическую библиотеку, при которой был единственный в Академии ксерокопировальный аппарат. В библиотеке список визировали отвечавшие за «секретность» люди из первого отдела. После этого журналы поступали к копировщикам, те делали ксерокопии нужных нам статей, сдавали обратно в библиотеку, и неделю спустя кто-нибудь из нас забирал толстую папку с ксерокопиями. Все академические институты пользовались этой возможностью, но аппарат был один, так что можно представить, как он был загружен. Часто копии получались такими «слепыми», что для чтения нужно было пользоваться лупой, а то и прибегать к криминалистическим методам: смотреть «на просвет» или просто догадываться, какое там написано слово. А если дело касалось формул и графиков... В общем, чтение ксерокопий зачастую было приключением, и за точность прочитанного порой ручаться было невозможно, поскольку к тому времени журналы снимали с полки новинок и отправляли в обсерваторию, за 140 километров...
А в комнате, где располагалась наша лаборатория, заполнялись полки с ксерокопиями статей. Эта практика продолжалась много лет – по крайней мере, вплоть до моего отъезда в Израиль. Ксерокопии и до сих пор, сложенные в папки, хранятся в шкафах. Года три назад моя дочь ездила в Баку. Зашла она по моей просьбе и в Институт физики, в мою бывшую лабораторию, поговорила с моими бывшими сослуживцами, сфотографировала – и я с ностальгическим удивлением увидел в шкафах старые папки с надписями, сделанными моей рукой... И шкафы те же, и звездная карта на стене... Время в лаборатории будто застыло, и только мои бывшие сослуживцы состарились на двадцать лет...
Вернусь, однако, к библиотеке обсерватории. Собирали ее, видимо, с миру по нитке – там были и новые книги, выпущенные в шестидесятых годах, и старые, многие со штампами других библиотек, а некоторые книги были еще дореволюционного издания. В те годы я ими не очень-то интересовался – для моей конкретной работы в них не было ничего нужного. Старые книги вошли в мою жизнь лет пять или шесть спустя, когда все полки в фонде оказались заполнены новыми книгами и журналами. Старые мешали появлению новых, увеличить размер комнаты-фонда было невозможно. Предоставить библиотеке еще одну комнату в главном здании дирекция не торопилась, да и откуда было взяться свободному помещению? Решено было старые книги и журналы списать.
Помню большую груду книг и журналов, сваленную на полу в читальном зале. В фонде появилось довольно много свободных полок, а сотрудникам предложили взять себе любое количество списанных книг и журналов – хоть все сразу. Остальное предполагалось предать огню.
Копаясь в этой груде, я впервые внимательно осмотрел дореволюционные книги. Когда они стояли на полке, мне казалось, что ничего интересного в них нет. Теперь я с изумлением обнаруживал на первых страницах экслибрисы и штампы людей и организаций, в чьих библиотеках эти книги находились прежде. Открытие меня потрясло! На первой странице «Астрономии» Фламмариона были экслибрисы графа Разумовского (кто такой? Были ли в Баку Разумовские? Понятия не имею), известного бакинского магната и нефтезаводчика Таирова (в его красивейшем особняке в центре города размещался Музей истории Азербаййджана) и еще не помню уже чьи экслибрисы – каких-то людей без титулов, к кому, видимо, попала книга уже после революции. Дальше были штампы уже государственных библиотек – не одной, а нескольких.
Два огромных тяжеленных тома я не смог отдать на сожжение. Забрал, и они еще очень долго стояли у меня дома. Более того, я взял их с собой, уезжая в Израиль, положил в контейнер, отправляя багаж, и бдительные таможенники, не позволившие взять любимые грампластинки (как же! народное достояние!), не обратили на это «старье» внимания.
Название у обеих книг было одно и то же: «Астрономия». Автором одной был немецкий профессор Миллер, книга вышла в 1889 году. Прекрасные иллюстрации (правда, черно-белые), фотографии небесных тел, сделанные с помощью самых лучших телескопов того времени, рисунки созвездий с изображениями из атласа Гевелия. Но не это было самое привлекательное. Очень хороший текст – по идее, эту книгу можно было бы переиздать и сейчас. Не всю, конечно – тогда еще не было даже известно, что существуют другие галактики, астрономические знание за почти полтора века ушло очень далеко вперед. Но основные положения астрономической науки были изложены прекрасным языком, а математическое основы астрономии – системы координат, например, - остались неизменными.
Настоящим же раритетом (и это понимал даже я, небольшой знаток старинных книг) была «Астрономия» неизвестного автора (его имени не было на обложке), опубликованная в год Великой французской революции, 1789! Написана она была не так интересно, как книга Миллера, я бы даже сказал – довольно скучно, но «изюминка» заключалась не в этом. В книге много рассказывалось о созвездиях, практической астрономии, о движении планет, о системе Птолемея. И о том, что существует еще и система Коперника, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля, но эта система пока не общепринята и надежно не доказана. И это было написано в конце 18 века, через полтора столетия после Коперника! То ли неизвестный автор был ужасным консерватором и ретроградом, то ли даже в век Просвещения далеко не все ученые, в том числе астрономы, верили в правоту Коперника...
Сейчас этих книг у меня уже нет – я их, конечно, не выбросил, но домашняя библиотека так разрослась, что стало не хватать места, и кое-какие книги я отдал в русскую библиотеку в Иерусалиме (об этой библиотеке я, конечно, тоже расскажу – история ее уникальна и непосредственно связана с моей «абсорбцией» в Израиле – впрочем, правильнее было бы сказать наоборот: моя «абсорбция» оказалась непосредственно связана с историей этой уникальной библиотеки). Среди книг, переданных в Иерусалимскую русскую библиотеку, были и эти две «Астрономии». Они упокоились там, где им изначально и положено было находиться – в отделе старинных и редких книг.
Когда лаборатория переехала в Баку, место обсерваторской библиотеки заняла академическая.

Располагалась она на втором этаже главного здания Академии, занимала почти весь этаж. Весь штат обсерваторской библиотеки состоял из одного человека – библиотекарши, причем так уж получалось, что работали там замечательные женщины, но по образованию своему они не имели никакого отношения не только к астрономии, но и к библиотечному делу. Это были выпускницы Института иностранных языков, они прекрасно читали и говорили по-английски – наверно, это и было если не причиной, то поводом для приема на работу. Ведь наши сотрудники с английским были не очень в ладах, а основная астрономическая литература была (да и сейчас осталась) на английском. Без языка – никак.
В академической библиотеке штат был куда больше – десятки сотрудников, все с высшим библиотечным образованием. Из чего, впрочем, не следовало, что в библиотеке легко было найти нужную книгу. Мало быть специалистом по библиотечным делам, надо еще ориентироваться в науках.
Академическая библиотека запомнилась мне не тем, что там было много литературы по специальности, а работой над научно-популярными книжками для издательства «Знание» и над книгой, которая так и не вышла в свет и называлась «Следствие по делу о катастрофе».
История была такая. В середине восьмидесятых годов я предложил издательству «Детская литература» заявку на серию научно-популярных книг, которые были бы построены как научные детективы с тремя персонажами: Сыщиком, Следователем и Экспертом. Эти персонажи расследуют научные загадки, пользуясь криминалистическими методами: опрашивают свидетелей (ученых), собирают улики (данные экспериментов и наблюдений), анализируют следственные версии (научные гипотезы)... Предложил несколько тем, среди которых были и такие: расследование открытия пульсаров и расследование Тунгусской катастрофы. В редакции решили, что про Тунгусскую катастрофу 1908 года читателям будет читать интереснее, и я принялся собирать материал. Кстати, книга-расследование об открытии пульсаров вышла пару лет спустя не в «Детской литературе», а в издательстве «Знание» и называлась «Загадки для знатоков».
О Тунгусском феномене я читал довольно много – особенно после «Пылающего острова» Казанцева. Но одно дело – читать для самообразования, и другое – чтобы самому написать книгу об этом удивительном феномене. Договорившись с издательством, первым делом пошел, конечно, в академическую библиотеку, не очень, впрочем, надеясь найти какие-нибудь уникальные материалы. Покопавшись в каталогах, обнаружил, однако, Труды конференций, посвященных Тунгусскому феномену и проходивших в разные годы в Новосибирске и Томске. А в этих трудах оказалось много интересного, включая ссылки на другие работы, которые, к моему удивлению, тоже нашлись в библиотеке. Несколько редких региональных журналов в академической библиотеке не было, и их для меня выписали по межбиблиотечному абонементу из Москвы. Журналы поступили через месяц-полтора, и я едва не утонул в обилии материалов.
Это были удивительно насыщенные месяцы. Оказалось, что в исследованиях Тунгусского феномена множество «подводных камней». И главное было в том, что авторы разных гипотез принимали во внимание информацию, которая их гипотезу подтверждала, а факты, которые гипотезе противоречили, отбрасывали как недоказанные. Это относилось ко всем без исключения гипотезам, в том числе, основной – о том, что 30 июня 1908 года над Тунгусской тайгой распалось и взорвалось ядро небольшой кометы. И гипотеза Казанцева о катастрофе космического корабля с Марса тоже на какие-то вопросы отвечала, а на какие-то – нет.
Было очень увлекательно, закопавшись в книги и журналы, перебирать одну гипотезу за другой (среди гипотез были очень странные – например, о том, что это был взрыв комариного облака!), искать соответствия и противоречия.
Через несколько месяцев книга о расследовании Тунгусского феномена была готова – десять авторских листов, и я точно знаю, что даже сейчас не вышло более обстоятельного труда, в котором анализировались бы – надеюсь, беспристрастно – десятки гипотез. Отправил рукопись в издательство, полагая, что, как мы и договаривались, книга выйдет как раз к восьмидесятилетию Тунгусского феномена (советская привычка делать всё к какой-то дате была неискоренима). Книгу действительно вроде бы включили в план на 1988 год. А потом что-то застряло в издательском механизме. К рассказу о библиотеке это отношения не имеет, да я и не помню уже, какую конкретно причину назвало издательство, отказываясь от договора. Кажется, речь шла о том, что в книге слишком много фантастического для научпопа, и слишком много науки для фантастического очерка...
Я уж думал, что многомесячная работа в библиотеке пошла коту под хвост, но как-то в разговоре с одним из редакторов журнала «Химия и жизнь», куда отправлял свой фантастический рассказ, упомянул и об этой книге. «Пришлите почитать», - попросил он. А прочитав, сказал, что не знает ничего более увлекательного о Тунгусском феномене, это надо немедленно публиковать, но... Всегда бывают «но». В данном случае «но» заключалось в том, что журнал не издательство и не может опубликовать материал размером в десять авторских листов. Вот если сократить... Например, втрое...
Сократил. Много интересных сведений пришлось опустить. Диалоги и беседы персонажей – Сыщика, Следователя и Эксперта – стали более скупыми. Но, как бы то ни было, «Следствие по делу о катастрофе» было в 1988 году опубликовано в двух номерах «Химии и жизни». Работа в библиотеке не прошла даром.

Как-то в начале восьмидесятых Институт филологии и лингвистики (кажется, он назывался так, но точно не помню) совместно с академической библиотекой задумал осуществить фундаментальный труд – создать Большой русско-азербайджанский словарь. И оказалось, что многим русским словам в азербайджанском языке или нет аналогов, или сотрудники института и библиотеки этих слов не знали. Работа застопорилась, и в библиотеке придумали выход.
В холле Главного здания Академии были четыре огромные колонны квадратного сечения. Толщина колонн соответствовала размеру большого листа ватмана. Такие листы и были наклеены на каждой колонне, и всем желающим предлагались русские слова. «Кто знает, как это будет по-азербайджански, пишите!»
Люди в Академии работали серьезные, но не обошлось без шутливых надписей. Тем не менее, эта акция помогла собрать двухтомный русско-азербайджанский словарь.
Когда сейчас вспоминают о цензуре, существовавшей в СССР, обычно имеют в виду цензуру внутреннюю. Была, однако, и внешняя – нам дозволялось читать далеко не всё, что публиковали поступавшие в академическую библиотеку западные журналы. Довольно часто брал в руки, например, свежий номер «Nature» и обнаруживал отсутствие нескольких страниц – видны были следы обрезов, кто-то аккуратно вырезал лезвием листы, чтобы советский человек, не дай Бог, не прочитал что-то крамольное. Странно, но проделать такую же вивисекцию со страницей оглавления «там» не додумались, и по оглавлению я, конечно, видел, что именно мне не было дозволено читать. Обычно это были статьи о положении науки в СССР или статьи о советской экономике.
Странностей с пресловутой цензурой было предостаточно. Американский журнал «Aeronautics and Astronautics» всегда поступал в целости и сохранности, хотя публиковал сведения, которые «простому советскому человеку» знать было не положено – во всяком случае, советская пресса в те годы ни о чем подобном не писала. Там, например, в каждом номере (журнал был ежемесячным) публиковали таблицы пусков космических аппаратов: откуда был запуск, какая масса, какая орбита, название аппарата, цель... В нашей печати в те годы не упоминалось название Тюратам – место, где находился космодром Байконур. В журнале же космодром был обозначен: «Тюратам-Байконур». И истинные цели запусков многочисленных спутников серии «Космос» советский человек знать не мог, в сообщениях ТАСС говорилось об «исследовании космического пространства». В американском же журнале ясно говорилось: этот спутник военный, этот навигационный, этот для исследований поверхности Земли. И военных спутников было раз в десять больше, чем гражданских...
Однажды в 1984 году я принес в лабораторию из академической библиотеки свежий номер «Aeronautics and Astronautics», на обложке которого была фотография, сделанная сверху – видимо, с борта самолета. Изображена была палуба какого-то военного корабля, а на палубе стоял самолет не самолет – странная конструкция, напоминавшая американский «шаттл»: очень широкие крылья, гипертрофированно большое хвостовое оперение... Видны были люди, окружившие этот «самолет», и, сопоставляя размеры, можно было понять, что аппарат небольшой, метра четыре в длину. Модель?
Внутри журнала была большая статья, где было написано следующее. Американский самолеты следили за маневрами советских военных кораблей в Тихом океане, и однажды пилоты увидели, как с неба спускается какой-то аппарат, похожий на шаттл. За полетом проследили, «самолет» опустился на палубу советского крейсера, где его и сфотографировали. Дальше в статье шли предположения: что бы это могло быть? Основное предположение было: «Советы» собираются запустить свой аппарат типа шаттла. Обсуждался вопрос: обнаруженный аппарат был советским шаттлом в натуральную величину (тогда получалось, что СССР может запускать только такие маленькие автоматические аппараты) или моделью будущего большого корабля. Там были рисунки для сравнения: шаттл «Атлантис», рядом этот «самолет», справа предполагаемый советский шаттл в предполагаемую величину...
Четыре года спустя, когда был запущен и благополучно вернулся советский «Буран», стало понятно, что же происходило в акватории Тихого океана. Испытывали все же модель. Но удивительно – как этот номер журнала пропустила наша бдительная цензура...
Метки: воспоминания, размышления, книги, библиотеки
К юбилею Евгения Львовича Войскунского
Я не знаю других людей, кто в таком почтенном («мафусаиловом», как говорит сам Евгений Львович) возрасте сохранил бы такую ясность ума, живость мысли, бодрость духа и юношескую, по сути, способность писать, писать и писать – новый роман, новую повесть, новый рассказ...
Евгений Львович, безусловно, старейшина российских (и шире – советских) писателей, не только фантастов.
Познакомились мы полвека назад, в начале шестидесятых, когда Евгений Львович был уже известным писателем, опубликовавшим (в соавторстве с Исаем Борисовичем Лукодьяновым) замечательный фантастический роман «Экипаж “Меконга”», а я только-только окончил школу, написал несколько фантастических рассказов (правда, один из них был опубликован в «Технике-молодежи») и чувствовал себя очень неуверенно, прекрасно понимая разницу между моими неумелыми опусами и изящной литературной вязью и отличными научно-фантастическими идеями романа о море.
Не помню, кто привел меня в большую комнату в помещении Союза писателей Азербайджана (потом я там бывал довольно часто, приходил на заседания Комиссии по фантастике). Кто-то из знакомых, конечно. Кто-то, кто знал Евгения Львовича и представил меня ему, как начинающего автора или как-то так. Я принес школьную тетрадку с очередным опусом, и мы о чем-то поговорили – говорил, скорее всего, Евгений Львович, а я слушал и впитывал.
Следующее воспоминание: я дома у Евгения Львовича, мы сидим за круглым (почему-то запомнилась только эта деталь) столом, пьем чай, и я слушаю, как Евгений Львович по косточкам разбирает мое неуклюжее сочинение.
В ту пору я полагал своим наставником в фантастике (и не только в фантастике) Генриха Сауловича Альтшуллера, его идеи и мысли о литературе (и не только о литературе) впитывал и запоминал – не всегда соглашался, но всегда принимал к сведению. Генрих Саулович учил преданности поставленной цели, настойчивости, умению фантазировать, придумывать новые идеи, о которых прежде никто не писал.
Евгений Львович научил меня другому: умению сочинять, пониманию того, что одних (пусть даже прекрасных) идей для литературы мало, в литературе нужны люди, характеры, сюжеты и другие чисто литературные особенности, без которых рассказ становится очерком или статьей. Помню, он часто повторял: «Павлик, нужна не гладкопись, а свой стиль. Можно научиться писать гладко, но не к этому нужно стремиться».
В 1964 году в Баку при Союзе писателей Азербайджана была создана Комиссия по научно-фантастической и приключенческой литературе, председателем Комиссии стал Евгений Львович. В Баку – так сложилось – работали в те годы Генрих Альтов, Валентина Журавлева, Рафаил Бахтамов, Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов: известнейшие имена, лучшие советские фантасты. Собирались, обсуждали свои новые произведения, спорили. Мы трое – Рома Леонидов, Боря Островский и я – были в этой компании не только самыми молодыми, но и самыми неопытными, опубликовавшими один-два не очень хороших рассказа. Естественно, именно наши опусы обсуждали на комиссии чаще всего, нам и доставалось больше всех на орехи. Но и друг к другу наши старшие товарищи бывали порой даже излишне суровы. Евгений Львович всегда умел направить обсуждение в нужное русло, вывести дискуссию из тупика. У меня и сейчас стоят на полке подаренные им книги «Экипаж “Меконга”», «Ур, сын Шама», «Плеск звездных морей».


Евгений Львович писал не только фантастику, но и реалистическую военную прозу. О том, как он провел войну, Войскунский рассказал много лет спустя в автобиографический роман «Полвека любви», но военный его опыт виден, конечно, и в таких романах, как «Кронштадт», «Румянцевский сквер».

В наши дни Евгений Львович, пожалуй, единственный писатель в России, который работает в жанре классического романа. «Сейчас такие романы не пишут», - сказал мне не так давно известный издатель. Не пишут, да. И не очень стремятся публиковать – последние романы Евгения Львовича с трудом проходили издательские препоны. Но прошли, слава Богу, вышли в свет и нашли своего читателя.
Евгений Львович писал книги не только за себя, но и «за того парня» - он известен, как прекрасный переводчик с азербайджанского, перевел на русский многие романы известных (на родине) азербайджанских писателей, в том числе фантастов. По сути, это были не столько переводы, сколько переложения, и романы эти принадлежали собственному перу Войскунского не меньше, если не больше, чем писателям, чье имя стояло на обложке.
Комиссия при СП работала до семидесятого года и успела собрать и выпустить (благодаря в значительной степени усилиям Евгения Львовича) три сборника фантастики: «Формула невозможного», «Эти удивительные звезды» и «Полюс риска». О работе комиссии и, в частности, о ее председателе Евгении Львовиче Войскунском я как-то уже рассказывал в очерке-мемуаре «Эти славные шестидесятые», поэтому не буду повторяться.
В 1970 году Евгений Львович переехал в Москву, и вот уже больше сорока лет мы видимся, когда я приезжаю в столицу России. Я и до сих пор разговариваю с Евгением Львовичем, как со своим учителем. Мы о многом беседуем (чаще – в письмах) – о ситуации в фантастике и в политике, о литературе и жизни.
В 1992 году Евгений Львович был в Израиле, и я помню, какое впечатление на него, фронтовика, произвел мемориальный комплекс «Яд Вашем», где мы провели несколько часов. Евгений Львович вспоминал, а я слушал...

Десять лет назад я приехал в Москву как раз в тот день, когда в Доме литераторов проходил юбилейный вечер – Евгению Львовичу исполнилось 80 лет. И вот – новый юбилей. Евгений Львович бодр и полон, как и прежде, творческих сил.

Эти фотографии сделала Анна Андриенко (Андрона), и, на мой взгляд, это замечательные фотографии, прекрасно передающие характер и духовную силу Евгения Львовича Воайскунского.
Метки: размышления, воспоминания, фантастика
Книги и библиотеки (часть 1)
Потом я научился читать, начал читать сам, и первой книгой, какую запомнил, был толстый том большого формата (я с трудом удерживал его в руках): «Азербайджанские народные сказки». Темно-зеленая потрепанная картонная обложка с рисунком, напоминающим персидский ковер, и буквы (русские, естественно) под арабскую вязь. Дэвы, ифриты, шахи, бедняки, побеждающие врагов ради женитьбы на дочери хана или шаха... В общем, это все не так сильно отличалось от русских сказок, которые читал потом – антураж, конечно, разный, но смысл, фабула и даже сюжетные линии очень похожи.
А потом какой-то провал в памяти – во всяком случае, в памяти о прочитанных книгах. Знаю – из рассказов мамы, - что читал в первых классах школы довольно много, но – ничего не помню, только эту большую книгу сказок.
Следующее «книжное» воспоминание – уже фантастика. Шестой класс. Я увлекся астрономией и записался в астрономический кружок Дворца пионеров. Тогда (или чуть раньше, не помню последовательности – то ли книги привели меня в кружок, то ли кружок – к книгам) появились у меня прекрасно изданные книги тогдашнего замечательного популяризатора астронавтики Ари Штернфельда о космических полетах. Книги большого формата, с большим количеством цветных иллюстраций: изображением ракет, Луны, планет, орбит... И книги Якова Перельмана, конечно, в середине пятидесятых эти книги стали выпускать большими тиражами, и я по много раз перечитывал «Занимательную физику», «Занимательную математику» и особенно «Занимательную астрономию».
Но это – книги научно-популярные, а что читал из художественной литературы? Помню «Муму» Тургенева, «Каштанку» Куприна, «Ваньку» Чехова – это были небольшие брошюры, в каждой по рассказу, без иллюстраций, только на обложке картинка, каждую из них помню и сейчас, хотя не уверен, что помню правильно и именно то, что действительно было изображено: память, как известно, вещь коварная и, бывает, услужливо подсовывает картинку, которую ты не столько видел в действительности, сколько предполагаешь, что мог видеть именно ее.
Возможно, нам задавали читать эти книги в школе – не помню. Первое мое очень яркое воспоминание о книге после нескольких лет перерыва: это «220 дней на звездолете» Георгия Мартынова, книга, вышедшая в знаменитой «рамочке» - детгизовской серии «В мире фантастики и приключений». Первая художественная книга о межпланетном полете, которую я увидел на полке и, естественно, прилип взглядом. Дело было в квартире моего школьного приятеля Юзика Гуревича, я не так часто бывал у него дома, чаще он приходил ко мне или мы гуляли на улице (вместе с другим моим школьным другом Сашей Михайловым, который тогда еще не получил свою кличку Тромбон, прилипшую к нему на всю жизнь).
Жили Гуревичи несравненно лучше, чем мы. Мама Юзика, насколько помню, была врачом. Кажется, и папа тоже. Во всяком случае, у них была хорошо обставленная квартира (не помню – чем обставленная, но у меня возникало ощущение богатого дома, не то что у нас). Что помню точно, будто и сейчас вижу перед глазами: книжный шкаф красного дерева со стеклянными дверцами, полностью заставленный книгами. Десятки книг – потрясающее, по моим понятиям, богатство. И среди корешков светло-серый с голубоватым отливом – с узорами, которые с тех пор запомнил прочно и навсегда. Помню, как стоял, смотрел и не решался протянуть руку, чтобы достать книгу, потому что в правом верхнем углу дверцы шкафа был прилеплен большой лист бумаги, на котором было написано от руки:
«Не шарь по полкам жадным взглядом,
Здесь книги не даются на дом.
Лишь безнадежный идиот
Знакомым книги выдает».
Я не считал Юзика идиотом и понимал, что книгу так и не прочитаю. Он, видимо, обратил внимание на то, как я разглядывал книги за стеклом, и я помню момент, когда «220 дней на звездолете» оказались у меня в руках. Не толстая книга – страниц двести. Я ее листал, не мог оторваться, и для меня было сделано исключение. «Возьми домой, если хочешь», - сказал Юзик, переговорив с отцом.

Описать свои впечатления от этого, вообще-то, довольно слабого романа (точнее – повести), я не могу. То есть, то, что повесть была слабенькая и дидактичная, я понял много лет спустя, когда пытался перечитать книгу и не смог. Но тогда! Полет на Марс! Американцы строят козни советским, хотят опередить «наших», но им это, понятно, не удается...
Это воспоминание можно, наверно, назвать моим первым библиотечным впечатлением. Почему нет? Взял почитать книгу в домашней библиотеке у школьного приятеля.
Написал это и еще вспомнил: ведь были же и другие фантастические книги, которые я читал до Мартынова. И немало! Но вспомнил я сейчас о них, сделав над собой некое усилие. Немцов, Охотников, Сапарин, Долгушин... О них отдельный разговор. Не библиотечный, хотя многие из этих книг я брал именно в библиотеке.
И почти сразу начались другие книжные впечатления. Как-то почти одновременно во времени сложилось. Оттепель, издательства в середине пятидесятых начали выпускать книги, о которых еще несколько лет назад и думать не приходилось. Вышли трехтомник Уэллса и двухтомник Беляева. Книги эти помню так хорошо, будто только что держал в руках, даже запах помню. Тогда впервые прочитал «Машину времени», «Войну миров», «Человека-невидимку», беляевские «Человека-амфибию», «Звезду КЭЦ»...
Еще более сильное впечатление произвел Жюль Верн. Как раз тогда была подписка на двенадцатитомное собрание сочинений (эти книги и сейчас у меня, потрепанные, кое-где даже распавшиеся, но живые). Уэллса и Беляева я купил в книжном магазине – тогда еще можно было купить книгу, просто придя в магазин. Правда, нужно было успеть – такие книги заканчивались быстро. Утром пришел – лежат, к вечеру уже нет, раскупили.
На первом этаже нового, послевоенной уже постройки, восьмиэтажного дома на проспекте Нефтяников (бывшем Сталина) – напротив приморского бульвара – находился

магазин подписных изданий. И в те годы начался подписной бум – чуть ли не каждое воскресенье проводили подписку на что-то новое. За пару недель перед этим на дверях магазина вывешивали большое объявление о том, что в воскресенье, такого-то числа, будет подписка на собрание сочинений такого-то автора. На магазин выделено столько-то подписок (обычно 200-300. Самое большое количество, что я помню – 1100 на Чехова). И в тот же вечер перед магазином собиралась толпа, тысячи две минимум, – записываться в очередь. В Баку уже был в то время клуб читателей при магазине, и люди, этим клубом назначенные, вели запись. Каждое утро устраивали переклички, и кто не откликался, того из списков вычеркивали. В субботу народ собирался с вечера, люди ночевали на улице, чтобы не упустить очередь, потому что в ночь на воскресенье переклички устраивали каждые два-три часа, и кто не откликался, оставался без подписки.
Муж моей двоюродной сестры был членом этого клуба читателей, так что имел некоторые преимущества – получал номер вполне проходной и меня тоже записывал на относительно неплохое место. Но надо было лично присутствовать при перекличках, а меня мама, понятно, в такую рань не отпускала из дома, тем более – на ночь. И потому моя очередь все отодвигалась, и лишь несколько раз мне действительно удалось подписаться. Первый раз – именно на Жюля Верна.
Как пахли эти книги! Запах свежей типографской краски и сейчас помню, и чувствую его, когда беру в руки эти старые, более чем полувековой давности, серые тома. Каждый том перечитывал раз по десять. Не только Жюля Верна – и Беляева, и Уэллса. Через год собрание Беляева переиздали, добавив третий том, и я был в восторге от опубликованного там «Ариэля».
Библиотека появилась в моей жизни тоже в те годы. Это была Библиотека имени Ленина, в самом центре города, около так называемого Парапета – самого популярного в Баку сквера, где под новый год ставили самую большую в Баку елку, а рядом был самый большой тогда в Баку книжный магазин. Вообще это было самое «культурное» место в городе: библиотека, книжный магазин, кинотеатр, музей литературы имени Низами...
Библиотека была большая, двухэтажная, мне она казалась вообще немыслимо огромной. Детей туда записывали неохотно, меня записали, когда я перешел в восьмой, кажется, класс. Кажется, привел меня туда отец, причем не в отдел художественной литературы, а отдел науки – в те годы я много читал всякой научно-популярной литературы, и ее не хватало – все такие книги, что были в магазинах, мне купили, Перельмана я зачитал чуть ли не до дыр, тогда отец и повел меня в самую большую по тем временам (вторая половина пятидесятых) в городе библиотеку и кого-то там уломал, чтобы ребенка записали.
Библиотека размещалась (надо полагать, что и сейчас там) в старом, дореволюционной постройки, трехэтажном доме. На первом этаже были книжные магазины – обычный и букинистический. А библиотека – на втором и третьем. Второй этаж – художественная литература, а третий был устроен странно. Собственно, это и не этаж был, а широкий балкон, который шел над большим читальным залом второго этажа. Там, на балконе, и стояли вдоль стен стеллажи с книгами по всяким наукам. В те годы еще не было к книгам свободного доступа, нужно было смотреть каталоги, выбирать, или спрашивать библиотекаршу, она шла к полкам, находила нужную книгу... Сверху, с балкона, было видно, что внизу к стойке библиотекарей стояла очередь, а на балконе никаких очередей не было, да и вообще, когда я приходил, у меня складывалось ощущение, что, кроме меня, никто на балкон и не поднимается – я никогда не встречал там других читателей. А библиотекаршу хорошо помню, она была очень похожа на мою первую учительницу в начальной школе – Любовь Григорьевну Крюченкову. Такая же полная, с широким лицом и светлыми пышными волосами. Лет ей (и учительнице, и библиотекарше) было, наверно, ненамного больше сорока, но казалась она мне глубокой старушкой, типичной библиотекаршей, только так я и представлял этих женщин, охранявших книги. Сначала она меня внимательно выслушала, а я, видимо, довольно сбивчиво объяснил, чего хочу. Как бы то ни было, то ли сразу, то ли потом она разрешила мне самому подходить к полкам и копаться в книгах, разумеется, не нарушая порядок. В отделе астрономии книг было довольно много – конечно, все книги Ари Штернфельда, книги Воронцова-Вельяминова, Опарина, Струве (дореволюционное издание!). Не было специального стеллажа с научно-популярными книгами, они стояли вперемежку с научной литературой, так что я копался и в таких книгах, в которых в те годы ничего понять не мог. Но все равно открывал, смотрел на сложные формулы и графики и мечтал о том, что когда-нибудь все это станет мне знакомо и понятно.
Книги в Ленинке можно было брать на дом – не больше трех или не больше пяти за один раз. На две недели. Сначала я перечитал все научно-популярные книги, потом пытался читать научные. В то же время в кружке наш руководитель Сергей Иванович Сорин много рассказывал нам о теоретических основах астрономии и астрофизики, так что книги из библиотеки служили хорошим подспорьем.
Выбрав книги, я передавал их библиотекарше (жаль, что не запомнил ее имени-отчества), и после того, как она записывала их в формуляр, а я, как взрослый, ставил свою подпись, мы какое-то время беседовали на разные темы, не всегда связанные с книгами и наукой. Читателей все равно не было, никто не мешал, а о чем конкретно мы говорили, я, конечно, уже не помню. Помню, что я сам себе удивлялся. Дело в том, что был я ребенком очень стеснительным, с незнакомыми людьми никогда не заговаривал, даже со знакомыми держался скованно. То ли из-за этой стеснительности, то ли по иной причине, но говорил я так быстро, что меня часто просто не понимали и просили повторить. Или переставали слушать, а я, соответственно, переставал разговаривать. Я был стеснительным настолько, что даже здороваться стеснялся, из-за чего взрослые, не знавшие этой моей особенности, на меня обижались и, бывало, жаловались маме: почему, мол, ваш сын такой невежливый, прошел мимо и не поздоровался. Я не был невежливый, я был стеснительный. Но с библиотекаршей мы довольно быстро нашли общий язык, в астрономии я уже был довольно начитан, так что не только она мне о чем-то рассказывала, но и я ей – о разных планетах, звездах и космических полетах.
Через год или два – видимо, тогда, когда я получил паспорт – меня записали и в отдел художественной литературы, так что, поднимаясь в библиотеку, я сначала останавливался на втором этаже, менял книги, а потом – на балкон, где и проводил долгое время, хотя, насколько помню, вскоре мне там стало нечего читать: научно-популярных книг было в те годы не так уж много, а серьезная научная литература была мне по-прежнему не по зубам. Так что в школьные годы я больше разговаривал с библиотекаршей, чем копался в уже известных и несколько раз читанных книгах.
Когда читать на балконе стало совсем нечего, я переключился на художественную литературу. Прежде всего, хотел читать фантастику. Научную. Желательно – о космических полетах. Приключенческие романы – Майн-Рид, Купер, Саббатини, Эмар – меня привлекали гораздо меньше. Купер вообще казался скучным. Майн-Рида я довольно быстро прочитал от корки до корки (пятитомное собрание, на которое был подписан муж моей кузины, а мне подписка не досталась), а вот Дюма читал с удовольствием и перечитывал. «Три мушкетера», «Королеву Марго», а больше, кажется, в те годы ничего и не было – помню, что «Графа Монте-Кристо» и все продолжения «Трех мушкетеров» я прочитал в Республиканской публичной библиотеке, часами просиживая в читальном зале, а купил эти книги значительно позже, когда появилась «макулатурная литература». Эти «макулатурные» издания Дюма у меня до сих пор стоят на полках.
Помню, как взял в Ленинке первую книгу Казанцева. То есть, у него-то это была не первая книга, но раньше я этого автора не читал. Это был «Пылающий остров», маленькая, вроде современных покетов, но в твердом переплете, толстая книга издательства «Трудрезервиздат», была у них такая серия фантастики и приключений, и я книги этой серии впоследствии перечитал практически все – они были в библиотеке, да и в книжных магазинах появлялись.

«Пылающий остров» меня потряс – почти так же сильно, как незадолго до того книга Мартынова «220 дней на звездолете». Потрясла идея о том, что Тунгусский метеорит мог быть межпланетным кораблем, прибывшим с Марса и потерпевшим крушение над сибирской тайгой. Впоследствии я много времени посвятил изучению проблемы Тунгусской катастрофы, прочитал много книг и статей, разобрался в десятках гипотез и сам написал довольно внушительный труд «Следствие по делу о катастрофе», который должен был выйти (это было уже в восьмидесятых годах) отдельной книгой в издательстве «Детская литература», но там не сложилось, и работу эту в сокращенном виде опубликовал в двух номерах журнал «Химия и жизнь». Но когда я читал «Пылающий остров», до тех моих изысканий было еще далеко, и я верил всему, что писал Казанцев. Книгу эта я перечитывал много раз. Лет через двадцать взял в руки новое издание (вышедшее в собрании сочинений Казанцева) и... не смог дочитать даже до пятидесятой страницы. Дидактично, скучно, шаблонно... Наши хорошие, американцы плохие, злые капиталисты хотят погубить планету, сжигают ее атмосферу, но наши вовремя добиваются победы... и все в таком духе. Но это было потом, а тогда я с удовольствием читал и перечитывал, а потом брал и другие книги Казанцева: «Арктический мост», «Планету бурь», «Мечте навстречу»...
Я даже Немцова, Охотникова и Сапарина по много раз перечитывал – «Золотое дно» и сейчас помню довольно детально. Мне это в те годы казалось замечательной фантастикой – не такой увлекательной, как «220 дней на звездолете», но все же...
А в 1956 году «Техника-молодежи» опубликовала (оттепель все-таки, начали печатать и зарубежных фантастов!) повесть Эдмонда Гамильтона «Сокровища Громовой Луны», и мое потрясение не имело границ. Оказывается, пока «наши» пишут об электрических тракторах и освоении нефтяных залежей морского дна, эти «злые американцы» описывают приключения героев на других планетах! И какие приключения! Поиск левиума – материала, который обладает антигравитационными свойствами! Таких идей у советских фантастов не было, разве что в «Ариэле» Беляева и «Блистающем мире» Грина (вот еще один писатель, о котором могу рассказывать долго и с восторгом!), но у них это скорее была красивая сказка, а повесть Гамильтона была самой настоящей научной фантастикой. Один из героев погибал на Громовой Луне со словами: «Так я всегда и хотел умереть: с бокалом вина из рук красивой девушки!» Можете себе представить, какое впечатление произвела на меня эта фраза, если я запомнил ее на всю жизнь!
Подготовленный уже к тому, что может вот-вот появиться некая новая фантастика, я открыл первый номер «Техники-молодежи» за 1957 год. Большую картинку на странице начала публикации «Туманности Андромеды» Ефремова я тоже помню сейчас, будто увидел даже не вчера, а сегодня. Впрочем, эта картинка хорошо всем известна. Журнал я тогда уже не в библиотеке брал, а выписывал, хотя подписаться на «Технику-молодежи» было трудно. Но в Музее Ленина, где работал папа, были особые квоты на подписки, и он смог подписаться.
В библиотеках – районных и городских – не было прямого доступа к полкам с книгами. И в Ленинке тоже надо было отстоять очередь к библиотекарю, а очереди бывали довольно длинными в художественном отделе. На прилавке перед библиотекарем лежало десятка два книг, которые только что сдали, эти книги можно было полистать и записать себе. Если ничего не находил, то называл библиотекарше книгу, которую хотел бы почитать, и она говорила «Сейчас этой книги нет в наличии. Если хотите, запишу вас в очередь. Когда книгу сдадут, я ее для вас оставлю». Или, если ей казалось, что книга на полке, она шла ее искать. Чаще не находила (память человеческая не беспредельна), тогда возвращалась и спрашивала, чего я хочу еще. Чтобы ей несколько раз не ходить, обычно называли три-четыре книги, из которых она приносила одну-две. Бывало (чаще всего), что читатель не знал, какую конкретно книгу хочет, а так... «что-нибудь про любовь», «мне бы фантастику», «а историческое у вас что есть?». И библиотекарша выбирала на свой вкус, а поскольку вкус человека тоже не беспределен, как и память, то выбирала какие-то определенные книги, они были в ходу и пользовались популярностью у читателей. А другие годами стояли на полках, никто о них не знал, никто их не спрашивал.
Конечно, в библиотеке был каталог, книги были распределены по темам, но читатели каталогов не любили, пользоваться в большинстве случаев не умели, предпочитали поговорить с библиотекаршами. Да и действительно – пришла, скажем, женщина за любовным романом. Но в каталоге такой рубрики не было, а была, например, «русский советский роман» и «зарубежный роман». И где там что про любовь? «Бруски» Гладкова – про любовь? А «Поднятая целина»? Или «Белый клык»?
Потом уже, в шестидесятых, когда я и стал более или менее разбираться в книжном море, мне стало казаться, что повзрослели вместе со мной и читатели Ленинки, чаще пользовались каталогами, чаще знали чего хотят. По себе судил, конечно. К тому времени ассортимент книг сильно возрос – вышли десятки (или даже сотни?) подписных изданий, полных собраний сочинений классиков, а в середине шестидесятых в Ленинке открыли доступ к полкам для всех читателей – произвели перестановку в большом хранилище, и в первое время, помню, бродил я от полки к полке, от стеллажа к стеллажу, доставая ту или иную книгу, перелистывая и ставя обратно. Решительно не знал, на чем остановиться, разбегались глаза, хотелось и то почитать, и это, и вообще все сразу. Как-то выбирал, конечно. В большинстве случае – что-нибудь из фантастики, приключений. Советская фантастика после «Туманности Андромеды» набирала силу, но все равно в год выходило лишь несколько новых книг, вряд ли больше десяти. Естественно, за ними тут же выстраивалась очередь, и если не успевал записаться в числе первых, то приходилось ждать книгу месяцами. Иногда, правда, удавалось купить фантастику в магазине – если оказаться там точно в тот момент, когда новые поступления выкладывали на прилавок. Постоянные покупатели знали, когда это обычно происходило, и приходили в положенное время. Но выложить могли в полдень, могли перед открытием магазина, могли в конце дня. В общем, никакой гарантии – а если опоздать хотя бы на полчаса, то книги уже не было, и продавцы только разводили руками: раньше, мол, надо было прийти, что ж теперь делать? Вот во вторник, может быть, будет вторая партия...
Но я о библиотеке. Приходя в Ленинку, я сначала шел на второй этаж, бродил там, выбирал книги, записывал и откладывал, чтобы потом забрать, и поднимался на третий этаж – точнее, на тот балкон, что шел вокруг читального зала: в зал научной литературы. А там со временем читать становилось все меньше. Из того, что там было по физике и астрономии, я уже все перечитал и не один раз, а новые поступления бывали очень не часто. Помню, как перелистывал «Историю астрономии» Берри, только что полученную, на ней еще даже штамп не успели поставить. И толстую красивую книгу Воронцова-Вельяминова «Очерки о Вселенной». Получили там и «Теоретическую астрофизику» Соболева – но эту книгу я только перелистал, ничего в ней в то время не понимая: формулы, формулы, физика, которую я еще не знал, только собирался поступать в университет – в наш, бакинский, потому что в Москву родители меня так и не отпустили.
Когда я перестал ходить в Ленинку? Не помню точно. Наверно, где-то на втором или третьем курсе. Если мне память не изменяет, то именно тогда в центре города, между сквером имени 26 Бакинских комиссаров и оперным театром построили большое здание с колоннами – там открыли Республиканскую публичную библиотеку имени Ахундова.

В публичке книг на дом не выдавали, но зато секция каталогов там была раз в пять больше, чем в Ленинке. Там в одних только каталогах можно было закопаться на день и с удивлением находить названия, о которых никогда не слышал. В публичке я стал проводить вечера, а часто и дни тоже – после занятий в университете или вместо них. Помню, как рассматривал огромный звездный атлас под редакцией академика Михайлова – цветные карты всего звездного неба от северного полюса до южного. Звезды там были разных цветов – согласно их спектральному классу – и обозначались кружками разного размера – согласно яркости. И туманности там были, и даже галактики – самые яркие, конечно.
Чаще, чем в книжный зал, я ходил в зал журнальный. Книжный располагался на втором этаже и был огромным (по моим тогдашним представлениям) – высокие окна до потолка выходили в сторону оперного театра, и, сидя за столом, я мог видеть знакомый фасад – в оперу я в те годы ходил почти каждый вечер – раза два-три в неделю точно.
А журнальных залов было два, и оба маленькие, размещались они на первом этаже, и чем один зал отличался от другого, я уже не помню. Возможно, в одном были художественные журналы, в другом политические и научные. А может, разделение шло по другому принципу. Как бы то ни было, именно там я читал журналы «Сибирь» и «Ангара» - нигде больше в Баку этих журналов не было, ни одна библиотека их не выписывала. Не помню, откуда я узнал, что в этих журналах можно прочитать новые повести братьев Стругацких. Возможно и даже скорее всего, об этом заговорили на черном книжном рынке, куда я уже ходил почти каждое воскресенье (о черном рынке расскажу отдельно, это особая песня). Стругацкие мне, конечно, очень нравились – в то время уже вышли «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» (детгизовское издание с прекрасными иллюстрациями), «Хищные вещи века». Позднее это казалось странным, но в те годы я покупал книги Стругацких не на черном рынке, а в книжных магазинах – надо было, как я уже говорил, просто успеть к выкладке. На середину шестидесятых пришелся бум в советской фантастике – книг стало много. Появилась серия «Библиотека советской фантастики» - белые «покеты» издательства «Молодая гвардия», там же стали выпускать 15-томную «Библиотеку всемирной фантастики», которую впоследствии расширили до 27 томов. Выходили ежегодники фантастики в «Молодой гвардии», сборники «Мир приключений» в «Детской литературе», «На суше и на море» в Географгизе, альманахи фантастики в Леииздате. Начали выходить сборники зарубежной фантастики и авторские книги зарубежных авторов: Брэдбери, Шекли, Саймака... Издательство «Мир» приступило к выпуску покетов «Зарубежная фантастика». Фантастику в каждом номере печатали «Техника-молодежи», «Знание-сила». Даже специальный журнал фантастики и приключений появился – «Искатель». Купить все это в магазинах было невозможно, так что читал я большую часть – особенно журналы – в публичке.
Странное было ощущение, когда я читал «Сказку о Тройке», а потом «Улитку на склоне». Возможно, я был еще слишком молод, а возможно, я бы и сейчас отнесся к этим вещам там же, как тогда. После «Понедельника» «Сказка о Тройке» показалась немного вымученной, будто остались у авторов куски, которые не вошли в «Понедельник», вот они и сделали отдельную повесть. Разумеется, я видел там и сатиру на советскую бюрократию, но в «Понедельнике» та же сатира выглядела более естественной и яркой – чего стоил один профессор Выбегалло! Сатира в «Тройке» была жестче, менее смешной, более злой – все это было, но мне все равно казалось, что повесть сильно уступает «Понедельнику» - «Понедельник» стоял у меня на полке дома, и я в него заглядывал почти каждый день, перечитывал отдельные отрывки. А «Сказку о Тройке» прочитал один раз и больше к ней не возвращался. Правда, и возможности такой вскоре не стало – после публикации всю редакцию журнала «Ангара» сняли с работы, а сам журнал прекратил свое существование. И естественно, из каталогов публички журнал исчез немедленно. В общем-то, я и не собирался перечитывать «Сказку», но когда пошел слух о закрытии журнала (естественно, говорили об этом на черном рынке), то специально посмотрел в каталогах и журнала не обнаружил, будто его никогда и не было.
И с «Сибирью», где печаталась вторая часть «Улитки на склоне» («Управление») была та же история. Первая часть («Лес») была опубликована в ленинградском альманахе фантастики (кажется, это был «Эллинский секрет») и не произвела впечатления. Идея-то была понятна, но стиль мне не нравился. А «Управление» в «Сибири» понравилось еще меньше. Меня не привлекали нарочито усложненные иносказания, достаточно, впрочем, ясные – кафкианский язык и стиль мне и тогда не очень нравились, и сейчас мое отношение не изменилось. Впрочем, к делу это не относится. «Сибирь» в публичке была, и повесть я прочитал. После чего журнал из открытого фонда изъяли, а к закрытым библиотечным фондам я не был допущен – не писал диссертацию, требовавшую непременного ознакомления с «источником». Надеюсь, что изъяли журнал не оттого, что я его читал – кроме меня, как сказала библиотекарша, «Сибирь» так никто ни разу не заказал.
В публичке я прочитал много хороших книг – больше частью, научных и научно-популярных. Но, в основном, все же, читал журналы. В конце шестидесятых построили новое здание Академии наук, а там открыли большую научную библиотеку, так что читать научную периодику я стал там и в публичку ходил уже значительно реже.
Новый «этап» моих туда походов пришелся на середину семидесятых, когда в публичке, на самом верхнем этаже, при кабинете музыкальной литературы (там были ноты, книги по музыке), открыли еще и кабинет звукозаписи. Естественно, если не в тот же день, то в ту же неделю я туда поднялся – посмотреть, какие у них есть записи. Меня интересовали, в первую очередь, оперы Верди, которых я не слышал. А слышал я в те годы достаточно мало – в нашей опере шли «Риголетто», «Травиата», «Трубадур», «Аида» и «Отелло». На пластинках фирмы «Мелодия» были еще записи «Фальстафа» и «Бала-маскарада» в исполнении Тосканини и «Дон Карлоса» в Большом. Восемь опер из 26. В музыкальном кабинете сначала и их не было, но как-то, проверяя в очередной раз каталог, я обнаружил, что появилась запись оперы «День царствования». Это был праздник! Об этой несчастной опере я, конечно, читал в биографии Верди, в книге его писем, видел в фильме «Джузеппе Верди». Вторая по счету и единственная комическая опера Верди до «Фальстафа», она провалилась на премьере. Публика освистала оперу, хотя зрители прекрасно знали, в каком состоянии был композитор, когда ее писал: у него в тот год умерли сначала двое маленьких детей, а затем – незадолго до премьеры – любимая жена Маргерита. После провала оперы Верди зарекся писать музыку и держал слово, пока импрессарио Мерелли не показал ему либретто «Навуходоносора». Но это другая история, об опере, а не о библиотеке. Прочитав книги, я думал, что «День царствования» действительно опера плохая, не интересная. Поэтому, обнаружив запись в каталоге, немедленно ее заказал. Запись была на магнитофоне, впоследствии именно такую запись я купил уже на компакт-дисках.
Надел наушники, стал слушать. С первого раза трудно оценить совершенно новую музыку, но впечатление радости и какой-то жизненной силы определенно осталось. Хорошая опера. Нисколько не хуже других, что шли на сцене Ла Скала в те годы и принимались благосклонно. Почему освистали именно ее? До сих пор понять не могу.
Я еще несколько раз приходил в музыкальный кабинет, но почему-то оперные записи у них обновлялись, мягко говоря, не очень часто, а новых записей опер Верди не было вообще. И не было записей других опер, кроме тех, что были на пластинках фирмы «Мелодия» - а эти записи у меня и так были, покупал пластинки в магазине. В общем-то, понятно, почему в публичной библиотеке был такой скудный музыкальный отдел. Огромное количество оперных записей выходило на Западе, но в СССР их невозможно было купить, эти пластинки в магазины, естественно, не поступали – откуда же было публичке формировать фонд? Я даже не знаю, как они получили «День царствования» - возможно, привез из Италии кто-то из наших оперных певцов, как в начале шестидесятых после стажировки привез несколько пластинок Муслим Магомаев. Тогда у него все бакинские меломаны переписали записи «Тоски» и «Джоконды». Но это тоже другая история...
А мои походы в публичку вскоре закончились. Была лишь еще одна история, но произошла она лет через десять, когда я писал повесть «Каббалист» (было это в 1987), и мне нужно было прочитать что-то о ведьмах. Желательно – знаменитый «Молот ведьм», но его в каталоге не было, пришлось искать какую-то замену, и я нашел – книгу о методах черной и белой магии, дореволюционное издание с красивыми картинками. Меня, скажу честно, удивило, как такая явно не «советская» литература оказалась в библиотеке, но раз уж оказалась... Заказал, книгу принесли, и я весь вечер ее листал, потому что там было на что смотреть – замечательные были картинки. Когда хотел приступить к чтению, оказалось, что уже половина десятого вечера, библиотека закрывается. Пришлось книгу отложить на завтра – обычное дело, много раз так делал.
На следующий вечер книгу среди отложенных не нашли. Библиотекарша очень извинялась, говорила, что, видимо, по ошибке книгу сдали в фонд. «Закажите еще раз». Пошел в каталожный зал писать заказ заново. Но в каталоге книги не оказалось! Я точно помнил, где была карточка, точно помнил, что в ней было написано. Но ее не было. Я пересмотрел все карточки в ящике – ничего. Похоже, книга находилась раньше в спецхране, где и положено было в СССР находиться такой литературе, а в общий фонд попала по ошибке. И когда я эту книгу заказал (впервые за много лет), ошибку кто-то обнаружил и тут же исправил. Так мне и не удалось в те годы прочитать о методах черной и белой магии...
А вместо публички я стал ходить в академическую библиотеку. Была еще и библиотека обсерватории в Пиркулях, и там я тоже проводил много времени. Но это уже СОВСЕМ другая история...
Метки: воспоминания, размышления
"Чайка"
Чайка
На набережной Утоквай она часто встречала старика, одетого в длинное пальто, холодное зимой и слишком теплое летом. Сутулый, с нечесаной седой гривой, он брел вдоль берега, ни на кого не обращая внимания, и что-то бормотал себе под нос. Поравнявшись с ним, она всегда говорила: «Добрый день, герр профессор», хотя и не знала, был ли старик рассеянным ученым или неопрятным бомжем.
Сегодня старик не встретился. Может, потому что она пришла не одна?
– Посидим здесь? – сказала она своему спутнику и, не дожидаясь ответа, присела на ажурную скамью, подобрав оборки платья.
Ее спутник сел рядом – не так, как она, не на краешек, а основательно, – откинулся на гнутую спинку, прищурился – солнце, стоявшее довольно высоко, светило в глаза – и сказал:
– Двадцать шестого я отплываю в Англию из Остенде.
– Вы, – поправила она. – Вы отплываете. С Эльзой.
Он молча разглядывал далекие крыши домов на противоположной стороне озера.
– Ты не захотел повидаться с Тете, – осуждающе сказала она.
Он, наконец, ответил:
– Не думаю, что это было бы... – он помедлил, подыскивая слово, – полезно для нас обоих.
– Полезно, – повторила она с легким презрением. – Ты весь в этом слове. Тебе не приходило в голову, что Тете хочет увидеться с отцом?
– Не будем спорить, – терпеливо проговорил он и положил ладонь ей на колени. Она не ожидала от него этого жеста, означавшего, возможно, попытку примирения, может быть – просьбу о прощении или, на худой конец, знак понимания, которого не было между ними долгие годы – точнее, четырнадцать лет и два месяца. Она считала быстро и подсчитала мгновенно: столько времени прошло после того, как ей пришел по почте конверт федеральной службы, в котором лежало заполненное и ею же двумя днями раньше подписанное свидетельство о разводе.
Она не убрала руку, только посмотрела удивленно в его глаза. Он не отвел взгляда, смотрел изучающе, напряженно. Ей знаком был такой его взгляд: он размышлял о чем-то, не имевшем отношения к окружавшей реальности, думал о том мире, который он всю жизнь хотел понять.
– Ты снова на перепутье? – спросила она. – Тебя беспокоят открытия Хаббла? Я иногда просматриваю научные журналы. Это не ностальгия, мне просто интересно.
– Нет, – он покачал головой. – Хаббл меня не беспокоит. Я написал об этом статью в «Нахрихтен», она должна была выйти в июне, но ее выбросили из номера. Ты слышала, я отказался от звания и гражданства?
– Кто же не слышал? – она все-таки сделала движение, и ему пришлось убрать ладонь. – Об этом писали газеты, а фрау Молнаг, ты ее не знаешь, я сдаю ей комнаты на втором этаже...
– Неважно, – прервал он рассказ, который мог затянуться. – Скажи лучше вот что. Если ты иногда читаешь научные журналы, то знаешь... думаю, ты не могла этого пропустить... ты всегда этим интересовалась...
– Да, – кивнула она, поняв, что он хотел сказать, прежде, чем ему удалось сформулировать вопрос, чтобы он прозвучал не напоминанием о прошедшем и невозвратимом, а всего лишь желанием обсудить новую проблему в теоретической физике.
– Знаешь, – сказала она, – мне это уже не кажется странным.
– Странным, – повторил он, сделав вид, что не понимает, или действительно не понимая. – Что?
– Все, что было тогда.
– Тогда... У нас было много разных «тогда»...
– Ты хочешь поговорить об этом? – спросила она спокойно, но он ощутил в ее голосе глубоко скрытое напряжение, понял, что говорить об «этом» не нужно, и вернулся к теме, занимавшей его последние месяцы.
– Мир меняется, – сказал он. – Мир становится все более неопределенным и грубым. Такое ощущение, будто квантовая неопределенность играет роль и в мире человеческих страстей. Никогда не знаешь заранее, чем закончится даже простой, казалось бы, разговор о погоде, – пожаловался он, и она вспомнила прежние баталии, когда в их берлинскую квартиру приходили друзья, тоже физики, а иногда не только, и разговоры, громкие, как военная музыка, велись далеко за полночь, и никто не знал, к чему приведут эти яростные споры, и, тем не менее, он был прав в своих ощущениях: она всегда знала, что произойдет потом, когда все мысли окажутся высказаны, все слова произнесены, гости и хозяин (сама она никогда не присоединялась к мужчинам, хотя ей было что сказать) в изнеможении сидели, бросая друг на друга красноречивые взгляды.
– Тебя это выводит из равновесия, – улыбнулась она одними губами.
– Да! – воскликнул он. – С тех пор, как я... как мы перестали чувствовать друг друга, я потерял ощущение правильности того, что делаю. То есть...
– Я понимаю, – прервала она его. – Это заметно по твоим работам, и мне странно, что никто из твоих биографов не обратил внимания на даты.
– Никому не пришло в голову, – усмехнулся он, – сделать самое простое.
– Самое простое, – сказала она, – было в том, чтобы...
– Не надо!
– Ты хотел простоты, а получил обыденность.
– Я не жалею, – твердо произнес он, и она на секунду отвернулась, чтобы он не заметил слезинку, которой, скорее всего, и не было, но она почувствовала, как капелька выкатилась из глаза и упала на подставленную ладонь.
– Мне тоже не о чем жалеть, – сказала она. – Но ты не за тем приехал, чтобы вспоминать то, чего никогда вспоминать не хотел, верно? Не ходи вокруг да около. Говори, наконец.
Крыши домов на противоположной стороне Цюрихского озера сверкали на солнце и выглядели отсюда, с набережной, нотными знаками, зримой музыкой, которую можно было прочесть.
– Кванты, – сказал он. – Умные люди, замечательные ученые. Бор. Гейзенберг. Шредингер. Умнейшие. Но уводят физику с пути ее.
– Кванты, – удивленно повторила она. – О чем ты? Премию ты получил именно за...
– Да! – воскликнул он. – Энергия распространяется квантами. Физические поля квантуются. Это математика. Но они, – он произнес слово «они» с неожиданной смесью уважения, презрения, и даже некий страх, глубоко в нем сидевший и не имевший шансов быть высказанным открыто, услышала она в его словах, – они уверены, что весь мир подчиняется законам вероятности, и никогда не предугадаешь, как закончится тот или иной элементарный процесс. Посмотри – вот летит чайка: да, я не знаю, нырнет она или взмоет в небо. Я смотрю на тебя и не знаю: улыбнешься ли ты сейчас или скажешь колкость, после которой мне только и останется, что встать и уйти. Я не могу предвидеть такие простые, казалось бы, вещи, потому что на самом деле они подчиняются огромному числу законов. Но если бы мне были известны все твои душевные побуждения, все твои страхи и эмоции, все рефлексы и инстинкты – это сложно, но сложность преодолима, – я смог бы предсказать, что ты сделаешь в следующую секунду так же точно, как могу сказать, где и когда взойдет солнце.
– Глупости. Я и сама не знаю, что сделаю в следующее мгновение – расплачусь или мило тебе улыбнусь. А ты при всем своем уме недалеко ушел от Лапласа.
– Ты понимаешь, что я хотел сказать!
– Да, – согласилась она. – Ты так и не смог смириться с тем, что миром управляют законы случайности, а не определенности.
– Видишь ли, – произнес он, следя взглядом за чайкой, которая сначала опустилась на воду, но в следующее мгновение взмыла высоко в небо и исчезла в его иссиня-глубокой вышине, – если бы миром управляла случайность, мы бы сейчас не сидели здесь и не разговаривали о вещах, в которых, кроме нас двоих, никто ничего не понимает.
Она внимательно посмотрела ему в глаза.
– Ты впервые говоришь эти слова, – медленно сказала она. – Раньше ты был более жестким... и жестоким.
Он покачал головой.
– Жестокость... Мы все равно не смогли бы жить вместе.
– Не смогли бы, – согласилась она. – Но Эльза... Ты мог бы придумать что-нибудь менее жестокое.
– Ты не допускаешь, что я мог влюбиться? Как раньше – в тебя? И что...
– Оставим это, – быстро сказала она и сделала движение, будто хотела прикрыть его рот своей ладонью – знакомый жест, так она делала всегда, когда его слова казались ей неправильными, обидными, глупыми... только она могла сказать ему, что он глупец, только ей это дозволялось... до какого-то времени, и тогда она стала говорить: «Какой ты умный», но таким тоном, что он понимал: в ней ничего не изменилось, она та же, и он для нее всего лишь глупый, не приспособленный к жизни мужчина, которого она вынуждена была отпустить, потому что он не понимал, и сейчас не понимает того, что сделал...
– Оставим, – повторила она. – Ты уже третий раз начинаешь разговор и уводишь его в сторону. Боишься? Ты всегда был немного трусом, верно?
– Нет, – он не желал признавать очевидное. Очевидное для него было менее понятно, чем странное, непривычное.
– Ты хочешь говорить о квантовой физике, – с удовлетворением сказала она, ощущая минутную над ним победу и желая предаться давно забытому ощущению.
Он промолчал, поняв ее чувства и позволив им на этот раз проявиться в полной мере. Он знал по старой памяти, что только так можно пустить ее сознание в свободное плавание по волнам интуиции, из которого она приплывала со странными идеями; он, бывало, интерпретировал ее слова по-своему и оказывался прав, и все получалось, как утверждал он, но она считала (не без основания?), что без ее несносной интуиции его математический поезд не сдвинулся бы с места и до сих пор буксовал бы на какой-нибудь из промежуточных станций.
Но о квантовой физике они не говорили никогда. Наверно, потому что в то время, когда Шредингер опубликовал свою первую работу, они давно жили порознь, встречались редко, и он не поверял уже ей свои сомнения, да и сомнений у него становилось меньше и меньше, хотя ошибался он (она читала его работы и следила за его дискуссиями) чаще и чаще.
– Вселенная возникла из первоатома, – сказала она.
– Наверно, – он решил, что теперь она уводит разговор в сторону. – Какое отношение...
– Помолчи, – сурово сказала она. – Ты, как всегда, нетерпелив. В первоатоме ничего не было, кроме света. «Да будет свет!» – сказал Бог. И стал свет.
– При чем здесь... – начал он раздраженно, но она не позволила ему договорить фразу, которая, по ее мнению, была еретической. Как и он, она не верила в Бога, но, в отличие от него, понимала, что ее вера или неверие ничего не означают – потому что Он есть.
– Был свет, – повторила она. – Фотоны. Те самые...
Она всего лишь напомнила ему весну почти тридцатилетней давности, когда они сидели рядом, склонившись над большой тетрадью, исписанной формулами. Два почерка – его и ее, а цепочка формул одна. Начало квантовой теории излучения.
Он мрачно кивнул. Он тоже помнил, как и то, что потом она сказала: «Не хочу. Будут сложности с публикацией, я женщина». И он согласился.
Она сидела, закрыв глаза, будто от солнца, а на самом деле отгородившись от всего – набережной, озера, города, неба и, прежде всего, от него, своим присутствием мешавшего ей погрузиться в привычное для нее, но непонятное ему состояние.
– Не было ничего, только фотоны, а потом другие частицы, ведь взялись же они откуда-то, – говорила она, не думая и, возможно, даже не осознавая, какие слова произносит. Слова рождались не из мыслей, а из осознания истины, в которой она не была уверена, но которую просто знала. – Кванты и частицы. Ничего, кроме связанных друг с другом квантов и частиц. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Он смотрел на крыши домов и покачивал ногой. Он не мог сказать «не понимаю». Сказать «понимаю» он не мог тоже. Он просто ждал продолжения.
– Первоатом, а потом Вселенная, – терпеливо произнесла она, – представляли собой одну квантовую систему. Изолированную систему, потому что ничего, кроме Вселенной, не существовало. И не существует. Понимаешь?
Пожалуй, он начал понимать причудливый ход ее мысли. Пожалуй, сейчас он понимал даже больше, чем она – так на мгновение показалось ему, но он счел благоразумным промолчать.
– Сколько лет расширялась Вселенная потом? – спросила она, то ли ожидая от него ответа, то ли не ожидая ничего, кроме пристального внимания к каждому ее слову.
– Это зависит от величины постоянной Хаббла, которая точно не измерена, и ты это наверняка знаешь, – сказал он. – И если ты воображаешь, что все это время фотоны первоатома оставались связаны...
– Частицы тоже, – кивнула она. – Не только те, из первоатома, но и другие, возникшие потом из первых, и следующие, возникшие из вторых...
– Как же, как же, – иронически проговорил он, уловив в ее рассуждении неминуемое противоречие, которого не должно быть в правильной научной идее. – Расстояние между частицами – миллионы парсек. Миллиарды. Единая квантовая система? И значит, частица – скажем, атом водорода – в туманности Андромеды и такая же частица, скажем, в твоем платье – кстати, красивое, тебе идет – связаны так же, как в первоатоме? И если ты сейчас случайным движением руки выдернешь атом водорода из той цепочки, в которой он находится в твоем платье, то другой атом, там, в туманности Андромеды, «почувствует» мгновенно это изменение и сам вынужден будет изменить свое состояние? Глупости ты говоришь, – сказал он сердито. – Дальнодействие – это мы с тобой еще...
– В том и проблема, – спокойно сказала она, – что ты не в состоянии понять это единство: дальнодействие в квантовом мире и близкодействие – в обычных масштабах.
– Дальнодействие и близкодействие несовместимы, – отрезал он. – Скорость света – предел.
– Потому тебе и не удастся сделать то, что ты хочешь, – с мстительным удовлетворением сказала она.
– Чего хочу я? – вопрос вырвался непроизвольно, он никогда не говорил с ней о планах, он даже с Бором еще не обсуждал свои идеи, хотел, чтобы новая физика сначала выкристаллизовалась в его мыслях, а потом... Что она имела в виду? Она не могла знать. Или...
– Единая физика, я права? Но ты не сможешь сделать ничего, потому что уверен: дальнодействие квантов несовместимо с близкодействием относительности. На самом деле нет двух миров: квантового и обычного. Мир един.
– Нет двух миров, – повторил он. – Конечно. Мир един, потому что квантовая физика, как ее изображают Вернер с Нильсом, – химера. Математический трюк.
– Мир един, – упрямо сказала она. – И если...
– Что если? – спросил он минуту спустя, потому что она замолчала на полуслове и сидела, плотно сжав губы и по-ученически сложив руки на коленях – усталая, немолодая, все в жизни потерявшая женщина.
– Если на твоем столе ты найдешь утром красивый камешек, которого не было вечером, ты повертишь его в ладонях и выбросишь в корзину... или положишь на подоконник... в зависимости от настроения. Главное – ты забудешь об этом через минуту, потому что мысли твои заняты другим, и бытовым странностям в них нет места.
Он покачал головой.
– Не напоминай, – сказал он, помрачнев. – Тете таскал домой все, что попадалось под руку. Теперь, наверно, тоже.
– Ты так и остался при своем мнении, – с горечью произнесла она. – Ты не хочешь понять, что Тете... Неважно, – прервала она себя. – Для тебя это бытовые глупости, ты никак не связываешь их с квантовой физикой.
– Опять ты об этом, – с досадой сказал он. – Я хотел говорить с тобой о важных вещах.
– Я о них и говорю! – она повысила голос, воображая, что так дотянется до его сознания, до его гениального, раскованного, все понимающего сознания. – Погляди на эту чайку, – ему показалось, что она опять переменила тему разговора, и он недовольно поморщился.
– Погляди на чайку, – повторила она. – О чем ты думаешь, когда смотришь, как она ловко подхватывает рыбу? О том, как великолепно создала эволюция этот живой организм, верно?
Он молчал, и она не была уверена – слушал ли. Он умел погружаться в свои мысли, становиться недоступным для собеседника, выглядя при этом немного рассеянным и вроде бы прислушивающимся.
– Ты слышишь меня?
– Да, – сказал он, глядя в небо. – Слышу и слышал. Лет пятнадцать назад мы с тобой повздорили, когда ты нашла у Тете камень, похожий по форме на Тадж-Махал, и сказала, что это такой же плод эволюции, как муха, ползавшая в это время по столу. Эта твоя идея не нова и...
– ...И глупа, я знаю. Тогда это была чистая интуиция, ничего больше, но сейчас...
– Сейчас это даже не интуиция, а непонимание, – отрезал он. – Тете таскал в дом всякую всячину, которую мы находили в самых неподходящих местах. Он и сейчас так поступает? Я правильно тебя понимаю?
– И сейчас, – повторила она. – Только ни тогда, ни сейчас он не таскал, как ты говоришь, всякую всячину.
– Да-да. Тете сам создавал эти предметы. Как фокусник в цирке. Правда, там...
– О, Господи, – сказала она. – До чего порой умны эти физики! Они так умны, что перестают понимать самые простые вещи. Ты можешь помолчать?
Он демонстративно сложил руки на груди и приготовился слушать внимательно, очень внимательно, как умел только он. Она обожала такие мгновения их прошлой жизни. Когда ей приходила в голову мысль, она застывала на месте, а он, уловив перемену, поворачивался к ней, складывал на груди руки и впитывал не слова, она не всегда могла выразить свою мысль словами, он умел понимать идеи просто по выражению ее лица, по взгляду, и потом, когда он произносил вслух то, что она только подумала и не могла объяснить, оказывалось, что это цельная, необычная, новая потрясающая идея, до которой мог додуматься только его гениальный ум. Да, глядя на ее раскрасневшееся лицо, но лицо – не мысль, а мысль рождалась в его голове, в его сознании.
– Мироздание состоит из частиц и квантов...
Она сейчас не думала, не расставляла слова по местам. Она смотрела на его руки и вспоминала: маленький Тете очень хотел, чтобы Санта Клаус подарил ему на Рождество настоящий паровоз, и, когда игрушка действительно оказалась лежавшей под елкой в гостиной, мальчик не удивился. Удивилась она, потому что не клала этой игрушки. Подумала, что это сделал он, но и он не мог, он даже не знал о детской мечте сына. Она сказала ему... а он, рассеянно посмотрев, проронил: «Я попросил бы лошадку».
– Мироздание состоит из частиц и квантов, – говорила она, не слыша себя. – Все кванты и частицы во вселенной – единая физическая система. Раньше я не понимала, как это возможно, и не донимала тебя своими бреднями, а после работ Леметра поняла... Все началось в первоатоме...
– Да-да, – рассеянно сказал он, давая понять, что она уже говорила это, не надо повторяться, он все понимает с первого раза.
– В замкнутой изолированной системе все частицы связаны друг с другом. В первоатоме все частицы и кванты были связаны. Они остались связаны, когда Вселенная расширилась, потому что мироздание – замкнутая изолированная система. Это так просто! Электрон, бегающий под твоей кожей, связан с фотоном, летящим сейчас от туманности в Андромеде.
– Частицы вступают в реакции, фотоны излучаются и поглощаются, – назидательным тоном произнес он, воображая, что этим очевидным утверждением разбивает ее аргумент напрочь.
– Конечно! Но связь сохраняется – теперь между другими частицами! Энергия ведь не исчезает никуда, превращаясь из кинетической в химическую или тепловую, верно? Может, существует закон сохранения связи, такой же всеобщий, как закон сохранения энергии в замкнутых системах?
– Скорость света... – начал он.
– Скорость света ни при чем! – воскликнула она. – Информация не передается, электрон под твоей кожей ничего не может сообщить фотону, летящему из туманности Андромеды. Меняется состояние частиц, это совсем другое...
– Ты говорила о чайке, – напомнил он и вздохнул. – У тебя скачут мысли, ты стала рассеяна...
– Нет! Чайка – результат эволюции. Камень на столе Тете, паровоз под елкой – помнишь? – тоже результаты эволюции. Эволюции в квантовом мире. Эволюции квантов и частиц, разнесенных так далеко в пространстве-времени, что никто пока не подумал... а ты и думать не хочешь, ты вообще решил, что квантовая физика – математическая фикция...
– Конечно, – пробормотал он так, чтобы она не услышала.
Она не услышала. Почувствовала.
– Паровоз под елкой, – сказала она, – результат эволюции, да. Электрон с Земли, атом железа из звезды Барнарда, еще один атом из туманности «Конская голова», фотон из той красивой туманности, что значится в каталоге Мессье под номером пятьдесят семь... Связанные друг с другом в те еще времена, когда первоатом взорвался, эти частицы миллионы лет... миллиарды... искали новые связи друг с другом, эти связи возникали и переходили к другим частицам и квантам... в том мире, о котором твои коллеги ничего не знают, а ты и знать не хочешь. И как однажды из неорганической материи возникла жизнь в океане, так и из этих частиц и квантов время от времени возникает нечто упорядоченное... причудливый камень, кусок металла, похожий на человеческий глаз...
– Паровоз, – насмешливо дополнил он, подмигнув ей, как бывало, когда много лет назад какая-нибудь ее мысль представлялась ему не то чтобы глупой, но, с точки зрения физики, смешной.
– Конечно, – кивнула она. – И паровоз. Потому что в квантовом мире любой процесс заканчивается...
Она замолчала, ожидая, что он продолжит фразу. Он всегда продолжал ее мысль, когда понимал принцип рассуждения.
Он молчал, смотрел на нее с любопытством, смешанным с осуждением.
– Наблюдением, – вздохнула она. – Наблюдением он заканчивается.
– Ах! – патетически воскликнул он, взмахнув руками. – Конечно. Узнаю голос Эрвина. Если никто не смотрит на обезьянку, то она занимается сразу всем, что физически возможно: спит, ест банан, прыгает на ветке, чешется, дерется... Только когда мы на нее бросаем взгляд, она прекращает все дела, кроме одного, и мы видим обезьянку, жующую банан. Вот потому квантовая физика не отражает реальности! Реальность одна, а решений уравнения состояния множество!
– Твоя мысль, – осуждающе сказала она, – мчится быстрее того паровоза, который...
– Естественно! Эволюция на квантовом уровне? Электрон в моей коже и фотон в галактике Андромеды? Никогда не слышал более нелепого...
– Паровоз под елкой Тете...
– Ты сама его туда положила! Признайся. Сейчас можешь это сделать – столько лет прошло.
– Камень, похожий на птицу, на его подушке... Пятно на скатерти, возникшее, когда ты не отводил от нее взгляда... Мои очки, вторая пара, помнишь, они-то откуда взялись, если у меня всегда была только одна? Камешки причудливой формы, которые Тете откуда-то доставал, часто – просто протянув руку, из воздуха... сейчас у него получается тоже, но реже... может, потому что он уже взрослый, а способность стимулировать эволюционные процессы в квантовом мире больше свойственна детям?
– Никогда не слышал большей... – пробормотал он и не закончил фразу, не хотел ее обижать, не хотел произносить слово, которое она всегда ненавидела.
– Чепухи, – закончила за него она. – Конечно. Но ты не станешь утверждать, что ничего этого не было: паровоза под елкой, камешков в руке Тете, второй пары очков...
– Паровоз купила ты, – упрямо произнес он. – Камни... Ну, знаешь, способность нашего Тете таскать домой всякую всячину известна тебе не хуже, чем мне. Он и сейчас, повзрослев, не избавился от этой привычки? Послушай, – сказал он, помолчав, – я понимаю, ты всегда хотела... то есть, у тебя всегда были свои соображения, которыми я, по твоему мнению, пренебрегал... но это не так, ты знаешь...
– Знаю, – с горечью сказала она. – Потому ты предпочел мне Эльзу. Она не...
– Оставим это, – прервал он. – Квантовая эволюция, говоришь ты? Предположим. Наблюдение, завершающее этот странный процесс? Допустим. Как видишь, я сегодня готов принять любые твои... э-э... идеи. И результат такой эволюции: камни Тете, паровоз под елкой? Если бы никто под елку не заглянул, паровоза там не было бы?
– Если бы Тете не хотел эту игрушку... Если бы в его мозгу кванты и частицы не завершили этот эволюционный процесс...
– Извини, – сказал он, бросив взгляд на часы, поднявшись и отряхнув с колен невидимые ему самому пылинки. – Мне пора на вокзал.
– Знаешь, – добавил он, помогая ей подняться и впервые за много лет обняв ее располневшую талию, – наш разговор многое мне дал сегодня. Не то, на что ты, видимо, рассчитывала, но я подумаю. Проводить тебя?
Он надеялся на отрицательный ответ и получил его. Она покачала головой и забрала его руку со своей талии.
– Если ты так уверена в существовании квантовой эволюции и в том, что заканчивает этот процесс наблюдение, – сказал он с легкой насмешкой, – то почему тебе не сотворить такой же камень, что таскал домой Тете? Прямо здесь. Чтобы я увидел: ты не принесла камень с собой в кармашке этого широкого платья. Ну, попробуй! В физике, ты знаешь, все решает эксперимент. Наблюдение, да. Мало кто верил в общую относительность, пока сэр Эддингтон...
– Передай Эльзе привет, – сказала она и отвернулась, чтобы он не заметил слезинки в уголках ее глаз.
– Прощай, Иохонесль, – сказала она, подав ему руку и отняв сразу, как только он коснулся ее пальцев.
– Прощай, Доксерль.
Давно забытые прозвища, которыми они называли друг друга... когда же... почти тридцать лет назад.
Они разошлись в разные стороны и ни разу не обернулись. Оба прекрасно понимали, что больше никогда не увидятся.
Милева вздохнула и пошла вдоль берега. Навстречу ей шел бомж... или профессор? Поравнявшись с ней, он приподнял шляпу, тряхнул седой гривой, улыбнулся и сказал:
– Добрый день, фрау Эйнштейн. Всего вам хорошего.
Под мостом она постояла, глядя на воду, на чаек, на прогулочный катер, где тихо играла музыка. Протянула руку ладонью вверх, задумалась, и на ладони возникла чайка. Маленькая каменная белая в крапинку, расправившая крылья и готовая взлететь. Тяжелая. Милева опустила руку, и фигурка упала на гравий дорожки. Краешек крыла откололся.
– Иохонесль... – прошептал порыв ветра.
Метки: фантастика
"Я пришел вас убить"

Полный текст читайте в журнале через месяц. Начинается он так:
"Он стоял за дверью и шумно дышал. Или ей казалось? Наверно, казалось. И еще ей казалось, что он нашел в передней тяжелый молоток, лежавший в нижнем ящике, где обычно хранят принадлежности для ухода за обувью. Молотком он мог разбить замок. Или не мог? За полчаса, прошедших после того, как она заперлась от него в туалете, он не произнес ни слова. Сначала колотил в дверь, толкал плечом, но быстро понял бесполезность попыток. Ходил по кабинету, она слышала его шаги. Потом шаги смолкли, и вот уже семь минут (она посматривала на часы) он молча стоял за дверью и дышал так громко, что звук отдавался у нее в ушах. Конечно, ей только казалось. Возможно, он сидел в кресле у компьютера и ждал, пока ей надоест прятаться, и она выйдет сама.
Она не кричала. Звать на помощь было бесполезно. В старом, начала прошлого века, здании на Эйкен-стрит, были толстые стены и прекрасная звукоизоляция. Потому она и сняла здесь однокомнатную квартиру, превратив ее в кабинет.
Если он уселся в кресло и ждет, когда у нее сдадут нервы, то вряд ли услышит, если говорить спокойным тоном. А иначе говорить с ним нельзя – она это понимала. И он, скорее всего, понимал, что она понимает.
Прислушивался?
– Питер, – позвала она, наконец. Шла тридцать вторая минута, и бездействие становилось невыносимым. – Питер, вы слышите меня?
Молчание. Ушел? Нет, тогда хлопнула бы входная дверь, и колокольчики в прихожей отозвались бы ясным печальным звоном.
– Питер!
– Я вас слышу, миссис Вексфорд.
– Давайте поговорим, Питер.
– Давайте поговорим, миссис Вексфорд. Как будто я лежу на кушетке, да? Поговорим. Мне некуда торопиться.
– В три часа придет пациент...
– И что? Позвонит в дверь, не услышит ответа, позвонит по телефону и на мобильный, ответа не будет, и он уйдет. Только и всего.
Телефон пока не звонил ни разу, она бы услышала. И мобильный – вот закон подлости! – она оставила в кармане жакета.
– Чего вы хотите, Питер?
– Я сказал, миссис Вексфорд. Я пришел вас убить. Подожду, когда вы выйдете, и убью".
Это не детектив, а сугубо научная фантастика.
Метки: журналы, фантастика
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
