Сергей Смолицкий,
15-06-2013 19:26
(ссылка)
Опять о "Красном колесе"
Когда читал солженицынскую эпопею о русской революции, прежде всего поразился (хотя чему здесь поражаться, если подумать?) разнообразию лиц и характеров нашей истории, которых в бытность мою школьником и студентом презрительно именовали "гучковы-милюковы". Сколь извилистым и неоднозначным путем шла наша история, неумолимо катясь, впрочем, к неизбежному. Говорят еще, что история идет по равнодействующей. Вот эти люди и тянули ее, каждый в свою сторону, каждый в меру своих сил. А куда вытянули в итоге, мы знаем.
Все это подтолкнуло к тому, чтобы читая о том или ином персонаже, иметь перед глазами его портрет. Интернет нам в помощь, большинство реальных действующих лиц удалось найти. Более того, о некоторых из них смог прочитать очень интересные факты, оставшиеся за пределами и так огромного объема "Колеса".
Если есть кто-нибудь, сподобившийся прочитать солженицынские "Узлы" целиком или частично, или просто - кому интересны эти люди, реальные действующие лица нашей почти забытой большинством истории, могут посмотреть на их портреты здесь:
http://my.mail.ru/inbox/smo...
А если кто-нибудь захочет поделиться какими-нибудь мыслями на этот счет, или что-нибудь в этом направлении обсудить, милости прошу, буду очень рад.
Все это подтолкнуло к тому, чтобы читая о том или ином персонаже, иметь перед глазами его портрет. Интернет нам в помощь, большинство реальных действующих лиц удалось найти. Более того, о некоторых из них смог прочитать очень интересные факты, оставшиеся за пределами и так огромного объема "Колеса".
Если есть кто-нибудь, сподобившийся прочитать солженицынские "Узлы" целиком или частично, или просто - кому интересны эти люди, реальные действующие лица нашей почти забытой большинством истории, могут посмотреть на их портреты здесь:
http://my.mail.ru/inbox/smo...
А если кто-нибудь захочет поделиться какими-нибудь мыслями на этот счет, или что-нибудь в этом направлении обсудить, милости прошу, буду очень рад.
Сергей Смолицкий,
11-05-2013 00:06
(ссылка)
Несколько цитат без комментариев...
Власти Австрии запретили установку автомобильных видеорегистраторов. Такое решение было принято Комиссией по защите данных, которая усмотрела в использовании данных устройств вмешательство в личную жизнь других граждан, сообщает телерадиокомпания ORF.
Как заявила председатель комиссии Ева Зурада-Кирхмайер, частные лица имеют право на ведение видеонаблюдения за объектами частной собственности, к которым относятся, например, дом, квартира или участок. В случае же видеосъемки из автомобиля, в кадр попадают личные данные третьих лиц, такие, как регистрационные знаки автомобилей и лица людей.
Тем, кто нарушит существующий запрет, грозят высокие штрафы, которые в соответствии с местным законодательством составляют до 10 000 евро , а в случае повторного нарушения — до 25 000 евро. При этом снимать на видео из автомобиля запрещается не только на регистраторы, но и на мобильные телефоны, хотя делать отдельные фотографии уже после ДТП в комиссии все же сочли возможным.
Интересно, что мода на видеорегистраторы в Европе начала появляться после многочисленных публикаций в сети видеозаписей с наших дорог. Ну, а у нас вводить подобные запреты не планируется, а вовсе наоборот — власти уже начали оснащать регистраторами автомобили ГИБДД, что, по их мнению, может помочь в борьбе с коррупцией.
(Автоновости. http://auto.mail.ru/article...)
Попробуйте-ка остаться неузнанными вы, несчастные дщери Франции, попытайте затеять самый пустячный роман, когда цивилизация отмечает на площадях час отъезда и прибытия фиакра, пересчитывает и дважды штемпелюет письма: при их поступлении на почту и при их разноске; когда она нумерует дома, заносит в реестр налогообложения даже этажи зданий, предварительно пересчитав все их ходы и выходы; когда ей скоро будет подвластна вся территория, изображенная до мельчайших подробностей на огромных листах кадастра, — этого гигантского произведения, выполненного по воле гиганта! Попробуйте же, неосторожные девицы, избежать не всевидящего ока полиции, — нет, а тех сплетен, которые ни на час не затихают в захолустье, где следят за самыми незначительным поступками людей, где считают, сколько варенья съел префект и сколько дынных корок валяется у крыльца местного лавочника; где пытаются услышать звон золота в ту самую минуту, когда рука расчетливого хозяина опускает его в сундук, в котором хранятся уже скопленные богатства; где каждый вечер, у любого очага, оцениваются состояния кантона, города, департамента.
(Оноре де Бальзак. Модеста Миньон)
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое "; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
(Книга Екклесиаста)
Так было триста лет назад, и будет так всегда.
(Булат Окуджава. Московский муравей)
Как заявила председатель комиссии Ева Зурада-Кирхмайер, частные лица имеют право на ведение видеонаблюдения за объектами частной собственности, к которым относятся, например, дом, квартира или участок. В случае же видеосъемки из автомобиля, в кадр попадают личные данные третьих лиц, такие, как регистрационные знаки автомобилей и лица людей.
Тем, кто нарушит существующий запрет, грозят высокие штрафы, которые в соответствии с местным законодательством составляют до 10 000 евро , а в случае повторного нарушения — до 25 000 евро. При этом снимать на видео из автомобиля запрещается не только на регистраторы, но и на мобильные телефоны, хотя делать отдельные фотографии уже после ДТП в комиссии все же сочли возможным.
Интересно, что мода на видеорегистраторы в Европе начала появляться после многочисленных публикаций в сети видеозаписей с наших дорог. Ну, а у нас вводить подобные запреты не планируется, а вовсе наоборот — власти уже начали оснащать регистраторами автомобили ГИБДД, что, по их мнению, может помочь в борьбе с коррупцией.
(Автоновости. http://auto.mail.ru/article...)
Попробуйте-ка остаться неузнанными вы, несчастные дщери Франции, попытайте затеять самый пустячный роман, когда цивилизация отмечает на площадях час отъезда и прибытия фиакра, пересчитывает и дважды штемпелюет письма: при их поступлении на почту и при их разноске; когда она нумерует дома, заносит в реестр налогообложения даже этажи зданий, предварительно пересчитав все их ходы и выходы; когда ей скоро будет подвластна вся территория, изображенная до мельчайших подробностей на огромных листах кадастра, — этого гигантского произведения, выполненного по воле гиганта! Попробуйте же, неосторожные девицы, избежать не всевидящего ока полиции, — нет, а тех сплетен, которые ни на час не затихают в захолустье, где следят за самыми незначительным поступками людей, где считают, сколько варенья съел префект и сколько дынных корок валяется у крыльца местного лавочника; где пытаются услышать звон золота в ту самую минуту, когда рука расчетливого хозяина опускает его в сундук, в котором хранятся уже скопленные богатства; где каждый вечер, у любого очага, оцениваются состояния кантона, города, департамента.
(Оноре де Бальзак. Модеста Миньон)
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое "; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
(Книга Екклесиаста)
Так было триста лет назад, и будет так всегда.
(Булат Окуджава. Московский муравей)
Сергей Смолицкий,
12-12-2012 22:37
(ссылка)
"Мирам" - 25 лет
Работаешь, бегаешь, суетишься. Оформляешь бумажки, собираешь ящики, таскаешь, грузишь, отправляешь машину в Калининград (оформив тьму бумажек). Летишь в Калининград, встречаешь груз, таскаешь ящики, распаковываешь, размещаешь барахло по своим местам.
Судно выходит в рейс, там свои работы и заботы – уже совсем другие, но в общем-то понятные и привычные. И те же люди вокруг из рейса в рейс.
И кажется, что ничего не меняется.
Сегодня в Институте отмечали 25 лет аппаратов «Мир». То есть описанная мной катавасия только с «Мирами» выполняется нами именно столько времени.
А мы вроде бы, все те же, только масть поменяли.
У нас был праздничный Ученый совет. Доклад делал Сагалевич – краткий обзор сделанного за это время с показом слайдов и нарезкой эпизодов из фильмов, снятых с участием «Миров».
Я сижу в зале, слушаю. Из проработанных «Мирами» 25 лет я работаю в этой группе 22. Практически все, о чем рассказывает Сагалевич, происходило с моим участием. И совсем недавно – вот буквально только что.
Рядом сидят две женщины из биологического сектора, одна моих примерно лет, другая – моложе. Сагалевич рассказывает о наших работах на затонувшей лодке «Комсомолец», на экране слайды. Девушка-биолог спрашивает: «А когда это произошло?» – соседка отвечает: «В 1989-м». Девушка уточняет у нее какие-то подробности, та дает подробные пояснения, потом спрашивает: «А ты этого не помнишь?» – «А я тогда еще не родилась».
………
Судно выходит в рейс, там свои работы и заботы – уже совсем другие, но в общем-то понятные и привычные. И те же люди вокруг из рейса в рейс.
И кажется, что ничего не меняется.
Сегодня в Институте отмечали 25 лет аппаратов «Мир». То есть описанная мной катавасия только с «Мирами» выполняется нами именно столько времени.
А мы вроде бы, все те же, только масть поменяли.
У нас был праздничный Ученый совет. Доклад делал Сагалевич – краткий обзор сделанного за это время с показом слайдов и нарезкой эпизодов из фильмов, снятых с участием «Миров».
Я сижу в зале, слушаю. Из проработанных «Мирами» 25 лет я работаю в этой группе 22. Практически все, о чем рассказывает Сагалевич, происходило с моим участием. И совсем недавно – вот буквально только что.
Рядом сидят две женщины из биологического сектора, одна моих примерно лет, другая – моложе. Сагалевич рассказывает о наших работах на затонувшей лодке «Комсомолец», на экране слайды. Девушка-биолог спрашивает: «А когда это произошло?» – соседка отвечает: «В 1989-м». Девушка уточняет у нее какие-то подробности, та дает подробные пояснения, потом спрашивает: «А ты этого не помнишь?» – «А я тогда еще не родилась».
………
Сергей Смолицкий,
25-10-2012 21:22
(ссылка)
ПРЕКРАСНАЯ КНИГА
Сын поэта Давида Самойлова написал прекрасную книгу о своей семье, родных людях, детстве, уголке Москвы в котором вырос. Книга очень необычная, но написана, по-моему, превосходно. Очень, очень рекомендую прочитать. Редко попадаются книги с таким количеством любви, прямо-таки льющейся со страниц.
Читал ее еще в рукописи и не знал, что она была издана аж в 2005-м. Я смотрел, она сейчас есть в продаже во многих интернет-магазинах.
Алекскандр Давыдов. 49 дней с родными душами. Документальный роман. М., "Время", 2005, - 192 с.+8 с. вкл.
Читал ее еще в рукописи и не знал, что она была издана аж в 2005-м. Я смотрел, она сейчас есть в продаже во многих интернет-магазинах.
Алекскандр Давыдов. 49 дней с родными душами. Документальный роман. М., "Время", 2005, - 192 с.+8 с. вкл.
Сергей Смолицкий,
20-09-2012 16:49
(ссылка)
В РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА
Вскоре после того, как я вывесил здесь запись "О паранормальном", ссылку на которую послал Т.А.Сотниковой на ее сайт, от нее пришел ответ. После этого мы обменялись еще несколькими письмами, степень колкости которых (с моей стороны) постепенно убывала. Ниже я помещаю (с согласия Татьяны Александровны) всю историю нашей переписки. Кому интересно и не лень, могут с ней ознакомиться.
От кого: Татьяна Сотникова
Кому: smolitskiy@inbox.ru
12 сентября 2012
Уважаемый Сергей Викторович! Вопрос о праве писателя использовать в художественном произведении факты из биографий реальных людей - как современников, так и исторических личностей - всегда был и будет не столько спорным, сколько болезненным. Конфликты, которые возникали на этой почве, всегда были острыми - достаточно вспомнить разрыв Чехова с Левитаном, когда тот счел себя оскорбленным тем, что Чехов использовал известные всем события из его жизни в рассказе "Попрыгунья". С появлением блогосферы, в которой события и впечатления личной жизни находятся в открытом доступе, болезненность проблемы только усилилась. Я это вполне сознаю, но все же полагаю, что критерием их использования является лишь недопустимость плагиата (копипаста). Как Вы совершенно справедливо заметили, я следила за тем, чтобы его в моей книге не было. Не уверена, что речь может идти и о рерайте. Как известно, Чехов не только записывал разговоры реальных людей, но и делал обширные выписки из газет, а затем использовал эти записи в своих произведениях, в том числе и в прямой речи персонажей. Занимался ли он рерайтом? Не думаю. Предвидя Ваш иронический комментарий на этот счет, спешу уверить: я прекрасно понимаю разницу между мной и Чеховым и говорю в данном случае только о методике. Вы совершенно правы: профессия такая.
Как бы там ни было, я искренне сожалею, что доставила Вам своей книгой неизбежно неприятные ощущения. Примите за это мои извинения. С уважением. Татьяна Сотникова
Сергей Викторович, я отправляю это письмо на Ваш личный адрес, но если у Вас будет необходимость использовать его в открытом доступе, то Вы, безусловно, имеете на это полное право. Т.С.
16 сентября 2012
Татьяна Александровна, не надо лукавить. И грешить на профессию не надо. Не о «фактах из биографий», не о «событиях и впечатлениях личной жизни» я веду речь, и ссора Чехова с Левитаном здесь совершенно ни при чем. Меня возмутило и заставило высказаться не то, что Иван списан с меня (этого, кстати, никак сказать нельзя), а то, как свободно Вы присвоили себе мой труд. Если бы Вы ограничились фактами, переработав их как угодно (что Вы и сделали, например, с сумкой из змеиной кожи, хотя, уверяю Вас, весь иняз не ахал бы: ни одна из наших женщин не стала их покупать, ибо вся продаваемая в Дакаре продукция – грубая кустарщина), я бы слова не сказал.
Подобные казусы, кстати, вышли не только с сумкой – во всех местах, касающихся Института океанологии, подводных аппаратов и экспедиций, где Вы отходили от переписывания моего материала и давали волю фантазии, случались ляпы. Так, например, обслуживанием «Миров», сложных технических комплексов, занимаются механики, гидравлики, электронщики и прочие технари, человеку с географическим образованием там делать нечего. Поэтому и разговор об организации экспедиции Ивана с сослуживцем получился высосанным из пальца, у сотрудников технической группы на этом этапе совсем другие проблемы. И это увидит невооруженным глазом любой, кто когда-нибудь ездил в экспедиции. По этой же причине и на ББС Иван никак не мог попасть на практику – будущие инженеры ездили туда исключительно на каникулы. Стараясь уйти от копипаста, Вы изменили известное всем, побывавшим в Дакаре, грамматически правильное «Эбен, нот гуталин» на неграмотное «Эбен, эбен натур, но гуталин» - тамошние жители бойко шпарят на пиджин-инглиш и не путают отрицаний.
Как писали классики, «болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить т. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах – все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей».
Но эти мелочи - дело Ваше, и, хотя рекомендация «пиши либо о том, что знаешь очень хорошо, либо о том, чего никто знать не может», по-моему, очень правильная, советов по писанию романов я Вам давать не собираюсь.
Наши интересы пересеклись в другой точке. У нас очень разные взгляды не на «вопрос о праве писателя использовать в художественном произведении факты из биографий реальных людей», а о праве писателя использовать в художественном произведении тексты другого автора. Наш конфликт – не между автором и прототипом, а между двумя авторами. Вы считаете, что «критерием их использования является лишь недопустимость плагиата (копипаста)». Я полагаю по-другому: критерием их использования являются чувство меры и совесть.
Копипаст и плагиат, это, извините, Уголовный кодекс РФ, статья 146. Я же всегда считал и считаю, что порядочные люди добровольно ограничивают свое поведение куда как более узкими рамками, чем диктует УК.
И это относится не только к литературе, но и вообще к взаимоотношениям между людьми, полагающими себя порядочными (интеллигентными, comme il faut и так далее; те, которых Чехов в известном письме к брату называл «воспитанными людьми»). Вы пишите, что «Чехов не только записывал разговоры реальных людей, но и делал обширные выписки из газет, а затем использовал эти записи в своих произведениях, в том числе и в прямой речи персонажей» - может быть, Вам, автору монографии о нем, виднее. Однако, повторюсь: все дело в чувстве меры и совести. И если о конфликте с Левитаном знают все, то о каких-либо обвинениях в плагиате или неумеренных заимствованиях в адрес Антона Павловича я не слышал. Может быть, конечно, это от недостатка знаний, допускаю, я не историк литературы. Должен, однако же, заметить, что, если Чехов и выходил при этом за рамки порядочности, то, во-первых, неблаговидный поступок, совершенный кем-то из великих, не становится от этого благовидным и допустимым. А во-вторых, допуская Ваш иронический комментарий на этот счет, все же спешу уверить: если предположить, что он сделал бы нечто подобное в отношении меня, моя реакция была бы точно такой же, как теперь.
Если единственным ограничителем своей деятельности люди видят Уголовный кодекс, то в чем их отличие от жуликов и проходимцев? Уголовный кодекс чтил и Остап Бендер. Он же, как помните, знал 400 относительно честных (допустимых?) способов отъема денег.
Так он был мошенник и жулик. Честность не бывает относительной, она или есть, или нет, как свежесть. Товар второй свежести – попросту тухлый. И нормальный человек это и так сразу видит.
Причем, что интересно, устами своих персонажей Вы говорите то же самое:
«– Для этого не нужно аргументов. Это просто видно. Сразу видно. Знаешь, есть такая история про лысых?
– Не знаю. Какая история?
– Кого следует считать лысым? У кого выпало некоторое количество волос. Какое именно количество? Один волос? Нет, одного мало. Два? Пять? Это количество можно обсуждать до бесконечности. Но нормальный человек и так сразу видит, кто лысый, а кто нет».
Так что – обсуждать, рерайт или не рерайт, а так же, в какой степени он допустим, я не буду. По мне «нормальный человек и так все видит».
Не считаю я также, что с появлением блогосферы что-то в этом плане изменилось – кроме доступности чужого, разумеется. Если я вырастил цветы на клумбе около дома, то они находятся в открытом доступе – ими все могут любоваться бесплатно. Но это не значит, что их можно сорвать и унести домой или пересадить на свою клумбу. Сей факт как-то все понимают, а про тех, кто всё же рвет, большого разброса во мнениях (и наименованиях) не наблюдается. Хотя и повода для обращения в суд, наверно, нет. По крайней мере, в России. Но тому, что брать чужое нехорошо, учат в детстве всех.
Пишу я это совсем не от желания Вас переубедить. Пишу потому, что считаю заимствования, сделанные Вами из моих текстов, как бы их ни называть, далеко выходящими за границы допустимого – в чисто моральном плане, разумеется. Это, конечно, ничего не изменит. Но высказать свою точку зрения считаю нужным.
Хотя смешная присказка «Если надо объяснять, то не надо объяснять» мне, как и Вашем Ивану, тоже кажется вполне разумной.
17 сентября 2012
Уважаемый Сергей Викторович! У меня нет большого опыта ведения блога. Я делала это только однажды по просьбе издательства и всего в течение двух недель. Среди тем, на которые меня попросили написать, была и тема "Один день из моей жизни". И вот сейчас я спрашиваю себя: что если бы я обнаружила, что кто-то воспользовался моим описанием в этом блоге для того, чтобы с любой степенью соответствия сделать меня персонажем - книги, фильма или, например, оперы? Восприняла бы я это как оскорбление? И вот на этот вопрос я без всякого лукавства отвечаю: нет. Дело в том, что описание, данное мною в блоге и выставленное на всеобщее обозрение, являлось документальным изложением ряда событий и впечатлений. Я понимала это так, что предоставляю всем желающим возможность использовать этот материал по своему усмотрению - повторяю, хоть для создания оперных арий. Переосмысления в том роде, который позволял бы не считать мою запись документальным текстом, я в том своем посте не делала. И у меня не было никаких оснований полагать, что Вы относитесь к своим документальным записям как-то иначе. Мне казалось, что их можно воспринимать так же, как интервью, которые Вы даете и которые существуют не только в устном виде, но и в виде опубликованных текстов. После потока упреков, которые Вы на меня излили, я вижу, что ошиблась: у Вас совершенно другое отношение к характеру этих записей. .Вы можете мне не верить, но я этого действительно не предполагала, и Ваша реакция - обвинение в невоспитанности, непорядочности, неинтеллигентности, бессовестности, жульничестве, мошенничестве, аморальности (все ли я перечислила?) - меня ошеломила, не добавив, мягко говоря, здоровья. Мысль о том, что точно так же Вы высказали бы свое возмущение и Чехову, не показалась мне радостной. Могу только сказать (на основании имеющегося опыта), что Ваша реакция, которая представляется Вам в этой ситуации совершенно естественной, вовсе не единственная из возможных реакций и не само собой разумеющаяся. Я действительно предполагала, что имею право взять прототипом героя книги любого человека и использовать для создания литературного образа не только набор фактов, но и все сведения, которые этот человек счел возможным сообщить о себе, в том числе его размышления и жизненные впечатления. Заметьте - счел возможным сообщить открыто, в своих интервью и в своем блоге; я не шпионила за Вами, не выспрашивала Ваши тайны у Ваших знакомых. Сравнение с цветами, украденными мной из Вашего палисадника, при всей его эффектной образности, было бы, на мой взгляд, корректным в том случае, если бы я пересказала записи из Вашего блога в своем блоге и выдала их за события, произошедшие со мной, и за мои собственные впечатления. К сожалению, мне кажется, что мы так и будем понимать этот конфликт по-разному: Вы - как конфликт двух авторов беллетристических текстов, я - как конфликт автора и прототипа. Это особенно печально для меня потому, что Вы совсем не тот человек, которого мне хотелось бы обидеть и оскорбить. И я действительно сожалею о том, что это произошло. С уважением. Татьяна Сотникова
18 сентября 2012
Уважаемая Татьяна Александровна!
Будем считать инцидент исчерпанным.
Но для информации – знайте, что на ВСЕ материалы, размещенные в интернете, авторское право распространяется ровно в такой же степени, как и на все прочие – напечатанные, записанные, высказанные в интервью и так далее. Другое дело, что многие интернет-авторы подобными вопросами не заморачиваются, вот и Вы пишете, что не восприняли бы заимствование из Вашего блога, как оскорбление – это Ваше право. Многие и вправду, только рады, если их тиражируют.
Это ничего не меняет. Кстати, по закону РФ далеко не только копипаст считается плагиатом, таковым может быть признаны и фанфик, и сиквел, и любая переделка, если автору удастся доказать, что в основе такого произведения или его части лежит его текст (изображение, идея и т.д.), и что использование было произведено без его разрешения. Конечно, подобные процессы – долгие и дорогие, исход их заранее предсказать трудно. В большей степени (особенно в теперешней России) он зависит, естественно, не от правовых коллизий. Вот здесь: http://www.livemaster.ru/to... подробно разобраны вопросы авторского права, связанные с интернетом. Если Вы ее прочтете, то убедитесь, что сравнение с цветами из палисадника значительно корректнее, чем Вам показалось на первый взгляд (автор статьи в аналогичной ситуации прибегает к другому образу – коврика перед дверью).
Моя же реакция – от того, что она не единственная и не само собой разумеющаяся (с чем я совершенно согласен), не перестает быть естественной и законно обоснованной. И причиной тому не дурной характер. Часть из моих записок публиковалась в журналах, в дальнейшем я намереваюсь собрать их вместе и издать книгой. Их, кстати, неоднократно перепечатывали на других сайтах – с моего разрешения и с указанием авторства.
Если честно, то мне с самого начала представлялось невозможным, чтобы автор такого количества книг, издающийся в одном из центральных издательств такими солидными тиражами, мог быть настолько мало сведущ в правовых вопросах. Поэтому не обижайтесь на резкость тона, я старался быть корректным.
На этом прощаюсь.
С уважением,
Сергей Смолицкий.
20 сентября 2012
Уважаемый Сергей Викторович! Я благодарна Вам за то, что Вы решили (понятно, что со всеми оговорками) считать инцидент исчерпанным. Еще и еще раз должна сказать: мне очень жаль, что он возник. Ситуация с авторским правом в Интернете мне действительно известна только в одном смысле: все мои книги выложены на пиратских сайтах, и с этим трудно что-либо сделать. Что же касается всех материалов, имеющихся в Сети, и возможности их использовать при создании художественных произведений, - ситуация в самом деле очень непростая. И главная ее сложность: в какую минуту факт действительности перестает быть фактом, а становится интеллектуальной собственностью того, кто о нем сообщил - в блоге, в интервью и т.п.? Я сейчас говорю не о нашем с Вами случае - я полностью понимаю и принимаю Ваши доводы, - но, к примеру, о такой ситуации. Она, по счастью, пока для меня абстрактна, но я легко могу представить, что она может стать реальностью. Общеизвестно, что все писатели "впитывают" в себя все, что видят и слышат, а потом используют это "впитанное" при создании своих произведений, видоизменяя в соответствии с собственными внутренними задачами. Так было, есть и будет, это одна из важнейших составляющих творчества, без этого оно просто невозможно. И вот представим: некий незнакомый человек рассказал в моем присутствии (в вагоне, в зале ожидания аэропорта и т.п.) какую-то историю из его жизни, которая показалась мне настолько интересной, что я запомнила ее во всех подробностях (или тут же записала), причем с сохранением каких-то ярких деталей, со всеми выразительными словечками, которыми пользовался рассказчик. Лет через пять эта история была мною использована при создании книги. А еще через год выясняется, что тот человек не только рассказывал свою историю в присутствии посторонних людей (о чем, к примеру, вообще забыл - может, пьян был при этом), но и изложил письменно - в блоге, в опубликованном интервью и т.п. Как разрешить такую коллизию с правовой и моральной точки зрения? Я не знаю. Опасаться использовать в своих книгах любые истории, которые происходили не лично со мной? Не придавать вымышленным героям черт реальных людей, которых я знаю с разной степенью близости? Все это исключает саму возможность творчества. Еще раз оговорюсь: в данном случае речь не о той истории, которая произошла в связи с Вами, да и вообще не о какой-то реальной истории, а о самом алгоритме писательских действий. Думаю, я попрошу издателей в ближайшее время предоставить мне возможность получить консультацию у специалиста по авторскому праву - в этом действительно есть насущная необходимость.
Я уверена, что Ваша книга вызовет сильнейший читательский интерес. Надеюсь, вся эта ситуация этому не помешает. Желаю Вам всего самого доброго. С уважением. Татьяна Сотникова
От кого: Татьяна Сотникова
Кому: smolitskiy@inbox.ru
12 сентября 2012
Уважаемый Сергей Викторович! Вопрос о праве писателя использовать в художественном произведении факты из биографий реальных людей - как современников, так и исторических личностей - всегда был и будет не столько спорным, сколько болезненным. Конфликты, которые возникали на этой почве, всегда были острыми - достаточно вспомнить разрыв Чехова с Левитаном, когда тот счел себя оскорбленным тем, что Чехов использовал известные всем события из его жизни в рассказе "Попрыгунья". С появлением блогосферы, в которой события и впечатления личной жизни находятся в открытом доступе, болезненность проблемы только усилилась. Я это вполне сознаю, но все же полагаю, что критерием их использования является лишь недопустимость плагиата (копипаста). Как Вы совершенно справедливо заметили, я следила за тем, чтобы его в моей книге не было. Не уверена, что речь может идти и о рерайте. Как известно, Чехов не только записывал разговоры реальных людей, но и делал обширные выписки из газет, а затем использовал эти записи в своих произведениях, в том числе и в прямой речи персонажей. Занимался ли он рерайтом? Не думаю. Предвидя Ваш иронический комментарий на этот счет, спешу уверить: я прекрасно понимаю разницу между мной и Чеховым и говорю в данном случае только о методике. Вы совершенно правы: профессия такая.
Как бы там ни было, я искренне сожалею, что доставила Вам своей книгой неизбежно неприятные ощущения. Примите за это мои извинения. С уважением. Татьяна Сотникова
Сергей Викторович, я отправляю это письмо на Ваш личный адрес, но если у Вас будет необходимость использовать его в открытом доступе, то Вы, безусловно, имеете на это полное право. Т.С.
16 сентября 2012
Татьяна Александровна, не надо лукавить. И грешить на профессию не надо. Не о «фактах из биографий», не о «событиях и впечатлениях личной жизни» я веду речь, и ссора Чехова с Левитаном здесь совершенно ни при чем. Меня возмутило и заставило высказаться не то, что Иван списан с меня (этого, кстати, никак сказать нельзя), а то, как свободно Вы присвоили себе мой труд. Если бы Вы ограничились фактами, переработав их как угодно (что Вы и сделали, например, с сумкой из змеиной кожи, хотя, уверяю Вас, весь иняз не ахал бы: ни одна из наших женщин не стала их покупать, ибо вся продаваемая в Дакаре продукция – грубая кустарщина), я бы слова не сказал.
Подобные казусы, кстати, вышли не только с сумкой – во всех местах, касающихся Института океанологии, подводных аппаратов и экспедиций, где Вы отходили от переписывания моего материала и давали волю фантазии, случались ляпы. Так, например, обслуживанием «Миров», сложных технических комплексов, занимаются механики, гидравлики, электронщики и прочие технари, человеку с географическим образованием там делать нечего. Поэтому и разговор об организации экспедиции Ивана с сослуживцем получился высосанным из пальца, у сотрудников технической группы на этом этапе совсем другие проблемы. И это увидит невооруженным глазом любой, кто когда-нибудь ездил в экспедиции. По этой же причине и на ББС Иван никак не мог попасть на практику – будущие инженеры ездили туда исключительно на каникулы. Стараясь уйти от копипаста, Вы изменили известное всем, побывавшим в Дакаре, грамматически правильное «Эбен, нот гуталин» на неграмотное «Эбен, эбен натур, но гуталин» - тамошние жители бойко шпарят на пиджин-инглиш и не путают отрицаний.
Как писали классики, «болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить т. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах – все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей».
Но эти мелочи - дело Ваше, и, хотя рекомендация «пиши либо о том, что знаешь очень хорошо, либо о том, чего никто знать не может», по-моему, очень правильная, советов по писанию романов я Вам давать не собираюсь.
Наши интересы пересеклись в другой точке. У нас очень разные взгляды не на «вопрос о праве писателя использовать в художественном произведении факты из биографий реальных людей», а о праве писателя использовать в художественном произведении тексты другого автора. Наш конфликт – не между автором и прототипом, а между двумя авторами. Вы считаете, что «критерием их использования является лишь недопустимость плагиата (копипаста)». Я полагаю по-другому: критерием их использования являются чувство меры и совесть.
Копипаст и плагиат, это, извините, Уголовный кодекс РФ, статья 146. Я же всегда считал и считаю, что порядочные люди добровольно ограничивают свое поведение куда как более узкими рамками, чем диктует УК.
И это относится не только к литературе, но и вообще к взаимоотношениям между людьми, полагающими себя порядочными (интеллигентными, comme il faut и так далее; те, которых Чехов в известном письме к брату называл «воспитанными людьми»). Вы пишите, что «Чехов не только записывал разговоры реальных людей, но и делал обширные выписки из газет, а затем использовал эти записи в своих произведениях, в том числе и в прямой речи персонажей» - может быть, Вам, автору монографии о нем, виднее. Однако, повторюсь: все дело в чувстве меры и совести. И если о конфликте с Левитаном знают все, то о каких-либо обвинениях в плагиате или неумеренных заимствованиях в адрес Антона Павловича я не слышал. Может быть, конечно, это от недостатка знаний, допускаю, я не историк литературы. Должен, однако же, заметить, что, если Чехов и выходил при этом за рамки порядочности, то, во-первых, неблаговидный поступок, совершенный кем-то из великих, не становится от этого благовидным и допустимым. А во-вторых, допуская Ваш иронический комментарий на этот счет, все же спешу уверить: если предположить, что он сделал бы нечто подобное в отношении меня, моя реакция была бы точно такой же, как теперь.
Если единственным ограничителем своей деятельности люди видят Уголовный кодекс, то в чем их отличие от жуликов и проходимцев? Уголовный кодекс чтил и Остап Бендер. Он же, как помните, знал 400 относительно честных (допустимых?) способов отъема денег.
Так он был мошенник и жулик. Честность не бывает относительной, она или есть, или нет, как свежесть. Товар второй свежести – попросту тухлый. И нормальный человек это и так сразу видит.
Причем, что интересно, устами своих персонажей Вы говорите то же самое:
«– Для этого не нужно аргументов. Это просто видно. Сразу видно. Знаешь, есть такая история про лысых?
– Не знаю. Какая история?
– Кого следует считать лысым? У кого выпало некоторое количество волос. Какое именно количество? Один волос? Нет, одного мало. Два? Пять? Это количество можно обсуждать до бесконечности. Но нормальный человек и так сразу видит, кто лысый, а кто нет».
Так что – обсуждать, рерайт или не рерайт, а так же, в какой степени он допустим, я не буду. По мне «нормальный человек и так все видит».
Не считаю я также, что с появлением блогосферы что-то в этом плане изменилось – кроме доступности чужого, разумеется. Если я вырастил цветы на клумбе около дома, то они находятся в открытом доступе – ими все могут любоваться бесплатно. Но это не значит, что их можно сорвать и унести домой или пересадить на свою клумбу. Сей факт как-то все понимают, а про тех, кто всё же рвет, большого разброса во мнениях (и наименованиях) не наблюдается. Хотя и повода для обращения в суд, наверно, нет. По крайней мере, в России. Но тому, что брать чужое нехорошо, учат в детстве всех.
Пишу я это совсем не от желания Вас переубедить. Пишу потому, что считаю заимствования, сделанные Вами из моих текстов, как бы их ни называть, далеко выходящими за границы допустимого – в чисто моральном плане, разумеется. Это, конечно, ничего не изменит. Но высказать свою точку зрения считаю нужным.
Хотя смешная присказка «Если надо объяснять, то не надо объяснять» мне, как и Вашем Ивану, тоже кажется вполне разумной.
17 сентября 2012
Уважаемый Сергей Викторович! У меня нет большого опыта ведения блога. Я делала это только однажды по просьбе издательства и всего в течение двух недель. Среди тем, на которые меня попросили написать, была и тема "Один день из моей жизни". И вот сейчас я спрашиваю себя: что если бы я обнаружила, что кто-то воспользовался моим описанием в этом блоге для того, чтобы с любой степенью соответствия сделать меня персонажем - книги, фильма или, например, оперы? Восприняла бы я это как оскорбление? И вот на этот вопрос я без всякого лукавства отвечаю: нет. Дело в том, что описание, данное мною в блоге и выставленное на всеобщее обозрение, являлось документальным изложением ряда событий и впечатлений. Я понимала это так, что предоставляю всем желающим возможность использовать этот материал по своему усмотрению - повторяю, хоть для создания оперных арий. Переосмысления в том роде, который позволял бы не считать мою запись документальным текстом, я в том своем посте не делала. И у меня не было никаких оснований полагать, что Вы относитесь к своим документальным записям как-то иначе. Мне казалось, что их можно воспринимать так же, как интервью, которые Вы даете и которые существуют не только в устном виде, но и в виде опубликованных текстов. После потока упреков, которые Вы на меня излили, я вижу, что ошиблась: у Вас совершенно другое отношение к характеру этих записей. .Вы можете мне не верить, но я этого действительно не предполагала, и Ваша реакция - обвинение в невоспитанности, непорядочности, неинтеллигентности, бессовестности, жульничестве, мошенничестве, аморальности (все ли я перечислила?) - меня ошеломила, не добавив, мягко говоря, здоровья. Мысль о том, что точно так же Вы высказали бы свое возмущение и Чехову, не показалась мне радостной. Могу только сказать (на основании имеющегося опыта), что Ваша реакция, которая представляется Вам в этой ситуации совершенно естественной, вовсе не единственная из возможных реакций и не само собой разумеющаяся. Я действительно предполагала, что имею право взять прототипом героя книги любого человека и использовать для создания литературного образа не только набор фактов, но и все сведения, которые этот человек счел возможным сообщить о себе, в том числе его размышления и жизненные впечатления. Заметьте - счел возможным сообщить открыто, в своих интервью и в своем блоге; я не шпионила за Вами, не выспрашивала Ваши тайны у Ваших знакомых. Сравнение с цветами, украденными мной из Вашего палисадника, при всей его эффектной образности, было бы, на мой взгляд, корректным в том случае, если бы я пересказала записи из Вашего блога в своем блоге и выдала их за события, произошедшие со мной, и за мои собственные впечатления. К сожалению, мне кажется, что мы так и будем понимать этот конфликт по-разному: Вы - как конфликт двух авторов беллетристических текстов, я - как конфликт автора и прототипа. Это особенно печально для меня потому, что Вы совсем не тот человек, которого мне хотелось бы обидеть и оскорбить. И я действительно сожалею о том, что это произошло. С уважением. Татьяна Сотникова
18 сентября 2012
Уважаемая Татьяна Александровна!
Будем считать инцидент исчерпанным.
Но для информации – знайте, что на ВСЕ материалы, размещенные в интернете, авторское право распространяется ровно в такой же степени, как и на все прочие – напечатанные, записанные, высказанные в интервью и так далее. Другое дело, что многие интернет-авторы подобными вопросами не заморачиваются, вот и Вы пишете, что не восприняли бы заимствование из Вашего блога, как оскорбление – это Ваше право. Многие и вправду, только рады, если их тиражируют.
Это ничего не меняет. Кстати, по закону РФ далеко не только копипаст считается плагиатом, таковым может быть признаны и фанфик, и сиквел, и любая переделка, если автору удастся доказать, что в основе такого произведения или его части лежит его текст (изображение, идея и т.д.), и что использование было произведено без его разрешения. Конечно, подобные процессы – долгие и дорогие, исход их заранее предсказать трудно. В большей степени (особенно в теперешней России) он зависит, естественно, не от правовых коллизий. Вот здесь: http://www.livemaster.ru/to... подробно разобраны вопросы авторского права, связанные с интернетом. Если Вы ее прочтете, то убедитесь, что сравнение с цветами из палисадника значительно корректнее, чем Вам показалось на первый взгляд (автор статьи в аналогичной ситуации прибегает к другому образу – коврика перед дверью).
Моя же реакция – от того, что она не единственная и не само собой разумеющаяся (с чем я совершенно согласен), не перестает быть естественной и законно обоснованной. И причиной тому не дурной характер. Часть из моих записок публиковалась в журналах, в дальнейшем я намереваюсь собрать их вместе и издать книгой. Их, кстати, неоднократно перепечатывали на других сайтах – с моего разрешения и с указанием авторства.
Если честно, то мне с самого начала представлялось невозможным, чтобы автор такого количества книг, издающийся в одном из центральных издательств такими солидными тиражами, мог быть настолько мало сведущ в правовых вопросах. Поэтому не обижайтесь на резкость тона, я старался быть корректным.
На этом прощаюсь.
С уважением,
Сергей Смолицкий.
20 сентября 2012
Уважаемый Сергей Викторович! Я благодарна Вам за то, что Вы решили (понятно, что со всеми оговорками) считать инцидент исчерпанным. Еще и еще раз должна сказать: мне очень жаль, что он возник. Ситуация с авторским правом в Интернете мне действительно известна только в одном смысле: все мои книги выложены на пиратских сайтах, и с этим трудно что-либо сделать. Что же касается всех материалов, имеющихся в Сети, и возможности их использовать при создании художественных произведений, - ситуация в самом деле очень непростая. И главная ее сложность: в какую минуту факт действительности перестает быть фактом, а становится интеллектуальной собственностью того, кто о нем сообщил - в блоге, в интервью и т.п.? Я сейчас говорю не о нашем с Вами случае - я полностью понимаю и принимаю Ваши доводы, - но, к примеру, о такой ситуации. Она, по счастью, пока для меня абстрактна, но я легко могу представить, что она может стать реальностью. Общеизвестно, что все писатели "впитывают" в себя все, что видят и слышат, а потом используют это "впитанное" при создании своих произведений, видоизменяя в соответствии с собственными внутренними задачами. Так было, есть и будет, это одна из важнейших составляющих творчества, без этого оно просто невозможно. И вот представим: некий незнакомый человек рассказал в моем присутствии (в вагоне, в зале ожидания аэропорта и т.п.) какую-то историю из его жизни, которая показалась мне настолько интересной, что я запомнила ее во всех подробностях (или тут же записала), причем с сохранением каких-то ярких деталей, со всеми выразительными словечками, которыми пользовался рассказчик. Лет через пять эта история была мною использована при создании книги. А еще через год выясняется, что тот человек не только рассказывал свою историю в присутствии посторонних людей (о чем, к примеру, вообще забыл - может, пьян был при этом), но и изложил письменно - в блоге, в опубликованном интервью и т.п. Как разрешить такую коллизию с правовой и моральной точки зрения? Я не знаю. Опасаться использовать в своих книгах любые истории, которые происходили не лично со мной? Не придавать вымышленным героям черт реальных людей, которых я знаю с разной степенью близости? Все это исключает саму возможность творчества. Еще раз оговорюсь: в данном случае речь не о той истории, которая произошла в связи с Вами, да и вообще не о какой-то реальной истории, а о самом алгоритме писательских действий. Думаю, я попрошу издателей в ближайшее время предоставить мне возможность получить консультацию у специалиста по авторскому праву - в этом действительно есть насущная необходимость.
Я уверена, что Ваша книга вызовет сильнейший читательский интерес. Надеюсь, вся эта ситуация этому не помешает. Желаю Вам всего самого доброго. С уважением. Татьяна Сотникова
Сергей Смолицкий,
20-09-2012 00:42
(ссылка)
КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ
Замечательная у нас почта! Просто не перестаю удивляться (хотя пора бы уже).
Сыну должны были прислать посылку. Он сейчас живет отдельно и на днях собирается надолго уехать. Поэтому, не зная, успеет получить ее или нет, с моего согласия, попросил, чтобы ее адресовали мне. А поскольку получить ее он все же хотел до отъезда, каждый день звонил и спрашивал, не пришло ли извещение.
Оно не приходило.
Вчера сын зашел на специальный сайт Почты России и обнаружил, что посылка уже лежит в почтовом отделении. Ну, я сегодня с утра туда и отправился, записав предварительно ее (посылки) 14-тизначный номер.
Прихожу в наше почтовое отделение №209.
– Вот, говорю, согласно сайту, посылка уже пришла, а извещение не присылают. Мне бы ее получить.
– А номер знаете?
– Знаю. Вот он.
– А фамилия ваша как?
– Смолицкий.
– Сейчас посмотрю.
Девушка уходит в дверной проем, за которым – посылки на стеллажах и навалом. Она их какое-то время перекладывает, попутно задавая мне оттуда наводящие вопросы: – Посылка ценная или обычная? А размер какой? А вес?
Перерыв все добросовестно, сообщает, что посылки Смолицкому у них нет.
– А по компьютеру давайте проверим?
– Давайте.
Две – три минуты манипуляций с компьютером.
– Он не работает. Завис.
Звоню сыну:
– Быстро заходи на сайт и говори, когда и куда пришла посылка.
Сын некоторое время дышит в трубку, потом сообщает, что пришла она аж 13-го числа (то есть, шесть дней назад), в 16.45, в почтовое отделение №186.
– Ну вот, видите! Вам надо на Нагорный бульвар, 10, она у них. А вы к нам пришли.
Ладно. Нагорный бульвар – через 4 улицы, пятая. Но недалеко. Добираюсь на автобусе по утренним пробкам быстро, за полчаса каких-нибудь.
– Здравствуйте. Моя посылка у вас лежит с 13-го числа, а извещения нет. Могу я ее получить?
– А почему у вас извещения нет?
– Интересный вопрос. Я как раз его вам задать собирался.
– Я не знаю. Вы все время к нам ходите, у вас что-то не так случается.
Честное слово, зачем мне к ним ходить, в чужое отделение? Не был никогда.
– Вы меня с кем-то путаете.
– А где вы живете?
– На Перекопской.
– Так у вас свое отделение есть, у них и надо было извещение взять.
– Я только что от них. Посылка почему-то у вас, а извещения они мне не дали.
– А почему вы его не попросили? Я не могу вам посылку выдать без извещения.
– Я его не взял, потому что не знал, что это необходимо. А они ничего не сказали.
– Но вы-то не маленький, должны были сами спросить.
– Откуда я знаю, что извещение у них, если посылка у вас?
– Но вы же, вот, живете на Перекопской. Вы паспорт не пойдете в Архангельск получать?
– Не пойду.
– А почему извещение у нас должно быть?
– Потому что посылка у вас.
– Но мы же к вам не понесем его отсюда на Перекопскую. Вы должны были у них, в своем отделении, разобраться с извещением.
– Девушка, а вам не проще между собой в своем ведомстве разобраться? Мне посылка пришла, я хочу ее получить. Я же не обязан знать ваши правила.
– Номер давайте.
– Вот.
– Что вы мне суете? («Что» – это записная книжка с номером). На бумажке напишите.
– Давайте бумажку.
– Где я вам бумажку возьму? Вон, на столе лежат. Безобразие! Приходят без извещения, я вообще давать не имею права, и еще недовольны.
Потом девушка (я успел прочитать на бейджике, что ее зовут Елена Станиславовна, а вот фамилию не разглядел. Елена Станиславовна! Сразу вспомнил Ильфа и Петрова со Старгородом).
Посылка была найдена, извещение выписано, я его заполнил и, наконец, свое получил. Смотрю на адрес: Москва, 117209.
– Девушка, объясните мне, пожалуйста. Здесь же правильно написано, отделение 209. Почему же она к вам пришла?
– Потому что у них помещения нет. Все их посылки к нам приходят.
Замечательно. Главное, все ведь логично.
И повез я посылку домой, вспоминая другие свои контакты с чудесным нашим почтовым ведомством. Вот, кстати, в позапрошлом, кажется, году, отправил две маленьких бандерольки в Харьков и Афины. В Харьков через два месяца пришла, в Афины – через два с половиной.
Еду и соображаю: от Москвы до Харькова где-то 650 километров, до Афин – примерно 2200. Если проходить в день километров по 40 (что вполне реально, я в молодости на спор однажды прошагал за сутки сотню. Так что с отдыхом по 40км в день можно идти долго), то, чтобы пешком дойти до Харькова и вернуться, понадобится чуть больше 16-ти дней, до Афин с возвратом, соответственно, 55. То есть, можно было бы пешком за это время и туда и туда обернуться. Начал считать, как оно получилось бы на велосипеде, но в это время уже подъехал к дому. Вхожу в подъезд с посылкой. Встречаю соседку.
– Посылку получили?
– Да вот, с Нагорного везу.
– А-а-а! И вашу туда загнали? А с вас пеню не взяли за долгое хранение?
– Нет, не успела набежать. А с вас взяли?
– Хотели взять, но я сказала: пропадите вы, не нужны мне эти шторы. Поругались, отдали без пени.
Первое мое близкое знакомство с почтой состоялось в 9-м классе. У нас училась дочка одного важного чина на Главпочтамте, поэтому в каникулы мы, школьники, кто желал, могли там подрабатывать. Особенно актуально это было перед 8-м марта и 7-м ноября, а перед Новым годом так еще и просили помочь, потому что поздравительных открыток шла тьма. Но, что главное, нам по знакомству давали не самую дешевую и трудную работу – разносить письма, нет. Нас распределяли по цехам, и мы помогали в технологическом процессе прохождения корреспонденции. Меня, помню, посадили рядом с добродушной женщиной средних лет завязывать мешки с письмами. Их приносили с сортировки, нужно было вытащить лежащий поверх писем ярлык с криво и неграмотно написанным пунктом назначения, завязать горловину мешка специальным узлом, подсунув под него ярлык, навесить свинцовую пломбу и положить в свою кучку – в Ленинград, в Киев и так далее. Сразу обратил внимание на два интересных города – «Даугаупильск» (так!) и «Кразделки». Ну, я подумал – Кразделки так Кразделки. Есть же Вербилки, Вешняки, Подлипки (Сростки тогда еще не звучали). Почему Кразделкам не быть? Когда через несколько дней я спросил свою наставницу, где находится этот пункт, она сначала не поняла, потом пояснила:
– Ну, это какие письма дальше сортировать надо. Разделывать по-нашему.
Вот, мы, значит, сидели с ней вдвоем целый день (мне, как школьнику, полагалось работать на час меньше) и вязали мешки, а их все подносили и подносили из соседнего зала, где целая орава женщин разного возраста раскладывала в них письма.
Придя однажды на работу, я обнаружил в цеху какую-то суету. Несколько наладчиков возились с устройствами, которые до этого стояли в бездействии. Оказалось, что на нашем этаже, буквально в нескольких метрах от того места, где мы работали, есть и полуавтоматы для сортировки, и машины для увязывания мешков, и еще много чего. Только оно не работает, все время ломается. А запускают их в работу по причине посещения Московского Почтамта дружественной делегацией японских специалистов. По этой же причине нас посадили в уголок, за каким-то агрегатом, чтобы не видно было. Потому что без наших рук все равно управиться не получалось.
В общем, японцы нас там все-таки обнаружили. Сначала один заглянул, увидел, что-то крикнул негромко, и они все набежали, стали полукольцом вокруг, весело улыбаясь и что-то по-своему лопоча. Я весело улыбался в ответ, а вот напарница моя глаз не поднимала. Кто-то из японцев вытащил маленький фотоаппарат (у нас такие тогда если и были, так только у шпионов, разведчиков то есть) и вопросительно поглядел на сопровождающего, но тот отрицательно замотал головой: Нет-нет, нельзя! Военный объект!
С тех пор почти пятьдесят лет прошло, но я не удивлюсь, если узнаю, что технологический процесс на почте все тот же.
Вспомнил я и статью Анатолия Рубинова «Операция “Меченые атомы”» в Литературной газете где-то в середине шестидесятых, она тоже посвящалась работе почты. Это был первый случай журналистского эксперимента в нашей жизни. В редакции написала 100 писем в 10 адресов корреспондентских пунктов в разных городах СССР и опустили их в 10 почтовых ящиков в Москве. Потом собрали обратно в редакции и изучили штемпеля. Эксперимент привел к неоспоримым выводам: если сравнивать скорости движения писем по Советской России в шестидесятые годы ХХ века с дореволюционными (для примера они взяли письма Толстого из музея), то при царе, на лошадях и паровозах, корреспонденция доставлялась значительно быстрее.
Но мы же знаем, что скорости транспорта выросли существенно. Поэтому не нужно долго ломать голову: письма стали намного дольше пролеживать без движения. Статья была написана талантливо, как все статьи Рубинова. Ее по тогдашнему обыкновению все обсуждали, возмущались, требовали чего-то…
Ну, а уж переписка Федора Михайловича с Анной Григорьевной, когда он проигрывался в пух в Гомбурге, а она, беременная, ждала его в гостинице в Дрездене, это же просто сказкой звучит! Я имею в виду именно с точки зрения работы почты.
«Милый мой ангел, вчера я испытал ужасное мучение: иду, как кончил к тебе письмо, на почту, и вдруг мне отвечают, что нет от тебя письма. У меня ноги подкосились, не поверил. Бог знает, что мне приходило в голову, и клянусь тебе, что более мучения и страху я никогда не испытывал.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и вдруг мне мелькнула мысль: что ведь ты, в сущности, и не могла мне написать, то есть прислать письмо к понедельнику. В субботу ты получила мое первое письмо, отвечала мне тут же на почте [О получении этого письма в воскресенье Ф.М. сообщает в предыдущем письме – С.В.С.], затем уж в субботу и не писала более, потому что уж отвечала утром на почте <…>. Поэтому в воскресенье и не послала мне письма; в воскресенье же, получив мое письмо (второе), отвечала мне в тот же день и могла послать только, стало быть, в понедельник, а следственно, раньше вторника я и не могу получить».
И другое, уже в Швейцарии, из Саксон ле Бэн в Женеву:
«Письмо я положу в ящик отеля сейчас. Пойдет оно на почту сегодня в 10 часов. Но сама почта в Женеву пойдет не раньше как завтра утром, в 5 часов утром. Стало быть, ты раньше 12 часов не получишь».
Это 1867-й год, господа! Позапрошлый век! Полтораста лет назад.
… А извещение все-таки принесли, сегодня вечером. С момента прихода посылки на почту прошло ровно шесть суток – по часам. 209-е отделение – на соседней улице, до него от нашего дома метров 400. 186-е, я уже писал, подальше, но и до него двух километров не будет.
Куда меньше, чем от Гомбурга до Дрездена.
Сыну должны были прислать посылку. Он сейчас живет отдельно и на днях собирается надолго уехать. Поэтому, не зная, успеет получить ее или нет, с моего согласия, попросил, чтобы ее адресовали мне. А поскольку получить ее он все же хотел до отъезда, каждый день звонил и спрашивал, не пришло ли извещение.
Оно не приходило.
Вчера сын зашел на специальный сайт Почты России и обнаружил, что посылка уже лежит в почтовом отделении. Ну, я сегодня с утра туда и отправился, записав предварительно ее (посылки) 14-тизначный номер.
Прихожу в наше почтовое отделение №209.
– Вот, говорю, согласно сайту, посылка уже пришла, а извещение не присылают. Мне бы ее получить.
– А номер знаете?
– Знаю. Вот он.
– А фамилия ваша как?
– Смолицкий.
– Сейчас посмотрю.
Девушка уходит в дверной проем, за которым – посылки на стеллажах и навалом. Она их какое-то время перекладывает, попутно задавая мне оттуда наводящие вопросы: – Посылка ценная или обычная? А размер какой? А вес?
Перерыв все добросовестно, сообщает, что посылки Смолицкому у них нет.
– А по компьютеру давайте проверим?
– Давайте.
Две – три минуты манипуляций с компьютером.
– Он не работает. Завис.
Звоню сыну:
– Быстро заходи на сайт и говори, когда и куда пришла посылка.
Сын некоторое время дышит в трубку, потом сообщает, что пришла она аж 13-го числа (то есть, шесть дней назад), в 16.45, в почтовое отделение №186.
– Ну вот, видите! Вам надо на Нагорный бульвар, 10, она у них. А вы к нам пришли.
Ладно. Нагорный бульвар – через 4 улицы, пятая. Но недалеко. Добираюсь на автобусе по утренним пробкам быстро, за полчаса каких-нибудь.
– Здравствуйте. Моя посылка у вас лежит с 13-го числа, а извещения нет. Могу я ее получить?
– А почему у вас извещения нет?
– Интересный вопрос. Я как раз его вам задать собирался.
– Я не знаю. Вы все время к нам ходите, у вас что-то не так случается.
Честное слово, зачем мне к ним ходить, в чужое отделение? Не был никогда.
– Вы меня с кем-то путаете.
– А где вы живете?
– На Перекопской.
– Так у вас свое отделение есть, у них и надо было извещение взять.
– Я только что от них. Посылка почему-то у вас, а извещения они мне не дали.
– А почему вы его не попросили? Я не могу вам посылку выдать без извещения.
– Я его не взял, потому что не знал, что это необходимо. А они ничего не сказали.
– Но вы-то не маленький, должны были сами спросить.
– Откуда я знаю, что извещение у них, если посылка у вас?
– Но вы же, вот, живете на Перекопской. Вы паспорт не пойдете в Архангельск получать?
– Не пойду.
– А почему извещение у нас должно быть?
– Потому что посылка у вас.
– Но мы же к вам не понесем его отсюда на Перекопскую. Вы должны были у них, в своем отделении, разобраться с извещением.
– Девушка, а вам не проще между собой в своем ведомстве разобраться? Мне посылка пришла, я хочу ее получить. Я же не обязан знать ваши правила.
– Номер давайте.
– Вот.
– Что вы мне суете? («Что» – это записная книжка с номером). На бумажке напишите.
– Давайте бумажку.
– Где я вам бумажку возьму? Вон, на столе лежат. Безобразие! Приходят без извещения, я вообще давать не имею права, и еще недовольны.
Потом девушка (я успел прочитать на бейджике, что ее зовут Елена Станиславовна, а вот фамилию не разглядел. Елена Станиславовна! Сразу вспомнил Ильфа и Петрова со Старгородом).
Посылка была найдена, извещение выписано, я его заполнил и, наконец, свое получил. Смотрю на адрес: Москва, 117209.
– Девушка, объясните мне, пожалуйста. Здесь же правильно написано, отделение 209. Почему же она к вам пришла?
– Потому что у них помещения нет. Все их посылки к нам приходят.
Замечательно. Главное, все ведь логично.
И повез я посылку домой, вспоминая другие свои контакты с чудесным нашим почтовым ведомством. Вот, кстати, в позапрошлом, кажется, году, отправил две маленьких бандерольки в Харьков и Афины. В Харьков через два месяца пришла, в Афины – через два с половиной.
Еду и соображаю: от Москвы до Харькова где-то 650 километров, до Афин – примерно 2200. Если проходить в день километров по 40 (что вполне реально, я в молодости на спор однажды прошагал за сутки сотню. Так что с отдыхом по 40км в день можно идти долго), то, чтобы пешком дойти до Харькова и вернуться, понадобится чуть больше 16-ти дней, до Афин с возвратом, соответственно, 55. То есть, можно было бы пешком за это время и туда и туда обернуться. Начал считать, как оно получилось бы на велосипеде, но в это время уже подъехал к дому. Вхожу в подъезд с посылкой. Встречаю соседку.
– Посылку получили?
– Да вот, с Нагорного везу.
– А-а-а! И вашу туда загнали? А с вас пеню не взяли за долгое хранение?
– Нет, не успела набежать. А с вас взяли?
– Хотели взять, но я сказала: пропадите вы, не нужны мне эти шторы. Поругались, отдали без пени.
Первое мое близкое знакомство с почтой состоялось в 9-м классе. У нас училась дочка одного важного чина на Главпочтамте, поэтому в каникулы мы, школьники, кто желал, могли там подрабатывать. Особенно актуально это было перед 8-м марта и 7-м ноября, а перед Новым годом так еще и просили помочь, потому что поздравительных открыток шла тьма. Но, что главное, нам по знакомству давали не самую дешевую и трудную работу – разносить письма, нет. Нас распределяли по цехам, и мы помогали в технологическом процессе прохождения корреспонденции. Меня, помню, посадили рядом с добродушной женщиной средних лет завязывать мешки с письмами. Их приносили с сортировки, нужно было вытащить лежащий поверх писем ярлык с криво и неграмотно написанным пунктом назначения, завязать горловину мешка специальным узлом, подсунув под него ярлык, навесить свинцовую пломбу и положить в свою кучку – в Ленинград, в Киев и так далее. Сразу обратил внимание на два интересных города – «Даугаупильск» (так!) и «Кразделки». Ну, я подумал – Кразделки так Кразделки. Есть же Вербилки, Вешняки, Подлипки (Сростки тогда еще не звучали). Почему Кразделкам не быть? Когда через несколько дней я спросил свою наставницу, где находится этот пункт, она сначала не поняла, потом пояснила:
– Ну, это какие письма дальше сортировать надо. Разделывать по-нашему.
Вот, мы, значит, сидели с ней вдвоем целый день (мне, как школьнику, полагалось работать на час меньше) и вязали мешки, а их все подносили и подносили из соседнего зала, где целая орава женщин разного возраста раскладывала в них письма.
Придя однажды на работу, я обнаружил в цеху какую-то суету. Несколько наладчиков возились с устройствами, которые до этого стояли в бездействии. Оказалось, что на нашем этаже, буквально в нескольких метрах от того места, где мы работали, есть и полуавтоматы для сортировки, и машины для увязывания мешков, и еще много чего. Только оно не работает, все время ломается. А запускают их в работу по причине посещения Московского Почтамта дружественной делегацией японских специалистов. По этой же причине нас посадили в уголок, за каким-то агрегатом, чтобы не видно было. Потому что без наших рук все равно управиться не получалось.
В общем, японцы нас там все-таки обнаружили. Сначала один заглянул, увидел, что-то крикнул негромко, и они все набежали, стали полукольцом вокруг, весело улыбаясь и что-то по-своему лопоча. Я весело улыбался в ответ, а вот напарница моя глаз не поднимала. Кто-то из японцев вытащил маленький фотоаппарат (у нас такие тогда если и были, так только у шпионов, разведчиков то есть) и вопросительно поглядел на сопровождающего, но тот отрицательно замотал головой: Нет-нет, нельзя! Военный объект!
С тех пор почти пятьдесят лет прошло, но я не удивлюсь, если узнаю, что технологический процесс на почте все тот же.
Вспомнил я и статью Анатолия Рубинова «Операция “Меченые атомы”» в Литературной газете где-то в середине шестидесятых, она тоже посвящалась работе почты. Это был первый случай журналистского эксперимента в нашей жизни. В редакции написала 100 писем в 10 адресов корреспондентских пунктов в разных городах СССР и опустили их в 10 почтовых ящиков в Москве. Потом собрали обратно в редакции и изучили штемпеля. Эксперимент привел к неоспоримым выводам: если сравнивать скорости движения писем по Советской России в шестидесятые годы ХХ века с дореволюционными (для примера они взяли письма Толстого из музея), то при царе, на лошадях и паровозах, корреспонденция доставлялась значительно быстрее.
Но мы же знаем, что скорости транспорта выросли существенно. Поэтому не нужно долго ломать голову: письма стали намного дольше пролеживать без движения. Статья была написана талантливо, как все статьи Рубинова. Ее по тогдашнему обыкновению все обсуждали, возмущались, требовали чего-то…
Ну, а уж переписка Федора Михайловича с Анной Григорьевной, когда он проигрывался в пух в Гомбурге, а она, беременная, ждала его в гостинице в Дрездене, это же просто сказкой звучит! Я имею в виду именно с точки зрения работы почты.
«Милый мой ангел, вчера я испытал ужасное мучение: иду, как кончил к тебе письмо, на почту, и вдруг мне отвечают, что нет от тебя письма. У меня ноги подкосились, не поверил. Бог знает, что мне приходило в голову, и клянусь тебе, что более мучения и страху я никогда не испытывал.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и вдруг мне мелькнула мысль: что ведь ты, в сущности, и не могла мне написать, то есть прислать письмо к понедельнику. В субботу ты получила мое первое письмо, отвечала мне тут же на почте [О получении этого письма в воскресенье Ф.М. сообщает в предыдущем письме – С.В.С.], затем уж в субботу и не писала более, потому что уж отвечала утром на почте <…>. Поэтому в воскресенье и не послала мне письма; в воскресенье же, получив мое письмо (второе), отвечала мне в тот же день и могла послать только, стало быть, в понедельник, а следственно, раньше вторника я и не могу получить».
И другое, уже в Швейцарии, из Саксон ле Бэн в Женеву:
«Письмо я положу в ящик отеля сейчас. Пойдет оно на почту сегодня в 10 часов. Но сама почта в Женеву пойдет не раньше как завтра утром, в 5 часов утром. Стало быть, ты раньше 12 часов не получишь».
Это 1867-й год, господа! Позапрошлый век! Полтораста лет назад.
… А извещение все-таки принесли, сегодня вечером. С момента прихода посылки на почту прошло ровно шесть суток – по часам. 209-е отделение – на соседней улице, до него от нашего дома метров 400. 186-е, я уже писал, подальше, но и до него двух километров не будет.
Куда меньше, чем от Гомбурга до Дрездена.
Сергей Смолицкий,
09-09-2012 22:43
(ссылка)
О ПАРАНОРМАЛЬНОМ
До совсем недавнего времени я со скепсисом и иронией относился ко всяческим байкам о «непознанном» и паранормальном – в основном они крутятся вокруг НЛО, снежного человека, чудища из озера Лох-Несс и Бермудского треугольника. Известную же историю о книге М.Э. Робертсона «Тщетность, или гибель “Титана”», в которой за 14 лет до катастрофы «Титаника» была очень близко к реальности описана гибель суперлайнера «Титан», совпадавшая до мелочей с реальной катастрофой, относил к явлениям необъяснимым, но в ее сверхъестественное происхождение все равно не верил.
Каюсь, я был неправ. Поверить в существование подобного рода явлений меня заставила сама жизнь, ткнув носом в неопровержимые факты. Дело в том, что в своих очерках 2008 и 2009 годов, выложенных в интернете на страницах моего блога в «Мой мир» на mail.ru, я каким-то сверхъестественным образом описал профессиональную деятельность Ивана Луговского, главного героя романа Анны Берсеневой «Игры сердца» (М., Эксмо, 2011. 352с. ISBN 978-5-699-52247-7, тираж 35100 экз.). Роман этот опубликован в 2011, так что, когда я сочинял свои записки, познакомиться с его текстом никак не мог, с автором – реальной Татьяной Александровной Сотниковой (я не раскрываю псевдонима, этот факт дважды упомянут на обложке книги) – кандидатом филологических наук, доцентом Литературного института имени Горького, в здешней, посюсторонней жизни, никогда не встречался. Однако количество совпадений в романной жизни вымышленного Ивана, сотрудника реального Института океанологии, работающего в той же реальной группе аппаратов «Мир», что и я, с фактами, образами, сюжетными ходами и высказываниями, описанными мной в пяти моих очерках («А название не придумалось…», 28.10.2009; «Экономическое», 25.10.2009; «Про настоящий Северный полюс планеты Земля», 18.09.2009; «Конхиологическая поэма», 24.01.2009; и «Такая переменчивая байкальская погода», 13.10.2008) просто потрясает. Как только Иван оставляет свои игры сердца и начинает заниматься своей профессиональной деятельностью (а он – человек серьезный: «перемежать, а то и перебивать работу всей этой приятной игрой, переглядками-полуулыбками с предсказуемым и скорым финалом… Этого ему не хотелось», стр. 110; очень похвальное качество!), так вот, как только, читая роман, я доходил до страниц, повествующих об экспедициях к полюсу и на Байкал, на меня накатывало чувство deja vu. Прямо с первых строк, когда Иван во сне слышит шорох падающих сверху, с мачт и лееров, льдинок, образующихся от испарений и описанных мной. То есть, когда я прочитал про льдинки, то, конечно, ничего такого не подумал. Льдинки падали не на одного меня, явление известное, для меня в той экспедиции новое, поэтому я про него и написал. Ну так и Иван вблизи от полюса оказался впервые, что ж тут такого. Не особо удивило и то, что выменивая в Сенегале у торговца деревянную маску, Иван услышал практически те же уверения в ее подлинности («Эбен, эбен, натур, но гуталин» в романе, а у меня – «Маска, маска! Файв долларс – гуд прайс! Эбен, нот гуталин!»). Такие уверения слышали практически все, приобретавшие африканские сувениры из эбенового дерева. Однако, когда Иван приобрел те же раковины «шлем» и «морское ухо», что и я, так же сменяв их на облезлую кроличью ушанку (правда, он сторговал их удачливее, я за свои отдал две), у меня по спине пробежал первый холодок. После этого я стал делать закладки в тех местах, где начинались мистические совпадения. К концу чтения их оказалось 21, как я уже сказал, практически на всех страницах, где Иван занимался не переглядками-полуулыбками, не тем, что обязательно следовало за ними (я имею в виду душевные терзания), а работал. Он, как и я, в компании друзей отправился на резиновой лодке на Ольхон, как и я, «понял, что сегодня чуть не впервые с тех пор, как начались погружения, оказался на твердой земле. Идти по ней было непривычно и приятно» (стр. 102). Потом по радио пришло штормовое предупреждение, и друзья резко рванули когти, так как двое из них (в описанном мной случае – трое) были заняты на подъеме аппаратов. Словом, в романе произошло почти то же, что и со мной и моими товарищами на самом деле, и что я описал в своем очерке «Такая переменчивая байкальская погода». Причем, когда я его писал, то не чувствовал ничего сверхъестественного, а вот поди ж ты! Оказывается, моей рукой водили потусторонние силы, но я, честное слово, ничего такого тогда не подозревал.
Дальше странным совпадениям я уже не удивлялся. У Ивана оказались любимыми те же города, что у меня. Он так же имел на судне велосипед, на котором любил ездить по городам во время заходов и так же зачарованно остановился в Копенгагене, осознав, что находится на углу Восточной улицы и Новой Королевской площади, у дома, куда андерсеновские феи принесли калоши счастья (стр. 258-259 в романе, очерк «А название не придумалось» у меня). Всего пересказывать не буду, но Иван оказался практически полным двойником лирического героя моих очерков, только вдвое помолодевшим. Понятно, какие уж тут игры сердца в наши-то годы! Конфуз один…
Ясно, что никаких нехороших подозрений в адрес кандидата филологических наук, доцента Литературного института имени Горького, известного литературного критика, автора монографий о Чехове и Маяковском, публиковавшего свои статьи в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Континент», в словаре «Русские писатели ХХ века» и других энциклопедических изданиях, автора 25 романов, опубликованных за 17 лет, стоящего «на особой ступени в русской литературе», проза которого «лучший образец изящной словесности» (из аннотации на последней странице обложки) я и помыслить не могу. Но про себя-то я все доподлинно знаю. Не мог я ничего знать о похождениях Ивана Луговского за три года до выхода романа и за четыре до того, как мне дала его прочитать озадаченная совпадениями сослуживица.
Так что никаких объяснений сему факту, кроме сверхъестественных, я предположить не могу.
Феномен, однако, понимаешь…
P.S. Желающие удостовериться в поразительном количестве совпадений в наших текстах могут это сделать, не покидая интернета. Роман Анны Берсеневой выложен на целом ряде сайтов, заинтересовавшиеся его легко найдут.
Каюсь, я был неправ. Поверить в существование подобного рода явлений меня заставила сама жизнь, ткнув носом в неопровержимые факты. Дело в том, что в своих очерках 2008 и 2009 годов, выложенных в интернете на страницах моего блога в «Мой мир» на mail.ru, я каким-то сверхъестественным образом описал профессиональную деятельность Ивана Луговского, главного героя романа Анны Берсеневой «Игры сердца» (М., Эксмо, 2011. 352с. ISBN 978-5-699-52247-7, тираж 35100 экз.). Роман этот опубликован в 2011, так что, когда я сочинял свои записки, познакомиться с его текстом никак не мог, с автором – реальной Татьяной Александровной Сотниковой (я не раскрываю псевдонима, этот факт дважды упомянут на обложке книги) – кандидатом филологических наук, доцентом Литературного института имени Горького, в здешней, посюсторонней жизни, никогда не встречался. Однако количество совпадений в романной жизни вымышленного Ивана, сотрудника реального Института океанологии, работающего в той же реальной группе аппаратов «Мир», что и я, с фактами, образами, сюжетными ходами и высказываниями, описанными мной в пяти моих очерках («А название не придумалось…», 28.10.2009; «Экономическое», 25.10.2009; «Про настоящий Северный полюс планеты Земля», 18.09.2009; «Конхиологическая поэма», 24.01.2009; и «Такая переменчивая байкальская погода», 13.10.2008) просто потрясает. Как только Иван оставляет свои игры сердца и начинает заниматься своей профессиональной деятельностью (а он – человек серьезный: «перемежать, а то и перебивать работу всей этой приятной игрой, переглядками-полуулыбками с предсказуемым и скорым финалом… Этого ему не хотелось», стр. 110; очень похвальное качество!), так вот, как только, читая роман, я доходил до страниц, повествующих об экспедициях к полюсу и на Байкал, на меня накатывало чувство deja vu. Прямо с первых строк, когда Иван во сне слышит шорох падающих сверху, с мачт и лееров, льдинок, образующихся от испарений и описанных мной. То есть, когда я прочитал про льдинки, то, конечно, ничего такого не подумал. Льдинки падали не на одного меня, явление известное, для меня в той экспедиции новое, поэтому я про него и написал. Ну так и Иван вблизи от полюса оказался впервые, что ж тут такого. Не особо удивило и то, что выменивая в Сенегале у торговца деревянную маску, Иван услышал практически те же уверения в ее подлинности («Эбен, эбен, натур, но гуталин» в романе, а у меня – «Маска, маска! Файв долларс – гуд прайс! Эбен, нот гуталин!»). Такие уверения слышали практически все, приобретавшие африканские сувениры из эбенового дерева. Однако, когда Иван приобрел те же раковины «шлем» и «морское ухо», что и я, так же сменяв их на облезлую кроличью ушанку (правда, он сторговал их удачливее, я за свои отдал две), у меня по спине пробежал первый холодок. После этого я стал делать закладки в тех местах, где начинались мистические совпадения. К концу чтения их оказалось 21, как я уже сказал, практически на всех страницах, где Иван занимался не переглядками-полуулыбками, не тем, что обязательно следовало за ними (я имею в виду душевные терзания), а работал. Он, как и я, в компании друзей отправился на резиновой лодке на Ольхон, как и я, «понял, что сегодня чуть не впервые с тех пор, как начались погружения, оказался на твердой земле. Идти по ней было непривычно и приятно» (стр. 102). Потом по радио пришло штормовое предупреждение, и друзья резко рванули когти, так как двое из них (в описанном мной случае – трое) были заняты на подъеме аппаратов. Словом, в романе произошло почти то же, что и со мной и моими товарищами на самом деле, и что я описал в своем очерке «Такая переменчивая байкальская погода». Причем, когда я его писал, то не чувствовал ничего сверхъестественного, а вот поди ж ты! Оказывается, моей рукой водили потусторонние силы, но я, честное слово, ничего такого тогда не подозревал.
Дальше странным совпадениям я уже не удивлялся. У Ивана оказались любимыми те же города, что у меня. Он так же имел на судне велосипед, на котором любил ездить по городам во время заходов и так же зачарованно остановился в Копенгагене, осознав, что находится на углу Восточной улицы и Новой Королевской площади, у дома, куда андерсеновские феи принесли калоши счастья (стр. 258-259 в романе, очерк «А название не придумалось» у меня). Всего пересказывать не буду, но Иван оказался практически полным двойником лирического героя моих очерков, только вдвое помолодевшим. Понятно, какие уж тут игры сердца в наши-то годы! Конфуз один…
Ясно, что никаких нехороших подозрений в адрес кандидата филологических наук, доцента Литературного института имени Горького, известного литературного критика, автора монографий о Чехове и Маяковском, публиковавшего свои статьи в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Континент», в словаре «Русские писатели ХХ века» и других энциклопедических изданиях, автора 25 романов, опубликованных за 17 лет, стоящего «на особой ступени в русской литературе», проза которого «лучший образец изящной словесности» (из аннотации на последней странице обложки) я и помыслить не могу. Но про себя-то я все доподлинно знаю. Не мог я ничего знать о похождениях Ивана Луговского за три года до выхода романа и за четыре до того, как мне дала его прочитать озадаченная совпадениями сослуживица.
Так что никаких объяснений сему факту, кроме сверхъестественных, я предположить не могу.
Феномен, однако, понимаешь…
P.S. Желающие удостовериться в поразительном количестве совпадений в наших текстах могут это сделать, не покидая интернета. Роман Анны Берсеневой выложен на целом ряде сайтов, заинтересовавшиеся его легко найдут.
Сергей Смолицкий,
04-09-2012 09:20
(ссылка)
ПРО СУРКА МИШКУ И ДРУГИХ ЗВЕРЕЙ
Писать про сурка после Норы Аргуновой – дело заведомо проигрышное. Во-первых, она рассказала самое главное, во-вторых, сделала это замечательно, а в-третьих, так точно попала в тон, в настроение, что я долго думал – стоит ли? (Нора Аргунова. Песенка савояра. http://ukrrabbit.moy.su/pub...)
Решил, что наверно, все-таки, стоит. Потому что любовь – она и есть любовь. У каждого своя, и у всех разная. А я своего Мишку очень любил.
Прожил он у нас еще меньше, чем Тишка у Норы Борисовны – всего-то полгода. Я привез его с целины, где работал в стройотряде после второго курса. Дома уже жил трехгодовалый Пиф, дворняга с явным преобладанием овчарочьих кровей, но – уши лежали разлапистыми лопухами, и туловище было длинновато (Ваня Босак, сослуживец, говорил про таких собак, что у них лишняя шпация. Ваня был кораблестроителем и тоже очень любил зверей, а шпацией в судостроении называется расстояние между шпангоутами судна. Но это было совсем в другой жизни, позже).
Пифа я привез из пионерского лагеря, где провел целое лето перед десятым классом. Я там не отдыхал, а работал – вел авиамодельный кружок. Называлось это – пионер-инструктор. За такую работу полагалась бесплатная путевка, что для мамы с ее вечным безденежьем было очень важно: я оказывался пристроен на все лето. А про собак она часто с тоской говорила, что всю жизнь мечтала, но завести никак не решалась – ответственность, соседи (мы жили в коммуналке на семь семей) и все та же нехватка денег.
Я был уже инструктором со стажем, работал таким образом второе лето. Поэтому сразу ставил себя на одну доску с вожатыми, жил не в отряде, режим не соблюдал, и вообще держался взрослым. Поэтому, хоть лет мне было меньше, чем многим пионерам первого отряда, они меня слушались и вне кружка. Я, правда, властью не злоупотреблял, ибо догадывался, что если зарваться, то побьют, и на этом весь мой авторитет кончится.
И вот как-то один кружковец меня спрашивает: «Тебе щенок не нужен?» – оказалось, он взял у местных из деревни, а домой везти не разрешили.
Беспомощный серый комок с тонким хвостиком, очутившись в моих руках, сразу схватил мой палец слюнявым ротишкой с ребристым нёбом и стал сосать. Оказалось, голодный: взять-то парень его взял, но уже больше суток не кормил – не нашел в лагере, чем и как. Еще ничего не решив, я бросился спасать маленького: взял на кухне молока, налил в блюдце и пододвинул к щенячьей мордочке. Ничего не вышло, песик был еще слишком мал, чтобы лакать из блюдца. Он очень разволновался, залез в блюдце всеми четырьмя лапами, весь извозился в молоке, тыкался, скулил, но пить не получалось.
Выяснив, что ближайшая аптека находится около железнодорожной станции Тучково, я рванул туда за соской, вовсе не будучи уверен, что найду ее: в советские времена в дефиците могло оказаться все, что угодно. Однако, соски в наличии были, и бутылочки тоже. Я вернулся, налил молоко в бутылочку (догадавшись его чуть подогреть), и сунул щенку в рот. Он сразу, захлебываясь, принялся сосать, причмокивая и дергая соску в стороны, и его розовое пузико стало ощутимо разбухать в моей ладони. Налопался, засопел и заснул. Я держал его на руках и перебирал пальцами мягкие лапки с крохотными коготками, тоненькие шелковистые ушки листиками, дотрагивался до короткой шерстки на раздвоенной передней губе и пухлых брыльях. Я уже знал, что повезу его в Москву. Мама, наверно, обрадуется: хотела же собаку, просто духу не хватало.
Так оно, примерно, и вышло. Вначале мама, конечно, ахнула, когда увидела меня на вокзале: за спиной рюкзак и сумка с авиамодельными причиндалами, в одной руке гитара, в другой фюзеляж модели-копии По-2 больше метра длиной, а из-за пазухи щенячья морда торчит. Она только спросила: «Как же мы будем с ним жить?» – на что я сказал: «Увидишь, ты привыкнешь».
Она, действительно, привыкла очень быстро и уже через пару дней любила щенка всей душой. Соседи возражать не стали, если, конечно, жить он будет у нас в комнате, и мы станем за ним убирать. На том и порешили.
Недовольна появлением Пифа, как мы его вскоре прозвали, осталась только Вера Гавриловна Жигулина. Но активно возражать не стала, так, ворчала, что неправильно, мол, это – собак в коммунальной квартире держать.
Через год Пиф вырос в средних размеров пса. Он оказался весьма любвеобилен, даже несколько истеричен: когда кто-нибудь приходил в гости, Пиф устраивал бешеную пляску радости, визжал, прыгал, норовил лизнуть в лицо, что нравилось далеко не всем. Это не помешало ему как-то проявить охранный инстинкт, когда к нам приехала погостить мамина племянница из Вильнюса. Пиф встретил ее, как и всех, восторженно, однако через пару дней, когда она, оставшись дома с ним одна, попробовала выйти в пальто и с сумкой в руках, лег поперек двери и зарычал. Лена вытащила из сумки деньги и документы, засунула в карман, а сумку положила на диван – Пиф завилял хвостом и выпустил. Вот поди, догадайся, откуда он это взял? Никто ведь его не учил охранять хозяйское добро.
Ну, а я с 15 лет узнал, что такое ответственность за другую жизнь: хочешь, не хочешь, дважды в день накормить пса и трижды вывести на прогулку необходимо. В дальнейшем вся наша с мамой жизнь строилась, исходя из этого графика.
Однажды ночью Пиф вдруг стал громко лаять с подвывом – как раз то, чего мы боялись едва ли не больше всего, так как голос у пса был громкий, слышно, наверно, и на других этажах. Разбуженные, мы вскочили и стали его унимать, а он все гавкал на дверь в коридор. И вдруг в промежутках лая мы услышали еле слышные стоны. У Веры Гавриловны случился сердечный приступ, а жила она одна, и услышал ее только Пиф. Вызвали «Скорую», и наш зверь стал героем-спасителем. После этого Вера Гавриловна воспылала к нему величайшей нежностью и всегда отдавала все вкусные косточки и мясные обрезки, обязательно присовокупляя какие-нибудь добрые слова.
Тогда все зачитывались книгами о природе. Только-только стали выходить произведения Даррелла, Гржимека, Лоренца и Адамсон, не отставали и наши – Акимушкин с Песковым. Я называю самых популярных, но были и другие, книги в мягких обложках серии «Приключения. Путешествия. Фантастика» шли нарасхват. В тогдашней всеобщей вечной замотанности они открывали дверь в другой мир.
В самом начале, еще задолго до Пифа у меня жили тритоны. Трехлитровую банку я оборудовал как аквариум – с промытым песком, растениями и ракушками. С живыми улитками вышла промашка: я купил на Птичьем рынке обязательных в любом тогдашнем аквариуме красных катушек, но едва они высунули из раковин свои усики, как тут же были сожраны тритонами.
После того как тритоны прожили у меня почти год, мама убедилась, что это не минутная блажь и разорилась на настоящий аквариум. Маленький, пятнадцатилитровый, но ведь это в пять раз больше чем банка! Да и стекла прямые, можно устроить хорошую подсветку. А когда посередине я поставил ярко-красную раковину морского гребешка с Баренцева моря, в сочетании с яркой зеленью, да еще и с переливающимися пузырьками воздуха, стало и вовсе замечательно. Мама была покорена.
Кстати, о пузырьках: воздушных компрессоров тогда не существовало. Для подачи воздуха в аквариум мы использовали резиновую камеру для мяча, которую накачивали грушей от парикмахерского пульверизатора. Нынче все эти предметы перешли в разряд забавной старины – из обихода исчезли и камеры с длинными сосками, и пульверизаторы с грушами.
Потом появились и первые аквариумные компрессоры, их изготавливали домашние умельцы из медицинского стеклянного шприца, поршень которого гонял туда-сюда через кривошипный механизм электродвигатель от проигрывателя, тоже забытого ныне прибора. Но такие компрессоры стоили дорого. Да самодельным было тогда практически все. Например, для подогрева воды раздобывали U-образную стеклянную трубку (у знакомых химиков или здесь же, на Птичьем), наливали в нее раствор поваренной соли (концентрацию взять из всеобъемлющей книги «Аквариумное рыбоводство», без которой тогда не обходился ни один владелец аквариума), к проводу с штепсельной вилкой прикрепляли на концах два графитовых стержня, выковырянных из старой плоской батарейки КБС, и опускали эти стержни в соляной раствор. При включении вилки в сеть это устройство подогревало воду довольно резво, вовремя не выключишь – все обитатели аквариума сварятся. Однажды по дороге в школу одноклассник Витька Немов вспомнил о включенном подогревателе около самой школы. Он запнулся на полуслове, бросился домой и прибежал на урок весь взмыленный и взъерошенный, опоздав на несколько минут. На вопрос «Успел?» – ответил «Двадцать шесть градусов», – то есть еще чуть-чуть и было бы поздно. Выволочку за опоздание Виктор не получил, учителя благоволили к аквариумной страсти, охватившей в какой-то момент едва ли не половину наших учеников (почему-то только мальчиков).
Единственное, что не нравилось маме в моем аквариуме, были тритоны. Она считала их страшными и некрасивыми. Да мне, в общем-то, и самому рыбки нравились больше. Просто так сложилось. Поэтому через какое-то время я своих тритонов кому-то сплавил, а на их месте поселились рыбки с улитками. Мама была в восторге, всех гостей обязательно водила на них смотреть, и они подолгу сидели, выключив в комнате свет, рассматривали и обсуждали моих гуппи, меченосцев, данио и неонов. В их-то детстве в аквариумах водились одни унылые золотые рыбки, не было ни зелени, ни подсветки.
Потом как-то мама уехала в отпуск, и мне впервые предстояло надолго остаться одному. В первые же выходные я отправился на Птичий рынок и привез домой 60-литровый аквариум. Оставленных на месяц денег как раз хватило на его оборудование и обзаведение рыбками. Ну, еще Пифа в питании я не ограничивал (он к тому времени уже жил в нашей семье), зато сам стал часто наведываться в гости к родственникам.
Новым аквариумом мама была покорена. Особенно ей нравились неоны и петушки, точнее – петушок, самочки этих рыб имеют скромный вид. Самец, который жил у нас, был моего любимого цвета – светло-синий с зеленоватым отливом, переходящим в серебро на концах похожих на шаль хвоста и плавников. Он постоянно ухаживал за самкой: выгибался перед ней напряженной дугой, растопыривал плавники, раздувал жабры и мелко-мелко трясся. Она, правда, оставалась к демонстрации его красот совершенно безучастной и проплывала мимо. А когда я подносил к стеклу маленькое зеркало, самец принимал угрожающие позы перед своим отражением. Он так же растопыривался и трясся, а потом делал резкий бросок, ударялся боком о стекло и растерянно отплывал.
Когда петушок стал строить гнездо, поглядеть на такое диво стали по очереди приходить все соседи, даже живущий совершенным бирюком Николай Розов. Эти рыбки делают гнездо из пены: заглатывают воздух, а потом выдувают на поверхность пузырек из своей слюны. Постепенно получается шапка белой пены, она довольно прочная и держится несколько дней. К этому времени у самочки заметно раздулось брюшко, она потемнела и стала избегать встреч с кавалером, но он периодически отрывался от гнезда, разыскивал ее и все самозабвеннее исполнял свой испанский танец. И в один из вечеров петушки стали метать икру.
Я сам видел это впервые, но на зрелище собралась вся наша десятая квартира. Оно стоило того: самец в неистовом напряжении дрожал перед самкой, расщеперивая свои плавники выше всякой возможности, причем в гамме оттенков кое-где появлялись красные стрелки. Самка уже не убегала от него, а плавала рядом, кружилась, приближалась, касалась боком, и в этот момент самец свивался в кольцо, плотно обнимая ее своим телом, и сильно сжимал. Из брюшка самки выдавливались несколько белых икринок, которые медленно опускались в толще воды. Самец распрямлялся, подхватывал их ртом, подплывал к гнезду и аккуратно запихивал в пену. Самка же кверху брюхом опускалась на дно, скрюченная судорогой, окостенелая, ну точь-в-точь мертвая. Признаки жизни возвращались к ней через несколько минут. Она слабо шевелила плавниками, переворачивалась в нормальное положение, делала одно-два движения хвостом и постепенно начинала плавать. В это время самец, закончив размещать в гнезде икру, отправлялся на ее поиски, и все начиналось опять.
В те времена мы не были избалованы прекрасными фильмами и фотографиями природы, но черно-белые телепередачи «В мире животных» уже стали одними из самых любимых, однако они шли раз в неделю. А тут такое кино! Ясно, что соседи смотрели, пока оно не кончилось, и долгое время спустя задавали мне на кухне вопросы про рыбок.
А потом, после второго курса, летом я поехал на целину и там увидел сурков, они жили большими колониями почти сразу за домами, метрах в двухстах от границы совхоза. Свободного времени оставалось мало, мы урабатывались в лежку, но все же какой-то досуг имелся. И я стал делать вылазки за край поселка, где подолгу смотрел на сурков, как они деловито сновали около своих норок, одни стояли желто-песочными столбиками, глядя по сторонам, другие перебегали с места на место, смешно подбрасывая толстые задики. Звери были такие милые и забавные, естественно мне сразу же захотелось такого завести, тем более, что благодаря общеизвестной бетховенской песенке я знал, как они хорошо приручаются и живут у людей. Конечно, все мои попытки поймать сурка увенчались полным фиаско: не только я следил за сурками, но и они за мной. Служба безопасности в их поселке была на высоте, кто-то всегда стоял в дозоре, при любой моей попытке приблизиться раздавался резкий тревожный звук – не то писк, не то свист, и вся братия, задрав хвосты, сигала в норки. Да и зверолов из меня аховый: никакой практики, кроме ловли сачком тритонов и прочей мелкой водяной живности в активе не имелось. Подойдя после тревоги к месту, где только что паслось множество сурков, я мог увидеть только блестящие глаза в темной глубине некоторых норок. Тревога тревогой, но сурки – ребята любопытные.
Так бы оно и кончилось ничем, но ближе к концу нашего пребывания на целине я подружился с местными ребятишками. Они почему-то сильно ко мне привязались, приходили к концу рабочего дня на стройку, сидели и дожидались, только чтобы проводить до лагеря, этим, собственно, наше общение и ограничивалось. И однажды старшая из них, девяти- или десятилетняя Тамара, пришла, держа на руках сурка. Скорее, сурчонка – размером он был не больше половины взрослого матерого сурчины. Как он к ней попал, я уже не помню, но родители были против такого баловства (как и у всей остальной компании), и что с ним делать, она не знала. В общем, история повторялась.
Я, естественно, не размышлял ни минуты, другие ребята из нашей комнаты тоже ничего против не имели, и сурок, переименованный из Сýрки в Мишку, поселился в нашем общежитии. Содержать его оказалось просто. Никаких особых разносолов на советской целине, естественно, не было, но Мишке хватало небольшого количества морковки и яблок. Что-то я давал ему еще, но сейчас уже не вспомню. А вот назначение блюдечка с песком Мишка осознал сразу, и правила пользования своей уборной соблюдал неукоснительно. Когда уходили на работу, его сажали в ящик, а в обед и вечером сурку дозволялось свободно ходить по комнате, чем он и занимался, деловито обследуя все закоулки и довольно бесцеремонно отодвигая боком, если это требовалось, наши ноги или другие предметы. На руки шел легко и любил сидеть у кого-нибудь на коленях или за пазухой, иногда отправляясь в путешествие по одежным закоулкам, и затихал, где потеплее – под мышкой, в рукаве или за спиной. Когда я впервые рассмотрел сурка вблизи, удивили его резцы – верхние могучие, желтоватого костяного цвета, а нижние поменьше и подвижные, он мог их раздвигать и сдвигать. Но самое потешное, это как Мишка ел крупную еду. Обычно я кормил его из мисочки, нарезав овощи мелкими кусочками. Но если сурок получал целую морковь или ломоть яблока, он усаживался вертикально на свою толстую попу, а еду держал перед собой передними четырехпалыми лапками – их так и подмывает назвать ручками, деловито поворачивая нужной стороной. Я не помню никого, кто не прыснул бы, глядя на это зрелище.
С мамой все повторилось, как и в предыдущий раз. Укоризненно охнув и задав все положенные вопросы – чем я думал, и как все это себе представляю, она уже через полчаса восторженно нянькалась с новым членом семьи, гладила, умилялась, восторгалась и приглашала по телефону подруг – посмотреть. Соседи и соседки тоже зашли по очереди. В целом к этой затее они отнеслись как к очередному нашему чудачеству, но получили клятвенные заверения, что за пределы нашей жилплощади животное выходить не будет, а также что оно в ближайшие дни будет предъявлено ветеринару. На том и успокоились. Нужно сказать, что Мишка четко делил людей на своих и чужих. Со своими он держался свободно и раскованно, заигрывал, шел на руки, исследовал руки, лицо и одежду, трогая лапками и слегка покусывая. А еще он иногда бодался, упираясь лобастой головой. Когда же приходил кто-то чужой, сурок предпочитал отсиживаться в укромном месте, а будучи водворен на середину комнаты для показа, сидел, сгорбившись, и демонстрировал полную безучастность. Так что в полной мере оценить все его очарование могли немногие.
Кто точно не обрадовался сурку, так это Пиф. Враждебности, впрочем, не выказал и при первом знакомстве подошел, чтобы обнюхать. Мишка (весь-то размером дай Бог, если с пифскую голову) безбоязненно встал на задние лапы, прижал передние, сжав их кулачками, к груди, и в такой позе пошел навстречу, громко квохча, как будто часто кашляя. Пиф понуро отвернулся и ушел, не стал связываться с мелким. В дальнейшем он показал себя в высшей степени джентльменом. Дело в том, что когда пес получал свою еду и начинал чавкать, сурок обязательно бежал проинспектировать ситуацию и запросто лез в собачью миску. Ничего съедобного для себя он там обнаружить не мог, но какая собака стерпит подобную бесцеремонность? Пиф терпел. Иногда рычал, но не более того. Даже зубов никогда не скалил. Поэтому мы быстро выработали нужный алгоритм кормежки: первым свое блюдце получал Мишка, а уже потом, когда он всецело погружался в процесс, мы выдавали миску Пифу. Так вот и жили.
Самое интересное связанное с Мишкой зрелище, которое мне посчастливилось увидеть, случилось только однажды. Я пришел из института сильно уставший и прилег отдохнуть. Быстро заснул, а когда проснулся, в комнате было уже темно. Я лежал, не спеша расстаться с дремой, и вдруг увидел нашего сурка, который крался по комнате, часто останавливаясь и косясь на меня. Он явно хотел действовать скрытно. Я прикрыл глаза и прикинулся спящим.
Мишка убедился в моей неподвижности и так же тихо проследовал до окна. Там он встал вертикально, а передними лапками и зубами вцепился в штору, высоко, как только мог дотянуться. После этого он начал отходить назад, оттягивая штору от окна. Зверек тянулся, вставал на цыпочки (насколько это выражение применимо к сурку), а потом резко поджал задние лапы, и, качнувшись на шторе, плюхнулся всем телом о стену. Я еле удержался, чтобы не фыркнуть. Мишка замер, внимательно глядя на меня, но подвоха не усмотрел, и повторил свое упражнение еще раз или два. Мне бы и в голову не пришло ругать его за это, но как объяснить? Сурок явно считал, что действует противозаконно, поэтому больше никогда ни я, ни мама, такого не видели. Может быть, он проделывал это в наше отсутствие, или когда мы спали?
Вскоре, к сожалению, Мишкину свободу пришлось ограничить. С наступлением зимы суркам положено впадать в спячку, но в теплой квартире его организм не получил нужных сигналов, и зверь наш остался бодрствовать. Зато он начал грызть все подряд, все, до чего мог дотянуться – мебель, книги, одежду на вешалке. В нашем присутствии он вел себя паинькой, если что и грыз, так только выданную ему специально для этого толстую палку. Однако придя домой после недолгого отсутствия можно было обнаружить посреди комнаты ворох мелко нагрызенной бумаги или деревянную труху. Что именно из семейного имущества Мишка истребил в очередной раз, не составляло труда узнать. Уговоры и шлепки с тыканьем мордой в результаты преступной деятельности результата не возымели. Сурок просто не понимал, чего от него хотят, обижался, забивался в угол, долго сидел там неподвижно, а потом вылезал и шел мириться. Ну можно было на него после этого злиться долго?
После очередного такого демарша я купил несколько листов ДСП и сколотил из них высокий ящик, куда мы и водворяли Михаила, когда он оставался в доме один. Вскоре, правда, он обнаружил, что ДСП вполне поддается его зубам, прогрыз в ящике дырку и вылез наружу. Но мы уже были начеку. Я спустился вниз, в нашу подворотню, общую с рыбным магазином. Там всегда штабелем лежали ящики из-под рыбы. Вот досками от этих ящиков я и стал заколачивать прогрызенные Мишкой дырки, установив этакое динамическое равновесие: он грыз, я заколачивал. У меня получалось быстрее. Ну, а когда кто-то из нас был дома, Мишка получал полную – в пределах сорока пяти квадратных метров – свободу. Он иногда пытался проказить, но нескольких слов строгим голосом было достаточно, чтобы его остановить. Однако несколько старых вещей до сих пор несут на себе следы сурочьих зубов.
За зиму сурок подрос и окреп. Он еще не набрал полного размера взрослого сурка, но стал заметно больше. Я понял, что куда-нибудь уехать, оставив маму с ним и Пифом, будет невозможно, она не управится. А куда ж его девать, такого хорошего и любимого? Проведя около месяца в душевных терзаниях, я как-то поделился ими с Анной Николаевной, тренером по подводному плаванию, тоже страстной любительницей разнообразного зверья и соответствующей литературы. Она и секунды не размышляла: «Так его моя мама с удовольствием возьмет. Она сейчас как раз гостит у меня, а на днях возвращается домой, в Крым. Хочешь, я с ней поговорю?» Я и мечтать не мог о таком счастье: Мишка будет жить на природе, копать землю, засыпать на зиму. При всей взаимной любви мы за это время хорошо поняли, что московская квартира – неподходящее место для содержания сурка, если вы, конечно, хотите, чтобы ему было хорошо.
Когда мы приехали с сурком в клеенчатой сумке и вынули наше чудо на свет Божий, Мария Алексеевна ахнула, запричитала, сразу стала его гладить, тискать и клятвенно заверять нас, как будет о нем заботиться и как ему будет хорошо у нее в Раздольном. Я еще раз погладил своего сурка, мы попрощались и уехали, не приняв приглашения выпить чаю. Было очень грустно.
Дома Пиф, как всегда радостно встретил нас, а потом, поняв, что мы приехали без Мишки, вдруг поскучнел, отошел и лег в дальнем углу. Он еще несколько дней ходил по дому какой-то потерянный, нюхал разные закоулки, а возвращаясь с прогулки, сразу обегал всю комнату, заглядывая в укромные места. Наверно пес, как и мы, привязался к этому очаровательному разбойнику.
Ну вот, у меня тоже получилось грустно. Аргунова права, рассказы о любимых сурках выходят печальными. Наверно, всему виной Бетховен, заложивший своей простой мелодией некий культурный код? А может быть, он просто первый, кто почувствовал светлую грусть, которую навевают нам эти зверьки, будучи прирученными?
***
В августе того же года я с друзьями, отработав летнюю практику в Москве, отправился в поход по Крыму. Нас было трое парней и Таня. Я уже тогда твердо догадывался, что она впоследствии станет моей женой. Однако представить себе день, когда мы отметим сорокалетие нашей свадьбы, случившийся аккурат позавчера, было еще совершенно невозможно. Пробыв с нашими палатками несколько дней под Алуштой, мы поехали на западную, степную часть полуострова, к мысу Тарханкут. Но прежде в наших планах стояло Раздольное. Оно располагается не на побережье, от него до моря ездят на автобусе. Поэтому место не курортное, отдыхающим мало знакомое.
Приехав на автобусе на центральную площадь, мы быстро нашли нужный дом – Марию Алексеевну Нелидову, врача горбольницы на пенсии, в поселке знали хорошо. К калитке подошла другая женщина, моложе, чертами лица сразу напомнившая мне Анну Николаевну. Явились мы без предупреждения, и я стал как-то путано объяснять, кто мы и зачем приехали, однако женщина сразу все поняла: «Вы – Мишкины родственники. Заходите, давайте знакомиться».
Она провела нас в дом, велела скидывать рюкзаки, мыть руки и готовиться к обеду – как будто только нас и ждали. Валентина Николаевна, средняя из трех сестер Нелидовых, жила сейчас в Раздольном с мамой и двумя племянницами – Оксаной и Олесей, дочками младшей сестры, Ирины, работавшей в Евпатории. Мария Алексеевна отлучилась по делам и вот-вот будет. А пока нас повели в сад и стали знакомить с прочими обитателями нелидовского подворья. Их оказалась, кроме двух собак и нескольких кошек, целая компания, почти все – звери-инвалиды, вылеченные Марией Алексеевной, но по разным причинам неспособные к вольной жизни. Две чайки, лисенок, два журавля. Одного принесли ребятишки – он попал ногой в капкан. Когда его притащили, голень была переломлена полностью, нога болталась на коже, ее оставалось только отрезать. Однако сейчас журавль гулял по двору почти что «как ни в чем не бывало», опираясь одной ногой на протез – полиэтиленовую детскую шпагу. Валентина Николаевна рассказала, что протез подбирали долго, годным оказался только четвертый. Зато теперь Журка свободно ходит, только взлететь не может с такой ногой, разбег не получается. Каждый раз падает и бьется грудью о землю. Поэтому ему подрезают маховые перья – от соблазна. А второй журавль (может, журавлиха?) остался за компанию.
По дорожке к нам уже спешила Мария Алексеевна, девочки рассказали ей о посетителях. «Здравствуйте, здравствуйте! Пойдемте, Мишеньку покажу».
Мишка жил самостоятельно в своем конце сада. Я издали увидел его песочного цвета шкурку в конце дорожки. Заметив нашу компанию, сурок развернулся, пробежал к нам несколько шагов сурчиным перевальчатым галопом, потом встал на задние лапы и пошел навстречу. Впереди шла Таня, протягивая к нему руки: «Миша, Мишенька!»
Никто ничего не успел сообразить, Таня вскрикнула, дернула руку вверх – на ней висел вцепившийся Мишка. Длинные резцы прокусили кожу в основании правого указательного пальца насквозь. Мы с Марией Алексеевной расцепили сурчиные зубы, я держал Мишку в руках, строго спрашивая: «Ты что же, стервец, делаешь? Разве так можно?» – он был совершенно спокоен, не вырывался, не пытался меня укусить. Но и не ластился, как раньше.
Мария Алексеевна ужасно разволновалась, успокаивала нас: «Вы не бойтесь, у него зубки не грязные, я их чищу», – выдала Тане бутыль с настоем софоры, вату и велела прикладывать к ранке.
Софора – чудесное средство. Кожа затянулась прямо на глазах, вечером того дня Таня уже устроила постирушку, воспользовавшись нашим пребыванием в цивилизованном месте. Мы погостили у Нелидовых недолго, на следующий день распрощались и поехали дальше.
Больше я своего сурка никогда не видел. От Анны Николаевны знал, что он прожил в Раздольном еще немало лет. Выкопал в конце сада настоящую нору, куда забирался спать на зиму. Он заматерел и вовсе одичал, не желал знать никого, кроме Марии Алексеевны, да и та могла лишь подходить к норе, на руки Мишка не давался.
Прошло больше сорока лет. Давным-давно нет моей мамы. Мария Алексеевна и три ее дочери умерли, Олеся с Оксаной давно сами мамы, а может, уже и бабушки. Во всяком случае, одну из внучек Ирины Николаевны я видел, когда они приезжали в Москву на похороны Анны.
А палец, прокушенный Мишкой, у Тани гнется чуть хуже остальных. Отметины от укуса практически не заметно, но на ощупь чувствуется.
Решил, что наверно, все-таки, стоит. Потому что любовь – она и есть любовь. У каждого своя, и у всех разная. А я своего Мишку очень любил.
Прожил он у нас еще меньше, чем Тишка у Норы Борисовны – всего-то полгода. Я привез его с целины, где работал в стройотряде после второго курса. Дома уже жил трехгодовалый Пиф, дворняга с явным преобладанием овчарочьих кровей, но – уши лежали разлапистыми лопухами, и туловище было длинновато (Ваня Босак, сослуживец, говорил про таких собак, что у них лишняя шпация. Ваня был кораблестроителем и тоже очень любил зверей, а шпацией в судостроении называется расстояние между шпангоутами судна. Но это было совсем в другой жизни, позже).
Пифа я привез из пионерского лагеря, где провел целое лето перед десятым классом. Я там не отдыхал, а работал – вел авиамодельный кружок. Называлось это – пионер-инструктор. За такую работу полагалась бесплатная путевка, что для мамы с ее вечным безденежьем было очень важно: я оказывался пристроен на все лето. А про собак она часто с тоской говорила, что всю жизнь мечтала, но завести никак не решалась – ответственность, соседи (мы жили в коммуналке на семь семей) и все та же нехватка денег.
Я был уже инструктором со стажем, работал таким образом второе лето. Поэтому сразу ставил себя на одну доску с вожатыми, жил не в отряде, режим не соблюдал, и вообще держался взрослым. Поэтому, хоть лет мне было меньше, чем многим пионерам первого отряда, они меня слушались и вне кружка. Я, правда, властью не злоупотреблял, ибо догадывался, что если зарваться, то побьют, и на этом весь мой авторитет кончится.
И вот как-то один кружковец меня спрашивает: «Тебе щенок не нужен?» – оказалось, он взял у местных из деревни, а домой везти не разрешили.
Беспомощный серый комок с тонким хвостиком, очутившись в моих руках, сразу схватил мой палец слюнявым ротишкой с ребристым нёбом и стал сосать. Оказалось, голодный: взять-то парень его взял, но уже больше суток не кормил – не нашел в лагере, чем и как. Еще ничего не решив, я бросился спасать маленького: взял на кухне молока, налил в блюдце и пододвинул к щенячьей мордочке. Ничего не вышло, песик был еще слишком мал, чтобы лакать из блюдца. Он очень разволновался, залез в блюдце всеми четырьмя лапами, весь извозился в молоке, тыкался, скулил, но пить не получалось.
Выяснив, что ближайшая аптека находится около железнодорожной станции Тучково, я рванул туда за соской, вовсе не будучи уверен, что найду ее: в советские времена в дефиците могло оказаться все, что угодно. Однако, соски в наличии были, и бутылочки тоже. Я вернулся, налил молоко в бутылочку (догадавшись его чуть подогреть), и сунул щенку в рот. Он сразу, захлебываясь, принялся сосать, причмокивая и дергая соску в стороны, и его розовое пузико стало ощутимо разбухать в моей ладони. Налопался, засопел и заснул. Я держал его на руках и перебирал пальцами мягкие лапки с крохотными коготками, тоненькие шелковистые ушки листиками, дотрагивался до короткой шерстки на раздвоенной передней губе и пухлых брыльях. Я уже знал, что повезу его в Москву. Мама, наверно, обрадуется: хотела же собаку, просто духу не хватало.
Так оно, примерно, и вышло. Вначале мама, конечно, ахнула, когда увидела меня на вокзале: за спиной рюкзак и сумка с авиамодельными причиндалами, в одной руке гитара, в другой фюзеляж модели-копии По-2 больше метра длиной, а из-за пазухи щенячья морда торчит. Она только спросила: «Как же мы будем с ним жить?» – на что я сказал: «Увидишь, ты привыкнешь».
Она, действительно, привыкла очень быстро и уже через пару дней любила щенка всей душой. Соседи возражать не стали, если, конечно, жить он будет у нас в комнате, и мы станем за ним убирать. На том и порешили.
Недовольна появлением Пифа, как мы его вскоре прозвали, осталась только Вера Гавриловна Жигулина. Но активно возражать не стала, так, ворчала, что неправильно, мол, это – собак в коммунальной квартире держать.
Через год Пиф вырос в средних размеров пса. Он оказался весьма любвеобилен, даже несколько истеричен: когда кто-нибудь приходил в гости, Пиф устраивал бешеную пляску радости, визжал, прыгал, норовил лизнуть в лицо, что нравилось далеко не всем. Это не помешало ему как-то проявить охранный инстинкт, когда к нам приехала погостить мамина племянница из Вильнюса. Пиф встретил ее, как и всех, восторженно, однако через пару дней, когда она, оставшись дома с ним одна, попробовала выйти в пальто и с сумкой в руках, лег поперек двери и зарычал. Лена вытащила из сумки деньги и документы, засунула в карман, а сумку положила на диван – Пиф завилял хвостом и выпустил. Вот поди, догадайся, откуда он это взял? Никто ведь его не учил охранять хозяйское добро.
Ну, а я с 15 лет узнал, что такое ответственность за другую жизнь: хочешь, не хочешь, дважды в день накормить пса и трижды вывести на прогулку необходимо. В дальнейшем вся наша с мамой жизнь строилась, исходя из этого графика.
Однажды ночью Пиф вдруг стал громко лаять с подвывом – как раз то, чего мы боялись едва ли не больше всего, так как голос у пса был громкий, слышно, наверно, и на других этажах. Разбуженные, мы вскочили и стали его унимать, а он все гавкал на дверь в коридор. И вдруг в промежутках лая мы услышали еле слышные стоны. У Веры Гавриловны случился сердечный приступ, а жила она одна, и услышал ее только Пиф. Вызвали «Скорую», и наш зверь стал героем-спасителем. После этого Вера Гавриловна воспылала к нему величайшей нежностью и всегда отдавала все вкусные косточки и мясные обрезки, обязательно присовокупляя какие-нибудь добрые слова.
Тогда все зачитывались книгами о природе. Только-только стали выходить произведения Даррелла, Гржимека, Лоренца и Адамсон, не отставали и наши – Акимушкин с Песковым. Я называю самых популярных, но были и другие, книги в мягких обложках серии «Приключения. Путешествия. Фантастика» шли нарасхват. В тогдашней всеобщей вечной замотанности они открывали дверь в другой мир.
В самом начале, еще задолго до Пифа у меня жили тритоны. Трехлитровую банку я оборудовал как аквариум – с промытым песком, растениями и ракушками. С живыми улитками вышла промашка: я купил на Птичьем рынке обязательных в любом тогдашнем аквариуме красных катушек, но едва они высунули из раковин свои усики, как тут же были сожраны тритонами.
После того как тритоны прожили у меня почти год, мама убедилась, что это не минутная блажь и разорилась на настоящий аквариум. Маленький, пятнадцатилитровый, но ведь это в пять раз больше чем банка! Да и стекла прямые, можно устроить хорошую подсветку. А когда посередине я поставил ярко-красную раковину морского гребешка с Баренцева моря, в сочетании с яркой зеленью, да еще и с переливающимися пузырьками воздуха, стало и вовсе замечательно. Мама была покорена.
Кстати, о пузырьках: воздушных компрессоров тогда не существовало. Для подачи воздуха в аквариум мы использовали резиновую камеру для мяча, которую накачивали грушей от парикмахерского пульверизатора. Нынче все эти предметы перешли в разряд забавной старины – из обихода исчезли и камеры с длинными сосками, и пульверизаторы с грушами.
Потом появились и первые аквариумные компрессоры, их изготавливали домашние умельцы из медицинского стеклянного шприца, поршень которого гонял туда-сюда через кривошипный механизм электродвигатель от проигрывателя, тоже забытого ныне прибора. Но такие компрессоры стоили дорого. Да самодельным было тогда практически все. Например, для подогрева воды раздобывали U-образную стеклянную трубку (у знакомых химиков или здесь же, на Птичьем), наливали в нее раствор поваренной соли (концентрацию взять из всеобъемлющей книги «Аквариумное рыбоводство», без которой тогда не обходился ни один владелец аквариума), к проводу с штепсельной вилкой прикрепляли на концах два графитовых стержня, выковырянных из старой плоской батарейки КБС, и опускали эти стержни в соляной раствор. При включении вилки в сеть это устройство подогревало воду довольно резво, вовремя не выключишь – все обитатели аквариума сварятся. Однажды по дороге в школу одноклассник Витька Немов вспомнил о включенном подогревателе около самой школы. Он запнулся на полуслове, бросился домой и прибежал на урок весь взмыленный и взъерошенный, опоздав на несколько минут. На вопрос «Успел?» – ответил «Двадцать шесть градусов», – то есть еще чуть-чуть и было бы поздно. Выволочку за опоздание Виктор не получил, учителя благоволили к аквариумной страсти, охватившей в какой-то момент едва ли не половину наших учеников (почему-то только мальчиков).
Единственное, что не нравилось маме в моем аквариуме, были тритоны. Она считала их страшными и некрасивыми. Да мне, в общем-то, и самому рыбки нравились больше. Просто так сложилось. Поэтому через какое-то время я своих тритонов кому-то сплавил, а на их месте поселились рыбки с улитками. Мама была в восторге, всех гостей обязательно водила на них смотреть, и они подолгу сидели, выключив в комнате свет, рассматривали и обсуждали моих гуппи, меченосцев, данио и неонов. В их-то детстве в аквариумах водились одни унылые золотые рыбки, не было ни зелени, ни подсветки.
Потом как-то мама уехала в отпуск, и мне впервые предстояло надолго остаться одному. В первые же выходные я отправился на Птичий рынок и привез домой 60-литровый аквариум. Оставленных на месяц денег как раз хватило на его оборудование и обзаведение рыбками. Ну, еще Пифа в питании я не ограничивал (он к тому времени уже жил в нашей семье), зато сам стал часто наведываться в гости к родственникам.
Новым аквариумом мама была покорена. Особенно ей нравились неоны и петушки, точнее – петушок, самочки этих рыб имеют скромный вид. Самец, который жил у нас, был моего любимого цвета – светло-синий с зеленоватым отливом, переходящим в серебро на концах похожих на шаль хвоста и плавников. Он постоянно ухаживал за самкой: выгибался перед ней напряженной дугой, растопыривал плавники, раздувал жабры и мелко-мелко трясся. Она, правда, оставалась к демонстрации его красот совершенно безучастной и проплывала мимо. А когда я подносил к стеклу маленькое зеркало, самец принимал угрожающие позы перед своим отражением. Он так же растопыривался и трясся, а потом делал резкий бросок, ударялся боком о стекло и растерянно отплывал.
Когда петушок стал строить гнездо, поглядеть на такое диво стали по очереди приходить все соседи, даже живущий совершенным бирюком Николай Розов. Эти рыбки делают гнездо из пены: заглатывают воздух, а потом выдувают на поверхность пузырек из своей слюны. Постепенно получается шапка белой пены, она довольно прочная и держится несколько дней. К этому времени у самочки заметно раздулось брюшко, она потемнела и стала избегать встреч с кавалером, но он периодически отрывался от гнезда, разыскивал ее и все самозабвеннее исполнял свой испанский танец. И в один из вечеров петушки стали метать икру.
Я сам видел это впервые, но на зрелище собралась вся наша десятая квартира. Оно стоило того: самец в неистовом напряжении дрожал перед самкой, расщеперивая свои плавники выше всякой возможности, причем в гамме оттенков кое-где появлялись красные стрелки. Самка уже не убегала от него, а плавала рядом, кружилась, приближалась, касалась боком, и в этот момент самец свивался в кольцо, плотно обнимая ее своим телом, и сильно сжимал. Из брюшка самки выдавливались несколько белых икринок, которые медленно опускались в толще воды. Самец распрямлялся, подхватывал их ртом, подплывал к гнезду и аккуратно запихивал в пену. Самка же кверху брюхом опускалась на дно, скрюченная судорогой, окостенелая, ну точь-в-точь мертвая. Признаки жизни возвращались к ней через несколько минут. Она слабо шевелила плавниками, переворачивалась в нормальное положение, делала одно-два движения хвостом и постепенно начинала плавать. В это время самец, закончив размещать в гнезде икру, отправлялся на ее поиски, и все начиналось опять.
В те времена мы не были избалованы прекрасными фильмами и фотографиями природы, но черно-белые телепередачи «В мире животных» уже стали одними из самых любимых, однако они шли раз в неделю. А тут такое кино! Ясно, что соседи смотрели, пока оно не кончилось, и долгое время спустя задавали мне на кухне вопросы про рыбок.
А потом, после второго курса, летом я поехал на целину и там увидел сурков, они жили большими колониями почти сразу за домами, метрах в двухстах от границы совхоза. Свободного времени оставалось мало, мы урабатывались в лежку, но все же какой-то досуг имелся. И я стал делать вылазки за край поселка, где подолгу смотрел на сурков, как они деловито сновали около своих норок, одни стояли желто-песочными столбиками, глядя по сторонам, другие перебегали с места на место, смешно подбрасывая толстые задики. Звери были такие милые и забавные, естественно мне сразу же захотелось такого завести, тем более, что благодаря общеизвестной бетховенской песенке я знал, как они хорошо приручаются и живут у людей. Конечно, все мои попытки поймать сурка увенчались полным фиаско: не только я следил за сурками, но и они за мной. Служба безопасности в их поселке была на высоте, кто-то всегда стоял в дозоре, при любой моей попытке приблизиться раздавался резкий тревожный звук – не то писк, не то свист, и вся братия, задрав хвосты, сигала в норки. Да и зверолов из меня аховый: никакой практики, кроме ловли сачком тритонов и прочей мелкой водяной живности в активе не имелось. Подойдя после тревоги к месту, где только что паслось множество сурков, я мог увидеть только блестящие глаза в темной глубине некоторых норок. Тревога тревогой, но сурки – ребята любопытные.
Так бы оно и кончилось ничем, но ближе к концу нашего пребывания на целине я подружился с местными ребятишками. Они почему-то сильно ко мне привязались, приходили к концу рабочего дня на стройку, сидели и дожидались, только чтобы проводить до лагеря, этим, собственно, наше общение и ограничивалось. И однажды старшая из них, девяти- или десятилетняя Тамара, пришла, держа на руках сурка. Скорее, сурчонка – размером он был не больше половины взрослого матерого сурчины. Как он к ней попал, я уже не помню, но родители были против такого баловства (как и у всей остальной компании), и что с ним делать, она не знала. В общем, история повторялась.
Я, естественно, не размышлял ни минуты, другие ребята из нашей комнаты тоже ничего против не имели, и сурок, переименованный из Сýрки в Мишку, поселился в нашем общежитии. Содержать его оказалось просто. Никаких особых разносолов на советской целине, естественно, не было, но Мишке хватало небольшого количества морковки и яблок. Что-то я давал ему еще, но сейчас уже не вспомню. А вот назначение блюдечка с песком Мишка осознал сразу, и правила пользования своей уборной соблюдал неукоснительно. Когда уходили на работу, его сажали в ящик, а в обед и вечером сурку дозволялось свободно ходить по комнате, чем он и занимался, деловито обследуя все закоулки и довольно бесцеремонно отодвигая боком, если это требовалось, наши ноги или другие предметы. На руки шел легко и любил сидеть у кого-нибудь на коленях или за пазухой, иногда отправляясь в путешествие по одежным закоулкам, и затихал, где потеплее – под мышкой, в рукаве или за спиной. Когда я впервые рассмотрел сурка вблизи, удивили его резцы – верхние могучие, желтоватого костяного цвета, а нижние поменьше и подвижные, он мог их раздвигать и сдвигать. Но самое потешное, это как Мишка ел крупную еду. Обычно я кормил его из мисочки, нарезав овощи мелкими кусочками. Но если сурок получал целую морковь или ломоть яблока, он усаживался вертикально на свою толстую попу, а еду держал перед собой передними четырехпалыми лапками – их так и подмывает назвать ручками, деловито поворачивая нужной стороной. Я не помню никого, кто не прыснул бы, глядя на это зрелище.
С мамой все повторилось, как и в предыдущий раз. Укоризненно охнув и задав все положенные вопросы – чем я думал, и как все это себе представляю, она уже через полчаса восторженно нянькалась с новым членом семьи, гладила, умилялась, восторгалась и приглашала по телефону подруг – посмотреть. Соседи и соседки тоже зашли по очереди. В целом к этой затее они отнеслись как к очередному нашему чудачеству, но получили клятвенные заверения, что за пределы нашей жилплощади животное выходить не будет, а также что оно в ближайшие дни будет предъявлено ветеринару. На том и успокоились. Нужно сказать, что Мишка четко делил людей на своих и чужих. Со своими он держался свободно и раскованно, заигрывал, шел на руки, исследовал руки, лицо и одежду, трогая лапками и слегка покусывая. А еще он иногда бодался, упираясь лобастой головой. Когда же приходил кто-то чужой, сурок предпочитал отсиживаться в укромном месте, а будучи водворен на середину комнаты для показа, сидел, сгорбившись, и демонстрировал полную безучастность. Так что в полной мере оценить все его очарование могли немногие.
Кто точно не обрадовался сурку, так это Пиф. Враждебности, впрочем, не выказал и при первом знакомстве подошел, чтобы обнюхать. Мишка (весь-то размером дай Бог, если с пифскую голову) безбоязненно встал на задние лапы, прижал передние, сжав их кулачками, к груди, и в такой позе пошел навстречу, громко квохча, как будто часто кашляя. Пиф понуро отвернулся и ушел, не стал связываться с мелким. В дальнейшем он показал себя в высшей степени джентльменом. Дело в том, что когда пес получал свою еду и начинал чавкать, сурок обязательно бежал проинспектировать ситуацию и запросто лез в собачью миску. Ничего съедобного для себя он там обнаружить не мог, но какая собака стерпит подобную бесцеремонность? Пиф терпел. Иногда рычал, но не более того. Даже зубов никогда не скалил. Поэтому мы быстро выработали нужный алгоритм кормежки: первым свое блюдце получал Мишка, а уже потом, когда он всецело погружался в процесс, мы выдавали миску Пифу. Так вот и жили.
Самое интересное связанное с Мишкой зрелище, которое мне посчастливилось увидеть, случилось только однажды. Я пришел из института сильно уставший и прилег отдохнуть. Быстро заснул, а когда проснулся, в комнате было уже темно. Я лежал, не спеша расстаться с дремой, и вдруг увидел нашего сурка, который крался по комнате, часто останавливаясь и косясь на меня. Он явно хотел действовать скрытно. Я прикрыл глаза и прикинулся спящим.
Мишка убедился в моей неподвижности и так же тихо проследовал до окна. Там он встал вертикально, а передними лапками и зубами вцепился в штору, высоко, как только мог дотянуться. После этого он начал отходить назад, оттягивая штору от окна. Зверек тянулся, вставал на цыпочки (насколько это выражение применимо к сурку), а потом резко поджал задние лапы, и, качнувшись на шторе, плюхнулся всем телом о стену. Я еле удержался, чтобы не фыркнуть. Мишка замер, внимательно глядя на меня, но подвоха не усмотрел, и повторил свое упражнение еще раз или два. Мне бы и в голову не пришло ругать его за это, но как объяснить? Сурок явно считал, что действует противозаконно, поэтому больше никогда ни я, ни мама, такого не видели. Может быть, он проделывал это в наше отсутствие, или когда мы спали?
Вскоре, к сожалению, Мишкину свободу пришлось ограничить. С наступлением зимы суркам положено впадать в спячку, но в теплой квартире его организм не получил нужных сигналов, и зверь наш остался бодрствовать. Зато он начал грызть все подряд, все, до чего мог дотянуться – мебель, книги, одежду на вешалке. В нашем присутствии он вел себя паинькой, если что и грыз, так только выданную ему специально для этого толстую палку. Однако придя домой после недолгого отсутствия можно было обнаружить посреди комнаты ворох мелко нагрызенной бумаги или деревянную труху. Что именно из семейного имущества Мишка истребил в очередной раз, не составляло труда узнать. Уговоры и шлепки с тыканьем мордой в результаты преступной деятельности результата не возымели. Сурок просто не понимал, чего от него хотят, обижался, забивался в угол, долго сидел там неподвижно, а потом вылезал и шел мириться. Ну можно было на него после этого злиться долго?
После очередного такого демарша я купил несколько листов ДСП и сколотил из них высокий ящик, куда мы и водворяли Михаила, когда он оставался в доме один. Вскоре, правда, он обнаружил, что ДСП вполне поддается его зубам, прогрыз в ящике дырку и вылез наружу. Но мы уже были начеку. Я спустился вниз, в нашу подворотню, общую с рыбным магазином. Там всегда штабелем лежали ящики из-под рыбы. Вот досками от этих ящиков я и стал заколачивать прогрызенные Мишкой дырки, установив этакое динамическое равновесие: он грыз, я заколачивал. У меня получалось быстрее. Ну, а когда кто-то из нас был дома, Мишка получал полную – в пределах сорока пяти квадратных метров – свободу. Он иногда пытался проказить, но нескольких слов строгим голосом было достаточно, чтобы его остановить. Однако несколько старых вещей до сих пор несут на себе следы сурочьих зубов.
За зиму сурок подрос и окреп. Он еще не набрал полного размера взрослого сурка, но стал заметно больше. Я понял, что куда-нибудь уехать, оставив маму с ним и Пифом, будет невозможно, она не управится. А куда ж его девать, такого хорошего и любимого? Проведя около месяца в душевных терзаниях, я как-то поделился ими с Анной Николаевной, тренером по подводному плаванию, тоже страстной любительницей разнообразного зверья и соответствующей литературы. Она и секунды не размышляла: «Так его моя мама с удовольствием возьмет. Она сейчас как раз гостит у меня, а на днях возвращается домой, в Крым. Хочешь, я с ней поговорю?» Я и мечтать не мог о таком счастье: Мишка будет жить на природе, копать землю, засыпать на зиму. При всей взаимной любви мы за это время хорошо поняли, что московская квартира – неподходящее место для содержания сурка, если вы, конечно, хотите, чтобы ему было хорошо.
Когда мы приехали с сурком в клеенчатой сумке и вынули наше чудо на свет Божий, Мария Алексеевна ахнула, запричитала, сразу стала его гладить, тискать и клятвенно заверять нас, как будет о нем заботиться и как ему будет хорошо у нее в Раздольном. Я еще раз погладил своего сурка, мы попрощались и уехали, не приняв приглашения выпить чаю. Было очень грустно.
Дома Пиф, как всегда радостно встретил нас, а потом, поняв, что мы приехали без Мишки, вдруг поскучнел, отошел и лег в дальнем углу. Он еще несколько дней ходил по дому какой-то потерянный, нюхал разные закоулки, а возвращаясь с прогулки, сразу обегал всю комнату, заглядывая в укромные места. Наверно пес, как и мы, привязался к этому очаровательному разбойнику.
Ну вот, у меня тоже получилось грустно. Аргунова права, рассказы о любимых сурках выходят печальными. Наверно, всему виной Бетховен, заложивший своей простой мелодией некий культурный код? А может быть, он просто первый, кто почувствовал светлую грусть, которую навевают нам эти зверьки, будучи прирученными?
***
В августе того же года я с друзьями, отработав летнюю практику в Москве, отправился в поход по Крыму. Нас было трое парней и Таня. Я уже тогда твердо догадывался, что она впоследствии станет моей женой. Однако представить себе день, когда мы отметим сорокалетие нашей свадьбы, случившийся аккурат позавчера, было еще совершенно невозможно. Пробыв с нашими палатками несколько дней под Алуштой, мы поехали на западную, степную часть полуострова, к мысу Тарханкут. Но прежде в наших планах стояло Раздольное. Оно располагается не на побережье, от него до моря ездят на автобусе. Поэтому место не курортное, отдыхающим мало знакомое.
Приехав на автобусе на центральную площадь, мы быстро нашли нужный дом – Марию Алексеевну Нелидову, врача горбольницы на пенсии, в поселке знали хорошо. К калитке подошла другая женщина, моложе, чертами лица сразу напомнившая мне Анну Николаевну. Явились мы без предупреждения, и я стал как-то путано объяснять, кто мы и зачем приехали, однако женщина сразу все поняла: «Вы – Мишкины родственники. Заходите, давайте знакомиться».
Она провела нас в дом, велела скидывать рюкзаки, мыть руки и готовиться к обеду – как будто только нас и ждали. Валентина Николаевна, средняя из трех сестер Нелидовых, жила сейчас в Раздольном с мамой и двумя племянницами – Оксаной и Олесей, дочками младшей сестры, Ирины, работавшей в Евпатории. Мария Алексеевна отлучилась по делам и вот-вот будет. А пока нас повели в сад и стали знакомить с прочими обитателями нелидовского подворья. Их оказалась, кроме двух собак и нескольких кошек, целая компания, почти все – звери-инвалиды, вылеченные Марией Алексеевной, но по разным причинам неспособные к вольной жизни. Две чайки, лисенок, два журавля. Одного принесли ребятишки – он попал ногой в капкан. Когда его притащили, голень была переломлена полностью, нога болталась на коже, ее оставалось только отрезать. Однако сейчас журавль гулял по двору почти что «как ни в чем не бывало», опираясь одной ногой на протез – полиэтиленовую детскую шпагу. Валентина Николаевна рассказала, что протез подбирали долго, годным оказался только четвертый. Зато теперь Журка свободно ходит, только взлететь не может с такой ногой, разбег не получается. Каждый раз падает и бьется грудью о землю. Поэтому ему подрезают маховые перья – от соблазна. А второй журавль (может, журавлиха?) остался за компанию.
По дорожке к нам уже спешила Мария Алексеевна, девочки рассказали ей о посетителях. «Здравствуйте, здравствуйте! Пойдемте, Мишеньку покажу».
Мишка жил самостоятельно в своем конце сада. Я издали увидел его песочного цвета шкурку в конце дорожки. Заметив нашу компанию, сурок развернулся, пробежал к нам несколько шагов сурчиным перевальчатым галопом, потом встал на задние лапы и пошел навстречу. Впереди шла Таня, протягивая к нему руки: «Миша, Мишенька!»
Никто ничего не успел сообразить, Таня вскрикнула, дернула руку вверх – на ней висел вцепившийся Мишка. Длинные резцы прокусили кожу в основании правого указательного пальца насквозь. Мы с Марией Алексеевной расцепили сурчиные зубы, я держал Мишку в руках, строго спрашивая: «Ты что же, стервец, делаешь? Разве так можно?» – он был совершенно спокоен, не вырывался, не пытался меня укусить. Но и не ластился, как раньше.
Мария Алексеевна ужасно разволновалась, успокаивала нас: «Вы не бойтесь, у него зубки не грязные, я их чищу», – выдала Тане бутыль с настоем софоры, вату и велела прикладывать к ранке.
Софора – чудесное средство. Кожа затянулась прямо на глазах, вечером того дня Таня уже устроила постирушку, воспользовавшись нашим пребыванием в цивилизованном месте. Мы погостили у Нелидовых недолго, на следующий день распрощались и поехали дальше.
Больше я своего сурка никогда не видел. От Анны Николаевны знал, что он прожил в Раздольном еще немало лет. Выкопал в конце сада настоящую нору, куда забирался спать на зиму. Он заматерел и вовсе одичал, не желал знать никого, кроме Марии Алексеевны, да и та могла лишь подходить к норе, на руки Мишка не давался.
Прошло больше сорока лет. Давным-давно нет моей мамы. Мария Алексеевна и три ее дочери умерли, Олеся с Оксаной давно сами мамы, а может, уже и бабушки. Во всяком случае, одну из внучек Ирины Николаевны я видел, когда они приезжали в Москву на похороны Анны.
А палец, прокушенный Мишкой, у Тани гнется чуть хуже остальных. Отметины от укуса практически не заметно, но на ощупь чувствуется.
Сергей Смолицкий,
16-06-2012 19:53
(ссылка)
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
Два стихотворения. Разные, но о близком. Они явно перекликаются между собой, даже стиль похож, хотя, насколько я знаю, автор второго не читала первого; обратное предположить невозможно: стихотворение Маргариты Ивенсен написано в 1970-м, через двадцать лет после смерти Эдны Винсент Миллей, автора первого, и опубликовано только в 2003.
В каждом из них есть по одной безусловно гениальной строчке.
Эдна Винсент Миллей (Edna St. Vincent Millay, 1892-1950).
Детство – это не от рождения до времени,
Когда ребенок, став взрослым, бросает свои игрушки.
Детство – это царство, где никто не умирает,
Никто из близких.
Отдаленные родственники, конечно, умирают.
Те, кого не видят или видят редко.
Те, кто дарят конфеты в красивых коробках,
Перочинный нож и исчезают,
Как будто даже не существовали.
И кошки умирают. Ложатся на пол и бьют хвостом.
И волоски их шерсти шевелятся
От блох, раньше совсем незаметных.
Вы берете сапожный ящик, но он мал,
Так как кошка не свертывается,
Находите другой, побольше
И зарываете ее во дворе и плачете.
Но вы не просыпаетесь потом, спустя месяц,
Спустя год, два года, вдруг среди ночи
И не рыдаете, ломая пальцы, шепча: «О Боже, Боже!»
Детство – царство, где никто не умирает.
Никто из близких.
Матери и отцы не умирают.
И если вы скажете: «Зачем ты меня так часто целуешь?»
Или: «Перестань, пожалуйста, стучать по окну наперстком»,
Завтра или послезавтра, когда вы наиграетесь,
Еще будет время сказать: «Прости меня, мама!»
Стать взрослым, значит сидеть за столом с людьми,
Которые умерли, молчат и слышат,
И не пьют свой чай, хотя и говорили часто,
Что это их любимый напиток.
Сбегайте на погреб, достаньте последнюю банку малины
И она их не соблазнит, польстите им,
Спросите их, о чем они когда-то беседовали с епископом,
С попечителем бедных или с миссис Мейсон, –
И это их не заинтересует.
Кричите на них, побагровев, встаньте,
Встряхните их хорошенько за окоченевшие плечи,
Завопите на них, они не испугаются, не смутятся
И повалятся назад в кресла.
Ваш чай остыл. Вы пьете его стоя и покидаете дом.
Маргарита Ивенсен (1903-1977).
Ты в комнату войдешь, – меня не будет,
Я буду в том, что комната пуста,
Что зов твой – самый добрый, самый нежный,
Останется впервые без ответа:
Заговорит с тобою немота.
Но, как лады поломанной свирели,
Всё пробует рука с надеждой тщетной
Услышать строй навек умолкшей песни, –
Так снова позовешь ты. Но в ответ –
Молчанье. Вслух, быть может, вымолвишь:
«Проклятье!» И на это не отвечу.
Заплачешь ты, а я… не подойду.
Впервые. И тогда,
Тогда лишь ты поверишь,
Что нет меня, что нет меня навеки,
Что нет меня навеки на земле.
В каждом из них есть по одной безусловно гениальной строчке.
Эдна Винсент Миллей (Edna St. Vincent Millay, 1892-1950).
Детство – это не от рождения до времени,
Когда ребенок, став взрослым, бросает свои игрушки.
Детство – это царство, где никто не умирает,
Никто из близких.
Отдаленные родственники, конечно, умирают.
Те, кого не видят или видят редко.
Те, кто дарят конфеты в красивых коробках,
Перочинный нож и исчезают,
Как будто даже не существовали.
И кошки умирают. Ложатся на пол и бьют хвостом.
И волоски их шерсти шевелятся
От блох, раньше совсем незаметных.
Вы берете сапожный ящик, но он мал,
Так как кошка не свертывается,
Находите другой, побольше
И зарываете ее во дворе и плачете.
Но вы не просыпаетесь потом, спустя месяц,
Спустя год, два года, вдруг среди ночи
И не рыдаете, ломая пальцы, шепча: «О Боже, Боже!»
Детство – царство, где никто не умирает.
Никто из близких.
Матери и отцы не умирают.
И если вы скажете: «Зачем ты меня так часто целуешь?»
Или: «Перестань, пожалуйста, стучать по окну наперстком»,
Завтра или послезавтра, когда вы наиграетесь,
Еще будет время сказать: «Прости меня, мама!»
Стать взрослым, значит сидеть за столом с людьми,
Которые умерли, молчат и слышат,
И не пьют свой чай, хотя и говорили часто,
Что это их любимый напиток.
Сбегайте на погреб, достаньте последнюю банку малины
И она их не соблазнит, польстите им,
Спросите их, о чем они когда-то беседовали с епископом,
С попечителем бедных или с миссис Мейсон, –
И это их не заинтересует.
Кричите на них, побагровев, встаньте,
Встряхните их хорошенько за окоченевшие плечи,
Завопите на них, они не испугаются, не смутятся
И повалятся назад в кресла.
Ваш чай остыл. Вы пьете его стоя и покидаете дом.
Маргарита Ивенсен (1903-1977).
Ты в комнату войдешь, – меня не будет,
Я буду в том, что комната пуста,
Что зов твой – самый добрый, самый нежный,
Останется впервые без ответа:
Заговорит с тобою немота.
Но, как лады поломанной свирели,
Всё пробует рука с надеждой тщетной
Услышать строй навек умолкшей песни, –
Так снова позовешь ты. Но в ответ –
Молчанье. Вслух, быть может, вымолвишь:
«Проклятье!» И на это не отвечу.
Заплачешь ты, а я… не подойду.
Впервые. И тогда,
Тогда лишь ты поверишь,
Что нет меня, что нет меня навеки,
Что нет меня навеки на земле.
Сергей Смолицкий,
17-05-2012 20:56
(ссылка)
КАК Я РАБОТАЛ БЮРОКРАТОМ
или кое-что о точности ватерпасов
– Сергей Викторович, можно вас на минутку? Скажите, пожалуйста, что вам известно о ватерпасах?
Я слегка опешил, хотя уже стал понемногу привыкать к подобным неожиданным вопросам, задавать которые С-в был большой мастак.
Василий Борисович С-в – ведущий инженер отдела Газовых турбин Всесоюзного научно-исследовательского конструкторско-технологического института подшипниковой промышленности (ВНИПП), куда я попал работать по распределению после института, был моим непосредственным начальником. Собственно, выбрал это место я сам, но не без его помощи: в день распределения С-в приехал в МАТИ с поручением выбрать молодого специалиста и завлечь его в отдел. Предполагалось, что задача эта не из легких, потому что ВНИПП принадлежал к Министерству автомобильной промышленности, а выпускники МАТИ предназначались для работы в промышленности авиационной, где и технологии более передовые, и производство чище, и зарплаты выше. Однако для двух отделов ВНИППа – газовых турбин (ГТ) и самолетных подшипников – специалистов старались подбирать с авиационным образованием или из отставников ВВС. Я же после двух учебных практик на заводе «Ударник» (название изменено, подписку же давал, хоть и сорок лет прошло) проникся лютым отвращением к секретности и строгой проходной, а на авиационных заводах, как известно, эти стороны жизни соблюдаются намного серьезнее, чем в более демократичном автопроме. Кроме того, в те годы я находился под большим влиянием личности Альберта Швейцера и его идей, да и Толстого прочитал целиком. Поэтому всё, имевшее отношение к человекоубийству представлялось мне абсолютно безнравственным, а что львиная доля тогдашней продукции авиапрома предназначалась исключительно для военных целей, знали все. Термин ВПК еще не был в ходу, а, если и употреблялся где-нибудь, то исключительно по отношению к бряцавшим оружием империалистам, но мне не нравился и наш. Поэтому все последние курсы я только и мечтал, как бы сблызнуть в сторону с предназначенной мне колеи, но обойти распределение было никак невозможно. И вдруг – такая удача: приходит человек и совершенно официально зовет в немилитаристический автопром. В комиссии по распределению моему решению удивились очень, но отговаривать не стали. Да если и попробовали, не смогли бы. Тем более, что расписывая учреждение, куда он меня звал, Василий Борисович напирал на его научную комплексность – ведь Всесоюзный! Научно-исследовательский! Конструкторско-технологический! Обмануть меня не составило труда, ибо я был обманываться рад.
На поверку отдел ГТ ВНИПП оказался чисто бюрократическим заведением. Главной нашей задачей стояло – согласование ведомостей потребления подшипников. То есть, закрепленные за каждым сотрудником предприятия присылали поквартально упомянутые ведомости на каждое изделие (в переводе с секретного на русский в нашем случае – газотурбинный двигатель). В ведомости указывались типы установленных в изделии подшипников, условия их работы (радиальная и осевая нагрузки, обороты и температура), ресурс и потребное на квартал количество. В наши задачи входило а) в случае, если изделие являлось опытным, проверить расчет конструкторов на ресурс по известным еще из курсовых проектов формулам долговечности L=(C/P)^3 для шариковых подшипников и L=(C/P)^3,33 для роликовых, и б) сведение общих потребностей предприятий-потребителей с планами подшипниковых заводов, ибо экономика при социализме плановая. Если же изделие относилось к уже освоенным, ограничивались только вторым пунктом. Возведение в степень 3,33 выполнялось в те годы извлечением кубического корня (по таблицам Брадиса) из десятой степени числа (C/P), каковая находилась десятикратным умножением на арифмометре «Феликс», именуемом в народе «Железным Феликсом». Искусству громкого счета на этом агрегате я обучился тогда же – логарифмическая линейка для этих вычислений не годилась по причине недостаточной точности, а электронных калькуляторов не водилось в природе, только-только начали появляться электрические «Быстрицы» размером с пишущую машинку, но это чудо техники полагалось исключительно бухгалтерии. Когда спустя много лет, уже в компьютерную эру, я, работая в океанологии, притащил выкопанный где-то в хламе старенький «Феликс» в КБ и, поставив на стол, начал тарахтеть на нем, производя разные действия (особо эффектно выглядело деление, там кроме треска еще звоночек звенел), молодежь, от материнской груди выросшая на калькуляторах, с веселым удивлением собралась вокруг. Общее мнение высказал Андрей Гречко: – Сережа, у тебя всегда на черный день кусок хлеба есть. Если ты с этим прибором сядешь напротив японского посольства или представительства какой-нибудь «Майкрософт», подавать будут щедро.
В общем, являлись мы тем, что в технике зовется – паразитная шестерня: ни обороты, ни усилие не меняет, только передает вращение дальше. Потому что, опять-таки, изменить планы как моторных, так и подшипниковых заводов было не в наших силах. Мы лишь констатировали, что суммарные планы выпуска подшипников соответствуют их запросам, а где те планы составлялись, я до сих пор не знаю. В Госплане, наверно.
Здесь все же нужно сказать, что подшипники, которыми занимались в нашем и соседних отделах, были не абы какие. То есть внешне они почти ничем не отличались от ширпотребовских, но выпускались совсем по другим техническим условиям, и узнать об их высоком происхождении можно было по нескольким буковкам в названии. Но различались они не меньше, чем шампанское, подаваемое к столу английской королевы и то, что продается в наших супермаркетах под Новый год по семьдесят рублей за бутылку. И первое, чему я выучился во ВНИППе, это узнавать всю подноготную подшипников по их буквенно-цифровым названиям. Кстати, это умение не раз пригождалось в дальнейшем.
Следующей наукой, которой я овладел довольно скоро, было ведение документации. То есть я завел четыре папки: «Входящие», «Исходящие», «В работе» и «На контроле», в которых держал документы по мере их готовности. Канцелярским стилем овладел тоже быстро:
«Уважаемый NN! На ваш входящий №… от … июня 197. г. сообщаем, что, как мы уже отмечали в нашем №… от … 197.г., подшипники NNNN являются строго фондированным изделием и согласованными планами текущего года поставка дополнительных 100 штук не предусмотрена. Основания, изложенные в вашем письме, являются недостаточными, поэтому отпуск указанных подшипников сверх плана осуществлен быть не может. Главный конструктор Газаров». Для написания подобного рода писем я завел себе специальную алфавитную книжку с фамилиями, именами и отчествами всех директоров, главных конструкторов и главных инженеров курируемых предприятий, причем в вопиющем противоречии с правилами секретности открытые названия заводов и номера их почтовых ящиков писал там на одних и тех же страницах.
Еще в наши задачи входило исследование подшипников после их работы в составе изделий. Здесь тоже были варианты.
Испытания двигателей проводились разные. Бывали регулярные ресурсные, когда двигатель отрабатывал на стенде отпущенный ему по правилам эксплуатации срок (а в авиации моторесурс учитывается с точностью до минуты), после чего его разбирали на части, и все проверяли на соответствие ТУ. Подшипники же присылали нам, и их требовалось носить последовательно по лабораториям – метрологической, на замер твердости и дефектоскопию. И если из первых двух подшипник возвращали с аккуратно заполненными бланками, в которых вписывали результаты замеров, то дефектологи, простые тетки, заключение свое писали на любых, часто криво оторванных бумажках, и неизменный его текст «проверено трещен нет» я помню по сей день. Мое участие в этом исследовании было – носить подшипники из одной лаборатории в другую, а потом, собрав все бумажки и убедившись, что значащиеся в них цифры соответствуют техническим требованиям, составить заключение:
«Главному конструктору предприятия N-NNN тов. NN.
Уважаемый NN! На ваш №… от… сообщаем, что присланные подшипники NNN, NNN и NNN по результатам исследований признаны соответствующими ТУ. Главный конструктор Газаров».
Бывали же испытания на два, три и более ресурсов. Тогда в заключении требовалось писать, что подшипники признаны годными для дальнейшей эксплуатации и высылать их вместе с заключением обратно. Подобных объектов самых разнообразных калибров по окончании исследований в каждом отделе скапливалось немало, их использовали в хозяйстве: подкладывали под ножки старой мебели, летом, при открытых окнах, прижимали ими разложенные по столам бумажки. Правда, окна открывались у нас редко: ВНИПП находился на 2-й улице Машиностроения, километрах в полутора – двух от завода «Клейтук», перерабатывавшего кости соседнего Микояновского мясокомбината, и жить с открытыми окнами можно было только при устойчивом ветре, дующем от нас. Иначе воняло ужасно.
С одним из таких подшипников вышла у нас серьезная проблема: его прислали незадолго до Нового года с государственных испытаний, он отстоял уже сколько-то ресурсов, и после наших исследований, являвшихся, по сути, формальностью, испытания предполагалось продолжить. Нас просили с заключением не тянуть. Поэтому, проверив все параметры в короткий срок (а вел его сам С-в), ответ до праздника отправить все же не успели, а придя на работу 3-го января (тогда гуляли только два дня), подшипник на месте не обнаружили. Скандал.
Подшипник искали всем отделом (а трудилось нас в ГТ аж 12 человек) во всех закоулках, на С-ва кричал начальник отдела Мезенцев, припоминая все его прошлые грехи (о которых подробнее потом). Не любившие С-ва отдельские тетки злорадно поддакивали. С предприятия уже звонили, в ответ что-то врали о необходимости дополнительных исследований для уточнения некоторых параметров. На следующий день в отдел прибежал разгневанный главный конструктор Газаров, с завода дозвонились и ему, нажаловались и просили разобраться. Подшипник как сквозь землю провалился. И ведь не маленький какой-нибудь, был он миллиметров под сто по внутреннему диаметру и весом килограммов не меньше пяти. Замять историю не получалось, госиспытания – мероприятие серьезное. И главный вопрос: куда он все-таки мог подеваться? Мистика.
Выяснилось все через две недели, когда Мезенцев распорядился убрать новогоднюю елку, мол, осыпалась уже. Уборка – дело женское, секретарша Надя и конструктор Дина сняли игрушки, отвернули вату, закрывавшую литровую банку с мокрым песком и позвали меня помочь убрать тяжелое основание, в которое для устойчивости эту банку воткнули. Тут пропажа и нашлась. Когда С-в увидел это «основание», ярости его не было предела. Тут уж он вспомнил бедным женщинам все их прегрешения, вольные и невольные, а заодно и всё, сказанное ими в его адрес.
Но случались и другие виды исследований, посерьезнее. Во-первых, время от времени в отдел присылали подшипники с двигателей натовских самолетов, чаще всего сбитых над территорией каких-нибудь африканских или азиатских стран, дружественных СССР. Такие подшипники в документах именовались импортными. Здесь требовалось действительно разобраться во всем, главное – не упустить какую-нибудь изюминку, нашей промышленности не известную.
А еще приходилось разбираться со своими, родными подшипниками в разной степени износа – от грубых задиров на канавках до присылаемых россыпью. Эти были – «разрушенные в процессе испытаний», или, что еще хуже – эксплуатации. И здесь обычно к исследованиям подключали тяжелую артиллерию, те отделы ВНИППа, где сидели настоящие специалисты. Главной задачей их было – доказать, что подшипник не причина, а жертва аварии, что «имели место нарушения правильных условий его эксплуатации». А как такое докажешь, имея на руках только поломанный подшипник? Однако, бывало, что удавалось. Но бывало и наоборот.
Так, однажды, на «Ударнике» кто-то умный подал рацпредложение – фрезеровать очень сложную деталь, ротор диагонального компрессора, не из специальной поковки, а из стандартного кругляка. Всем понятно, что такие роторы будут не так прочны, как предварительно откованные, но по расчетам выходило – выдержат. А делать дешевле и проще. Случилось это в эпоху, когда товарищ Брежнев провозгласил, что экономика должна быть экономной, все и бросились искать, где бы что-нибудь удешевить. Но на первых порах официально менять технологию не стали (это требовало гигантского труда по оформлению согласований), пробную партию в 50 штук сделали новым способом, но по старым документам, как бы ничего не меняя. Военпреда в курс дела не ввели.
И вот, когда собранную партию двигателей поставили на испытания, а обороты там огромные, 40 тысяч в минуту, если не ошибаюсь, роторы компрессора стали по очереди разрываться. Тем, кто в курсе, причину искать не требовалось, а нужно было быстро соображать, как из этой ситуации выпутываться – дело-то серьезное, убытки на десятки, если не сотни тысяч тогдашних рублей. В качестве возможной причины разрушения ротора заводчане назвали подшипник, дескать, не выдерживает. По расчетам выдерживает, а на деле – нет. И для проверки этой теории запросили подшипники более высокой степени точности, от нее на таких оборотах несущая способность зависит довольно сильно. До описанного инцидента в этом узле стояли подшипники степени точности «А», особовысокой. Значит, нужны «С», сверхвысокой, выше не существовало. Пока шли переговоры да согласования, пока требуемые 50 сверхточных подшипников срочно изготовляли на подшипниковом заводе (подобные изделия делаются только на заказ, они не лежат на складе), на «Ударнике» авральными темпами втихую поменяли роторы на сделанные по старой технологии, да так, что военпред ничего не заметил. Испытания, ясное дело, показали, что все в порядке. Так подшипник класса точности «С» в этом узле с тех пор и утвердился, вместо экономии вышло подорожание, но, спасибо, головы не полетели.
Историю эту мне рассказал на «Ударнике», когда я проходил там практику, начальник бюро надежности. Рассказал, смущенно хихикая, мол, вот, какие ситуации случаются, и как из них приходится выкручиваться. Но, так вышло, что во ВНИППе в числе прочих мне пришлось курировать и «Ударник». Когда я увидел в ведомости сверхточный подшипник, единственный в нашем отделе, то сразу вспомнил этот детектив. Спросил С-ва, зачем здесь такой, он мне и рассказал о разрушении ротора, пока не увеличили точность. Я в свою очередь, поведал ему, что знал об изменении технологии, и мы вместе посмеялись над забавной коллизией. Понятно, что все осталось между нами, затевать обратную раскрутку истории никому не нужно было. Так и выпускали дальше изделие с неоправданно дорогим сверхточным подшипником.
Как явствует из сказанного, отношения у меня с С-вым вскоре установились достаточно доверительные. Он быстро начал называть меня на «ты» (испросив предварительно согласия), но при посторонних всегда обращался на «вы» и по имени-отчеству. Вообще он, полковник ВВС в отставке, держался с офицерской вежливостью, без тени хамства или панибратства, говорил четко и правильно. Язык его я бы не назвал хорошим русским, но выражался он всегда грамотно, обходясь без канцеляризмов. Ему не хватало некоторой легкости и образности, но темы нашего общения их и не требовали. Слова произносил негромким хрипловатым голосом, чуть поспешающим говорком.
Лет С-ву было тогда сорок девять, по моим понятиям – очень много. Хотя животом он не обзавелся, спину держал прямо, а однажды после работы, доказывая руководителям отдела свою спортивную состоятельность, спокойно сделал стойку на руках, правда, его и так всегда красное лицо при этом приобрело оттенок почти свекольный. Конечно, ни Мезенцев, ни его более молодой заместитель Новиков ничего похожего и близко сделать не могли.
Краснолицым же С-в был по причине пьянства. Правда, пил он исключительно в нерабочее время и не на рабочем месте, но следы сего порока, вплоть до заплывшего фиолетовым цветом подбитого глаза или ссадин на лице, как и тяжелый похмельный взгляд, увы, выдавали, чем он периодически занимался с пяти вечера до семи утра.
Когда-то он учился на мехмате МГУ, но закончить не успел, началась война, и его призвали в авиацию, где он и остался. Служил по технической части, поучаствовал в войсковых испытаниях первых серийных реактивных МиГов. Дорос до полковника, но выслужить весь положенный срок не дали, уволили, как сам он туманно давал понять, за какую-то пьяную историю и без всех положенных военному пенсионеру льгот и привилегий. Когда-то давно Василий Борисович был женат, но с женой не ужился, и к моменту нашего знакомство сам характеризовал свое семейное положение «ко мне Тамарка приходит».
Еще в поселке Кабардинка Краснодарского края у него жил старый отец.
Курил С-в «Беломор», дважды заминая мундштук.
Как специалист, как инженер стоил он, конечно, всего остального отдела, включая начальников, но всерьез окружающими не воспринимался из-за весьма оригинального поведения плюс пьянство. Да и внешностью выделялся даже в ту непритязательную эпоху: за исключением лета всегда ходил в одном и том же Бог весть когда купленном сером в полоску костюме, мятом, засаленном, в пятнах и с оттопыренными лацканами. Но при галстуке, тоже за год с лишним нашего знакомства одном и том же, с темным залоснившимся узлом.
Вот по поводу этого костюма и высказался как-то Мезенцев, когда С-в вмешался в начатый женщинами общий разговор о модах: – Ты бы, Василий Борисович, костюм снес в чистку. А то ходишь, как чучело.
Через пару дней в начале рабочего дня, после выходных, когда все расселись по местам и только-только приступили к писанию документов, С-в вдруг подозвал меня, и, когда я сел на стул рядом с его столом, спросил, внимательно глядя в глаза: – Ну как? – Что как? – Костюм мой как находишь?
Я поглядел внимательнее. Костюм, действительно, в чем-то неуловимо изменился, но в чем именно, я не понял. Поэтому на всякий случай многозначительно покивал и сказал неопределенно: – Да, заметно.
С-в решил все же уточнить во избежание недопонимания: – Я его выстирал.
Мне стало понятно, то, чего не мог определить сразу. Костюм стал свежее и чище, но после стирки явно с утюгом не встретился.
А С-в уже подробно и увлеченно рассказывал (потом эту историю я слышал не раз, он считал нужным посвятить в нее едва ли не всех окружающих), как купил дефицитный в то время стиральный порошок (он, вероятно, столкнулся с этим продуктом впервые), и перед употреблением внимательно изучил все, что написано на коробке. Затем тщательно продумал стратегию применения – порошок-то дефицитный, и поступил следующим образом.
Разведя порошок в корыте (половину пачки сразу), замочил в нем костюм на сутки, потом долго и тщательно тер в мыльной воде, вынул, выполоскал под краном, отжал и повесил на плечиках сушиться. Но самое главное не это. Крепкий моющий раствор, по его словам, не истратил и половины своей силы, поэтому мыльную воду С-в предполагал использовать в дальнейшем при мытье пола. Пока же до этой процедуры дело не дошло, воде тоже нашлось применение. По словам Василия Борисовича, вечерами он смотрит телевизор, лежа на диване, и курит. А так как при этом периодически засыпает, то, во избежание пожара, всегда держит на полу в головах дивана таз с водой, куда падают изо рта недокуренные папиросы. Так что все рационально и логично: мыльная вода до ее дальнейшего применения по назначению будет выполнять в тазу эту противопожарную функцию.
К основной деятельности отдела С-в относился с иронией, почитая несерьезной, но все вопросы решал быстро, техническая эрудиция и деловая хватка у него были замечательные. Когда он в очередной раз высказал что-то уничижительное об отделе, его задачах и публике, я спросил: – Василий Борисович, а что же вы мне говорили, когда на распределение пришли? – С-в пожевал губами и ответил: – Я получил задание руководства заполучить толкового молодого специалиста и должен был его выполнить.
Формулу «только бизнес, ничего личного» мы тогда еще не знали…
В курс дела он меня ввел быстро, и я стал бойко исполнять документы. Обычно вверху страницы стояли визы: «т. Мезенцеву. Дать обоснованный ответ. Газаров». «т. С-ву. Отказать. Мезенцев». «т. Смолицкому. Исполнить. ВБС». Я строчил проект ответа, С-в его визировал, бумажку следовало отнести в машбюро, получить отпечатанный на бланке документ с двумя (или тремя – по обстоятельствам) копиями, завизировать копию лично и пустить в обратное плавание. После подписи Главного забрать в канцелярии свою копию с присвоенным номером и подшить в папку «Исходящие». Все, документ исполнен.
Когда что-то требовало разъяснения, он давал их понятно и развернуто, по пунктам. Если же дело затрагивало техническую сторону вопроса, рассказывал увлеченно и интересно. А периодически задавал всякие каверзные вопросы, обычно с них начинались длинные беседы. Говорили мы главным образом на технические темы. И вот начальник вдруг заинтересовался ватерпасами.
То есть, вы понимаете, я, вчерашний студент, еще воспринимал подобные вопросы руководства сродни экзаменам, а на экзаменах нужно отвечать. Как сказал герой одного фильма, «в твоем возрасте я знал ответы на все вопросы, право не знать пришло ко мне намного позже». А про ватерпасы я знал то же, что, наверно, знают все: что они бывают деревянные и металлические. И еще, что они продавались в магазине «Инструменты» на Кировской, совсем рядом с моим домом. Инструментальных магазинов в Москве тогда было мало (как и всяких прочих), я знал всего два. Но ватерпасы там продавались постоянно.
Эти сведения я и сообщил С-ву. Он посмотрел очень серьезно и ответил: – Те, что продаются, я видел. Они не могут меня устроить по ряду причин, прежде всего по точности.
– А какая там точность?
– По паспорту 14 угловых минут.
– И где же вы хотите взять более точный?
– Нужно будет его сделать. Подумайте, пожалуйста, над этим вопросом.
– Как быстро?
– Спешить не надо. Пусть это будет дежурный вопрос.
Легко сказать – дежурный. После этого я подобно несчастному Фалалею мог бесконечно повторять «сон, не снись про белого быка», – ничего, кроме высокоточного ватерпаса, в голову не лезло. Дома вспомнил, что трубочки, в которых перемещается пузырек воздуха, бывают у них не только прямые, но и изогнутые дугой, такими мы пользовались на целине. Ну, и еще путем несложных умственных усилий догадался, что повысить точность можно увеличением длины базовой поверхности, ее прямолинейности и соосности по отношению к трубочке. Понял, что самое слабое в отношении точности место – эта самая трубочка: я не представлял, как ее, стеклянную, сделать и закрепить с требуемой точностью. Простые геометрические прикидки в уме показывали, что при длине трубочки в 50 мм разница толщины стенок всего в 35 микрон на ее концах и даст те самые 14-15 угловых минут ошибки. А можно ли обеспечить такую точность на стекле? Да и это ведь только если подошва будет абсолютно ровной.
Все эти соображения я на следующий день выложил С-ву. Он принял их благосклонно, особенно про кривую трубочку – сам про них забыл. С геометрическими выкладками согласился, и дал для ознакомления тоненькую – листков 10 – пачку бумажных листков. Сказал, что это плоды его домашних раздумий. Начав разбираться, я осознал, что осилю их едва ли: он, недоучившийся мехматовец, свободно оперировал совсем другим математическим аппаратом, нежели давали в МАТИ. Но суть вычислений понял: Василий Борисович считал, как влияет на точность ватерпаса взаимодействие пузырька со стеклом в зависимости от вязкости жидкости, смачиваемости внутренней поверхности и ее волнистости.
Таким образом мы «строили ватерпас» несколько дней. В какой-то момент я почувствовал, что рассуждения начальника устремляются в какие-то совсем уж заоблачные выси, и задал вопрос, который вертелся у меня на языке с самого начала: – Василий Борисович, а где вы собираетесь применять ватерпас такой точности?
С-в смущенно хохотнул. – Видишь ли, я тебе рассказывал про Кабардинку? У меня там в саду плита стоит. Криво. Когда я готовлю блины или яичницу, они выходят разнотолщинными. Вот, хочу ее ровно поставить.
Я, помню, аж зашелся: – Василь Борисыч, так для чего точность-то такая? Ваши блины, если крен в полградуса будет, получатся с максимальной разнотолщинностью в три десятых миллиметра (несколько дней, как в теме, я углы в разность высот переводил быстро). Вы что, такую заметите? Вам магазинного ватерпаса за глаза хватит. Да вам и ватерпаса не нужно: поставьте на вашу плиту тарелку, налейте до краев водой, и сразу увидите, и в какую сторону крен, и насколько.
С-в с сожалением согласился: – Наверно, хватит. Но хотелось задачу поточнее решить. Интересно же.
Вот это «решить задачу поточнее» присутствовало в любом его начинании. Простые дороги, ведущие к цели по пути наименьшего сопротивления, были ему скучны. Наверно, потому, что хотелось найти какое-то применение невостребованным способностям.
Ремонтируя испортившийся магнитофон (катушечный), он притащил часть деталей на работу, провел дефектоскопию несущей рамы (естественно, «трещен» не обнаружили, откуда бы им там взяться?) и заменил все подшипники на малошумные самосмазывающиеся, такие делали для космоса. Но наибольшее удовольствия ему доставила возня с ротором двигателя: он отдал его представителю какого-то предприятия, а потом, получив обратно, динамически отбалансированным на специальном станке, с гордостью показывал всем, зачитывая крохотную величину остаточного дисбаланса. Самое главное, чего я не мог понять во всей этой истории, так это зачем ему магнитофон? Представить нашего ВБС, слушающего музыку, я, убейте меня, не мог.
Но после того как я поведал эти истории дома, выражение «с-вский ватерпас» прочно утвердилось в нашей семье для обозначения избыточных стараний по совершенно не соответствующему поводу. Вроде «из пушек по воробьям».
В итоге, когда прозвучал его очередной вопрос: – Сергей Викторович, а что вам известно об обработке титана? – я в ответ для начала рассмеялся. – Что будем делать на этот раз?
Оказалось, С-в еще не придумал. Просто ему подарили с какого-то предприятия пластинку титанового сплава толщиной три миллиметра и размерами где-то 40х200. Ну, с механической обработкой титана я был знаком не по институту, а еще до него, по авиамодельному кружку, куда кто-то тоже притаскивал кусочки очень редкого тогда материала. Самое правильное применение, которое им в конце концов нашли, так это делать подковки на ботинки. Во-первых, они практически не снашивались. Их, наоборот, переставляли с уже сношенных ботинок на новые. А во-вторых, если в сумерках чиркнуть такой подковкой по тротуарному бордюру, получался замечательный сноп белых искр.
Я и сообщил С-ву, что трехмиллиметровый титан обрабатывается и напильником, и на наждачном точиле. Тереть, конечно, долго. Но я знал, что перед трудностями он не спасует. Поведал про подковки, но они его не вдохновили.
Через несколько дней начальник поделился со мной планами: будет делать из титана двузубую длинную вилку для извлечения соленых огурцов из трехлитровой банки (в продаже ничего похожего тогда, естественно, не водилось). Верный себе, показал стопочку бумаги с аккуратными строчками: рассчитывал угол заточки зубьев – чтобы легко входили в огурец, но чтобы потом тот не соскакивал.
В одно-единственное посещение его жилища я видел эту вилку готовой, правда, подробно не рассмотрел из-за мутного рассола, из которого она торчала. Видел и таз с мыльной водой и плавающими в ней окурками около дивана. Наверно, время мыть пол еще не настало…
Мое разочарование работой во ВНИППе пришло быстро, однако уйти с предприятия, куда попал по распределению, было очень и очень сложно. Все-таки, я относился к этой работе терпимо, найти что-то интересное можно во всем. Но один случай произвел на меня особо тяжелое впечатление.
Как известно, устанавливать подшипники нужно таким образом, чтобы при монтаже не нагружать тела качения, то есть шарики или ролики. Говоря проще, ни в коем случае нельзя напрессовывать внутреннее кольцо, надавливая на наружное и наоборот. Это всегда создает определенные сложности при конструировании подшипниковых узлов: в них и так мало места, а нужно, чтобы влез не только сам подшипник, но и прессовое приспособление. В авиационных двигателях это и подавно трудно. Там нередко бывает так, что один вал крутится внутри другого с сумасшедшими оборотами да при высоких температурах. А бывает, что соосных валов и больше двух. Как сконструировать опоры таких валов с подшипниками, да еще и жидкую смазку к ним подавать нужно во время работы?
И вот, на одном предприятии исхитрились: не видя иной возможности собрать сложный узел, разработали специальную технологию «установки подшипников с передачей усилия через тела качения». Заводчане доказали, что при соблюдении целого ряда условий то, что абсолютно нельзя, все-таки можно. ВНИПП сопротивлялся, как мог, писал запретительные письма, грозил, но на заводе добились проведения государственных испытаний, и, делать нечего, запретная технология была утверждена – в виде исключения, на одно изделие и только для одного предприятия. Но шила в мешке не утаишь. О прогрессивной технологии мигом прознали по всей отрасли. Нас стали бомбардировать письмами с просьбой ознакомить другие предприятия с этой технологией и распространить ее на другие изделия. Наша задача была – стоять мертво и никому больше этого еретического способа не разрешать. И вот, с одного завода прислали длинное письмо с особо убедительными обоснованиями. Мне поручили составить не менее убедительный отказ.
К тому времени я уже достаточно поднаторел во ВНИППовских документах, не только технических, но и нормативных. Помню, покорпев дня два, я составил сложную казуистическую цепочку ссылок, по которым отметались все обоснования, приведенные в заводском письме. Гордый содеянным, я принес проект ответа на рассмотрение С-ву. Он, прочитав, пришел в восторг, назвал написанное песней и поэмой и наложил резолюцию «в печать». А мне вдруг стало стыдно и тоскливо. Ведь вся моя сообразительность имела целью тормозить прогресс. Люди новые двигатели создают, им нужна эта технология, а мне велели «не пущщать», и я радуюсь, что успешно не пущщаю. Я уже не паразитная шестеренка, а полноценный тормоз, если не песок в передаче. Разве об этом мечтал, идя работать во всесоюзный научно-исследовательский?
А через некоторое время пришла повестка из военкомата. Так что из положенных по распределению трех лет я во ВНИППе отработал один, а два отслужил в военной авиации лейтенантом (а потом аж старшим лейтенантом), техником самолета. По окончании службы стал свободен и пошел туда, куда хотел уже давно – в подводную технику.
И все же два полезных дела во ВНИППе я могу записать себе в актив. Во-первых, это исследование целого комплекта английских подшипников с двигателя сбитого над Китаем самолета. Они были очень интересные, особенно два. Имелась в них одна хитрость, никогда до того не применявшаяся в наших подшипниках, которая сильно улучшала их качество, про что я в своем исследовании подробно и написал. А во-вторых, по заказу одного предприятия я спроектировал подшипник именно такого нового типа. Но спроектировать – это оказалось меньше полдела, а вот согласовать... Дело в том, что его конструкция противоречила ГОСТу. Когда чертеж украсили, наконец, подписи всех инстанций, я поглядел на даты, стоящие напротив граф «Разработал» и «Утверждаю». Они различались ровно на девять месяцев.
С-в, когда я сообщил ему об этом, драматически воздел руки и провозгласил: – Человека можно было родить, а мы родили бумажку.
В последний день мы тепло распрощались со всеми сотрудниками. Работа во ВНИППе была скучная, но люди сердечные.
В дальнейшем вся моя деятельность протекала по другую сторону баррикады. После службы, уже работая в океанологии, я как-то в поисках редкого подшипника зашел во ВНИПП. Кое-кто из старых знакомых еще работал. По делу мне помогли, вспомнили былое, и, конечно, С-ва, моего первого начальника. Василий Борисович оттуда давно ушел, где он и что делает, никто не знал.
А у меня и фотографии его не осталось.
– Сергей Викторович, можно вас на минутку? Скажите, пожалуйста, что вам известно о ватерпасах?
Я слегка опешил, хотя уже стал понемногу привыкать к подобным неожиданным вопросам, задавать которые С-в был большой мастак.
Василий Борисович С-в – ведущий инженер отдела Газовых турбин Всесоюзного научно-исследовательского конструкторско-технологического института подшипниковой промышленности (ВНИПП), куда я попал работать по распределению после института, был моим непосредственным начальником. Собственно, выбрал это место я сам, но не без его помощи: в день распределения С-в приехал в МАТИ с поручением выбрать молодого специалиста и завлечь его в отдел. Предполагалось, что задача эта не из легких, потому что ВНИПП принадлежал к Министерству автомобильной промышленности, а выпускники МАТИ предназначались для работы в промышленности авиационной, где и технологии более передовые, и производство чище, и зарплаты выше. Однако для двух отделов ВНИППа – газовых турбин (ГТ) и самолетных подшипников – специалистов старались подбирать с авиационным образованием или из отставников ВВС. Я же после двух учебных практик на заводе «Ударник» (название изменено, подписку же давал, хоть и сорок лет прошло) проникся лютым отвращением к секретности и строгой проходной, а на авиационных заводах, как известно, эти стороны жизни соблюдаются намного серьезнее, чем в более демократичном автопроме. Кроме того, в те годы я находился под большим влиянием личности Альберта Швейцера и его идей, да и Толстого прочитал целиком. Поэтому всё, имевшее отношение к человекоубийству представлялось мне абсолютно безнравственным, а что львиная доля тогдашней продукции авиапрома предназначалась исключительно для военных целей, знали все. Термин ВПК еще не был в ходу, а, если и употреблялся где-нибудь, то исключительно по отношению к бряцавшим оружием империалистам, но мне не нравился и наш. Поэтому все последние курсы я только и мечтал, как бы сблызнуть в сторону с предназначенной мне колеи, но обойти распределение было никак невозможно. И вдруг – такая удача: приходит человек и совершенно официально зовет в немилитаристический автопром. В комиссии по распределению моему решению удивились очень, но отговаривать не стали. Да если и попробовали, не смогли бы. Тем более, что расписывая учреждение, куда он меня звал, Василий Борисович напирал на его научную комплексность – ведь Всесоюзный! Научно-исследовательский! Конструкторско-технологический! Обмануть меня не составило труда, ибо я был обманываться рад.
На поверку отдел ГТ ВНИПП оказался чисто бюрократическим заведением. Главной нашей задачей стояло – согласование ведомостей потребления подшипников. То есть, закрепленные за каждым сотрудником предприятия присылали поквартально упомянутые ведомости на каждое изделие (в переводе с секретного на русский в нашем случае – газотурбинный двигатель). В ведомости указывались типы установленных в изделии подшипников, условия их работы (радиальная и осевая нагрузки, обороты и температура), ресурс и потребное на квартал количество. В наши задачи входило а) в случае, если изделие являлось опытным, проверить расчет конструкторов на ресурс по известным еще из курсовых проектов формулам долговечности L=(C/P)^3 для шариковых подшипников и L=(C/P)^3,33 для роликовых, и б) сведение общих потребностей предприятий-потребителей с планами подшипниковых заводов, ибо экономика при социализме плановая. Если же изделие относилось к уже освоенным, ограничивались только вторым пунктом. Возведение в степень 3,33 выполнялось в те годы извлечением кубического корня (по таблицам Брадиса) из десятой степени числа (C/P), каковая находилась десятикратным умножением на арифмометре «Феликс», именуемом в народе «Железным Феликсом». Искусству громкого счета на этом агрегате я обучился тогда же – логарифмическая линейка для этих вычислений не годилась по причине недостаточной точности, а электронных калькуляторов не водилось в природе, только-только начали появляться электрические «Быстрицы» размером с пишущую машинку, но это чудо техники полагалось исключительно бухгалтерии. Когда спустя много лет, уже в компьютерную эру, я, работая в океанологии, притащил выкопанный где-то в хламе старенький «Феликс» в КБ и, поставив на стол, начал тарахтеть на нем, производя разные действия (особо эффектно выглядело деление, там кроме треска еще звоночек звенел), молодежь, от материнской груди выросшая на калькуляторах, с веселым удивлением собралась вокруг. Общее мнение высказал Андрей Гречко: – Сережа, у тебя всегда на черный день кусок хлеба есть. Если ты с этим прибором сядешь напротив японского посольства или представительства какой-нибудь «Майкрософт», подавать будут щедро.
В общем, являлись мы тем, что в технике зовется – паразитная шестерня: ни обороты, ни усилие не меняет, только передает вращение дальше. Потому что, опять-таки, изменить планы как моторных, так и подшипниковых заводов было не в наших силах. Мы лишь констатировали, что суммарные планы выпуска подшипников соответствуют их запросам, а где те планы составлялись, я до сих пор не знаю. В Госплане, наверно.
Здесь все же нужно сказать, что подшипники, которыми занимались в нашем и соседних отделах, были не абы какие. То есть внешне они почти ничем не отличались от ширпотребовских, но выпускались совсем по другим техническим условиям, и узнать об их высоком происхождении можно было по нескольким буковкам в названии. Но различались они не меньше, чем шампанское, подаваемое к столу английской королевы и то, что продается в наших супермаркетах под Новый год по семьдесят рублей за бутылку. И первое, чему я выучился во ВНИППе, это узнавать всю подноготную подшипников по их буквенно-цифровым названиям. Кстати, это умение не раз пригождалось в дальнейшем.
Следующей наукой, которой я овладел довольно скоро, было ведение документации. То есть я завел четыре папки: «Входящие», «Исходящие», «В работе» и «На контроле», в которых держал документы по мере их готовности. Канцелярским стилем овладел тоже быстро:
«Уважаемый NN! На ваш входящий №… от … июня 197. г. сообщаем, что, как мы уже отмечали в нашем №… от … 197.г., подшипники NNNN являются строго фондированным изделием и согласованными планами текущего года поставка дополнительных 100 штук не предусмотрена. Основания, изложенные в вашем письме, являются недостаточными, поэтому отпуск указанных подшипников сверх плана осуществлен быть не может. Главный конструктор Газаров». Для написания подобного рода писем я завел себе специальную алфавитную книжку с фамилиями, именами и отчествами всех директоров, главных конструкторов и главных инженеров курируемых предприятий, причем в вопиющем противоречии с правилами секретности открытые названия заводов и номера их почтовых ящиков писал там на одних и тех же страницах.
Еще в наши задачи входило исследование подшипников после их работы в составе изделий. Здесь тоже были варианты.
Испытания двигателей проводились разные. Бывали регулярные ресурсные, когда двигатель отрабатывал на стенде отпущенный ему по правилам эксплуатации срок (а в авиации моторесурс учитывается с точностью до минуты), после чего его разбирали на части, и все проверяли на соответствие ТУ. Подшипники же присылали нам, и их требовалось носить последовательно по лабораториям – метрологической, на замер твердости и дефектоскопию. И если из первых двух подшипник возвращали с аккуратно заполненными бланками, в которых вписывали результаты замеров, то дефектологи, простые тетки, заключение свое писали на любых, часто криво оторванных бумажках, и неизменный его текст «проверено трещен нет» я помню по сей день. Мое участие в этом исследовании было – носить подшипники из одной лаборатории в другую, а потом, собрав все бумажки и убедившись, что значащиеся в них цифры соответствуют техническим требованиям, составить заключение:
«Главному конструктору предприятия N-NNN тов. NN.
Уважаемый NN! На ваш №… от… сообщаем, что присланные подшипники NNN, NNN и NNN по результатам исследований признаны соответствующими ТУ. Главный конструктор Газаров».
Бывали же испытания на два, три и более ресурсов. Тогда в заключении требовалось писать, что подшипники признаны годными для дальнейшей эксплуатации и высылать их вместе с заключением обратно. Подобных объектов самых разнообразных калибров по окончании исследований в каждом отделе скапливалось немало, их использовали в хозяйстве: подкладывали под ножки старой мебели, летом, при открытых окнах, прижимали ими разложенные по столам бумажки. Правда, окна открывались у нас редко: ВНИПП находился на 2-й улице Машиностроения, километрах в полутора – двух от завода «Клейтук», перерабатывавшего кости соседнего Микояновского мясокомбината, и жить с открытыми окнами можно было только при устойчивом ветре, дующем от нас. Иначе воняло ужасно.
С одним из таких подшипников вышла у нас серьезная проблема: его прислали незадолго до Нового года с государственных испытаний, он отстоял уже сколько-то ресурсов, и после наших исследований, являвшихся, по сути, формальностью, испытания предполагалось продолжить. Нас просили с заключением не тянуть. Поэтому, проверив все параметры в короткий срок (а вел его сам С-в), ответ до праздника отправить все же не успели, а придя на работу 3-го января (тогда гуляли только два дня), подшипник на месте не обнаружили. Скандал.
Подшипник искали всем отделом (а трудилось нас в ГТ аж 12 человек) во всех закоулках, на С-ва кричал начальник отдела Мезенцев, припоминая все его прошлые грехи (о которых подробнее потом). Не любившие С-ва отдельские тетки злорадно поддакивали. С предприятия уже звонили, в ответ что-то врали о необходимости дополнительных исследований для уточнения некоторых параметров. На следующий день в отдел прибежал разгневанный главный конструктор Газаров, с завода дозвонились и ему, нажаловались и просили разобраться. Подшипник как сквозь землю провалился. И ведь не маленький какой-нибудь, был он миллиметров под сто по внутреннему диаметру и весом килограммов не меньше пяти. Замять историю не получалось, госиспытания – мероприятие серьезное. И главный вопрос: куда он все-таки мог подеваться? Мистика.
Выяснилось все через две недели, когда Мезенцев распорядился убрать новогоднюю елку, мол, осыпалась уже. Уборка – дело женское, секретарша Надя и конструктор Дина сняли игрушки, отвернули вату, закрывавшую литровую банку с мокрым песком и позвали меня помочь убрать тяжелое основание, в которое для устойчивости эту банку воткнули. Тут пропажа и нашлась. Когда С-в увидел это «основание», ярости его не было предела. Тут уж он вспомнил бедным женщинам все их прегрешения, вольные и невольные, а заодно и всё, сказанное ими в его адрес.
Но случались и другие виды исследований, посерьезнее. Во-первых, время от времени в отдел присылали подшипники с двигателей натовских самолетов, чаще всего сбитых над территорией каких-нибудь африканских или азиатских стран, дружественных СССР. Такие подшипники в документах именовались импортными. Здесь требовалось действительно разобраться во всем, главное – не упустить какую-нибудь изюминку, нашей промышленности не известную.
А еще приходилось разбираться со своими, родными подшипниками в разной степени износа – от грубых задиров на канавках до присылаемых россыпью. Эти были – «разрушенные в процессе испытаний», или, что еще хуже – эксплуатации. И здесь обычно к исследованиям подключали тяжелую артиллерию, те отделы ВНИППа, где сидели настоящие специалисты. Главной задачей их было – доказать, что подшипник не причина, а жертва аварии, что «имели место нарушения правильных условий его эксплуатации». А как такое докажешь, имея на руках только поломанный подшипник? Однако, бывало, что удавалось. Но бывало и наоборот.
Так, однажды, на «Ударнике» кто-то умный подал рацпредложение – фрезеровать очень сложную деталь, ротор диагонального компрессора, не из специальной поковки, а из стандартного кругляка. Всем понятно, что такие роторы будут не так прочны, как предварительно откованные, но по расчетам выходило – выдержат. А делать дешевле и проще. Случилось это в эпоху, когда товарищ Брежнев провозгласил, что экономика должна быть экономной, все и бросились искать, где бы что-нибудь удешевить. Но на первых порах официально менять технологию не стали (это требовало гигантского труда по оформлению согласований), пробную партию в 50 штук сделали новым способом, но по старым документам, как бы ничего не меняя. Военпреда в курс дела не ввели.
И вот, когда собранную партию двигателей поставили на испытания, а обороты там огромные, 40 тысяч в минуту, если не ошибаюсь, роторы компрессора стали по очереди разрываться. Тем, кто в курсе, причину искать не требовалось, а нужно было быстро соображать, как из этой ситуации выпутываться – дело-то серьезное, убытки на десятки, если не сотни тысяч тогдашних рублей. В качестве возможной причины разрушения ротора заводчане назвали подшипник, дескать, не выдерживает. По расчетам выдерживает, а на деле – нет. И для проверки этой теории запросили подшипники более высокой степени точности, от нее на таких оборотах несущая способность зависит довольно сильно. До описанного инцидента в этом узле стояли подшипники степени точности «А», особовысокой. Значит, нужны «С», сверхвысокой, выше не существовало. Пока шли переговоры да согласования, пока требуемые 50 сверхточных подшипников срочно изготовляли на подшипниковом заводе (подобные изделия делаются только на заказ, они не лежат на складе), на «Ударнике» авральными темпами втихую поменяли роторы на сделанные по старой технологии, да так, что военпред ничего не заметил. Испытания, ясное дело, показали, что все в порядке. Так подшипник класса точности «С» в этом узле с тех пор и утвердился, вместо экономии вышло подорожание, но, спасибо, головы не полетели.
Историю эту мне рассказал на «Ударнике», когда я проходил там практику, начальник бюро надежности. Рассказал, смущенно хихикая, мол, вот, какие ситуации случаются, и как из них приходится выкручиваться. Но, так вышло, что во ВНИППе в числе прочих мне пришлось курировать и «Ударник». Когда я увидел в ведомости сверхточный подшипник, единственный в нашем отделе, то сразу вспомнил этот детектив. Спросил С-ва, зачем здесь такой, он мне и рассказал о разрушении ротора, пока не увеличили точность. Я в свою очередь, поведал ему, что знал об изменении технологии, и мы вместе посмеялись над забавной коллизией. Понятно, что все осталось между нами, затевать обратную раскрутку истории никому не нужно было. Так и выпускали дальше изделие с неоправданно дорогим сверхточным подшипником.
Как явствует из сказанного, отношения у меня с С-вым вскоре установились достаточно доверительные. Он быстро начал называть меня на «ты» (испросив предварительно согласия), но при посторонних всегда обращался на «вы» и по имени-отчеству. Вообще он, полковник ВВС в отставке, держался с офицерской вежливостью, без тени хамства или панибратства, говорил четко и правильно. Язык его я бы не назвал хорошим русским, но выражался он всегда грамотно, обходясь без канцеляризмов. Ему не хватало некоторой легкости и образности, но темы нашего общения их и не требовали. Слова произносил негромким хрипловатым голосом, чуть поспешающим говорком.
Лет С-ву было тогда сорок девять, по моим понятиям – очень много. Хотя животом он не обзавелся, спину держал прямо, а однажды после работы, доказывая руководителям отдела свою спортивную состоятельность, спокойно сделал стойку на руках, правда, его и так всегда красное лицо при этом приобрело оттенок почти свекольный. Конечно, ни Мезенцев, ни его более молодой заместитель Новиков ничего похожего и близко сделать не могли.
Краснолицым же С-в был по причине пьянства. Правда, пил он исключительно в нерабочее время и не на рабочем месте, но следы сего порока, вплоть до заплывшего фиолетовым цветом подбитого глаза или ссадин на лице, как и тяжелый похмельный взгляд, увы, выдавали, чем он периодически занимался с пяти вечера до семи утра.
Когда-то он учился на мехмате МГУ, но закончить не успел, началась война, и его призвали в авиацию, где он и остался. Служил по технической части, поучаствовал в войсковых испытаниях первых серийных реактивных МиГов. Дорос до полковника, но выслужить весь положенный срок не дали, уволили, как сам он туманно давал понять, за какую-то пьяную историю и без всех положенных военному пенсионеру льгот и привилегий. Когда-то давно Василий Борисович был женат, но с женой не ужился, и к моменту нашего знакомство сам характеризовал свое семейное положение «ко мне Тамарка приходит».
Еще в поселке Кабардинка Краснодарского края у него жил старый отец.
Курил С-в «Беломор», дважды заминая мундштук.
Как специалист, как инженер стоил он, конечно, всего остального отдела, включая начальников, но всерьез окружающими не воспринимался из-за весьма оригинального поведения плюс пьянство. Да и внешностью выделялся даже в ту непритязательную эпоху: за исключением лета всегда ходил в одном и том же Бог весть когда купленном сером в полоску костюме, мятом, засаленном, в пятнах и с оттопыренными лацканами. Но при галстуке, тоже за год с лишним нашего знакомства одном и том же, с темным залоснившимся узлом.
Вот по поводу этого костюма и высказался как-то Мезенцев, когда С-в вмешался в начатый женщинами общий разговор о модах: – Ты бы, Василий Борисович, костюм снес в чистку. А то ходишь, как чучело.
Через пару дней в начале рабочего дня, после выходных, когда все расселись по местам и только-только приступили к писанию документов, С-в вдруг подозвал меня, и, когда я сел на стул рядом с его столом, спросил, внимательно глядя в глаза: – Ну как? – Что как? – Костюм мой как находишь?
Я поглядел внимательнее. Костюм, действительно, в чем-то неуловимо изменился, но в чем именно, я не понял. Поэтому на всякий случай многозначительно покивал и сказал неопределенно: – Да, заметно.
С-в решил все же уточнить во избежание недопонимания: – Я его выстирал.
Мне стало понятно, то, чего не мог определить сразу. Костюм стал свежее и чище, но после стирки явно с утюгом не встретился.
А С-в уже подробно и увлеченно рассказывал (потом эту историю я слышал не раз, он считал нужным посвятить в нее едва ли не всех окружающих), как купил дефицитный в то время стиральный порошок (он, вероятно, столкнулся с этим продуктом впервые), и перед употреблением внимательно изучил все, что написано на коробке. Затем тщательно продумал стратегию применения – порошок-то дефицитный, и поступил следующим образом.
Разведя порошок в корыте (половину пачки сразу), замочил в нем костюм на сутки, потом долго и тщательно тер в мыльной воде, вынул, выполоскал под краном, отжал и повесил на плечиках сушиться. Но самое главное не это. Крепкий моющий раствор, по его словам, не истратил и половины своей силы, поэтому мыльную воду С-в предполагал использовать в дальнейшем при мытье пола. Пока же до этой процедуры дело не дошло, воде тоже нашлось применение. По словам Василия Борисовича, вечерами он смотрит телевизор, лежа на диване, и курит. А так как при этом периодически засыпает, то, во избежание пожара, всегда держит на полу в головах дивана таз с водой, куда падают изо рта недокуренные папиросы. Так что все рационально и логично: мыльная вода до ее дальнейшего применения по назначению будет выполнять в тазу эту противопожарную функцию.
К основной деятельности отдела С-в относился с иронией, почитая несерьезной, но все вопросы решал быстро, техническая эрудиция и деловая хватка у него были замечательные. Когда он в очередной раз высказал что-то уничижительное об отделе, его задачах и публике, я спросил: – Василий Борисович, а что же вы мне говорили, когда на распределение пришли? – С-в пожевал губами и ответил: – Я получил задание руководства заполучить толкового молодого специалиста и должен был его выполнить.
Формулу «только бизнес, ничего личного» мы тогда еще не знали…
В курс дела он меня ввел быстро, и я стал бойко исполнять документы. Обычно вверху страницы стояли визы: «т. Мезенцеву. Дать обоснованный ответ. Газаров». «т. С-ву. Отказать. Мезенцев». «т. Смолицкому. Исполнить. ВБС». Я строчил проект ответа, С-в его визировал, бумажку следовало отнести в машбюро, получить отпечатанный на бланке документ с двумя (или тремя – по обстоятельствам) копиями, завизировать копию лично и пустить в обратное плавание. После подписи Главного забрать в канцелярии свою копию с присвоенным номером и подшить в папку «Исходящие». Все, документ исполнен.
Когда что-то требовало разъяснения, он давал их понятно и развернуто, по пунктам. Если же дело затрагивало техническую сторону вопроса, рассказывал увлеченно и интересно. А периодически задавал всякие каверзные вопросы, обычно с них начинались длинные беседы. Говорили мы главным образом на технические темы. И вот начальник вдруг заинтересовался ватерпасами.
То есть, вы понимаете, я, вчерашний студент, еще воспринимал подобные вопросы руководства сродни экзаменам, а на экзаменах нужно отвечать. Как сказал герой одного фильма, «в твоем возрасте я знал ответы на все вопросы, право не знать пришло ко мне намного позже». А про ватерпасы я знал то же, что, наверно, знают все: что они бывают деревянные и металлические. И еще, что они продавались в магазине «Инструменты» на Кировской, совсем рядом с моим домом. Инструментальных магазинов в Москве тогда было мало (как и всяких прочих), я знал всего два. Но ватерпасы там продавались постоянно.
Эти сведения я и сообщил С-ву. Он посмотрел очень серьезно и ответил: – Те, что продаются, я видел. Они не могут меня устроить по ряду причин, прежде всего по точности.
– А какая там точность?
– По паспорту 14 угловых минут.
– И где же вы хотите взять более точный?
– Нужно будет его сделать. Подумайте, пожалуйста, над этим вопросом.
– Как быстро?
– Спешить не надо. Пусть это будет дежурный вопрос.
Легко сказать – дежурный. После этого я подобно несчастному Фалалею мог бесконечно повторять «сон, не снись про белого быка», – ничего, кроме высокоточного ватерпаса, в голову не лезло. Дома вспомнил, что трубочки, в которых перемещается пузырек воздуха, бывают у них не только прямые, но и изогнутые дугой, такими мы пользовались на целине. Ну, и еще путем несложных умственных усилий догадался, что повысить точность можно увеличением длины базовой поверхности, ее прямолинейности и соосности по отношению к трубочке. Понял, что самое слабое в отношении точности место – эта самая трубочка: я не представлял, как ее, стеклянную, сделать и закрепить с требуемой точностью. Простые геометрические прикидки в уме показывали, что при длине трубочки в 50 мм разница толщины стенок всего в 35 микрон на ее концах и даст те самые 14-15 угловых минут ошибки. А можно ли обеспечить такую точность на стекле? Да и это ведь только если подошва будет абсолютно ровной.
Все эти соображения я на следующий день выложил С-ву. Он принял их благосклонно, особенно про кривую трубочку – сам про них забыл. С геометрическими выкладками согласился, и дал для ознакомления тоненькую – листков 10 – пачку бумажных листков. Сказал, что это плоды его домашних раздумий. Начав разбираться, я осознал, что осилю их едва ли: он, недоучившийся мехматовец, свободно оперировал совсем другим математическим аппаратом, нежели давали в МАТИ. Но суть вычислений понял: Василий Борисович считал, как влияет на точность ватерпаса взаимодействие пузырька со стеклом в зависимости от вязкости жидкости, смачиваемости внутренней поверхности и ее волнистости.
Таким образом мы «строили ватерпас» несколько дней. В какой-то момент я почувствовал, что рассуждения начальника устремляются в какие-то совсем уж заоблачные выси, и задал вопрос, который вертелся у меня на языке с самого начала: – Василий Борисович, а где вы собираетесь применять ватерпас такой точности?
С-в смущенно хохотнул. – Видишь ли, я тебе рассказывал про Кабардинку? У меня там в саду плита стоит. Криво. Когда я готовлю блины или яичницу, они выходят разнотолщинными. Вот, хочу ее ровно поставить.
Я, помню, аж зашелся: – Василь Борисыч, так для чего точность-то такая? Ваши блины, если крен в полградуса будет, получатся с максимальной разнотолщинностью в три десятых миллиметра (несколько дней, как в теме, я углы в разность высот переводил быстро). Вы что, такую заметите? Вам магазинного ватерпаса за глаза хватит. Да вам и ватерпаса не нужно: поставьте на вашу плиту тарелку, налейте до краев водой, и сразу увидите, и в какую сторону крен, и насколько.
С-в с сожалением согласился: – Наверно, хватит. Но хотелось задачу поточнее решить. Интересно же.
Вот это «решить задачу поточнее» присутствовало в любом его начинании. Простые дороги, ведущие к цели по пути наименьшего сопротивления, были ему скучны. Наверно, потому, что хотелось найти какое-то применение невостребованным способностям.
Ремонтируя испортившийся магнитофон (катушечный), он притащил часть деталей на работу, провел дефектоскопию несущей рамы (естественно, «трещен» не обнаружили, откуда бы им там взяться?) и заменил все подшипники на малошумные самосмазывающиеся, такие делали для космоса. Но наибольшее удовольствия ему доставила возня с ротором двигателя: он отдал его представителю какого-то предприятия, а потом, получив обратно, динамически отбалансированным на специальном станке, с гордостью показывал всем, зачитывая крохотную величину остаточного дисбаланса. Самое главное, чего я не мог понять во всей этой истории, так это зачем ему магнитофон? Представить нашего ВБС, слушающего музыку, я, убейте меня, не мог.
Но после того как я поведал эти истории дома, выражение «с-вский ватерпас» прочно утвердилось в нашей семье для обозначения избыточных стараний по совершенно не соответствующему поводу. Вроде «из пушек по воробьям».
В итоге, когда прозвучал его очередной вопрос: – Сергей Викторович, а что вам известно об обработке титана? – я в ответ для начала рассмеялся. – Что будем делать на этот раз?
Оказалось, С-в еще не придумал. Просто ему подарили с какого-то предприятия пластинку титанового сплава толщиной три миллиметра и размерами где-то 40х200. Ну, с механической обработкой титана я был знаком не по институту, а еще до него, по авиамодельному кружку, куда кто-то тоже притаскивал кусочки очень редкого тогда материала. Самое правильное применение, которое им в конце концов нашли, так это делать подковки на ботинки. Во-первых, они практически не снашивались. Их, наоборот, переставляли с уже сношенных ботинок на новые. А во-вторых, если в сумерках чиркнуть такой подковкой по тротуарному бордюру, получался замечательный сноп белых искр.
Я и сообщил С-ву, что трехмиллиметровый титан обрабатывается и напильником, и на наждачном точиле. Тереть, конечно, долго. Но я знал, что перед трудностями он не спасует. Поведал про подковки, но они его не вдохновили.
Через несколько дней начальник поделился со мной планами: будет делать из титана двузубую длинную вилку для извлечения соленых огурцов из трехлитровой банки (в продаже ничего похожего тогда, естественно, не водилось). Верный себе, показал стопочку бумаги с аккуратными строчками: рассчитывал угол заточки зубьев – чтобы легко входили в огурец, но чтобы потом тот не соскакивал.
В одно-единственное посещение его жилища я видел эту вилку готовой, правда, подробно не рассмотрел из-за мутного рассола, из которого она торчала. Видел и таз с мыльной водой и плавающими в ней окурками около дивана. Наверно, время мыть пол еще не настало…
Мое разочарование работой во ВНИППе пришло быстро, однако уйти с предприятия, куда попал по распределению, было очень и очень сложно. Все-таки, я относился к этой работе терпимо, найти что-то интересное можно во всем. Но один случай произвел на меня особо тяжелое впечатление.
Как известно, устанавливать подшипники нужно таким образом, чтобы при монтаже не нагружать тела качения, то есть шарики или ролики. Говоря проще, ни в коем случае нельзя напрессовывать внутреннее кольцо, надавливая на наружное и наоборот. Это всегда создает определенные сложности при конструировании подшипниковых узлов: в них и так мало места, а нужно, чтобы влез не только сам подшипник, но и прессовое приспособление. В авиационных двигателях это и подавно трудно. Там нередко бывает так, что один вал крутится внутри другого с сумасшедшими оборотами да при высоких температурах. А бывает, что соосных валов и больше двух. Как сконструировать опоры таких валов с подшипниками, да еще и жидкую смазку к ним подавать нужно во время работы?
И вот, на одном предприятии исхитрились: не видя иной возможности собрать сложный узел, разработали специальную технологию «установки подшипников с передачей усилия через тела качения». Заводчане доказали, что при соблюдении целого ряда условий то, что абсолютно нельзя, все-таки можно. ВНИПП сопротивлялся, как мог, писал запретительные письма, грозил, но на заводе добились проведения государственных испытаний, и, делать нечего, запретная технология была утверждена – в виде исключения, на одно изделие и только для одного предприятия. Но шила в мешке не утаишь. О прогрессивной технологии мигом прознали по всей отрасли. Нас стали бомбардировать письмами с просьбой ознакомить другие предприятия с этой технологией и распространить ее на другие изделия. Наша задача была – стоять мертво и никому больше этого еретического способа не разрешать. И вот, с одного завода прислали длинное письмо с особо убедительными обоснованиями. Мне поручили составить не менее убедительный отказ.
К тому времени я уже достаточно поднаторел во ВНИППовских документах, не только технических, но и нормативных. Помню, покорпев дня два, я составил сложную казуистическую цепочку ссылок, по которым отметались все обоснования, приведенные в заводском письме. Гордый содеянным, я принес проект ответа на рассмотрение С-ву. Он, прочитав, пришел в восторг, назвал написанное песней и поэмой и наложил резолюцию «в печать». А мне вдруг стало стыдно и тоскливо. Ведь вся моя сообразительность имела целью тормозить прогресс. Люди новые двигатели создают, им нужна эта технология, а мне велели «не пущщать», и я радуюсь, что успешно не пущщаю. Я уже не паразитная шестеренка, а полноценный тормоз, если не песок в передаче. Разве об этом мечтал, идя работать во всесоюзный научно-исследовательский?
А через некоторое время пришла повестка из военкомата. Так что из положенных по распределению трех лет я во ВНИППе отработал один, а два отслужил в военной авиации лейтенантом (а потом аж старшим лейтенантом), техником самолета. По окончании службы стал свободен и пошел туда, куда хотел уже давно – в подводную технику.
И все же два полезных дела во ВНИППе я могу записать себе в актив. Во-первых, это исследование целого комплекта английских подшипников с двигателя сбитого над Китаем самолета. Они были очень интересные, особенно два. Имелась в них одна хитрость, никогда до того не применявшаяся в наших подшипниках, которая сильно улучшала их качество, про что я в своем исследовании подробно и написал. А во-вторых, по заказу одного предприятия я спроектировал подшипник именно такого нового типа. Но спроектировать – это оказалось меньше полдела, а вот согласовать... Дело в том, что его конструкция противоречила ГОСТу. Когда чертеж украсили, наконец, подписи всех инстанций, я поглядел на даты, стоящие напротив граф «Разработал» и «Утверждаю». Они различались ровно на девять месяцев.
С-в, когда я сообщил ему об этом, драматически воздел руки и провозгласил: – Человека можно было родить, а мы родили бумажку.
В последний день мы тепло распрощались со всеми сотрудниками. Работа во ВНИППе была скучная, но люди сердечные.
В дальнейшем вся моя деятельность протекала по другую сторону баррикады. После службы, уже работая в океанологии, я как-то в поисках редкого подшипника зашел во ВНИПП. Кое-кто из старых знакомых еще работал. По делу мне помогли, вспомнили былое, и, конечно, С-ва, моего первого начальника. Василий Борисович оттуда давно ушел, где он и что делает, никто не знал.
А у меня и фотографии его не осталось.
Сергей Смолицкий,
16-05-2012 22:24
(ссылка)
ВЕСНА В ДУНИНО
. 
На этой фотографии - уголок нашего участка в Дунине, деревне Рязанской области. Пруд на заднем плане бывает полноводным в мае - июне, но обычно пересыхает к концу июля - началу августа. А то, что на переднем плане, приехало издалека. Хвойное деревце - кедр с Байкала, родился рядом с поселком Никола, что при впадении Ангары, напротив Шаман-камня. А камень - из Швейцарии, с Альп.
Такие вот у нас там чудеса.

На этой фотографии - уголок нашего участка в Дунине, деревне Рязанской области. Пруд на заднем плане бывает полноводным в мае - июне, но обычно пересыхает к концу июля - началу августа. А то, что на переднем плане, приехало издалека. Хвойное деревце - кедр с Байкала, родился рядом с поселком Никола, что при впадении Ангары, напротив Шаман-камня. А камень - из Швейцарии, с Альп.
Такие вот у нас там чудеса.
Сергей Смолицкий,
13-04-2012 22:39
(ссылка)
КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ АХМЕДА БЕН БЕЛЛУ
Умер Ахмед Бен Белла. Почему-то в сообщениях по телевизору ни разу не услышал, что он был Героем Советского Союза – Хрущев в 1964 присвоил ему это звание, заодно с Ленинской премией "За укрепление мира между народами". Царство ему небесное. Но у меня это имя прочно связано с одним воспоминанием детства.
В 1964-м я занимался в авиамодельном кружке, который помещался в Доме пионеров на улице Дмитрова, нынче – снова Большой Якиманке, в старинном, наверно, бывшем купеческом доме, отделенном от тротуара широким палисадником с железной оградой. Мы как раз готовились к соревнованиям, по каковому поводу торчали в кружке едва ли не круглосуточно. Руководил нами Володя, фамилию не помню, потому что по большей части занимался у мастера спорта Юрия Николаевича Маркевича, но в то время он куда-то перевелся, и вот – Володя. Очень симпатичный, кстати говоря, юноша.
Улица Дмитрова тогда входила в правительственную трассу, по ней везли почетных гостей из Внукова в Кремль. Для этой цели всегда вдоль всей дороги, от въезда в город и до Боровицких ворот расставляли снятых с работы трудящихся с бумажными флажками страны, руководителя которой они от всего сердца приветствовали. Радость была, между прочим, действительно неподдельной – халявный рабочий день тогда являлся редкостью. А участки трассы делились между предприятиями, каждое занимало отведенное ему место, руководствуясь номерами фонарных столбов. Подробно все это я узнал позже, когда в студенческие и первые трудовые годы сам ходил на подобные мероприятия. А тогда мы через открытые окна кружка услышали гомон толпы и увидели людей, загодя стоящих по обе стороны улицы на тротуарах.
Володя пошел в магазин, купить чего-нибудь поесть – сидели-то мы, я уже сказал, целый день, а дело шло к вечеру. В его отсутствие кому-то из нас, не помню уже кому (может быть, даже мне) пришла в голову вполне идеологически выдержанная идея: при проезде кортежа мимо нашего дома запустить в честь почетного гостя нашей страны ракету.
Сказано – сделано. Пороховые ракеты у нас в кружке считались делом несерьезным, некоторый их запас всегда был наготове, если хотелось как-то развлечься, шли на улицу, устанавливали стартовый стержень, на него направляющими колечками надевалась ракета, в сопло вставляли короткий бикфордов шнур, поджигали и отбегали. Через несколько секунд ракета с веселым шипением, разбрасывая искры и оставляя за собой дымный след, взлетала вверх метров на сто. Там хлопал другой заряд, выстреливавший бумажный парашют, на котором все сооружение благополучно спускалось вниз.
И вот, кто-то один остался в кружке, наблюдать через открытое окно, когда приблизятся машины кортежа, чтобы дать команду, а мы все спустились вниз и приготовили ракету к пуску.
По команде подожгли «бикфорд», но я на ракету не смотрел, мне было интереснее – на Бен Беллу. В конце концов, ракет я уже много повидал, а президента Алжира когда еще увижу.
Так что Хрущева с Бен Беллой в открытом лимузине, которые приветствовали встречавших поднятыми соединенными руками, помню очень хорошо. Народ закричал что-то радостное, замахал флажками, Хрущев и загорелый гость широко улыбались, но звук ракеты все же был хорошо слышен – из-за сильного отличия от всех прочих. Мы угадали довольно точно: ракета взмыла вверх, когда машина чуть-чуть не доехала до нашего палисадника.
Надо сказать, что нравы тогда были совсем не те, что нынче. Из толпы на наше приветствие внимания не обратил почти никто, а кто обратил, те поняли все именно так, как и было нами задумано: в качестве проявления братских чувств. Может, подумали, что так и надо. Однако, кому-то и тогда полагалось следить за безопасностью первых лиц, и наш палисадник через полминуты заполнили молодые мужчины в шляпах и темных плащах «болонья». Мы и не думали прятаться. На их вопросы смело и толково ответили, что этой ракетой выразили свои братские чувства по отношению к другу нашей страны. Охрана, увидевшая перед собой группу юных идиотов, лютовать не стала. Они только поинтересовались, кто здесь старший – «А он в магазин пошел», - и твердо попросили вернуться в помещение. Через несколько минут туда влетел взъерошенный Володя, которому, вероятно, мужики высказали свое «фе» более решительным образом.
Никаких последствий это происшествие не имело. Ни нам, ни Володе ничего не сделали, даже не поругали как следует.
И если сейчас я все это вспоминаю, то больше всего дивлюсь контрасту. Нынче такое и помыслить нельзя – чтобы при проезде ОТКРЫТОЙ машины с первым лицом страны непроверенная толпа стояла в каких-нибудь двух – трех метрах от трассы, а малолетние обормоты шлялись рядом без присмотра, я уж не говорю – пороховые ракеты запускали. Сегодня такое, наверно, по всем каналам бы показали.
Тогда же и за инцидент не сочли.
В 1964-м я занимался в авиамодельном кружке, который помещался в Доме пионеров на улице Дмитрова, нынче – снова Большой Якиманке, в старинном, наверно, бывшем купеческом доме, отделенном от тротуара широким палисадником с железной оградой. Мы как раз готовились к соревнованиям, по каковому поводу торчали в кружке едва ли не круглосуточно. Руководил нами Володя, фамилию не помню, потому что по большей части занимался у мастера спорта Юрия Николаевича Маркевича, но в то время он куда-то перевелся, и вот – Володя. Очень симпатичный, кстати говоря, юноша.
Улица Дмитрова тогда входила в правительственную трассу, по ней везли почетных гостей из Внукова в Кремль. Для этой цели всегда вдоль всей дороги, от въезда в город и до Боровицких ворот расставляли снятых с работы трудящихся с бумажными флажками страны, руководителя которой они от всего сердца приветствовали. Радость была, между прочим, действительно неподдельной – халявный рабочий день тогда являлся редкостью. А участки трассы делились между предприятиями, каждое занимало отведенное ему место, руководствуясь номерами фонарных столбов. Подробно все это я узнал позже, когда в студенческие и первые трудовые годы сам ходил на подобные мероприятия. А тогда мы через открытые окна кружка услышали гомон толпы и увидели людей, загодя стоящих по обе стороны улицы на тротуарах.
Володя пошел в магазин, купить чего-нибудь поесть – сидели-то мы, я уже сказал, целый день, а дело шло к вечеру. В его отсутствие кому-то из нас, не помню уже кому (может быть, даже мне) пришла в голову вполне идеологически выдержанная идея: при проезде кортежа мимо нашего дома запустить в честь почетного гостя нашей страны ракету.
Сказано – сделано. Пороховые ракеты у нас в кружке считались делом несерьезным, некоторый их запас всегда был наготове, если хотелось как-то развлечься, шли на улицу, устанавливали стартовый стержень, на него направляющими колечками надевалась ракета, в сопло вставляли короткий бикфордов шнур, поджигали и отбегали. Через несколько секунд ракета с веселым шипением, разбрасывая искры и оставляя за собой дымный след, взлетала вверх метров на сто. Там хлопал другой заряд, выстреливавший бумажный парашют, на котором все сооружение благополучно спускалось вниз.
И вот, кто-то один остался в кружке, наблюдать через открытое окно, когда приблизятся машины кортежа, чтобы дать команду, а мы все спустились вниз и приготовили ракету к пуску.
По команде подожгли «бикфорд», но я на ракету не смотрел, мне было интереснее – на Бен Беллу. В конце концов, ракет я уже много повидал, а президента Алжира когда еще увижу.
Так что Хрущева с Бен Беллой в открытом лимузине, которые приветствовали встречавших поднятыми соединенными руками, помню очень хорошо. Народ закричал что-то радостное, замахал флажками, Хрущев и загорелый гость широко улыбались, но звук ракеты все же был хорошо слышен – из-за сильного отличия от всех прочих. Мы угадали довольно точно: ракета взмыла вверх, когда машина чуть-чуть не доехала до нашего палисадника.
Надо сказать, что нравы тогда были совсем не те, что нынче. Из толпы на наше приветствие внимания не обратил почти никто, а кто обратил, те поняли все именно так, как и было нами задумано: в качестве проявления братских чувств. Может, подумали, что так и надо. Однако, кому-то и тогда полагалось следить за безопасностью первых лиц, и наш палисадник через полминуты заполнили молодые мужчины в шляпах и темных плащах «болонья». Мы и не думали прятаться. На их вопросы смело и толково ответили, что этой ракетой выразили свои братские чувства по отношению к другу нашей страны. Охрана, увидевшая перед собой группу юных идиотов, лютовать не стала. Они только поинтересовались, кто здесь старший – «А он в магазин пошел», - и твердо попросили вернуться в помещение. Через несколько минут туда влетел взъерошенный Володя, которому, вероятно, мужики высказали свое «фе» более решительным образом.
Никаких последствий это происшествие не имело. Ни нам, ни Володе ничего не сделали, даже не поругали как следует.
И если сейчас я все это вспоминаю, то больше всего дивлюсь контрасту. Нынче такое и помыслить нельзя – чтобы при проезде ОТКРЫТОЙ машины с первым лицом страны непроверенная толпа стояла в каких-нибудь двух – трех метрах от трассы, а малолетние обормоты шлялись рядом без присмотра, я уж не говорю – пороховые ракеты запускали. Сегодня такое, наверно, по всем каналам бы показали.
Тогда же и за инцидент не сочли.
Сергей Смолицкий,
03-04-2012 19:55
(ссылка)
НУ ПОЧЕМУ?
Чем еще отличается наш ненавязчивый сервис? Когда Вы подходите к окошечку в банке или билетной кассе, с очень высокой долей вероятности можно ожидать, что вместо улыбающегося лица и вопроса: «Чем могу помочь?» вы увидите ухо или макушку сидящей по ту сторону сотрудницы и услышите: «Одну минуточку».
В какой-то момент мне даже стало интересно. Я начал проверять это дело в ближайшем отделении Сбербанка, куда заглядываю по разным надобностям чаще всего. Недавно там ввели новшество – электронную очередь. Вы при входе получаете у автомата билетик с номером и ждете, когда над одним из окошечек он появится на табло. Загорание дублируется нежным голосом: «Клиент с номером ##, вас просят пройти к ### окну». То есть, пока девушка не нажмет кнопочку, что она свободна, вас не вызовут. Но все равно, когда вы подойдете, она будет что-то высматривать на экране, деловито стуча по клавишам, и вы услышите обычное «Одну минуточку».
Почему-то ничего похожего не происходит за границей. Раньше мы полагали, что дело в советской системе оплаты труда, когда сотрудникам все равно, как они работают. При капитализме, говорили мы, за такую работу моментально прогнали бы. И тут же взяли бы другую – там безработица, а с эти делом шутки плохи.
Наивные!
Нынче у нас и капитализм, и безработица, а обслуживающий персонал все равно занят чем-то кроме клиента. Чем-то срочным и важным, и им не до нас. Нам нужно минуточку подождать.
Сегодня я долго воевал с сайтом РЖД, пытаясь через него заказать билет на поезд. Примерно через час они сжалились над моими потугами, и на экране возникла надпись, что сервер временно не работает, так как находится на обслуживании (на входе, правда, написано, что с пятого, сегодня – третье, ну да ладно, спасибо, хоть объяснили). Я оделся и побежал в турагенство через дорогу. Там тот же билет стоил на 200 рублей дороже (мелочи, конечно, но вообще-то нехило – больше 25% наценки при цене билета на сайте 780 рублей). Все было тихо, недолго и любезно. Однако первое, что я увидел, подойдя и поздоровавшись, было ухо сотрудницы, сосредоточенной на чем-то в компьютере, и услышал я знакомое «Одну минуточку».
Прав Жванецкий: что-то надо в консерватории менять.
В какой-то момент мне даже стало интересно. Я начал проверять это дело в ближайшем отделении Сбербанка, куда заглядываю по разным надобностям чаще всего. Недавно там ввели новшество – электронную очередь. Вы при входе получаете у автомата билетик с номером и ждете, когда над одним из окошечек он появится на табло. Загорание дублируется нежным голосом: «Клиент с номером ##, вас просят пройти к ### окну». То есть, пока девушка не нажмет кнопочку, что она свободна, вас не вызовут. Но все равно, когда вы подойдете, она будет что-то высматривать на экране, деловито стуча по клавишам, и вы услышите обычное «Одну минуточку».
Почему-то ничего похожего не происходит за границей. Раньше мы полагали, что дело в советской системе оплаты труда, когда сотрудникам все равно, как они работают. При капитализме, говорили мы, за такую работу моментально прогнали бы. И тут же взяли бы другую – там безработица, а с эти делом шутки плохи.
Наивные!
Нынче у нас и капитализм, и безработица, а обслуживающий персонал все равно занят чем-то кроме клиента. Чем-то срочным и важным, и им не до нас. Нам нужно минуточку подождать.
Сегодня я долго воевал с сайтом РЖД, пытаясь через него заказать билет на поезд. Примерно через час они сжалились над моими потугами, и на экране возникла надпись, что сервер временно не работает, так как находится на обслуживании (на входе, правда, написано, что с пятого, сегодня – третье, ну да ладно, спасибо, хоть объяснили). Я оделся и побежал в турагенство через дорогу. Там тот же билет стоил на 200 рублей дороже (мелочи, конечно, но вообще-то нехило – больше 25% наценки при цене билета на сайте 780 рублей). Все было тихо, недолго и любезно. Однако первое, что я увидел, подойдя и поздоровавшись, было ухо сотрудницы, сосредоточенной на чем-то в компьютере, и услышал я знакомое «Одну минуточку».
Прав Жванецкий: что-то надо в консерватории менять.
Сергей Смолицкий,
31-03-2012 22:36
(ссылка)
ЕЩЕ ПРО ОДНУ ЗНАКОМУЮ
Наталья Александровна Ястребова училась в ГИТИСе с моей мамой. Впоследствии они дружили, и я знал ее с детства. После маминой смерти, когда наша семья переехала в Черемушки, выяснилось, что мы с Ястребовой почти соседи – живем в двух остановках троллейбуса друг от друга. Мы стали часто встречаться. У нас рос Павлик, ее внук Леша был на год младше, мы почти одновременно завели в новых квартирах большие аквариумы, так что темы для разговоров не иссякали.
Наталья Александровна жила со своей мамой. Этой почтенной женщине было около девяноста лет. Она плохо слышала, почти ничего не видела, но ясность ума сохраняла завидную. Помню ее рассказ про гражданскую войну, как она, восемнадцатилетняя молодая жена оказалась с мужем то ли в Ялте, то ли в Новороссийске. Они, как и многие тогда, собирались отплыть в Константинополь. И вот муж оставил ее недалеко от пирса стеречь вещи, а сам ушел оформлять какие-то бумаги – билеты? Что нужно было оформлять для отъезда в эмиграцию в 1918-м году? Жалею, что тогда не спросил.
Возле пирса стоял пароход, у трапа – толпа, давка, крики. На вещи сразу же покусилась шнырявшая вокруг шпана. Что-то пропало, время шло, муж запропастился, она запаниковала. И вдруг увидела молоденького офицера, стоявшего неподалеку. Он курил, отрешенно похлопывая себя стеком по сапогу. И она закричала:
– Господин офицер! Что же это происходит?
Юноша внимательно посмотрел на нее и с тем же отрешенным видом, совершенно спокойно сказал:
– Мадам! Купите у меня лошадь.
Слова были такими неожиданными и неуместными, что она сразу осеклась. А потом ей стало ужасно смешно и – вдруг – она абсолютно успокоилась. Когда вернулся муж и стал что-то сбивчиво взволнованно объяснять про билеты, деньги, документы, она сказала:
– Знаешь, давай останемся.
Они остались. Какая судьба постигла мужа, я не знаю, а она всю свою долгую жизнь прожила в Советском Союзе. И нередко вспоминала того офицерика. Думала: как сложилась его судьба? Скорее всего, погиб.
Тогда, в конце восьмидесятых, она уже мало ходила, а через пару лет слегла, но ясность мысли не утратила. Ее кровать стояла в отдельной комнате, где, когда она не спала, громко работал телевизор. Старухина пенсия хранилась в кошельке, который лежал у нее под подушкой, и Наталья Александровна периодически просила у матери деньги на хозяйство. Могла обходиться и без них, но таким образом поддерживала у своей девяностолетней мамы чувство собственной важности и нужности.
Вскоре у нас прибавилось тем для общих разговоров: наш Паша и Леша, внук Натальи Александровны, стали учиться в одной школе. Дело в том, что ее дочь Ася с мужем, оба микробиологи, подписали контракт с каким-то американским университетом и на несколько лет уехали работать в Штаты. Алешу подбросили бабушке, она и устроила его в школу поближе к дому.
Вечером 22 января 1991 года Наталья Александровна, как и все советские люди, слушая телевизор, узнала об изъятии из обращения 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года. Кто пережил это событие, век не забудет, а для тех, кто не знает, поясню: самые крупные из имевшихся тогда денежных знаков разом изымались из обращения. Обменять имевшиеся на руках можно было в течение трех дней в сумме не более 1000 рублей на человека, у кого наличествовало больше, должны были писать заявления с обоснованиями, их обещали рассмотреть до марта. И объявили об этом вечером, когда практически все тогдашние магазины уже не работали, чтобы в оставшиеся три часа купюры нельзя было потратить.
Мы, помню, выслушали это известие более или менее спокойно, потому что жили тогда от зарплаты до зарплаты, и никакой тысячи рублей у нас на руках в помине не было. Ястребова же, по ее рассказу, похолодела, потому что уехавшие на три года дети оставили на содержание внука изрядную сумму, естественно, не мелочью. Она в панике бросилась считать, сколько же у нее оказалось ставших незаконными денег – выворачивая их из кошелька, портмоне, конвертиков и прочих потаенных мест. Вдруг вспомнила про материну пенсию и кинулась к ней в комнату.
Старушка уже спала. Наталья Александровна, ничего не объясняя и не дожидаясь, пока мать наденет очки и наладит слуховой аппарат, перегнулась через нее, вытащила из-под подушки кошелек и тут же стала лихорадочно перебирать содержимое.
Старуха тем временем восстановила возможность общения с миром, поглядела на дочь и спросила абсолютно спокойным ровным голосом:
– Что? Денежная реформа?
Наталье Александровне сразу стало легко и весело. Она вдруг увидела происходящее с высоты материной жизни, где были целая череда войн, революции, голод, репрессии и много-много еще чего. Рассмеялась и сказала:
– Ничего, мама. Переживем как-нибудь.
Ту, «павловскую» реформу, и правда, пережили не особо тяжело. Во всяком случае, я не знаю никого, кто сильно погорел тогда. В 1947-м, говорят, было похуже. Моя теща вспоминала своего двоюродного брата Николая, который пять лет проработал на Севере, экономя на всем: мечтал купить дом в деревне и корову. Вернулся «с чемоданом денег» в аккурат в конце сорок седьмого, и из заработанного ему в результате реформы осталась едва ли треть. Он даже письма Калинину писал с объяснениями своей «особой» ситуации, естественно, оставшиеся без ответа.
Но старуха-то, старуха какова?
Наталья Александровна жила со своей мамой. Этой почтенной женщине было около девяноста лет. Она плохо слышала, почти ничего не видела, но ясность ума сохраняла завидную. Помню ее рассказ про гражданскую войну, как она, восемнадцатилетняя молодая жена оказалась с мужем то ли в Ялте, то ли в Новороссийске. Они, как и многие тогда, собирались отплыть в Константинополь. И вот муж оставил ее недалеко от пирса стеречь вещи, а сам ушел оформлять какие-то бумаги – билеты? Что нужно было оформлять для отъезда в эмиграцию в 1918-м году? Жалею, что тогда не спросил.
Возле пирса стоял пароход, у трапа – толпа, давка, крики. На вещи сразу же покусилась шнырявшая вокруг шпана. Что-то пропало, время шло, муж запропастился, она запаниковала. И вдруг увидела молоденького офицера, стоявшего неподалеку. Он курил, отрешенно похлопывая себя стеком по сапогу. И она закричала:
– Господин офицер! Что же это происходит?
Юноша внимательно посмотрел на нее и с тем же отрешенным видом, совершенно спокойно сказал:
– Мадам! Купите у меня лошадь.
Слова были такими неожиданными и неуместными, что она сразу осеклась. А потом ей стало ужасно смешно и – вдруг – она абсолютно успокоилась. Когда вернулся муж и стал что-то сбивчиво взволнованно объяснять про билеты, деньги, документы, она сказала:
– Знаешь, давай останемся.
Они остались. Какая судьба постигла мужа, я не знаю, а она всю свою долгую жизнь прожила в Советском Союзе. И нередко вспоминала того офицерика. Думала: как сложилась его судьба? Скорее всего, погиб.
Тогда, в конце восьмидесятых, она уже мало ходила, а через пару лет слегла, но ясность мысли не утратила. Ее кровать стояла в отдельной комнате, где, когда она не спала, громко работал телевизор. Старухина пенсия хранилась в кошельке, который лежал у нее под подушкой, и Наталья Александровна периодически просила у матери деньги на хозяйство. Могла обходиться и без них, но таким образом поддерживала у своей девяностолетней мамы чувство собственной важности и нужности.
Вскоре у нас прибавилось тем для общих разговоров: наш Паша и Леша, внук Натальи Александровны, стали учиться в одной школе. Дело в том, что ее дочь Ася с мужем, оба микробиологи, подписали контракт с каким-то американским университетом и на несколько лет уехали работать в Штаты. Алешу подбросили бабушке, она и устроила его в школу поближе к дому.
Вечером 22 января 1991 года Наталья Александровна, как и все советские люди, слушая телевизор, узнала об изъятии из обращения 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года. Кто пережил это событие, век не забудет, а для тех, кто не знает, поясню: самые крупные из имевшихся тогда денежных знаков разом изымались из обращения. Обменять имевшиеся на руках можно было в течение трех дней в сумме не более 1000 рублей на человека, у кого наличествовало больше, должны были писать заявления с обоснованиями, их обещали рассмотреть до марта. И объявили об этом вечером, когда практически все тогдашние магазины уже не работали, чтобы в оставшиеся три часа купюры нельзя было потратить.
Мы, помню, выслушали это известие более или менее спокойно, потому что жили тогда от зарплаты до зарплаты, и никакой тысячи рублей у нас на руках в помине не было. Ястребова же, по ее рассказу, похолодела, потому что уехавшие на три года дети оставили на содержание внука изрядную сумму, естественно, не мелочью. Она в панике бросилась считать, сколько же у нее оказалось ставших незаконными денег – выворачивая их из кошелька, портмоне, конвертиков и прочих потаенных мест. Вдруг вспомнила про материну пенсию и кинулась к ней в комнату.
Старушка уже спала. Наталья Александровна, ничего не объясняя и не дожидаясь, пока мать наденет очки и наладит слуховой аппарат, перегнулась через нее, вытащила из-под подушки кошелек и тут же стала лихорадочно перебирать содержимое.
Старуха тем временем восстановила возможность общения с миром, поглядела на дочь и спросила абсолютно спокойным ровным голосом:
– Что? Денежная реформа?
Наталье Александровне сразу стало легко и весело. Она вдруг увидела происходящее с высоты материной жизни, где были целая череда войн, революции, голод, репрессии и много-много еще чего. Рассмеялась и сказала:
– Ничего, мама. Переживем как-нибудь.
Ту, «павловскую» реформу, и правда, пережили не особо тяжело. Во всяком случае, я не знаю никого, кто сильно погорел тогда. В 1947-м, говорят, было похуже. Моя теща вспоминала своего двоюродного брата Николая, который пять лет проработал на Севере, экономя на всем: мечтал купить дом в деревне и корову. Вернулся «с чемоданом денег» в аккурат в конце сорок седьмого, и из заработанного ему в результате реформы осталась едва ли треть. Он даже письма Калинину писал с объяснениями своей «особой» ситуации, естественно, оставшиеся без ответа.
Но старуха-то, старуха какова?
Сергей Смолицкий,
09-03-2012 14:28
(ссылка)
ПРО НЕВСКОГО И РАЗНЫХ ДОНСКИХ
Ну вот, и до Москвы докатилось.
Еду на днях по Тверской-Ямской, между Триумфальной и площадью Тверской заставы, вдруг справа указатель: «улица А.Невского».
Приехали. Раньше я над калининградцами все время подшучивал за их уличные таблички. Именно там впервые увидел такие – «А.Невского» и «Д.Донского». Местные сначала никак не хотели понять моего возмущения, что, мол, Невский и Донской – не фамилии, а прозвища, перед которыми инициалы абсолютно неуместны. Когда кто-то возразил, что вполне сгодится и так, я спросил: «А набережную, где музей, можно писать «набережная П.Великого»? Тогда согласились.
Кстати, эту разницу – между фамилией и прозвищем – прекрасно знали составители энциклопедий советского времени (тогда вообще с грамотностью получше было): в Большой Советской два Донских стоят далеко друг от друга. Потому что князь Московский и великий князь Владимирский указан как «Дмитрий Иванович Донской», а кинорежиссер, автор экранизаций Горького и Островского, как «Донской Марк Семенович».
В Москве с грамотностью уличных указателей было получше. Перлы «улица Дениса-Давыдова» и «Маркса-Энгельса» читать приходилось, но только на автобусах, там, где конечные остановки.
А теперь вот – «А.Невский».
Прогресс, однако.
Еду на днях по Тверской-Ямской, между Триумфальной и площадью Тверской заставы, вдруг справа указатель: «улица А.Невского».
Приехали. Раньше я над калининградцами все время подшучивал за их уличные таблички. Именно там впервые увидел такие – «А.Невского» и «Д.Донского». Местные сначала никак не хотели понять моего возмущения, что, мол, Невский и Донской – не фамилии, а прозвища, перед которыми инициалы абсолютно неуместны. Когда кто-то возразил, что вполне сгодится и так, я спросил: «А набережную, где музей, можно писать «набережная П.Великого»? Тогда согласились.
Кстати, эту разницу – между фамилией и прозвищем – прекрасно знали составители энциклопедий советского времени (тогда вообще с грамотностью получше было): в Большой Советской два Донских стоят далеко друг от друга. Потому что князь Московский и великий князь Владимирский указан как «Дмитрий Иванович Донской», а кинорежиссер, автор экранизаций Горького и Островского, как «Донской Марк Семенович».
В Москве с грамотностью уличных указателей было получше. Перлы «улица Дениса-Давыдова» и «Маркса-Энгельса» читать приходилось, но только на автобусах, там, где конечные остановки.
А теперь вот – «А.Невский».
Прогресс, однако.
Сергей Смолицкий,
07-03-2012 12:40
(ссылка)
ПРОСТО ВСПОМИНАЮ
Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.
Давид Самойлов
Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после.
Валентин Распутин. Уроки французского
Еву Ефимовну и Бориса Рахмиловича Вайнштейнов, друзей юности моих бабушки и дедушки с папиной стороны, я знал с раннего детства. Они обязательно присутствовали на всех праздниках в бабушкином доме, тех шумных и хлебосольных праздниках, которые устраивают люди, еще не успевшие почувствовать старости и растерять друзей юности, полные сил, озорства и задора, занятые любимым делом, но уже ставшие дедушками и бабушками – им только-только перевалило за пятьдесят. И, что я понял значительно позже, имевших реальные причины для радости: совсем недавно кончилась самая страшная в человеческой истории война, по многим из них прокатившаяся всем своим весом, потом – так или иначе затронувшая едва ли не всех присутствовавших кампания борьбы с «безродным космополитизмом». И вот, наконец, настало-таки время, когда старший из бабушкиных братьев, Ефим, перестал каждый вечер перед сном удостоверяться у родных по телефону, все ли дома.
Продукты начали продавать без карточек! Дети вышли в самостоятельную жизнь, пошли внуки!
Они должны были воспринимать эту наступившую жизнь, как воистину прекрасную.
А в прошедшем весело вспоминали забавное: например, как бабушка в эвакуации освоила плетение туфель из шпагата и снабжала ими всю родню. Или как готовила драники из картофельных очисток. Да и столярный клей, который ел, спасаясь от голода, ее брат, Михаил, в блокадном Ленинграде, упоминался отнюдь не с трагическими нотами.
…И только много-много лет спустя я узнал про бабушкину бабушку, которую в сорок втором убили в ее родном Сураже – закопали в землю живьем. Не одну, конечно, акция была массовой. И все равно, когда я попросил отца рассказать, что ему об этом известно, он, поведав «подробности, которых, собственно, кот наплакал», тут же перешел на светлое и стал вспоминать ее живую, когда в начале тридцатых приезжала к родным в Москву. Как ехали в электричке, и она почти силой усадила на свое место какого-то молодого человека: «Я же иждивенка, а вы с работы, устали». Ей было за семьдесят. Забавно…
На праздники обычно собиралось много народа: в бабушкиной семье было восемь братьев и сестер. Меня приводили маленького (я жил в одной остановке по Кировской, нынче снова Мясницкой), шумно и радостно встречали, и было вкусно и интересно: сначала ели и пили то, чего в обычные дни не едят и не пьют – пироги, фаршированную рыбу, праздничные салаты и ситро (что пили взрослые, меня не интересовало), и обязательно устраивали концерт: я читал стихи, дедушка пел, а дядя Боря Вайнштейн жонглировал. Он на разные лады подкидывал три – четыре яблока или мандарина, гонял их перед собой по кругу или парами, а потом еще ставил на нос половую щетку. Это поражало мое детское воображение. В конце концов, читать стихи и петь, как я считал, могут все, одни лучше, другие хуже, а вот умение жонглировать казалось мне чем-то высшим.
Борис Рахмилович Вайнштейн был известным стоматологом-протезистом. Много позже я нашел его имя в Медицинской энциклопедии, он там упоминается как изобретатель нескольких составов слепочных масс, которые выпускались в СССР и назывались по имени автора. К этим массам я имел непосредственное касательство: дядя Боря ловко мастерил из них игрушечные самолетики для детей. Подарил он такой и мне, причем сделал его на моих глазах и отдал остатки материала, из которых я потом долго что-то лепил и перелепливал.
Кроме обширной врачебной практики Борис Рахмилович преподавал в Стоматологическом институте. Одним из известных его достижений было исправление прикуса первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. До полета, видимо, этим заняться было недосуг, имиджмейкеры тогда на наших просторах не водились. По общему признанию, Валя Терешкова была очень мила, но сильно выдававшиеся верхние зубы портили ее внешность. А через некоторое время она стала обладать вполне голливудскими зубами (правда, улыбка у нее осталась наша, милая и чуть смущенная). Борис Рахмилович с гордостью показывал друзьям и знакомым полусекретные фотографии, где в кресле – насмерть перепуганная Валя с широко разинутым ртом скошенными глазами следит, как он в полном врачебном облачении колдует с какими-то блестящими штучками.
Старшие бабушкины братья и сестры свободно говорили по-русски и на идиш, причем на русском без какого бы то ни было акцента. Младшие – только по-русски. Иностранными языками, насколько мне известно, никто из них толком не овладел. В отличие от них супруги Вайнштейн всю жизнь говорили с неистребимыми акцентами, но разными. У Бориса Рахмиловича был именно тот выговор, что всегда изображают у евреев в анекдотах, до которых сам он был очень большой любитель. Вообще я помню его человеком компанейским, веселым спорщиком и шутником. В отличие от него Ева Ефимовна держалась дамой. Она родилась и начало жизни провела в Варшаве, так что говорила на польский лад, неспешно и точно выговаривая все гласные, с твердыми «ч» и «ш» и губно-зубным «л». Именно так – четко, будто по буквам произнесенное – я запомнил сказанное ею как-то вскользь слово «гетто» – там в Варшаве сгинули шесть ее братьев и сестер. Не баловала судьба Вайнштейнов и в мирное время: двое из троих сыновей нелепо погибли – один под трамваем, другого сбил грузовик в Москве с интервалом в двадцать лет.
В пятьдесят девятом мы вшестером – дедушка, бабушка, я и Вайнштейны с оставшимся сыном – Толей, студентом-стоматологом, месяц отдыхали на Рижском взморье. Мне было девять лет, и с этими взрослыми нравилось: они баловали меня, самого маленького в компании, но в карты брали играть на равных. Дулись на пляже в «пятьсот одно», как я потом понял – сильно упрощенный вариант преферанса. И еще лето или два Вайнштейны гостили на снимаемой дедушкой даче в Ашукинской. Своей у богатого советского стоматолога не было.
А потом я взрослел, а они старели. Москва разрасталась. Жившие когда-то все неподалеку друг от друга, на склоне лет они стали обитателями окраин, откуда до ближайшей станции метро поди доберись. Я еще долго встречал бабушкину родню и друзей на ее праздниках, но чтобы всех сразу, такого больше не бывало. Большая часть родственников оказались в разных городах – Ленинграде, Оренбурге, Рязани, но, бывая в Москве по разным делам, обязательно заходили в гости к Рахили – бабушку любили за хлебосольство и ровную сердечность ко всем.
Вообще же так вышло, что и сама бабушка, и ее братья и сестры, и Вайнштейны, и другие их друзья прожили долгие жизни. Исключение составил лишь дедушка, Гершон Рувимович, он умер на шестьдесят втором году жизни. Остальные оказались людьми сильной породы. Поневоле вспоминается сказанное Ахматовой: "А слабые все погибли. Выжили только крепкие".
Однако в бабушкиной компании подобных философских сентенций произносить было некому.
В августе 1982-го я был у нее в гостях уже со своими детьми, шестилетним Павликом и трехлетним Мишей. Сбор был юбилейный – ей исполнилось восемьдесят, и гостей собралось больше, чем обычно. Среди них оказалась одна незнакомая мне женщина (я-то думал, что знаю уже всех), с которой бабушка и присутствующие разговаривали как со старинной хорошей знакомой. Оказалось, что это Римма Ефимовна, сестра Евы Вайнштейн, ленинградка. Усевшись на диван втроем с бабушкой и дедушкиной сестрой Саррой, они весело провозгласили, что здесь разместились двести сорок лет. Однако, несмотря на солидную сумму, маразмом или унынием там и не пахло, старухи шутили, подначивали друг дружку, что-то вспоминали и дружно хохотали. Римме понравились мои мальчишки, мы разговорились, и как-то сразу почувствовали настрой на одну волну – это при разнице ровно в пятьдесят лет! Но сам формат сборища к долгим разговорам не располагал, да и детей нужно было везти домой. Так что мы довольно быстро распрощались.
А вскоре, в декабре 1982-го я оказался в Ленинграде в долгой командировке. Тогда как раз на Адмиралтейском заводе строили прочный корпус нашего «Осмотра», я сидел на верфи в качестве конструктора-сопроводителя. В один из вечеров позвонил Римме Ефимовне, она обрадовалась и сразу позвала в гости. И через несколько дней я нанес ей визит – в большую коммуналку на Лиговском, неподалеку от Невского.
Старушкин прием слегка оглушил меня сразу: я почувствовал себя гостем в дореволюционной Варшаве. Чай на двоих Римма Ефимовна подала на крахмальной скатерти, постелив поверх нее две льняные салфетки. Остальные предметы сервировки соответствовали. В те годы на наших просторах подобное встречалось нечасто. Я как-то сразу осознал необходимость следить за прямотой собственной спины.
Разговор наш, с ходу взяв разбег, покатился легко. Это отметила и Римма: «Как будто всю жизнь знакомы».
Я старался больше слушать, только изредка вставлял вопросы, побуждая ее говорить еще и еще. Потому что истории, которые она рассказывала, того заслуживали.
Девяти лет ее увезли из Варшавы, и больше она этого города не видела. А я как раз за полтора года до нашей встречи был в месячной командировке в Польше и двое суток провел в Варшаве, так что поддержать разговор было чем.
Про детство рассказывала мало – у отца с матерью родились 15 детей, в живых осталось 9, она – третья от конца. В варшавском гетто погибли шестеро. Римма сказала задумчиво: «Как хорошо, что папа с мамой до этого не дожили!»
На вопрос о муже гордо ответила: «Он был нэпман. Имел два магазина в Пассаже». Я слегка оторопел, такая гордость плохо вмещалась в сознание тогда, в восемьдесят втором.
Вся советская мифология о НЭПе строилась на том, что нэпманы – жулики и кровопийцы. К восьмидесятым скорее можно было услышать романтические воспоминания о предке – белом офицере, их к тому времени уже частично культурно реабилитировали. Правда, впервые усомниться в правильности официального отношения к НЭПу несколькими годами раньше заставили слова моей тещи: Александра Ивановна, вспоминая то время, охарактеризовала начало новой политики кратко: «Ничего не было, и сразу все появилось».
А в тридцатом к римминому мужу пришли чекисты. Не арестовывать, еще нет. Просто всё, что было в доме, забрали, погрузили на подводы и увезли. «Оставили одну детскую кроватку».
Муж проследил в окно, как подводы скрылись в конце улицы. Вернулся в дом, открыл незамеченный чекистами встроенный шкаф, извлек из него патефон, поставил на пол, завел и стал плясать.
На музыку пришел сосед снизу, он видел, как увозили мебель. Пустая квартира нараспашку. Сосед с порога увидел танцующую фигуру и не понял, кто это. Спросил у Риммы, она ответила, что муж.
«Он постоял, повернулся и ушел». Решил, что человек умом тронулся.
А он не тронулся. Он уже тогда понимал, что увезенная мебель – это только мебель. Это даже меньше, чем полбеды.
Через несколько лет его забрали и отправили в Сибирь. Ей как-то удалось выяснить, что Берия проводил инспекционную поездку по краю, где мотал срок муж. Она подхватилась и поехала.
Как ей удалось добиться приема у всесильного наркома, это мне непонятно. Но, по ее рассказу выходило так, что добилась. Рассказала Лаврентию, что на допросах от мужа требовали, чтобы сдал, что осталось, а не осталось ничего: имущество увезли, а квартиру сам отдал. Больше ничего нет.
Берия выслушал, спросил, где она остановилась, и велел идти домой. Обещал, что ей туда принесут билет на поезд, и что муж поедет вместе с ней. Потребовал одного: чтобы она ни с кем об этой истории не разговаривала и никому никаких вопросов не задавала.
Прямо легенда об Орфее.
Она вернулась. Билет, действительно, принесли. До отъезда оставалось несколько дней, о муже ни слуху, ни духу. И, главное, спросить не у кого – боялась нарушить условия – чего? уговора? игры?
Наверно, игры: людоед забавлялся, этакие кошки-мышки.
В день отъезда муж не появился. Она ни жива, ни мертва пришла на вокзал, села в купе. Ждала до последней минуты. Первый звонок, второй.
Третий.
За несколько секунд до отправления мужа подвезли к поезду на дрезине с конвоем, ввели в купе, попрощались и ушли.
«Мы с ним обнялись и заплакали, говорить полдня не могли, всё плакали. Ехали и плакали».
Я помню, когда она рассказала это, у меня мурашки по спине побежали. Как-то сразу представил себе: вот простой человек, вот нарком госбезопасности. Захотел – посадил, захотел – в пыль стер. А захотел – помиловал, да еще и спектакль разыграл, позабавился.
А чего ужасного – муж-то ведь жив остался. Радоваться надо.
Больше всего меня поразило сделанное Риммой Ефимовной резюме. Она сказала:
– Вот Берию многие ругают. А я – нет. Мне он помог. ОН МУЖА ВЫПУСТИЛ.
Я, конечно, стал горячо возражать, мол, а посадил-то его кто? Она смотрела куда-то поверх меня, видимо, решила этот вопрос для себя уже давно. Покачала головой:
– Не знаю. Я ему благодарна.
Потом ее муж воевал – от звонка до звонка. Остался жив, хотя из окружения по снегу ползком выбирался – один. А потом до конца шестидесятых работал инженером. Показала фотографию – веселый, жизнерадостный, с Риммой и их взрослой дочерью. Умер двенадцать лет назад.
С гордостью рассказывала о внуках: один играет в оркестре Мравинского. Ну да, о внуках – всегда с гордостью.
В гостиницу я вернулся, переполненный впечатлениями и мыслями. По горячим следам записал их в дневник, извинившись перед сослуживцем, что занят, и разговаривать будем завтра. В командировку мы приехали вдвоем с Вячеславом Успенским, жили в трехместном номере гостиницы «Академическая» на Миллионной (про которую не все знали, что она – Миллионная, потому что называлась тогда – Халтурина). Просто так в гостиницы устроиться было почти невозможно, а «Академическая» считалась ведомственной, туда селили по командировочным удостоверениям. Еще она называлась «ДПУ» – дом приезжающих ученых, хотя настоящие ученые там останавливались редко, больше технические сотрудники, вроде нас. Или снабженцы. Накануне к нам как раз подселили третьего, парня лет тридцати с чем-нибудь, из Сибири. Его не было – где-то гулял. Мы с Успенским уже легли и выключили свет, когда появилось это чудо – хорошо навеселе. Открыв дверь, он остался на пороге.
– Привет, мужики!
Мы недовольно и уже сонно промычали, что да, привет.
– Мужики, вы извините. Я это… бабу привел.
Мадам не стала задерживаться в дверях. Подтолкнув спутника, она впорхнула в комнату и сильно пьяным голосом преувеличенно вежливо поздоровалась – уважала, видимо, место, куда пришла и спавших «ученых». Слегка ошалев от такой наглости, мы все же выгонять их не стали. Что-то буркнули и дружно отвернулись к стенкам. А те, не включая света, прошли к дальней кровати, пошуршали, затихли. Потом послышался шепот:
– Подожди, потом.
– Когда потом-то?
– Ну, не сейчас.
– А когда?
– Ну, утром, когда они уйдут.
– Ты чё, утром?
– Ну, подожди, потом.
Дальше стало тихо, и я заснул. Правда, перед сном успел-таки подумать об удивительности и таком разнообразии окружающей действительности. Как вечер начался, и как он кончился…
Утром мы с Успенским, не зажигая света, быстренько смотались. Хотели вечером устроить соседу выволочку, но он не появился. Уехал.
С Риммой Ефимовной я больше не встречался. Пару раз говорил по телефону, поздравлял с праздниками. У нас в Черемушках тогда еще и телефона дома не было, установили только в восемьдесят восьмом. А через несколько лет узнал, что она умерла.
***
Теперь я уже сам дедушка. После описанных событий прошла целая жизнь, но вот запали в память подробности, тревожат, теребят.
Потому что человеку нужны в жизни старшие.
Или хотя бы память о них.
Чтобы совести было на кого опираться.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.
Давид Самойлов
Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после.
Валентин Распутин. Уроки французского
Еву Ефимовну и Бориса Рахмиловича Вайнштейнов, друзей юности моих бабушки и дедушки с папиной стороны, я знал с раннего детства. Они обязательно присутствовали на всех праздниках в бабушкином доме, тех шумных и хлебосольных праздниках, которые устраивают люди, еще не успевшие почувствовать старости и растерять друзей юности, полные сил, озорства и задора, занятые любимым делом, но уже ставшие дедушками и бабушками – им только-только перевалило за пятьдесят. И, что я понял значительно позже, имевших реальные причины для радости: совсем недавно кончилась самая страшная в человеческой истории война, по многим из них прокатившаяся всем своим весом, потом – так или иначе затронувшая едва ли не всех присутствовавших кампания борьбы с «безродным космополитизмом». И вот, наконец, настало-таки время, когда старший из бабушкиных братьев, Ефим, перестал каждый вечер перед сном удостоверяться у родных по телефону, все ли дома.
Продукты начали продавать без карточек! Дети вышли в самостоятельную жизнь, пошли внуки!
Они должны были воспринимать эту наступившую жизнь, как воистину прекрасную.
А в прошедшем весело вспоминали забавное: например, как бабушка в эвакуации освоила плетение туфель из шпагата и снабжала ими всю родню. Или как готовила драники из картофельных очисток. Да и столярный клей, который ел, спасаясь от голода, ее брат, Михаил, в блокадном Ленинграде, упоминался отнюдь не с трагическими нотами.
…И только много-много лет спустя я узнал про бабушкину бабушку, которую в сорок втором убили в ее родном Сураже – закопали в землю живьем. Не одну, конечно, акция была массовой. И все равно, когда я попросил отца рассказать, что ему об этом известно, он, поведав «подробности, которых, собственно, кот наплакал», тут же перешел на светлое и стал вспоминать ее живую, когда в начале тридцатых приезжала к родным в Москву. Как ехали в электричке, и она почти силой усадила на свое место какого-то молодого человека: «Я же иждивенка, а вы с работы, устали». Ей было за семьдесят. Забавно…
На праздники обычно собиралось много народа: в бабушкиной семье было восемь братьев и сестер. Меня приводили маленького (я жил в одной остановке по Кировской, нынче снова Мясницкой), шумно и радостно встречали, и было вкусно и интересно: сначала ели и пили то, чего в обычные дни не едят и не пьют – пироги, фаршированную рыбу, праздничные салаты и ситро (что пили взрослые, меня не интересовало), и обязательно устраивали концерт: я читал стихи, дедушка пел, а дядя Боря Вайнштейн жонглировал. Он на разные лады подкидывал три – четыре яблока или мандарина, гонял их перед собой по кругу или парами, а потом еще ставил на нос половую щетку. Это поражало мое детское воображение. В конце концов, читать стихи и петь, как я считал, могут все, одни лучше, другие хуже, а вот умение жонглировать казалось мне чем-то высшим.
Борис Рахмилович Вайнштейн был известным стоматологом-протезистом. Много позже я нашел его имя в Медицинской энциклопедии, он там упоминается как изобретатель нескольких составов слепочных масс, которые выпускались в СССР и назывались по имени автора. К этим массам я имел непосредственное касательство: дядя Боря ловко мастерил из них игрушечные самолетики для детей. Подарил он такой и мне, причем сделал его на моих глазах и отдал остатки материала, из которых я потом долго что-то лепил и перелепливал.
Кроме обширной врачебной практики Борис Рахмилович преподавал в Стоматологическом институте. Одним из известных его достижений было исправление прикуса первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. До полета, видимо, этим заняться было недосуг, имиджмейкеры тогда на наших просторах не водились. По общему признанию, Валя Терешкова была очень мила, но сильно выдававшиеся верхние зубы портили ее внешность. А через некоторое время она стала обладать вполне голливудскими зубами (правда, улыбка у нее осталась наша, милая и чуть смущенная). Борис Рахмилович с гордостью показывал друзьям и знакомым полусекретные фотографии, где в кресле – насмерть перепуганная Валя с широко разинутым ртом скошенными глазами следит, как он в полном врачебном облачении колдует с какими-то блестящими штучками.
Старшие бабушкины братья и сестры свободно говорили по-русски и на идиш, причем на русском без какого бы то ни было акцента. Младшие – только по-русски. Иностранными языками, насколько мне известно, никто из них толком не овладел. В отличие от них супруги Вайнштейн всю жизнь говорили с неистребимыми акцентами, но разными. У Бориса Рахмиловича был именно тот выговор, что всегда изображают у евреев в анекдотах, до которых сам он был очень большой любитель. Вообще я помню его человеком компанейским, веселым спорщиком и шутником. В отличие от него Ева Ефимовна держалась дамой. Она родилась и начало жизни провела в Варшаве, так что говорила на польский лад, неспешно и точно выговаривая все гласные, с твердыми «ч» и «ш» и губно-зубным «л». Именно так – четко, будто по буквам произнесенное – я запомнил сказанное ею как-то вскользь слово «гетто» – там в Варшаве сгинули шесть ее братьев и сестер. Не баловала судьба Вайнштейнов и в мирное время: двое из троих сыновей нелепо погибли – один под трамваем, другого сбил грузовик в Москве с интервалом в двадцать лет.
В пятьдесят девятом мы вшестером – дедушка, бабушка, я и Вайнштейны с оставшимся сыном – Толей, студентом-стоматологом, месяц отдыхали на Рижском взморье. Мне было девять лет, и с этими взрослыми нравилось: они баловали меня, самого маленького в компании, но в карты брали играть на равных. Дулись на пляже в «пятьсот одно», как я потом понял – сильно упрощенный вариант преферанса. И еще лето или два Вайнштейны гостили на снимаемой дедушкой даче в Ашукинской. Своей у богатого советского стоматолога не было.
А потом я взрослел, а они старели. Москва разрасталась. Жившие когда-то все неподалеку друг от друга, на склоне лет они стали обитателями окраин, откуда до ближайшей станции метро поди доберись. Я еще долго встречал бабушкину родню и друзей на ее праздниках, но чтобы всех сразу, такого больше не бывало. Большая часть родственников оказались в разных городах – Ленинграде, Оренбурге, Рязани, но, бывая в Москве по разным делам, обязательно заходили в гости к Рахили – бабушку любили за хлебосольство и ровную сердечность ко всем.
Вообще же так вышло, что и сама бабушка, и ее братья и сестры, и Вайнштейны, и другие их друзья прожили долгие жизни. Исключение составил лишь дедушка, Гершон Рувимович, он умер на шестьдесят втором году жизни. Остальные оказались людьми сильной породы. Поневоле вспоминается сказанное Ахматовой: "А слабые все погибли. Выжили только крепкие".
Однако в бабушкиной компании подобных философских сентенций произносить было некому.
В августе 1982-го я был у нее в гостях уже со своими детьми, шестилетним Павликом и трехлетним Мишей. Сбор был юбилейный – ей исполнилось восемьдесят, и гостей собралось больше, чем обычно. Среди них оказалась одна незнакомая мне женщина (я-то думал, что знаю уже всех), с которой бабушка и присутствующие разговаривали как со старинной хорошей знакомой. Оказалось, что это Римма Ефимовна, сестра Евы Вайнштейн, ленинградка. Усевшись на диван втроем с бабушкой и дедушкиной сестрой Саррой, они весело провозгласили, что здесь разместились двести сорок лет. Однако, несмотря на солидную сумму, маразмом или унынием там и не пахло, старухи шутили, подначивали друг дружку, что-то вспоминали и дружно хохотали. Римме понравились мои мальчишки, мы разговорились, и как-то сразу почувствовали настрой на одну волну – это при разнице ровно в пятьдесят лет! Но сам формат сборища к долгим разговорам не располагал, да и детей нужно было везти домой. Так что мы довольно быстро распрощались.
А вскоре, в декабре 1982-го я оказался в Ленинграде в долгой командировке. Тогда как раз на Адмиралтейском заводе строили прочный корпус нашего «Осмотра», я сидел на верфи в качестве конструктора-сопроводителя. В один из вечеров позвонил Римме Ефимовне, она обрадовалась и сразу позвала в гости. И через несколько дней я нанес ей визит – в большую коммуналку на Лиговском, неподалеку от Невского.
Старушкин прием слегка оглушил меня сразу: я почувствовал себя гостем в дореволюционной Варшаве. Чай на двоих Римма Ефимовна подала на крахмальной скатерти, постелив поверх нее две льняные салфетки. Остальные предметы сервировки соответствовали. В те годы на наших просторах подобное встречалось нечасто. Я как-то сразу осознал необходимость следить за прямотой собственной спины.
Разговор наш, с ходу взяв разбег, покатился легко. Это отметила и Римма: «Как будто всю жизнь знакомы».
Я старался больше слушать, только изредка вставлял вопросы, побуждая ее говорить еще и еще. Потому что истории, которые она рассказывала, того заслуживали.
Девяти лет ее увезли из Варшавы, и больше она этого города не видела. А я как раз за полтора года до нашей встречи был в месячной командировке в Польше и двое суток провел в Варшаве, так что поддержать разговор было чем.
Про детство рассказывала мало – у отца с матерью родились 15 детей, в живых осталось 9, она – третья от конца. В варшавском гетто погибли шестеро. Римма сказала задумчиво: «Как хорошо, что папа с мамой до этого не дожили!»
На вопрос о муже гордо ответила: «Он был нэпман. Имел два магазина в Пассаже». Я слегка оторопел, такая гордость плохо вмещалась в сознание тогда, в восемьдесят втором.
Вся советская мифология о НЭПе строилась на том, что нэпманы – жулики и кровопийцы. К восьмидесятым скорее можно было услышать романтические воспоминания о предке – белом офицере, их к тому времени уже частично культурно реабилитировали. Правда, впервые усомниться в правильности официального отношения к НЭПу несколькими годами раньше заставили слова моей тещи: Александра Ивановна, вспоминая то время, охарактеризовала начало новой политики кратко: «Ничего не было, и сразу все появилось».
А в тридцатом к римминому мужу пришли чекисты. Не арестовывать, еще нет. Просто всё, что было в доме, забрали, погрузили на подводы и увезли. «Оставили одну детскую кроватку».
Муж проследил в окно, как подводы скрылись в конце улицы. Вернулся в дом, открыл незамеченный чекистами встроенный шкаф, извлек из него патефон, поставил на пол, завел и стал плясать.
На музыку пришел сосед снизу, он видел, как увозили мебель. Пустая квартира нараспашку. Сосед с порога увидел танцующую фигуру и не понял, кто это. Спросил у Риммы, она ответила, что муж.
«Он постоял, повернулся и ушел». Решил, что человек умом тронулся.
А он не тронулся. Он уже тогда понимал, что увезенная мебель – это только мебель. Это даже меньше, чем полбеды.
Через несколько лет его забрали и отправили в Сибирь. Ей как-то удалось выяснить, что Берия проводил инспекционную поездку по краю, где мотал срок муж. Она подхватилась и поехала.
Как ей удалось добиться приема у всесильного наркома, это мне непонятно. Но, по ее рассказу выходило так, что добилась. Рассказала Лаврентию, что на допросах от мужа требовали, чтобы сдал, что осталось, а не осталось ничего: имущество увезли, а квартиру сам отдал. Больше ничего нет.
Берия выслушал, спросил, где она остановилась, и велел идти домой. Обещал, что ей туда принесут билет на поезд, и что муж поедет вместе с ней. Потребовал одного: чтобы она ни с кем об этой истории не разговаривала и никому никаких вопросов не задавала.
Прямо легенда об Орфее.
Она вернулась. Билет, действительно, принесли. До отъезда оставалось несколько дней, о муже ни слуху, ни духу. И, главное, спросить не у кого – боялась нарушить условия – чего? уговора? игры?
Наверно, игры: людоед забавлялся, этакие кошки-мышки.
В день отъезда муж не появился. Она ни жива, ни мертва пришла на вокзал, села в купе. Ждала до последней минуты. Первый звонок, второй.
Третий.
За несколько секунд до отправления мужа подвезли к поезду на дрезине с конвоем, ввели в купе, попрощались и ушли.
«Мы с ним обнялись и заплакали, говорить полдня не могли, всё плакали. Ехали и плакали».
Я помню, когда она рассказала это, у меня мурашки по спине побежали. Как-то сразу представил себе: вот простой человек, вот нарком госбезопасности. Захотел – посадил, захотел – в пыль стер. А захотел – помиловал, да еще и спектакль разыграл, позабавился.
А чего ужасного – муж-то ведь жив остался. Радоваться надо.
Больше всего меня поразило сделанное Риммой Ефимовной резюме. Она сказала:
– Вот Берию многие ругают. А я – нет. Мне он помог. ОН МУЖА ВЫПУСТИЛ.
Я, конечно, стал горячо возражать, мол, а посадил-то его кто? Она смотрела куда-то поверх меня, видимо, решила этот вопрос для себя уже давно. Покачала головой:
– Не знаю. Я ему благодарна.
Потом ее муж воевал – от звонка до звонка. Остался жив, хотя из окружения по снегу ползком выбирался – один. А потом до конца шестидесятых работал инженером. Показала фотографию – веселый, жизнерадостный, с Риммой и их взрослой дочерью. Умер двенадцать лет назад.
С гордостью рассказывала о внуках: один играет в оркестре Мравинского. Ну да, о внуках – всегда с гордостью.
В гостиницу я вернулся, переполненный впечатлениями и мыслями. По горячим следам записал их в дневник, извинившись перед сослуживцем, что занят, и разговаривать будем завтра. В командировку мы приехали вдвоем с Вячеславом Успенским, жили в трехместном номере гостиницы «Академическая» на Миллионной (про которую не все знали, что она – Миллионная, потому что называлась тогда – Халтурина). Просто так в гостиницы устроиться было почти невозможно, а «Академическая» считалась ведомственной, туда селили по командировочным удостоверениям. Еще она называлась «ДПУ» – дом приезжающих ученых, хотя настоящие ученые там останавливались редко, больше технические сотрудники, вроде нас. Или снабженцы. Накануне к нам как раз подселили третьего, парня лет тридцати с чем-нибудь, из Сибири. Его не было – где-то гулял. Мы с Успенским уже легли и выключили свет, когда появилось это чудо – хорошо навеселе. Открыв дверь, он остался на пороге.
– Привет, мужики!
Мы недовольно и уже сонно промычали, что да, привет.
– Мужики, вы извините. Я это… бабу привел.
Мадам не стала задерживаться в дверях. Подтолкнув спутника, она впорхнула в комнату и сильно пьяным голосом преувеличенно вежливо поздоровалась – уважала, видимо, место, куда пришла и спавших «ученых». Слегка ошалев от такой наглости, мы все же выгонять их не стали. Что-то буркнули и дружно отвернулись к стенкам. А те, не включая света, прошли к дальней кровати, пошуршали, затихли. Потом послышался шепот:
– Подожди, потом.
– Когда потом-то?
– Ну, не сейчас.
– А когда?
– Ну, утром, когда они уйдут.
– Ты чё, утром?
– Ну, подожди, потом.
Дальше стало тихо, и я заснул. Правда, перед сном успел-таки подумать об удивительности и таком разнообразии окружающей действительности. Как вечер начался, и как он кончился…
Утром мы с Успенским, не зажигая света, быстренько смотались. Хотели вечером устроить соседу выволочку, но он не появился. Уехал.
С Риммой Ефимовной я больше не встречался. Пару раз говорил по телефону, поздравлял с праздниками. У нас в Черемушках тогда еще и телефона дома не было, установили только в восемьдесят восьмом. А через несколько лет узнал, что она умерла.
***
Теперь я уже сам дедушка. После описанных событий прошла целая жизнь, но вот запали в память подробности, тревожат, теребят.
Потому что человеку нужны в жизни старшие.
Или хотя бы память о них.
Чтобы совести было на кого опираться.
Сергей Смолицкий,
21-12-2011 15:07
(ссылка)
КАК МЫ СОТВОРИЛИ ШУНЕСОМ
Осенью 1983 года мы в Геленджике строили подводный аппарат «Осмотр». Мы – группа сотрудников Сектора обитаемой техники Конструкторского отдела Опытного конструкторского бюро океанологической техники АН СССР.
Группа состояла, главным образом, из энтузиастов подводного дела. В составе ОКБ коллектив наш держался особняком, потому что был, как сказали бы сейчас, неформатным. Мы не только работали вместе, но и дружили, часто встречались у кого-нибудь дома, и отношения внутри сектора поддерживали самые что ни на есть неофициальные. Работа была нашим хобби. Да и по возрасту мы мало отличались друг от друга, если не считать трех уважаемых ветеранов, но и те по части энтузиазма мало в чем уступали молодым.
Начальником ОКБ несколько лет проработал Павел Андреевич Боровиков, человек «одной с нами крови» и близкий по возрасту, для большинства членов нашей группы – Паша. Боровиков тоже был страстным адептом обитаемой техники, одним из первопроходцев этого дела в СССР. А потом по разным административным причинам его из ОКБ «ушли» и заменили на Владимира Ивановича Прохорова, после чего мы вышли из фавора у начальства. Прохоров был прибористом-электронщиком. Наша техника, экзотическая и опасная, была ему совершенно чужда. Наверно, его бы воля – не стало бы в ОКБ нашего направления. Но тематику определяли наверху, в Институте, договор на строительство «Осмотра» был уже заключен, и Прохорову ничего не оставалось – только следить за тем, как мы будем его строить, выполняя соответствующие планы – квартальные, годовые и так далее. Ибо при социализме без планов никуда.

***Это наша группа в Москве***
ОКБ помещалось (и сейчас помещается) в Москве, а в Геленджике имело филиал с мощной производственной базой. И мы подолгу торчали в Южном отделении в командировках – 30 суток там, 15 дома и обратно. А если кто думает, что мы ловко устроились, проводя большую часть года на курорте, да еще получая за это деньги, успокою. Директор Института, Андрей Сергеевич Монин, тоже подозревал нас в подобных преступных намерениях, поэтому строжайше предписал: в командировки в Геленджик ездить исключительно с октября по апрель. И еще издал приказ, строго-настрого запрещавший брать с собой в командировки членов семей.
Что такое осень и зима под Новороссийском, когда неделями дует знаменитая «бора», руки-ноги мерзнут, а работать надо? Это не курорт, уверяю вас. А потом задувает южак, приносящий тепло, а с ним дожди, и приходится месить ногами раскисшую глину и подолгу чистить сапоги, прежде чем войти в помещение.

***А это – в Геленджике***
Жили мы в самодельных домиках, построенных силами самих сотрудников. Домики эти составляли для начальства отдельную головную боль: они не числились на балансе, их по бумагам как бы и не было. Но на самом деле они очень даже были. И, опять-таки нашими собственными стараниями, оборудованы газовой плитой, электричеством и водопроводом. А для питания и решения прочих хозяйственных вопросов мы организовали колхоз. Те продукты, которые еще можно было достать в Москве, но практически невозможно в Геленджике (крупы, чай, кофе, масло, сахар, мясо), привозили с собой, овощи и фрукты покупали на месте. Завхоз (чаще всего эту роль выполняла хозяйственная Лариса Никифорова) выделял продукты на день и составлял меню, а дежурный готовил завтрак, обед и ужин на всю компанию. Еще дежурный мыл посуду и пол.
Рабочий день мы сами себе установили «восьмичасовой»: с восьми утра до восьми вечера с часовым перерывом на обед и пахали с остервенением. Все наши конструктора умели работать не только карандашами: мы сами собирали, пилили, точили, сверлили, варили, формовали и клеили. А вечером, после ужина, устраивали веселые посиделки с разговорами, спорами, шутками и подначками. Здесь же решались и текущие производственные задачи.
Молодые были.
Общественная жизнь происходила в кухне-столовой. Со временем у нас там появился даже телевизор – крохотный черно-белый ВЛ-100. С комнатной антенной прием был ужасный, строки бежали, экран рябил. Но и смотреть-то особо было нечего.
Партийных в нашей группе было всего двое, остальные – беспартийные в разной степени убежденности. Сильно не диссидентствовал никто, уровень критики режима не превышал обычного кухонного в то время. А критиковать его нам было за что. Мы очень хотели построить наш аппарат. Мы знали, что аппарат подобного типа будет первым в СССР, что отечественной науке он нужен. Мы работали за идею по одиннадцать часов в сутки, а нам на каждом шагу ставили палки в колеса. Огромное количество существовавших дурацких ограничений и запретов абсолютно исключало лояльное отношение к существовавшим в стране порядкам. Да еще и копеечные оклады. Вы думаете, это только сейчас в науке зарплаты смехотворные? Ничего подобного, на сто десять – сто сорок, которые получали мы тогда, прожить с детьми было более чем проблематично.
Наши партийные, Галя и Игорь, может быть, в высказываниях были сдержаннее остальных, но нас в горячих спорах не ограничивали. И мы этих ребят не стеснялись. Свои они были.
Так и работали.
Главным конструктором «Осмотра» и самым уважаемым человеком в группе был Евгений Евгеньевич Павлюченко. Хороший конструктор и организатор, по возрасту немного постарше (лет на 10 – 15) большей части своих сотрудников, человек интеллигентный, разносторонний и веселый, держался он с нами просто, но без дешевого панибратства. Одна половина группы звала его Евгением Евгеньевичем, другая – Женей.
И вот осенью, в ноябре, ожидался у нашего главного день рожденья. Событие это, естественно, следовало отметить, и мы загодя стали готовиться. Что было выбрано в качестве подарка, уже не помню, но к знаменательной дате решили выпустить стенгазету. И вечерами принялись ее составлять – рисовать картинки и сочинять стишки. Тогда как раз только-только вошли в моду (с легкой руки Олега Григорьева) «садистские» четверостишия, и мы старательно описывали в этом жанре разные события нашей жизни. А чтобы привязать стихи к виновнику торжества, каждое четверостишие начинали словами «Главный конструктор «Осмотр» сочинял». На высокую поэзию это не тянуло, но мы и не замахивались. Вот те, что остались в памяти:
Главный конструктор «Осмотр» сочинял,
Провод Суконкин на корпус цеплял.
Сизый дымок потянулся в окно…
Кто-то сидел там? Не все ли равно?
Главный конструктор «Осмотр» сочинял,
Сизый Смолицкий в воду нырял.
Ноги свело, и зубов не разжать –
На дельтаплане ему не летать.
Дальше следовало много в том же духе. Не сказать, чтобы очень уж остроумно, но для своего круга, когда все знали, о чем речь, весело. Да еще Игорь Омельченко картинки смешные нарисовал.
Но творческим людям (а мы, без сомнения, были таковыми) ведь только начать! Фантазия забурлила. Следующая идея образовалась сама собой и тоже касалась настенной агитации.
Евгений Евгеньевич по части антикоммунистического настроя был, пожалуй, едва ли не самый последовательный из нас. Членов Политбюро ЦК КПСС Павлюченко люто не любил и презирал, но, в отличие от подавляющего большинства более лояльных сограждан, знал всех по фамилиям, с именами и отчествами и узнавал на фотографиях. Все-то остальные в них сильно путались. Если Арвида Яновича Пельше или Гейдара Алиевича Алиева еще помнили и узнавали из-за нетривиальных для русского уха имен и фамилий, то Льва Николаевича Зайкова от Николая Никитовича Слюнькова тогда, как и сейчас, мало кто мог бы отличить. Евгенич отличал.
Время от времени он радовал окружающих двустишиями о своих любимых персонажах:
Сядешь гадить – вспомни прежде,
Как учил товарищ Брежнев.
Если масла нет крестьянского,
Помяни Д.С.Полянского.
Чтобы не забывать своих заклятых друзей, Павлюченко регулярно покупал в книжном магазине всегда имевшийся в продаже плакат с коллективным портретом этих унылых личностей и вывешивал его в нашей столовой. Плаката того года я не нашел, но выглядели они все приблизительно так:
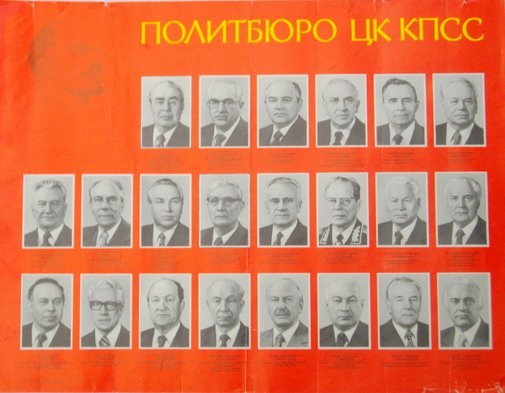
Отличия бывали минимальны, состав Политбюро менялся нечасто. Но в плакатике, который красовался на стене нашей столовой в ту осень, портрет Генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева (кстати, уже год, как почившего в Бозе, Павлюченко не проявил тогда свою обычную оперативность) был форматом покрупнее коллег, в результате чего симметрия в последующих рядах иконостаса нарушалась. Во втором было на одно фото меньше, чем в третьем, соответственно, на левом фланге имелось вакантное поле. Ну, у кого-то и созрела идея поместить туда портрет нашего уважаемого деньрожденника. Не фото, нет. Евгения Евгеньевича нарисовали очень похоже, в том же формате, но в сильно шаржированном стиле, с редкими штрихами-волосенками на лысине, однако в пиджаке, при галстуке и с подписью, как у всех на плакате. Она лапидарно гласила:
« Евгений Евгеньевич Павлюченко. Главный конструктор проекта, ответственный за противопожарную безопасность в комнате №19».
В праздничный день к ужину плакаты висели на стене. Посвящены в их изготовление были не все, так что сюрпризом они стали не только для виновника торжества. Стихи читали, хохотали, тыкали пальцами в карикатуры. Но наибольшим успехом, естественно, пользовался портрет. Хотя комментариев в его адрес почти не было, и так все ясно.
Ну, тосты, веселье. Ужин.
А потом один из сотрудников, Женя С., притащил фотоаппарат и стал фотографировать наше настенное творчество.
Женя работал в нашей группе недавно, в командировке в Геленджике оказался первый раз. Иногда что-то в его поведении казалось нам странным, но, молодые и веселые, мы обращали на это мало внимания. Да и то сказать, все мы были по тогдашним меркам людьми со странностями. Иные на такой работе не задерживались. Поэтому над Женей, как и над всеми другими, беззлобно подшучивали, и всё.
Лариса Никифорова, правда, спросила, зачем он фотографирует газеты. Женя, весело улыбаясь, сказал, что просто так.
Ну и ладно.
Однако спустя пару месяцев, уже в Москве, как-то в обед Женя подошел к столу, за которым пила чай с бутербродами наша веселая компания (сам он питался отдельно), и очень серьезно сообщил, что ему не нравится атмосфера несогласия с политикой партии, царящая в нашем отделе. И что свои мысли он выразил в письме, которое отправил в газету «Советская Россия», присовокупив к нему сделанные в Геленджике фотографии.
Все им перечисленное описывалось тогда емким термином «антисоветчина». Мы поняли, что запахло жареным.
Конечно, времена были достаточно мягкими, за подобное не сажали и даже с работы не всегда выгоняли. Но в ОКБ все сотрудники имели шансы время от времени попадать в загранплавания на судах Института океанологии. А тогда все люди, выезжавшие за границу даже по турпутевкам, подвергались тщательным проверкам – в выездных комиссиях на предприятии, в райкоме партии и соответствующем отделе ЦК. Члены комиссий задавали вопросы разной степени каверзности, но фамилии секретарей компартий стран, которые предполагались к посещению, требовалось знать. Как и политику правительств этих стран по отношению к СССР. Это просто для примера.
Анкеты, тщательно выверенные и прошедшие все инстанции, уходили в КГБ, и оттуда нужно было долго ждать решения, а оно и без антисоветчины не всегда бывало положительным. Скажем, второй брак был еще туда-сюда (в характеристике писалось: «причина развода партийному бюро известна и не является препятствием для командирования сотрудника имярек за границу»), а с третьим (не говоря уже о незарегистрированном сожительстве) о плаваниях нечего было и думать. И вот, когда некоторым из нас только-только «открыли форточку», выпустив в первый рейс нового «Витязя», такая петрушка.
Новость по ОКБ разнеслась моментально. Собственно, узнали ее не от нас: «Советская Россия» не стала заниматься присланным материалом, переправив его в Люблинский райком КПСС, а оттуда уже позвонили нашему руководству и попросили разобраться. В райкоме, видно, тоже не возжаждали нашей крови. Скорее, сами потешались, читая смешные стишки и глядя на члена Политбюро ЦК КПСС Павлюченко, ответственного за противопожарную безопасность в комнате №19. Но отреагировать были обязаны.
Наши ОКБвские начальники, тоже реагировавшие по обязанности, были, однако же, борзее. Понятно, антисоветские проявления, имевшие место в руководимом ими коллективе, ставили под вопрос их собственную лояльность и бдительность, а заодно и возможность их личного участия в океанских рейсах. Поэтому нас следовало наказать по возможности строже, чтобы самим отмежеваться и обелиться.
Для начала нас стали таскать по одному на партбюро с целью выяснить – чья же конкретно преступная рука начертала злобный пасквиль на священном для всякого советского человека плакате? Нам говорили: ребята, не прикрывайте этого человека. Скажите, кто это сделал. Вы ж понимаете, что ничего страшного ему не будет, но так пострадают все. Зачем вам это надо?
К чести моих друзей могу сказать, что не прокололся никто. Даже те, кто не был посвящен в подготовку крамольных листков, не стали отмежевываться от товарищей. Все ушли в глухую несознанку, авторство преступного рисунка осталось тайной. Поэтому, по традиции, которой уже более четверти века, я и здесь не буду его раскрывать.
Тогда начальники поняли, что миндальничать с нами нечего, и стали раздавать «награды».
Первым делом влепили партийные выговоры Гале и Игорю, хорошо хоть – без занесения. Потом завернули все представления на очередные повышения зарплаты. Ну, и главное: на партийном бюро приняли решение считать в дальнейшем нецелесообразным рекомендовать сотрудников (следовал перечень) к участию в загранплаваниях.
Кто бы сомневался.
Мы, конечно, тоже не сидели сложа руки. Мы предприняли даже некоторые опережающие шаги. А именно – подготовили и провели под протокол собрание, на которое позвали Женю С.. Тщательно все продумав и расписав заранее вопросы, кто какой задаст, мы поставили перед этим мероприятием цель – в наибольшей степени показать, что деяние наше не несет никакой угрозы социалистическому строю, что мы, вообще-то, белые и пушистые, только пошутить любим.
Однако на столь тщательно спланированном собрании все сразу пошло совершенно неожиданным образом.
Копия протокола того собрания передо мной. В «шапке» написано, что «Коллектив профгруппы КО-1 собрался по поводу сообщения т. С. Евгения Юрьевича, что им написано в редакцию «Советская Россия» письмо, в котором пишет об имеющихся, на его взгляд, недостатках в коллективе, возглавляемом т. Павлюченко Е.Е.» (стилистика и орфография сохранены).
Ну, а дальше – в режиме «вопрос – ответ»:
– Женя, что побудило тебя написать письмо?
– Я работаю в ОКБ с 1980 года. Сначала все было хорошо, работа мне нравилась, но так было год, а с 9 февраля 1981 года начались преследования. Преследовали меня и на работе, и на улице. На работе вы (кивок в сторону собрания), а на улице разные незнакомые люди, вами подосланные, бывало, одни и те же.
– В чем выражалось преследование?
– Меня спрашивали: который час, как пройти на ту или иную улицу, как проехать, где такой-то дом и магазин. До 1980 года я много встречался с людьми. Работал и учился в институте. Много ездил транспортом в институт, домой, на работу и обратно, но столько вопросов мне не задавалось. Чтобы как-то успокоить свои нервы, я стал ходить пешком. Меня преследовали взрослые и дети. Детей подсылали взрослые. Я стал ненавидеть детей. Вы помните: был у нас с вами разговор, что я не хочу иметь детей, так вот поэтому. Я думал, что, если меня преследуют, будут преследовать и детей.
Преследуют меня цветами – красным и черным.
– Как это – цветами?
– Одеваются в красные и черные цвета. Проверяют меня различными тестами. Босак [фамилия конструктора, большого любителя животных и разговоров о них] меня травит животными. Все время рассказывает о собаках и кошках. Мне кажется, меня все время проверяют. Сомневаются в моей психике.
Полностью весь его бред, я думаю, приводить смысла нет. Мы слушали на протяжении часа с небольшим внимательно, не перебивая – и о его взаимоотношениях с окружающим миром, и о нашем участии в них. Когда после кто-то из нас показал протокол знакомому психиатру, тот сказал, что картина шизофрении прямо для учебника. А тогда, после собрания, мы быстренько отпечатали протокол и все его подписали. Жене поднесли бумагу на подпись с опаской: подпишет ли? Он внимательно прочитал, сказал: «Все верно», – и подписал.
Окрыленные, мы понесли бумагу начальнику ОКБ. Нам казалось, что это наша индульгенция: письмо в редакцию написал человек с явно больной психикой, так нужно ли придавать ему значение?
Прохоров пробежал протокол по диагонали и сказал:
– Да что вы мне суете? Он нормальный, вы сами психи. Можете писать здесь по его поводу что угодно, с фотографиями-то что делать?
А на вопрос, считает ли он всерьез сфотографированные картинки антисоветскими, начальник ОКБ со всей решительностью ответил: «Конечно нет!»
Ну, понятно, антисоветчины в подведомственном учреждении ему иметь никак не хотелось.
И когда в продолжение беседы Павлюченко спросил, как же он сам в таком случае квалифицирует инкриминируемое нам деяние, начальник, задумавшись на секунду, сформулировал:
– Это – ШУТКА, НЕДОСТОЙНАЯ СОРОКАЛЕТНИХ МУЖИКОВ.
Мы, обсудив это между собой хорошенько, решили, что с сего дня чеканная формула Прохорова должна занять достойное место в нашем лексиконе. Однако для краткости и благозвучия будем называть подобные явления «ШУНЕСОМ». Хорошее слово. Если разобраться, оно с успехом заменяло вошедшие спустя годы в нашу жизнь «перформанс», «хэппенинг» или «флэш-моб». До того, как мы обогатили свой словарный запас этими понятиями, всё, что они теперь обозначают, мы называли шунесомами, и отлично понимали друг друга.
Сама история на этом, собственно, кончается. Можно лишь дописать эпилог, который, как водится, расскажет, что было с героями в дальнейшем.
Женя С., и до того не особо вписанный в нашу компанию, после этого стал полным изгоем. К нему обращались только по работе, но он на большее и не претендовал. Через пару лет у него случилось очередное обострение, выразившееся в следующем акте борьбы за справедливость, но теперь уже ее острие оказалось направленным на начальника ОКБ Прохорова. Приказ об уничтожении устаревшей части книжного фонда нашей технической библиотеки Женя приравнял к средневековым актам сожжения книг и устроил демонстрацию: молча работал за своим кульманом, прикрепив булавками к ветровке рукописные плакаты на спине и груди. На плакатах было начертано: «Позор Прохорову В.И., уничтожающему ценную литературу».
Сейчас мало кто обратил бы на такое внимание, а тогда любая ДЕМОНСТРАЦИЯ уже являлась все той же антисоветчиной. Прохоров забегал, засуетился, влепил протестанту выговор за нарушение дисциплины. Женя один из плакатиков заменил на другой: «Долой производственный произвол Прохорова В.И.»
Мы злорадно потешались, считая случившееся законным воздаянием начальнику.
Все попытки как-то уволить Женю не получались. Правда, из нашей группы его перевели в другое конструкторское подразделение. В какой-то момент администрация все же решила, что надо с ним кончать. Был издан приказ о ликвидации подразделения, где он работал, а на следующий день – о создании нового подразделения, куда его не зачислили. Административные игры.
Однако Женя, даром что сумасшедший, законы знал. Он потребовал трудоустройства в той же организации. Ему ответили, что есть единственная вакансия – дворника.
Так Женя стал в ОКБ дворником. Много лет он сосредоточенно мел асфальт, пока кто-то не надоумил его оформить пенсию по инвалидности: деньги те же, но на работу ходить не надо. С тех пор его никто не видел.
Мы в ближайшие последовавшие за этим событием годы продолжали строительство «Осмотра», а потом проводили его морские испытания на Черном море. Они закончились в 1987, и до этого времени никто из нас об океанских рейсах не помышлял – не по причине нашего статуса невыездных, а из-за занятости другой работой. Когда же «Осмотр» сдали, уже наступил период перестройки и гласности, шестая статья Конституции еще не была отменена, но уже не являлась священной коровой, пародии на Ельцина и Горбачева можно было увидеть по телевизору. В 1988-м большая группа наших ребят участвовали в рейсе на «Келдыше», в 1990-м попал на него и я, а с 1993-го океанские вояжи сделались практически ежегодными. Анкеты и выездные комиссии ушли при этом в область преданий.

***Аппарат «Осмотр» на береговой телеге и его экипаж перед первым испытательным погружением***
Так что тяжесть сурового решения партбюро мы почти что и не испытали. А теперь уж, точно, без смеха не вспоминаем. И конечно, никто из нас ни тогда, ни позже не смотрел на себя, как на жертв коммунистического режима. Какие там жертвы, смех один.
Наши товарищи, получившие за шунесом выговор по партийной линии, в 91-м или около того гордо вышли из КПСС. Мы с Павлюченко, обсудив это дело, пришли к выводу, что партийные опять имеют некие привилегии: они могут, в отличие от нас, выразить свою гражданскую позицию. А нам выходить неоткуда, так что и гордиться нечем.
От всей группы по прежней тематике работает четыре человека, двое в ОКБ, двое в Институте океанологии. Однако дружба осталась, один или два раза в год мы собираемся вместе.
Поминаем тех, кто уже никогда не сядет с нами за стол.
А в основном – весело перебираем общие воспоминания. И тут уж никак не обходится без истории о шунесоме.
Группа состояла, главным образом, из энтузиастов подводного дела. В составе ОКБ коллектив наш держался особняком, потому что был, как сказали бы сейчас, неформатным. Мы не только работали вместе, но и дружили, часто встречались у кого-нибудь дома, и отношения внутри сектора поддерживали самые что ни на есть неофициальные. Работа была нашим хобби. Да и по возрасту мы мало отличались друг от друга, если не считать трех уважаемых ветеранов, но и те по части энтузиазма мало в чем уступали молодым.
Начальником ОКБ несколько лет проработал Павел Андреевич Боровиков, человек «одной с нами крови» и близкий по возрасту, для большинства членов нашей группы – Паша. Боровиков тоже был страстным адептом обитаемой техники, одним из первопроходцев этого дела в СССР. А потом по разным административным причинам его из ОКБ «ушли» и заменили на Владимира Ивановича Прохорова, после чего мы вышли из фавора у начальства. Прохоров был прибористом-электронщиком. Наша техника, экзотическая и опасная, была ему совершенно чужда. Наверно, его бы воля – не стало бы в ОКБ нашего направления. Но тематику определяли наверху, в Институте, договор на строительство «Осмотра» был уже заключен, и Прохорову ничего не оставалось – только следить за тем, как мы будем его строить, выполняя соответствующие планы – квартальные, годовые и так далее. Ибо при социализме без планов никуда.

***Это наша группа в Москве***
ОКБ помещалось (и сейчас помещается) в Москве, а в Геленджике имело филиал с мощной производственной базой. И мы подолгу торчали в Южном отделении в командировках – 30 суток там, 15 дома и обратно. А если кто думает, что мы ловко устроились, проводя большую часть года на курорте, да еще получая за это деньги, успокою. Директор Института, Андрей Сергеевич Монин, тоже подозревал нас в подобных преступных намерениях, поэтому строжайше предписал: в командировки в Геленджик ездить исключительно с октября по апрель. И еще издал приказ, строго-настрого запрещавший брать с собой в командировки членов семей.
Что такое осень и зима под Новороссийском, когда неделями дует знаменитая «бора», руки-ноги мерзнут, а работать надо? Это не курорт, уверяю вас. А потом задувает южак, приносящий тепло, а с ним дожди, и приходится месить ногами раскисшую глину и подолгу чистить сапоги, прежде чем войти в помещение.

***А это – в Геленджике***
Жили мы в самодельных домиках, построенных силами самих сотрудников. Домики эти составляли для начальства отдельную головную боль: они не числились на балансе, их по бумагам как бы и не было. Но на самом деле они очень даже были. И, опять-таки нашими собственными стараниями, оборудованы газовой плитой, электричеством и водопроводом. А для питания и решения прочих хозяйственных вопросов мы организовали колхоз. Те продукты, которые еще можно было достать в Москве, но практически невозможно в Геленджике (крупы, чай, кофе, масло, сахар, мясо), привозили с собой, овощи и фрукты покупали на месте. Завхоз (чаще всего эту роль выполняла хозяйственная Лариса Никифорова) выделял продукты на день и составлял меню, а дежурный готовил завтрак, обед и ужин на всю компанию. Еще дежурный мыл посуду и пол.
Рабочий день мы сами себе установили «восьмичасовой»: с восьми утра до восьми вечера с часовым перерывом на обед и пахали с остервенением. Все наши конструктора умели работать не только карандашами: мы сами собирали, пилили, точили, сверлили, варили, формовали и клеили. А вечером, после ужина, устраивали веселые посиделки с разговорами, спорами, шутками и подначками. Здесь же решались и текущие производственные задачи.
Молодые были.
Общественная жизнь происходила в кухне-столовой. Со временем у нас там появился даже телевизор – крохотный черно-белый ВЛ-100. С комнатной антенной прием был ужасный, строки бежали, экран рябил. Но и смотреть-то особо было нечего.
Партийных в нашей группе было всего двое, остальные – беспартийные в разной степени убежденности. Сильно не диссидентствовал никто, уровень критики режима не превышал обычного кухонного в то время. А критиковать его нам было за что. Мы очень хотели построить наш аппарат. Мы знали, что аппарат подобного типа будет первым в СССР, что отечественной науке он нужен. Мы работали за идею по одиннадцать часов в сутки, а нам на каждом шагу ставили палки в колеса. Огромное количество существовавших дурацких ограничений и запретов абсолютно исключало лояльное отношение к существовавшим в стране порядкам. Да еще и копеечные оклады. Вы думаете, это только сейчас в науке зарплаты смехотворные? Ничего подобного, на сто десять – сто сорок, которые получали мы тогда, прожить с детьми было более чем проблематично.
Наши партийные, Галя и Игорь, может быть, в высказываниях были сдержаннее остальных, но нас в горячих спорах не ограничивали. И мы этих ребят не стеснялись. Свои они были.
Так и работали.
Главным конструктором «Осмотра» и самым уважаемым человеком в группе был Евгений Евгеньевич Павлюченко. Хороший конструктор и организатор, по возрасту немного постарше (лет на 10 – 15) большей части своих сотрудников, человек интеллигентный, разносторонний и веселый, держался он с нами просто, но без дешевого панибратства. Одна половина группы звала его Евгением Евгеньевичем, другая – Женей.
И вот осенью, в ноябре, ожидался у нашего главного день рожденья. Событие это, естественно, следовало отметить, и мы загодя стали готовиться. Что было выбрано в качестве подарка, уже не помню, но к знаменательной дате решили выпустить стенгазету. И вечерами принялись ее составлять – рисовать картинки и сочинять стишки. Тогда как раз только-только вошли в моду (с легкой руки Олега Григорьева) «садистские» четверостишия, и мы старательно описывали в этом жанре разные события нашей жизни. А чтобы привязать стихи к виновнику торжества, каждое четверостишие начинали словами «Главный конструктор «Осмотр» сочинял». На высокую поэзию это не тянуло, но мы и не замахивались. Вот те, что остались в памяти:
Главный конструктор «Осмотр» сочинял,
Провод Суконкин на корпус цеплял.
Сизый дымок потянулся в окно…
Кто-то сидел там? Не все ли равно?
Главный конструктор «Осмотр» сочинял,
Сизый Смолицкий в воду нырял.
Ноги свело, и зубов не разжать –
На дельтаплане ему не летать.
Дальше следовало много в том же духе. Не сказать, чтобы очень уж остроумно, но для своего круга, когда все знали, о чем речь, весело. Да еще Игорь Омельченко картинки смешные нарисовал.
Но творческим людям (а мы, без сомнения, были таковыми) ведь только начать! Фантазия забурлила. Следующая идея образовалась сама собой и тоже касалась настенной агитации.
Евгений Евгеньевич по части антикоммунистического настроя был, пожалуй, едва ли не самый последовательный из нас. Членов Политбюро ЦК КПСС Павлюченко люто не любил и презирал, но, в отличие от подавляющего большинства более лояльных сограждан, знал всех по фамилиям, с именами и отчествами и узнавал на фотографиях. Все-то остальные в них сильно путались. Если Арвида Яновича Пельше или Гейдара Алиевича Алиева еще помнили и узнавали из-за нетривиальных для русского уха имен и фамилий, то Льва Николаевича Зайкова от Николая Никитовича Слюнькова тогда, как и сейчас, мало кто мог бы отличить. Евгенич отличал.
Время от времени он радовал окружающих двустишиями о своих любимых персонажах:
Сядешь гадить – вспомни прежде,
Как учил товарищ Брежнев.
Если масла нет крестьянского,
Помяни Д.С.Полянского.
Чтобы не забывать своих заклятых друзей, Павлюченко регулярно покупал в книжном магазине всегда имевшийся в продаже плакат с коллективным портретом этих унылых личностей и вывешивал его в нашей столовой. Плаката того года я не нашел, но выглядели они все приблизительно так:
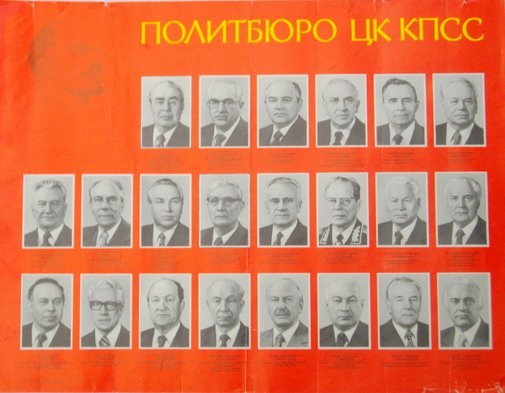
Отличия бывали минимальны, состав Политбюро менялся нечасто. Но в плакатике, который красовался на стене нашей столовой в ту осень, портрет Генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева (кстати, уже год, как почившего в Бозе, Павлюченко не проявил тогда свою обычную оперативность) был форматом покрупнее коллег, в результате чего симметрия в последующих рядах иконостаса нарушалась. Во втором было на одно фото меньше, чем в третьем, соответственно, на левом фланге имелось вакантное поле. Ну, у кого-то и созрела идея поместить туда портрет нашего уважаемого деньрожденника. Не фото, нет. Евгения Евгеньевича нарисовали очень похоже, в том же формате, но в сильно шаржированном стиле, с редкими штрихами-волосенками на лысине, однако в пиджаке, при галстуке и с подписью, как у всех на плакате. Она лапидарно гласила:
« Евгений Евгеньевич Павлюченко. Главный конструктор проекта, ответственный за противопожарную безопасность в комнате №19».
В праздничный день к ужину плакаты висели на стене. Посвящены в их изготовление были не все, так что сюрпризом они стали не только для виновника торжества. Стихи читали, хохотали, тыкали пальцами в карикатуры. Но наибольшим успехом, естественно, пользовался портрет. Хотя комментариев в его адрес почти не было, и так все ясно.
Ну, тосты, веселье. Ужин.
А потом один из сотрудников, Женя С., притащил фотоаппарат и стал фотографировать наше настенное творчество.
Женя работал в нашей группе недавно, в командировке в Геленджике оказался первый раз. Иногда что-то в его поведении казалось нам странным, но, молодые и веселые, мы обращали на это мало внимания. Да и то сказать, все мы были по тогдашним меркам людьми со странностями. Иные на такой работе не задерживались. Поэтому над Женей, как и над всеми другими, беззлобно подшучивали, и всё.
Лариса Никифорова, правда, спросила, зачем он фотографирует газеты. Женя, весело улыбаясь, сказал, что просто так.
Ну и ладно.
Однако спустя пару месяцев, уже в Москве, как-то в обед Женя подошел к столу, за которым пила чай с бутербродами наша веселая компания (сам он питался отдельно), и очень серьезно сообщил, что ему не нравится атмосфера несогласия с политикой партии, царящая в нашем отделе. И что свои мысли он выразил в письме, которое отправил в газету «Советская Россия», присовокупив к нему сделанные в Геленджике фотографии.
Все им перечисленное описывалось тогда емким термином «антисоветчина». Мы поняли, что запахло жареным.
Конечно, времена были достаточно мягкими, за подобное не сажали и даже с работы не всегда выгоняли. Но в ОКБ все сотрудники имели шансы время от времени попадать в загранплавания на судах Института океанологии. А тогда все люди, выезжавшие за границу даже по турпутевкам, подвергались тщательным проверкам – в выездных комиссиях на предприятии, в райкоме партии и соответствующем отделе ЦК. Члены комиссий задавали вопросы разной степени каверзности, но фамилии секретарей компартий стран, которые предполагались к посещению, требовалось знать. Как и политику правительств этих стран по отношению к СССР. Это просто для примера.
Анкеты, тщательно выверенные и прошедшие все инстанции, уходили в КГБ, и оттуда нужно было долго ждать решения, а оно и без антисоветчины не всегда бывало положительным. Скажем, второй брак был еще туда-сюда (в характеристике писалось: «причина развода партийному бюро известна и не является препятствием для командирования сотрудника имярек за границу»), а с третьим (не говоря уже о незарегистрированном сожительстве) о плаваниях нечего было и думать. И вот, когда некоторым из нас только-только «открыли форточку», выпустив в первый рейс нового «Витязя», такая петрушка.
Новость по ОКБ разнеслась моментально. Собственно, узнали ее не от нас: «Советская Россия» не стала заниматься присланным материалом, переправив его в Люблинский райком КПСС, а оттуда уже позвонили нашему руководству и попросили разобраться. В райкоме, видно, тоже не возжаждали нашей крови. Скорее, сами потешались, читая смешные стишки и глядя на члена Политбюро ЦК КПСС Павлюченко, ответственного за противопожарную безопасность в комнате №19. Но отреагировать были обязаны.
Наши ОКБвские начальники, тоже реагировавшие по обязанности, были, однако же, борзее. Понятно, антисоветские проявления, имевшие место в руководимом ими коллективе, ставили под вопрос их собственную лояльность и бдительность, а заодно и возможность их личного участия в океанских рейсах. Поэтому нас следовало наказать по возможности строже, чтобы самим отмежеваться и обелиться.
Для начала нас стали таскать по одному на партбюро с целью выяснить – чья же конкретно преступная рука начертала злобный пасквиль на священном для всякого советского человека плакате? Нам говорили: ребята, не прикрывайте этого человека. Скажите, кто это сделал. Вы ж понимаете, что ничего страшного ему не будет, но так пострадают все. Зачем вам это надо?
К чести моих друзей могу сказать, что не прокололся никто. Даже те, кто не был посвящен в подготовку крамольных листков, не стали отмежевываться от товарищей. Все ушли в глухую несознанку, авторство преступного рисунка осталось тайной. Поэтому, по традиции, которой уже более четверти века, я и здесь не буду его раскрывать.
Тогда начальники поняли, что миндальничать с нами нечего, и стали раздавать «награды».
Первым делом влепили партийные выговоры Гале и Игорю, хорошо хоть – без занесения. Потом завернули все представления на очередные повышения зарплаты. Ну, и главное: на партийном бюро приняли решение считать в дальнейшем нецелесообразным рекомендовать сотрудников (следовал перечень) к участию в загранплаваниях.
Кто бы сомневался.
Мы, конечно, тоже не сидели сложа руки. Мы предприняли даже некоторые опережающие шаги. А именно – подготовили и провели под протокол собрание, на которое позвали Женю С.. Тщательно все продумав и расписав заранее вопросы, кто какой задаст, мы поставили перед этим мероприятием цель – в наибольшей степени показать, что деяние наше не несет никакой угрозы социалистическому строю, что мы, вообще-то, белые и пушистые, только пошутить любим.
Однако на столь тщательно спланированном собрании все сразу пошло совершенно неожиданным образом.
Копия протокола того собрания передо мной. В «шапке» написано, что «Коллектив профгруппы КО-1 собрался по поводу сообщения т. С. Евгения Юрьевича, что им написано в редакцию «Советская Россия» письмо, в котором пишет об имеющихся, на его взгляд, недостатках в коллективе, возглавляемом т. Павлюченко Е.Е.» (стилистика и орфография сохранены).
Ну, а дальше – в режиме «вопрос – ответ»:
– Женя, что побудило тебя написать письмо?
– Я работаю в ОКБ с 1980 года. Сначала все было хорошо, работа мне нравилась, но так было год, а с 9 февраля 1981 года начались преследования. Преследовали меня и на работе, и на улице. На работе вы (кивок в сторону собрания), а на улице разные незнакомые люди, вами подосланные, бывало, одни и те же.
– В чем выражалось преследование?
– Меня спрашивали: который час, как пройти на ту или иную улицу, как проехать, где такой-то дом и магазин. До 1980 года я много встречался с людьми. Работал и учился в институте. Много ездил транспортом в институт, домой, на работу и обратно, но столько вопросов мне не задавалось. Чтобы как-то успокоить свои нервы, я стал ходить пешком. Меня преследовали взрослые и дети. Детей подсылали взрослые. Я стал ненавидеть детей. Вы помните: был у нас с вами разговор, что я не хочу иметь детей, так вот поэтому. Я думал, что, если меня преследуют, будут преследовать и детей.
Преследуют меня цветами – красным и черным.
– Как это – цветами?
– Одеваются в красные и черные цвета. Проверяют меня различными тестами. Босак [фамилия конструктора, большого любителя животных и разговоров о них] меня травит животными. Все время рассказывает о собаках и кошках. Мне кажется, меня все время проверяют. Сомневаются в моей психике.
Полностью весь его бред, я думаю, приводить смысла нет. Мы слушали на протяжении часа с небольшим внимательно, не перебивая – и о его взаимоотношениях с окружающим миром, и о нашем участии в них. Когда после кто-то из нас показал протокол знакомому психиатру, тот сказал, что картина шизофрении прямо для учебника. А тогда, после собрания, мы быстренько отпечатали протокол и все его подписали. Жене поднесли бумагу на подпись с опаской: подпишет ли? Он внимательно прочитал, сказал: «Все верно», – и подписал.
Окрыленные, мы понесли бумагу начальнику ОКБ. Нам казалось, что это наша индульгенция: письмо в редакцию написал человек с явно больной психикой, так нужно ли придавать ему значение?
Прохоров пробежал протокол по диагонали и сказал:
– Да что вы мне суете? Он нормальный, вы сами психи. Можете писать здесь по его поводу что угодно, с фотографиями-то что делать?
А на вопрос, считает ли он всерьез сфотографированные картинки антисоветскими, начальник ОКБ со всей решительностью ответил: «Конечно нет!»
Ну, понятно, антисоветчины в подведомственном учреждении ему иметь никак не хотелось.
И когда в продолжение беседы Павлюченко спросил, как же он сам в таком случае квалифицирует инкриминируемое нам деяние, начальник, задумавшись на секунду, сформулировал:
– Это – ШУТКА, НЕДОСТОЙНАЯ СОРОКАЛЕТНИХ МУЖИКОВ.
Мы, обсудив это между собой хорошенько, решили, что с сего дня чеканная формула Прохорова должна занять достойное место в нашем лексиконе. Однако для краткости и благозвучия будем называть подобные явления «ШУНЕСОМ». Хорошее слово. Если разобраться, оно с успехом заменяло вошедшие спустя годы в нашу жизнь «перформанс», «хэппенинг» или «флэш-моб». До того, как мы обогатили свой словарный запас этими понятиями, всё, что они теперь обозначают, мы называли шунесомами, и отлично понимали друг друга.
Сама история на этом, собственно, кончается. Можно лишь дописать эпилог, который, как водится, расскажет, что было с героями в дальнейшем.
Женя С., и до того не особо вписанный в нашу компанию, после этого стал полным изгоем. К нему обращались только по работе, но он на большее и не претендовал. Через пару лет у него случилось очередное обострение, выразившееся в следующем акте борьбы за справедливость, но теперь уже ее острие оказалось направленным на начальника ОКБ Прохорова. Приказ об уничтожении устаревшей части книжного фонда нашей технической библиотеки Женя приравнял к средневековым актам сожжения книг и устроил демонстрацию: молча работал за своим кульманом, прикрепив булавками к ветровке рукописные плакаты на спине и груди. На плакатах было начертано: «Позор Прохорову В.И., уничтожающему ценную литературу».
Сейчас мало кто обратил бы на такое внимание, а тогда любая ДЕМОНСТРАЦИЯ уже являлась все той же антисоветчиной. Прохоров забегал, засуетился, влепил протестанту выговор за нарушение дисциплины. Женя один из плакатиков заменил на другой: «Долой производственный произвол Прохорова В.И.»
Мы злорадно потешались, считая случившееся законным воздаянием начальнику.
Все попытки как-то уволить Женю не получались. Правда, из нашей группы его перевели в другое конструкторское подразделение. В какой-то момент администрация все же решила, что надо с ним кончать. Был издан приказ о ликвидации подразделения, где он работал, а на следующий день – о создании нового подразделения, куда его не зачислили. Административные игры.
Однако Женя, даром что сумасшедший, законы знал. Он потребовал трудоустройства в той же организации. Ему ответили, что есть единственная вакансия – дворника.
Так Женя стал в ОКБ дворником. Много лет он сосредоточенно мел асфальт, пока кто-то не надоумил его оформить пенсию по инвалидности: деньги те же, но на работу ходить не надо. С тех пор его никто не видел.
Мы в ближайшие последовавшие за этим событием годы продолжали строительство «Осмотра», а потом проводили его морские испытания на Черном море. Они закончились в 1987, и до этого времени никто из нас об океанских рейсах не помышлял – не по причине нашего статуса невыездных, а из-за занятости другой работой. Когда же «Осмотр» сдали, уже наступил период перестройки и гласности, шестая статья Конституции еще не была отменена, но уже не являлась священной коровой, пародии на Ельцина и Горбачева можно было увидеть по телевизору. В 1988-м большая группа наших ребят участвовали в рейсе на «Келдыше», в 1990-м попал на него и я, а с 1993-го океанские вояжи сделались практически ежегодными. Анкеты и выездные комиссии ушли при этом в область преданий.

***Аппарат «Осмотр» на береговой телеге и его экипаж перед первым испытательным погружением***
Так что тяжесть сурового решения партбюро мы почти что и не испытали. А теперь уж, точно, без смеха не вспоминаем. И конечно, никто из нас ни тогда, ни позже не смотрел на себя, как на жертв коммунистического режима. Какие там жертвы, смех один.
Наши товарищи, получившие за шунесом выговор по партийной линии, в 91-м или около того гордо вышли из КПСС. Мы с Павлюченко, обсудив это дело, пришли к выводу, что партийные опять имеют некие привилегии: они могут, в отличие от нас, выразить свою гражданскую позицию. А нам выходить неоткуда, так что и гордиться нечем.
От всей группы по прежней тематике работает четыре человека, двое в ОКБ, двое в Институте океанологии. Однако дружба осталась, один или два раза в год мы собираемся вместе.
Поминаем тех, кто уже никогда не сядет с нами за стол.
А в основном – весело перебираем общие воспоминания. И тут уж никак не обходится без истории о шунесоме.
Сергей Смолицкий,
27-11-2011 00:01
(ссылка)
УВЯДАНЬЯ ЗОЛОТОМ ОХВАЧЕННЫЙ, Я НЕ БУДУ БОЛЬШЕ МОЛОДЫМ
Когда после института я работал по распределению, был у меня непосредственный начальник, Борис Васильевич Селиванов. Мне он казался человеком весьма немолодым: лет пятидесяти или около того.
И вот, однажды, Борис Васильевич изрек мысль. Мы с ним шли в столовую обедать, поэтому вели вольную беседу. О чем шел разговор, естественно, не помню, но Селиванов вдруг сказал: - Старым начинаешь себя чувствовать тогда, когда любая женщина до двадцати пяти лет кажется очень привлекательной.
Сентенцию эту я тогда воспринял с иронией. Во-первых, мне еще не было двадцати пяти. Во-вторых, хотя я и услышал ее тогда впервые, однако сразу подумал, что мысль банальная. Пусть спутник мой и дошел до нее самостоятельно, не так уж она глубока и мудра.
Потом, конечно, я слышал ее неоднократно в самых разных вариантах. А когда средний возраст моих собеседников уверенно перевалил за тогдашний селивановский, произносить такое вслух стало даже неудобно, чего прописные истины повторять, и так ясно же.
Но вот на днях случился в метро со мной казус. Сидел, читал. Вошла молодая женщина, стала рядом. Я встал место уступить, а она – ни в какую. Не уговорил. Так и ехали рядом около пустого места.
Так что старость, друзья мои, это когда молодые женщины не могут заставить себя сесть, если вы пытаетесь уступить им место.
Тут – не соврешь. В разговоре ни одна ведь не скажет, что старый – да что вы, да какой же вы старик, то, се.
А сесть, когда дедушка встал, воспитание не позволяет.
Да…
И вот, однажды, Борис Васильевич изрек мысль. Мы с ним шли в столовую обедать, поэтому вели вольную беседу. О чем шел разговор, естественно, не помню, но Селиванов вдруг сказал: - Старым начинаешь себя чувствовать тогда, когда любая женщина до двадцати пяти лет кажется очень привлекательной.
Сентенцию эту я тогда воспринял с иронией. Во-первых, мне еще не было двадцати пяти. Во-вторых, хотя я и услышал ее тогда впервые, однако сразу подумал, что мысль банальная. Пусть спутник мой и дошел до нее самостоятельно, не так уж она глубока и мудра.
Потом, конечно, я слышал ее неоднократно в самых разных вариантах. А когда средний возраст моих собеседников уверенно перевалил за тогдашний селивановский, произносить такое вслух стало даже неудобно, чего прописные истины повторять, и так ясно же.
Но вот на днях случился в метро со мной казус. Сидел, читал. Вошла молодая женщина, стала рядом. Я встал место уступить, а она – ни в какую. Не уговорил. Так и ехали рядом около пустого места.
Так что старость, друзья мои, это когда молодые женщины не могут заставить себя сесть, если вы пытаетесь уступить им место.
Тут – не соврешь. В разговоре ни одна ведь не скажет, что старый – да что вы, да какой же вы старик, то, се.
А сесть, когда дедушка встал, воспитание не позволяет.
Да…
Сергей Смолицкий,
12-11-2011 00:42
(ссылка)
ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ
УЛИЦА ж.
Пространство между двумя параллельными рядами домов в населенных пунктах
для прохода и проезда. // Два параллельных ряда домов с проходом, проездом
между ними.
ПЕРЕУЛОК м.
Небольшая улица, являющаяся обычно поперечным соединением двух других
улиц.
ПРОЕЗД м.
Место, где можно проехать.
Переулок.
Толковый словарь под редакцией Ефремовой
В 1977-м году наша семья поселилась в Новых Черемушках на Севастопольском проспекте. Однако наш почтовый адрес выглядел довольно экзотически: Новые Черемушки, квартал 32А корпус 8. На протяжении ряда лет я периодически испытывал трудности при заполнении анкет или при оформлении доставки чего-либо.
Если анкета была не строгой, и адрес нужно было просто вписать от руки, то ладно. Но в ряде особо важных анкет на бланке все предусмотрено: есть графы с соответствующими подписями – улица, дом, корпус (строение), квартира. В такие мой не лез никоим образом – улицы Новые Черемушки квартал 32А в Москве не существует, номеру корпуса не предшествует номер дома. Однажды какая-то ответственная девушка даже сказала мне строго, что такого адреса не может быть. Я предъявил паспорт с пропиской, она его долго придирчиво изучала, после чего осуждающе изрекла: Ну, я не знаю…
А при оформлении доставки приходилось диктовать адрес, а потом объяснять, что улица, на которую надлежит привезти товар, называется Севастопольский проспект, а адрес вот такой. Уж извините, не сами выдумали.
Наш дом, действительно, выходит непосредственно на Севастопольский, на его четную сторону. Номера домов здесь идут так: 26, потом много-много корпусов дома №28, потом наш, потом – квартал 32А, корпус 9, а потом – № 28 просто (без корпуса) опять по Севастопольскому.
Кварталов 32, 32Б или каких-либо других в Новых Черемушках нет. Одно время напротив нас, через овраг, располагался квартал 23А, но его вскоре перенумеровали по Зюзинской улице.
Два года назад наш адрес изменили, мы, наконец, обрели улицу – Перекопскую. То есть она здесь находилась спокон веку, задолго до нашего появления в Черемушках, но мы к ней не имели отношения. Теперь наш адрес – по Перекопской. Это уже легче (в плане анкет), а при доставке приходится по-старому объяснять: живем мы на Севастопольском проспекте, а адрес наш – по Перекопской.
Я при этом всегда вспоминаю анекдот про учителя русского языка в грузинской школе, который объясняет на уроке: Дэти, запомните: русские слова СОЛ, ФАСОЛ и МОЗОЛ пишутся с мягким знаком, а слова ВИЛЬКА, ТАРЕЛЬКА, БУТЫЛЬКА пишутся БЭЗ него. Дэти! Понять это нэвозможно, это нужно запомнить!
Но в нумерации домов по Севастопольскому и Перекопской тот учитель вряд ли принимал участие, обошлись своими специалистами, местными. И все же – понять это НЭВОЗМОЖНО!
Однако Севастопольский с Перекопской – это семечки. В конце концов, в поисках нужного дома квартал проезжается или проходится насквозь по множеству дорог и дорожек. Не попадешь сразу куда надо – спроси и через минуту проедешь.
А вот сегодня судьба второй раз забросила меня искать на машине дом, находящийся по адресу 5-й Донской проезд, дом 21, корпус 11, причем так сложилось, что воспользоваться помощью электроники я не мог ни предварительно, ни в процессе.
На карте (которая у меня была) все предельно ясно, обозначена улица с названием 5-й Донской проезд. Я туда и приехал. Однако найти нужный дом с ходу не удалось, а при «опросе населения» мы быстро выяснили, что здесь, где 5-й Донской располагается в соответствии с планом, находятся многочисленные корпуса домов до 17-го включительно, а начиная с 19-го они стоят по другую сторону аж 3-го транспортного кольца. На карте там, действительно, находились дома 19, 21 и далее, со своими нескончаемыми корпусами (у №21 их не меньше 14), однако, как водится, номера домов на карте не привязаны к улице, иди догадайся, к какой из близлежащих относится это мелкое «21к11»? А чтобы туда попасть, нужно вернуться на Вавилова, пересечь 3-е транспортное, свернуть на Канатчиковский проезд и почему-то попасть в квартал домов по 5-му Донскому. На преодоление этого куска земной поверхности в рабочее время (даже не в пик) требуется никак не меньше 40 минут.

5-й Донской хорошо видно, а дом, который я искал, обозначен загогулиной
Если вы думаете, что логика нумерации нарушилась после строительства трассы третьего транспортного кольца, то глубоко ошибаетесь, хотя в ваших рассуждениях логика как раз есть. Плутая и тыркаясь в машине с открытым окошком я, конечно, вспомнил, как проделывал то же самое в поисках какого-то другого дома в этом районе лет –дцать назад, когда никакого третьего кольца еще не было, а дома лежали по разные стороны кольцевой железной дороги. Наивный! Я полагал, что слово «проезд» обозначает что-то, по чему можно проехать из конца в конец, как это и следует, вообще-то, из словарного определения.
Фиг-то!
Для того, чтобы пройти или проехать, скажем, из дома 17 в дом 19 по 5-му Донскому, нужно делать крюк в добрые полтора километра по как минимум двум другим улицам с множеством перекрестков, светофоров и вечной пробкой. Почему дома большого квартала с населением, тянущим на маленький город, с больницей, магазинами и всем прочим, расположенные вдоль Канатчиковского проезда, должны нумероваться по улице, лежащей за тридевять земель, понять НЭВОЗМОЖНО. Это можно только запомнить.
А я забыл.
Нужно навигатор покупать.
Пространство между двумя параллельными рядами домов в населенных пунктах
для прохода и проезда. // Два параллельных ряда домов с проходом, проездом
между ними.
ПЕРЕУЛОК м.
Небольшая улица, являющаяся обычно поперечным соединением двух других
улиц.
ПРОЕЗД м.
Место, где можно проехать.
Переулок.
Толковый словарь под редакцией Ефремовой
В 1977-м году наша семья поселилась в Новых Черемушках на Севастопольском проспекте. Однако наш почтовый адрес выглядел довольно экзотически: Новые Черемушки, квартал 32А корпус 8. На протяжении ряда лет я периодически испытывал трудности при заполнении анкет или при оформлении доставки чего-либо.
Если анкета была не строгой, и адрес нужно было просто вписать от руки, то ладно. Но в ряде особо важных анкет на бланке все предусмотрено: есть графы с соответствующими подписями – улица, дом, корпус (строение), квартира. В такие мой не лез никоим образом – улицы Новые Черемушки квартал 32А в Москве не существует, номеру корпуса не предшествует номер дома. Однажды какая-то ответственная девушка даже сказала мне строго, что такого адреса не может быть. Я предъявил паспорт с пропиской, она его долго придирчиво изучала, после чего осуждающе изрекла: Ну, я не знаю…
А при оформлении доставки приходилось диктовать адрес, а потом объяснять, что улица, на которую надлежит привезти товар, называется Севастопольский проспект, а адрес вот такой. Уж извините, не сами выдумали.
Наш дом, действительно, выходит непосредственно на Севастопольский, на его четную сторону. Номера домов здесь идут так: 26, потом много-много корпусов дома №28, потом наш, потом – квартал 32А, корпус 9, а потом – № 28 просто (без корпуса) опять по Севастопольскому.
Кварталов 32, 32Б или каких-либо других в Новых Черемушках нет. Одно время напротив нас, через овраг, располагался квартал 23А, но его вскоре перенумеровали по Зюзинской улице.
Два года назад наш адрес изменили, мы, наконец, обрели улицу – Перекопскую. То есть она здесь находилась спокон веку, задолго до нашего появления в Черемушках, но мы к ней не имели отношения. Теперь наш адрес – по Перекопской. Это уже легче (в плане анкет), а при доставке приходится по-старому объяснять: живем мы на Севастопольском проспекте, а адрес наш – по Перекопской.
Я при этом всегда вспоминаю анекдот про учителя русского языка в грузинской школе, который объясняет на уроке: Дэти, запомните: русские слова СОЛ, ФАСОЛ и МОЗОЛ пишутся с мягким знаком, а слова ВИЛЬКА, ТАРЕЛЬКА, БУТЫЛЬКА пишутся БЭЗ него. Дэти! Понять это нэвозможно, это нужно запомнить!
Но в нумерации домов по Севастопольскому и Перекопской тот учитель вряд ли принимал участие, обошлись своими специалистами, местными. И все же – понять это НЭВОЗМОЖНО!
Однако Севастопольский с Перекопской – это семечки. В конце концов, в поисках нужного дома квартал проезжается или проходится насквозь по множеству дорог и дорожек. Не попадешь сразу куда надо – спроси и через минуту проедешь.
А вот сегодня судьба второй раз забросила меня искать на машине дом, находящийся по адресу 5-й Донской проезд, дом 21, корпус 11, причем так сложилось, что воспользоваться помощью электроники я не мог ни предварительно, ни в процессе.
На карте (которая у меня была) все предельно ясно, обозначена улица с названием 5-й Донской проезд. Я туда и приехал. Однако найти нужный дом с ходу не удалось, а при «опросе населения» мы быстро выяснили, что здесь, где 5-й Донской располагается в соответствии с планом, находятся многочисленные корпуса домов до 17-го включительно, а начиная с 19-го они стоят по другую сторону аж 3-го транспортного кольца. На карте там, действительно, находились дома 19, 21 и далее, со своими нескончаемыми корпусами (у №21 их не меньше 14), однако, как водится, номера домов на карте не привязаны к улице, иди догадайся, к какой из близлежащих относится это мелкое «21к11»? А чтобы туда попасть, нужно вернуться на Вавилова, пересечь 3-е транспортное, свернуть на Канатчиковский проезд и почему-то попасть в квартал домов по 5-му Донскому. На преодоление этого куска земной поверхности в рабочее время (даже не в пик) требуется никак не меньше 40 минут.

5-й Донской хорошо видно, а дом, который я искал, обозначен загогулиной
Если вы думаете, что логика нумерации нарушилась после строительства трассы третьего транспортного кольца, то глубоко ошибаетесь, хотя в ваших рассуждениях логика как раз есть. Плутая и тыркаясь в машине с открытым окошком я, конечно, вспомнил, как проделывал то же самое в поисках какого-то другого дома в этом районе лет –дцать назад, когда никакого третьего кольца еще не было, а дома лежали по разные стороны кольцевой железной дороги. Наивный! Я полагал, что слово «проезд» обозначает что-то, по чему можно проехать из конца в конец, как это и следует, вообще-то, из словарного определения.
Фиг-то!
Для того, чтобы пройти или проехать, скажем, из дома 17 в дом 19 по 5-му Донскому, нужно делать крюк в добрые полтора километра по как минимум двум другим улицам с множеством перекрестков, светофоров и вечной пробкой. Почему дома большого квартала с населением, тянущим на маленький город, с больницей, магазинами и всем прочим, расположенные вдоль Канатчиковского проезда, должны нумероваться по улице, лежащей за тридевять земель, понять НЭВОЗМОЖНО. Это можно только запомнить.
А я забыл.
Нужно навигатор покупать.
Сергей Смолицкий,
27-10-2011 23:28
(ссылка)
О ПОЗИТИВЕ И НЕГАТИВЕ
Товарищи классики!
Бросьте чудить!
Что это вы, в самом деле,
Героев своих
Порешили убить
На рельсах,
В петле,
На дуэли?..
(М.Светлов)
Над вымыслом слезами обольюсь
(А.Пушкин)
Книга Екклесиаста – моя едва ли не самая любимая поэма. Почему-то многие считают ее пессимистичной. Я так не нахожу.
Вообще, после прочтения (если оно все-таки состоялось), или без него у подавляющего большинства людей остается в памяти три, как сказали бы, наверно, школьники, «главных мысли» этого произведения:
Что все – суета сует (кто более подкован, вспомнит еще, что все – суета и томление духа).
Что есть время разбрасывать камни, и время собирать камни.
И что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Обычно считают, что из последнего утверждения следует логический вывод: меньше знаешь – лучше живешь. Во всяком случае, веселее. Печаль – негативна, позитив – полезнее для здоровья.
Особенно в нынешний век торжества идеологии (нет, жизненной философии) гламура, многие живут в святом убеждении, что позитив полезнее негатива. Что себя и, уж как минимум, детей нужно всячески оберегать от страшных и грустных книжек, особенно – с трагическим концом.
И многие с истинным недоумением допытываются: зачем все-таки Герасим утопил Муму, зачем утопилась Катерина и бросилась под поезд Анна Каренина? Разве нельзя было как-нибудь по-другому? А главное – зачем читать всю эту трагическую муть? Давайте лучше почитаем продолжение «Унесенных ветром», где не про загубленную жизнь, а про красивую любовь.
Жизнь и так трудна, еще и книгами душу царапать? И – на «Ответы.mail.ru», к людям знающим: «Что посоветуете почитать позитивное в интернете?» Замечательный вариант: «Посоветуйте, что почитать, позитивное, но не глупое». На днях наткнулся на вовсе чудесный вопрос: «Написал ли кто-нибудь продолжение к "Преступление и наказание" Достоевского - ведь можно неплохо описать жизнь Софьи и Раскольникова и Дуни и Разумихина?»
То есть, чтобы все хорошо кончилось. Жили счастливо и умерли в один день. Все четверо.
Но хорошие книги редко имеют счастливый конец. Потому что счастливый конец создает иллюзию благополучия. Он не тормошит, не теребит, не царапает. Искусство же призвано не утешать, но будоражить. Терзать душу.
………………………………………………..
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь...
А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?
Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют нас на путь
и вселяют в нас надежды... Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословенью я по небу лечу.
Счастлив он, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер,
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.
Это об искусстве.
Но ведь что интересно – и Соломон Мудрый о том же:
Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше.
Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселья.
Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу.
И в свете этих слов совершенно по-другому понимаются ставшие расхожими слова о том, что в многой мудрости много печали.
Печаль – позитивна. Печаль – продуктивна. Печаль заставляет думать. Переживать.
Страдать.
В многой мудрости много печали, но мудрый ее и ищет – печаль.
Да здравствует минор!
У лучших книг – грустный конец. За то я их и люблю.
Бросьте чудить!
Что это вы, в самом деле,
Героев своих
Порешили убить
На рельсах,
В петле,
На дуэли?..
(М.Светлов)
Над вымыслом слезами обольюсь
(А.Пушкин)
Книга Екклесиаста – моя едва ли не самая любимая поэма. Почему-то многие считают ее пессимистичной. Я так не нахожу.
Вообще, после прочтения (если оно все-таки состоялось), или без него у подавляющего большинства людей остается в памяти три, как сказали бы, наверно, школьники, «главных мысли» этого произведения:
Что все – суета сует (кто более подкован, вспомнит еще, что все – суета и томление духа).
Что есть время разбрасывать камни, и время собирать камни.
И что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Обычно считают, что из последнего утверждения следует логический вывод: меньше знаешь – лучше живешь. Во всяком случае, веселее. Печаль – негативна, позитив – полезнее для здоровья.
Особенно в нынешний век торжества идеологии (нет, жизненной философии) гламура, многие живут в святом убеждении, что позитив полезнее негатива. Что себя и, уж как минимум, детей нужно всячески оберегать от страшных и грустных книжек, особенно – с трагическим концом.
И многие с истинным недоумением допытываются: зачем все-таки Герасим утопил Муму, зачем утопилась Катерина и бросилась под поезд Анна Каренина? Разве нельзя было как-нибудь по-другому? А главное – зачем читать всю эту трагическую муть? Давайте лучше почитаем продолжение «Унесенных ветром», где не про загубленную жизнь, а про красивую любовь.
Жизнь и так трудна, еще и книгами душу царапать? И – на «Ответы.mail.ru», к людям знающим: «Что посоветуете почитать позитивное в интернете?» Замечательный вариант: «Посоветуйте, что почитать, позитивное, но не глупое». На днях наткнулся на вовсе чудесный вопрос: «Написал ли кто-нибудь продолжение к "Преступление и наказание" Достоевского - ведь можно неплохо описать жизнь Софьи и Раскольникова и Дуни и Разумихина?»
То есть, чтобы все хорошо кончилось. Жили счастливо и умерли в один день. Все четверо.
Но хорошие книги редко имеют счастливый конец. Потому что счастливый конец создает иллюзию благополучия. Он не тормошит, не теребит, не царапает. Искусство же призвано не утешать, но будоражить. Терзать душу.
………………………………………………..
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь...
А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?
Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют нас на путь
и вселяют в нас надежды... Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословенью я по небу лечу.
Счастлив он, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер,
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.
Это об искусстве.
Но ведь что интересно – и Соломон Мудрый о том же:
Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше.
Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселья.
Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу.
И в свете этих слов совершенно по-другому понимаются ставшие расхожими слова о том, что в многой мудрости много печали.
Печаль – позитивна. Печаль – продуктивна. Печаль заставляет думать. Переживать.
Страдать.
В многой мудрости много печали, но мудрый ее и ищет – печаль.
Да здравствует минор!
У лучших книг – грустный конец. За то я их и люблю.
Сергей Смолицкий,
18-10-2011 22:59
(ссылка)
ОБЕЩАЛ НАПИСАТЬ ПРО ЛЕБЕДЕЙ

Первый лебеденок вылупился 17-го июня. Мы уже начали волноваться: когда наша лебедка села на яйца, никто точно не заметил, но уже вон сколько времени прошло, а она все сидит и сидит. А в Монтрё возле причала плавают большущие «гадкие утята» серого цвета, явно недавно родившиеся, но уже в две трети взрослого лебедя. Вдруг у нашей ничего так и не выведется из-за нервного стресса, вызванного беспокойным соседством?
Когда первая группа «мирян» приехала сюда, в Швейцарию, на Женевское озеро, у причала фирмы Sagrave, где нам предстояло базироваться первое время, стояли только три модульных домика. Сами баржи с буксиром «Jolimont» были пришвартованы метрах в двухстах у другого причала. Работа, которая должна была на них кипеть, не кипела по простой причине: и сами аппараты, и три контейнера экспедиционного груза застряли в Калининграде из-за сложностей таможенного оформления («кто с таможней встречался, тот ГАИ любит» – народная мудрость). Ребята приехали 23-го мая, прибытие груза планировалось на 25-е, а он только в ночь с 25-го на 26-е пересек российско-польскую границу, чтобы пройдя полторы тысячи километров по дорогам Европы, достичь берега Лемана.
Так вот, домики для нас поставили на самом берегу, метрах в 30 от места, где в озеро мутным бежевым потоком впадает Рона. У соседнего причала текла обычная работа Sagrave: приемка и сортировка гравия. Груженые баржи подходили с интервалом минут в двадцать, высыпали гравий прямо в воду, а стоящий на краю причала экскаватор с громким плюханием черпал его ковшом уже со дна. Дальше гравий сортировали по размеру. Первое, что удивило нас в этом процессе, так это полное отсутствие пыли: мы привыкли к тому, что гравийное производство заволакивает серым облаком окружающий воздух и покрывает толстым налетом все поверхности вокруг. Здесь же операции производятся с мокрым гравием, поэтому, наверно, и пыли нет.
Но грохот есть, не так, чтобы очень, однако назвать место тихим никак нельзя. И вот, посреди всего этого шума, между приходивших и уходивших барж плавали два лебедя. Красноносые, шипуны, самец и самка, это мы по клювам поняли.

Утки, чомги и лысухи тоже плавали, но к лебедям у людей всегда отношение особое. Так что те вроде бы и не в счет, а лебеди – да, их сразу заметили и предложили хлеб, который они с готовностью приняли. Чем их так привлекало это шумное место, непонятно. Я бы, например, ни за что не поселился здесь, когда вокруг полно места, где тихо и уютно, но у птиц логика своя.

Когда с опозданием в 5 дней аппараты и контейнеры все же прибыли, мы развили бурную деятельность. Предстояло оборудовать на баржах и в береговых домиках полноценную инфраструктуру по обслуживанию «Миров»: установить и подключить зарядные шкафы, компрессоры, развернуть и обустроить рабочие места для гидравликов, механиков, связистов и навигаторов, электриков и электронщиков, пост системы жизнеобеспечения, склад, места для еды и так далее, и так далее. 9-го июня ожидался приезд Германского Ллойда для ежегодного освидетельствования аппаратов, стало быть, еще до их прибытия нужно было все наладить и провести первое пробное погружение. И вот, в очередной раз придя на берег, мы обнаружили в десяти метрах от домиков покачивающееся на воде гнездо из веток, а в нем – лебедку, сидящую на яйцах. Желтоватые, их было пять штук.

Маэстро (наши прозвали его Федей), появлялся реже. Он быстро понял, что ходящие по берегу люди являются источником хлеба, и начал в категорической форме требовать причитающееся: шипел, а на сходне, где дотягивался, мог и за штаны схватить. С мадам не делился, мы кормили ее отдельно.
Дикие лебеди, сидящие на гнезде посередине гравийного завода и не обращавшие никакого внимания на нашу бурную деятельность, добавляли некую толику нереальности к общему впечатлению от страны Швейцарии. А такое впечатление было.

Ближайшее соседство дикой горной природы и ухоженных прекрасно возделанных полей и участков, аккуратные домики, усевшиеся в одиночестве где-нибудь высоко на горе, но со всеми необходимыми коммуникациями – от асфальтовой дороги и канализации до интернета, здесь выглядели совершенно органично. И лебеди это поняли – жили в самой гуще человеческой цивилизации, никого не боялись (ибо бояться здесь им некого), брали с нас свой налог и вот – построили гнездо и собрались обзаводиться потомством.
Теперь каждый день начинался с проверки гнезда и кормления птиц. И все же столь близкое соседство вызывало у нас беспокойство: ну ладно, пока мы пришвартованы, все хорошо. Но как поведет себя гнездо, когда мы станем каждый день отходить и подходить к причалу? Не рассыплется ли оно от волны, неизбежно возникающей при маневрах? У многих эти вопросы вызывали не меньшее беспокойство, чем у других проблемы технической подготовки аппаратов к предстоящему сезону.
Первое погружение прошло нервно, но благополучно, хотя с погодой не повезло – были и дождь, и волна, и шквалистый ветер. Швейцарцы, члены команды буксира и барж, внимательно следили за нашими действиями, понимали все нюансы с лету. И вот мы, отпогружавшись, возвращаемся к причалу. Баржа выполняет сложные маневры в узком затоне. На носу собралась группа – специально чтобы посмотреть, как там будет с гнездом?
Его сильно качает, лебедка вытягивает шею, обеспокоенно смотрит по сторонам. Ветки удерживаются друг за друга едва ли не последними миллиметрами, постройка проседает, но не рассыпается.
Когда волны улеглись, к гнезду подплыл Федя и стал что-то деловито подправлять. Мадам приняла спокойную позу и продолжала высиживать потомство.
Все занялись обычной послепогружной суетой, дел много, не до лебедей. Но Володя Малахов и Петя Перепелюк, сделав самые первоочередные дела, куда-то направились деловитым шагом, прихватив с собой рюкзак. Через некоторое время они вернулись со стороны Роны, подошли к гнезду и высыпали на землю кучу сухих веток. Лебеди посмотрели, посоображали и стали пристраивать принесенный людьми материал, усиливая конструкцию.
Поняли друг друга.
Ну, потом за два дня появились три серых пуховых комочка. Сначала они сидели под мамкой, периодически выглядывая на белый свет, а маэстро плавал рядом или ходил по бережку и охранял семейство: если кто-то приближался, растопыривал крылья, вытягивал шею и угрожающе шипел.
А потом птенцы освоились на этом свете и полезли в воду. Лебедка слезла с гнезда, два яйца так и остались там лежать. Лебедята уже на следующий день бойко плавали по затону или смешно ковыляли по бережку.
Они здорово отставали в размерах от родившихся раньше сородичей, и мы усиленно подкармливали их хлебом. Но занятнее всего, конечно было, когда они путешествовали на спине кого-нибудь из взрослых, высовывая голову из родительских перьев.
Ну а потом баржу надолго перевели в Лозанну, к причалу Ушѝ. В Бувре мы теперь бывали редко, не чаще раза в неделю – чтобы зарядить кислородные баллоны и кассеты с поглотителем углекислого газа, взять что-то необходимое со склада, и обязательно проверяли наших лебедей. Недели через две лебедят осталось только двое, но эти появлялись регулярно до конца нашего пребывания в Швейцарии. А гнездо развалилось и расплылось по веточкам где-то через неделю.
В большом затоне в Уши кроме нас стояло еще несколько судов, а лебедей было много. Как-то я насчитал 36 штук, но не уверен, что это были все.
Конечно, и прочие водоплавающие шныряли здесь во множестве. Мы их, разумеется, кормили и фотографировали. Но эти были общие, не наши.
И еще здесь жила цапля.
Обычно она встречала нас утром, стоя на бетонной свае метрах в пятнадцати от баржи, и через некоторое время улетала, вальяжно махая крыльями.
На работу ездили от гостиницы до причала на трех микроавтобусах – километров около пяти. Я же предпочитал преодолевать этот путь на велосипеде по тенистой аллее вдоль берега озера, заросшей огромными – в три обхвата – деревьями, кроны которых смыкались высоко-высоко над головой. Где-то на середине пути там была еще одна бухта с лебедями – видимо-невидимо.
Каждый рабочий день начинался с кормления пернатых. И было в этом что-то радостное и светлое. А я еще думал о ветках, принесенных Петей и Володей, и вспоминал о других встречах с птицами.
В океане, когда до ближайшего берега очень и очень далеко, главные соседи – чайки и морские ласточки. Чайки обычно летают вокруг судна кругами. При этом они используют теплый воздух, поднимающийся от нагретых палуб, чтобы долго парить без единого взмаха крыльев. Когда судно на ходу, можно, поднявшись куда-нибудь повыше, долго стоять, наблюдая за чайкой, парящей почти без движения в каких-нибудь полутора – двух метрах наравне с тобой. Удается рассмотреть ее во всех подробностях – и мягкие перышки на брюшке, чуть шевелящиеся на ветру, и аккуратно прижатые сложенные щепоткой лапки, клюв и черные бусинки глаз.
Расправленные крылья делают чуть заметные движения, чтобы устойчиво держаться в восходящих потоках воздуха. Обычно чайка тоже удостаивает вас своим вниманием: поворачивает голову, смотрит, моргает, на мгновение задергивая глазки желтыми веками, иногда выкрикивает что-то, а потом уходит на крутой вираж в сторону от судна, так и не сделав ни одного взмаха крыльями.
С морскими ласточками сложнее. Днем они снуют вокруг, садятся на воду, ловят рыбу, в общем – живут своей птичьей жизнью. А с наступлением темноты – беда. Птички летят на свет, с размаху стукаются о белые надстройки «Келдыша» и падают на палубы. Взлететь с твердой поверхности самостоятельно они, подобно сухопутным стрижам, не могут, поэтому пытаются забиться куда-нибудь под лебедку или какой-либо палубный механизм. Но там обычно всегда скапливается вода, хорошо еще, если чистая, а то с маслом. На качке эта вода гуляет туда-сюда, ласточки промокают в ней всеми перьями, и лететь после этого уже никуда не могут. Так что бригады добровольцев каждый вечер совершают обходы палуб, вытаскивая из укромных уголков промокших и бьющихся птиц, складывают в картонные коробки и относят в тепло до утра. Выпускать их на волю ночью бессмысленно: сделав круг – другой в темноте, птица опять вернется на свет, снова грохнется о белую надстройку и упадет на палубу.
Так и собираем их ежедневно. А потом по утрам происходит обряд выпускания ласточек.
Обычно за вечер их набирается до полутора десятков в двух – трех коробках. Обсохшие и отогревшиеся, они начинают яростно, но не больно щипать за руки, когда мы вынимаем их по одной из коробки и подбрасываем вверх и в сторону от борта. Ну а уж там, в воздухе, между небом и водой, быстро осваиваются и улетают по своим делам.
Совсем другое дело – бакланы. С этими мы столкнулись во время долгой работы в Калифорнийском заливе. Крупные и наглые, они облюбовали носовую часть «Келдыша» и обсели там все удобные для этого части – краны, антенны, леера, в общем, все, на чем можно разместиться. Так и торчали целыми днями, громко гомоня, и, что самое неприятное, регулярно пуская на палубу длинные смачные струи белого помета. Ходить по носовым палубам стало небезопасно, многие получили по могучей вонючей плюхе на одежду или на голову. Но ведь ходить-то надо, работа же. Сильнее всех ненавидели этих птиц палубная команда во главе с боцманом, именно в их обязанности входит содержать палубы в чистоте, а какая уж там чистота! Через неделю на носу все – и палуба, и надстройка, кабестаны и лебедки – стало белым от толстого слоя бакланьих какашек. Матросы скребли, чистили и смывали, но бакланы работали производительнее. Периодически боцман в отчаянии звонил на мостик и кричал вахтенному: «Володя, шумни им ради Бога, сил никаких нет!». Володя давал хриплый гудок. Ревун, расположенный на носу, в самой гуще птиц, пугал их, они с громким ором поднимались в воздух, но ненадолго. А целый день ведь не будешь дудеть.
И еще я вспомнил, как в одном из рейсов на следующий день по выходу из далекого порта тоже на носу, у самой переборки надстройки, утром обнаружили маленькую птаху, явно сухопутную. Крохотная, серая, с воробья, с оранжевым пятнышком на грудке, она прыгала по деревянному настилу палубы, изредка взлетала, делала кружок над судном и возвращалась обратно. Видно, села ночью, мы ушли затемно, а когда рассвело, ей было уже не под силу долететь до берега. Новость быстро обошла судно и сделалась темой всеобщего обсуждения: посреди океана новостей мало, и каждая – повод для разговоров.
Все по очереди потянулись на полубак, глядеть на птичку. Принесенный хлеб она клевать отказалась, воду из блюдечка пила или нет, непонятно. Во всяком случае, при людях стеснялась. Призванные на совет биологи помочь ничем не смогли, сославшись на свою морскую специализацию, мол, по птичкам не спецы. Все потащили, кто что смог придумать: крупу, семечки, фрукты, кашу в плошке. Кто-то умудрился раздобыть некоторое количество такого дефицитного в океане продукта, как мухи, но, судя по всему, без толку: вся принесенная снедь лежала нетронутой, птичка день ото дня грустнела. Сидела себе на палубе и все чаще надолго закрывала глаза розовой пленкой век.
Больше всех всполошился пожилой механик Алексей Максимович Фиронов. Он чаще других подолгу просиживал на корточках на носовой палубе, но не возле птахи, а в некотором отдалении, и отгонял многочисленных доброхотов, просил, чтобы не беспокоили. О чем бы с ним ни заговаривали, Максимыч переводил разговор на птичку. Он всерьез беспокоился за ее судьбу и с подлинной тоской в глазах спрашивал, сколько может прожить без еды такая кроха. В очередной раз выйдя на нос, мы обнаружили там нашего старика, который ходил по палубе кругами, согнувшись в пояснице и заложив руки за спину, высоко задирая ноги. Потом останавливался, махал руками и пускался бежать. Выглядело это все чрезвычайно комично. На вопрос: «Максимыч, ты что делаешь?», – он очень серьезно ответил, что показывает птичке, мол, нужно летать, нельзя все время сидеть, крылья атрофируются.
Вместе с нами работали американцы на небольшом судне «Eas». Через несколько дней птичка с нашей палубы пропала. Максимыч очень волновался и спрашивал, не могла ли она улететь к соседям. Когда вскоре к американцам отправился по какому-то делу наш «Зодиак», Фиронов очень просил посмотреть, не там ли птичка, и по возможности отогнать ее обратно на «Келдыш». В ответ народ радостным хором отвечал, мол, откуда ты знаешь, что ей там не лучше, может, она от тебя улетела, надоел ты ей со своей заботой. Может, политического убежища попросила.
Так ли, эдак ли, но больше мы ее не видели. Максимыч потосковал и смирился. Может, и правда на «Eas» улетела, может, на нем до суши добралась. Во всяком случае, мертвой ее никто не находил.
Я всегда в подобных случаях думаю: вот, фантасты выдумывают байки о контактах с внеземным разумом. Люди с интересом читают эти выдумки.
По мне – интерес к этим историям происходит исключительно от недостатка фантазии. От неумения увидеть, что чудо самого настоящего, невыдуманного контакта – вот оно. И разум самый что ни на есть подлинный, другой, не наш, но вполне земной. Ведь это так здорово – по-настоящему понять ИНОГО. Разве не чудо – играть с собакой и видеть, что мы оба четко знаем правила, по которым идет игра. А уж какие диалоги возникают между нами, когда Янка считает, что уже пора гулять, а я – что еще рано! Собака объясняет все очень убедительно, подпрыгивает, кладет голову мне на колени и заглядывает в глаза. Когда я говорю: «Яна, еще рано, подожди», она вздыхает и применяет запрещенный прием: идет в другую комнату жаловаться Тане.
Или когда едешь верхом и вдруг осознаешь, что прекрасно понимаешь лошадь, а она – тебя. И слушается она тебя не по принуждению, а просто вам вместе доставляет удовольствие делать общее дело.
Когда люди приносят ветки, а лебеди чинят ими гнездо. Или когда к нашему приезду на баржу вокруг собираются птицы и начинают тянуть шеи, ожидая хлеба, а мы кормим их и испытываем от этого самую неподдельную радость.
***
19-го августа мы сделали последнее погружение на Женевском озере, «Jolimont» дал радостный длинный гудок, когда второй аппарат встал на палубу. Вечером состоялась теплая совместная вечеринка со швейцарцами, а на следующий день, в субботу устроили выходной, всего восьмой за три с половиной месяца нашей работы здесь. 21-го, в воскресенье мы приехали на баржу, чтобы начать сборы в обратную дорогу: машины заказаны на 25-е, времени не много.
У причала в Уши лебедей не было. Не было их и в бухте рядом с аллеей. Их почти не осталось на озере, только кое-где редкие одиночки, задержавшиеся по каким-то своим неведомым причинам.
Они улетели зимовать всего на несколько дней раньше нас.
Сергей Смолицкий,
06-10-2011 01:37
(ссылка)
ПРО ГРИБЫ
Ну вот, осень, Дунино. По всему выходило так, что отпуск удастся отсидеть там целиком, особо дергать не станут. Но, конечно, быть на связи, если что.
Связь в Дунино – понятие относительное. Интернета нет, мобильная ловит, но почти сразу срывается. Поэтому, услышав мелодию вызова, нужно быстро хватать трубку и бежать на дорогу, к определенному столбу. Там есть зона радиусом метра три, где прием более или менее устойчивый, три – четыре кирпичика. Только разговаривая нужно стоять смирно, не расхаживать, а то мигом все прервется. Ну, а для длинных разговоров – деловых или задушевных, лучше дойти до моста через Пру, там вообще почти что двадцать первый век. Если, конечно, не считать состояния самого моста: он в очередной раз признан аварийным, о чем повествуют прибитые на обоих въездах солидно исполненные объявления с грамматическими ошибками. Перекрыли мост в этом году в одночасье, никого не предупредив. Просто приехали грузовик с подъемным краном, положили поперек въездов тяжелые бетонные блоки, приколотили объявления и уехали, мигом взяв в заложники всех многочисленных автомобилистов в Белякове, Колосове и Горках: этот мост – единственный, позволяющий попасть машинам туда, на остров.
За полторы последующие недели к ремонту все еще не приступили. Да так, на вид, и непонятно, чего ради его перекрыли: и опоры, и покрытие (мост целиком деревянный) выглядят вполне исправными, последний раз его капитально ремонтировали года три назад. Я подозреваю, что причина срочного ремонта вовсе не в состоянии «объекта», просто местным мостостроителям нужно освоить выделенные средства.
Ясное дело, жизнь берет свое. «Дороги – это артерии нации», – провозглашал незабвенный Гримсдейл в любимой английской кинокомедии пятидесятых годов «Мистер Питкин в тылу врага». Он тоже пытался перекрыть их для ремонта под этим красивым предлогом, причем во время войны. Жизнеспособность нации всегда и везде оказывается сильнее, уже на второй день блоки сообщенными усилиями сдвинули в сторону, машины ездят через мост, как ездили, не обращая внимания на висящие «кирпичи» и грозные предупреждения. А мы с Таней ходим через него за грибами.
Собственно, грибы можно собирать и до моста, в саженом сосняке по нашу сторону реки. Эти полкилометра от асфальта до моста грунтовка представляет собой трехмерную синусоиду, петляющую по горизонтали и вертикали между глубокими лужами, езда возможна исключительно на первой передаче. Когда мы обосновались здесь, сосенки посадили совсем недавно, нашим детям они едва доставали до пояса. Но уже тогда в них легко можно было набрать полные ведра грибов, так и не дойдя до настоящего леса. Теперь, спустя тридцать лет, получилась вполне взрослая тенистая сосновая роща с вкраплениями осин и берез. Из-за близости дороги и жилья она ужасно загажена, бутылки, банки, пакеты и прочий мусор в изобилии валяются на каждом шагу, поэтому чаще мы ходим в лес подальше. Но по дороге обычно все-таки заглядываем «в сосенки».
В этом году мне не предстояли никакие срочные ремонты большого объема, так текучка. Обкосить участок (сложная, правда, задача в сентябре, когда трава вымахала едва не в рост и уже частично высохла, а частично полегла), оборудовать водосток на задней стороне дома, слегка подтянуть провисшие ворота. Да еще я собирался вычистить кустарник, агрессивно наступающий на дальний конец участка из примыкающего с той стороны леса. Осинки, рябинки, черемуха, крушина и калина по большей части не толще пальца, но кое-где уже сантиметров в пять толщиной, за несколько лет заполнили там все пространство между большими деревьями плотным частоколом, так что не продраться.
«— Есть такое твердое правило, — сказал мне Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная…
Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика…»
Памятуя это мудрое правило, я и занимался приведением в порядок своей планеты, вовсе не находя эту работу скучной. Хотя розовых кустов у нас нет, но зато живут выкопанные около Байкала пять кедров, они прижились, но растут очень медленно. А еще Таня посадила привезенный Пашей из Рима каштан, он тоже дал побег и вот уже пятый год чувствует себя неплохо. Ну и прочее, конечно – смородина, яблоньки, дикий виноград, жимолость, жасмин и мало ли что еще. Если не защитить от осин, те в несколько лет все заполонят, хоть и не баобабы. Оставлял только клены и калину – пусть растут. Их немного, и они очень хороши осенью.
Кстати, рубить кусты оказалось намного удобнее не топором, а мачете, купленном когда-то в хозяйственной лавке на окраине Понте дель Гадо, на Азорах. Взял больше для экзотики, а вот, пригодился. Правда, теперь и на наших рынках они не редкость, видал несколько раз. Глобализация, однако.
Так вот, все эти дела оставляли достаточно времени, чтобы ходить по грибы. Мы и ходили.
Блуждание по осеннему лесу в поисках грибов располагает к философствованию, и я который раз предавался размышлениям над тем значением, которое занимает в нашей культуре это занятие, практически не встречающееся у других народов. Вопрос о наличии грибов с острым любопытством и горящими глазами обязательно зададут каждому, кто побывал осенью за городом, он все еще волнует наших соотечественников куда больше курса валют или прочих, ставших в последние годы жизненно важными проблем. В ответ вам обычно либо с грустной озабоченностью сообщат, что год не удался, «только немножко маслят было, а потом как отрезало», либо со скромной гордостью назовут количество белых (обязательно белых, остальные считать не принято), приносимых из леса ежедневно.
Собирание грибов иногда называют «третьей охотой», но от первых двух ее отличает очень многое. Во-первых, она – самая безобидная. Может быть, когда-нибудь и грибы причислят к живым существам, которые грешно лишать жизни, но я до этого точно не доживу. Еще она – самая демократичная, ибо не требует практически никакого специального снаряжения, вполне достаточно пришедшего на смену лукошку пластикового ведерка, но на худой конец сойдет и пакет. Кроме того, добыча грибов совершенно не провоцирует участников на выпивку, чего не сказать о российских охоте или рыбалке – тут вам и целая череда анекдотов, и серия фильмов Рогожкина. И, наконец, этой страсти в России в равной степени подвержены как женщины, так и мужчины, причем, не сказать, чтобы какой-нибудь из половин человечества можно было бы однозначно отдать первенство. В нашей семье, например, во всем, что касается грибов, лидирует всегда безоговорочно Таня.
За многие лета, проведенные ею в Дунине (я-то в эти месяцы обычно в экспедициях), она выучила окрестные леса как собственную квартиру. Мало того, что ей «в личико» знакомы там все дорожки, так еще она отлично помнит, где какие грибы растут. Думаю, здесь не только практика, еще и способности требуются. Кроме того, здесь сказывается наша разница в первой грибной практике, полученной в детстве. Таню в начале жизни на лето отправляли к бабушке в деревню, где грибы тогда собирали не для забавы, они составляли серьезную часть деревенского рациона, да и водились в изобилии.
Я же в нежном возрасте жил летом на даче, тоже с бабушкой, но – городской. Грибы в нашей загородной жизни были игрой, развлечением, да и плотность дачников в недалекой от Москвы Ашукинской не давала возможности по-настоящему ощутить процесс. Мы собирали все подряд, включая сыроежки. Не брали только вовсе червивые, а если немножко, то вымачивали некоторое время в тазу с подсоленной водой, считалось, что этого достаточно, дальше гриб сделался пригодным к съедению.
Ничего подобного жена не позволяет. Во-первых, мы берем только благородные грибы, во-вторых, при наличии малейшей червоточинки Татьяна бракует их безжалостно. Ну и наполняется ее ведерко значительно быстрее, а потом мы меняемся, и она добирает мое доверху. Кроме того, определяет Таня все грибы безошибочно, я так не умею.
В сентябре – октябре, когда выпадает мне (если выпадает) грибной сезон, лес по большей части влажный и сумрачный, но время от времени все-таки выглядывает солнце. Глаза шарят понизу, в траве, палой листве, лежащей толстым упругим слоем старой хвое или в густом мшанике всех оттенков зеленого. Во множестве торчат огромные нахальные мухоморы – зеленые, серые, желтые, оранжевые и, конечно, классические красные, с крапинками и без, будто только с картинок Сутеева. Все время вспоминается стишок, который учили в школе, классе в первом, наверно:
Пучеглазый мухомор
Боком сел на косогор
больше ничего не сохранилось в памяти. Когда читали его в классе, кто-то из девочек спрашивает учительницу: «Зоя Ивановна, а что такое – пучеглазый?», - и Зоя Ивановна, подумав секунду, отвечает: «Вот, Ягодин у нас пучеглазый». Колька Ягодин, нелепый весь, от толстого носа до подушечек лягушачьих, расширяющихся на концах растопыренных пальцев, предмет постоянных всеобщих насмешек, краснеет и опускает голову к парте, а все смеются. Умная женщина была Зоя Ивановна, ничего не скажешь.

Так вот и перескакиваешь мыслями с одного на другое. А ведерко постепенно наполняется – больше всё маслята, они растут семейками, нашел один, так рядом сразу еще и еще сидят. Только уж больно много среди них червивых. На вид – свежий, крепенький, а ножка на срезе вся в желтых дырочках. Я- то взял бы, но Таня все равно потом выбросит. Жалко. Не берем.
Еще мы собираем подберезовики, польские белые, редкие здесь подосиновики, и, конечно, белые – обычно крупные, увесистые, с толстыми плотными ножками. А чернушки – специально, на несколько банок для Паши, он к ним неравнодушен.
Потом, дома, наступает следующий акт, растягивающийся часто до поздней ночи. Если грибов уж очень много, я подключаюсь в помощь, и мы их чистим, параллельно сортируя. Дело это обстоятельное и неспешное. Некоторые говорят, что собирать грибы любят, а чистить – нет. Я не испытываю неприязни к этому занятию, для меня чистка – неотъемлемая часть грибного действа. Дальше, конечно, исключительно Танино соло: варка, пропаривание, пастеризация, маринование, сушка и прочее. Мое дело – кастрюли переставлять.

А потом мы закрываем сезон. Грибы, закатанные в банки и упакованные в картонные коробки, едут в Москву (бывает, что урожай не удается вывезти за один заход). И дальше – весь год, едим, закусываем, угощаем, делимся. И каждый раз все – даримые, угощаемые, и мы сами, грибам радуемся. Потому что грибы на столе всегда воспринимаются несколько по-особому. Я не знаю почему, но это так.
Прежде всего, конечно, они в нашей кухне – отзвук того, старого, досоветского, известного по книгам Гиляровского, Дорошевича, Чехова или Молоховец. Того, где «балычок с Дона, янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет… белорыбка с огурчиком, манность небесная, а не белорыбка, икорка белужья парная… паюсная ачуевская — калачики чуевские, тестовская селянка, — с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская, расстегайчики с налимьими печенками… телятина, как снег, белая, поросенок с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, чтобы розовенький, корочку водкой смочить, чтобы хрумтела, а между мясным хорошо бы лососинку Грилье, — есть живенькая, Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…» Да все это «чтобы банки да подносы, а не кот наплакал».
Все заковыченное – неполный конспективный перечень одного обеда, съеденного на троих Гиляровским, Далматовым и Григоровичем в трактире Тестова 25 мая 1897 или 98 года. Это называлось – угостить по-московски. Представить себе нынче такой обед трудно, но предки ели. Мы-то возросли на другом. Как заметил Александр Генис, советский общепит обогатил меню таким блюдом, как «рыба». Не карась, щука или карп (про стерлядь или налима молчим), а рыба вообще. Готовилась в двух видах – «рыба жареная» и «рыба отварная».
Еще потому, что они, в первую очередь, не еда, а закуска. Понятие это – исконно наше, русское, российское, и на другие языки не переводится. Ему в точности не соответствуют ни английское snack, ни французские entrée или desert. Чтобы перевести любому иностранцу нашу поговорку «когда кончается водка, закуска превращается в еду», нужны длинные объяснения с культурологическими экскурсами.
По всему по этому (и еще по многому другому) я и считаю, что грибы в нашей культуре – нечто особенное. Хотя едят их, конечно, во всем мире. Но ведь и чай пьют повсеместно, но только японцы создали из этого процесса целое действо, чайную церемонию, со своей философией – «тядо», – путь чая. Или вот, испанцы, сделавшие из неаппетитного процесса убоя скотины национальную забаву, такую торжественную, красочную, и тоже со своей глубокой философией.
Чем хуже в качестве национальной идеи наши грибы? Ведь и тут – целая философия, с обширной литературой и глубокой традицией, имеющая вещное воплощение в виде нескольких хрустальных вазочек посреди стола. Когда закусывая, всяк вспоминает осенний лес, «унылую пору, очей очарованье», раблезианские трапезы предков и милые его сердцу места, где случалось ходить по грибы.
Не забудем еще и того, что при всей их завлекательности грибы – еда не скоромная, дозволенная к употреблению в дни многочисленных православных постов. Не удержусь от еще одной цитаты –описания московского великопостного рынка у Ивана Шмелева. Торг велся на льду Москвы-реки, когда «от Каменного до Устьинского и дальше – черно от народа». Читаешь, и слюнки текут. Там и не пахнет аскезой, что подтверждает один из героев: «– Весело у нас, постом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили». Целиком всю главу приводить не буду, прочитайте сами, если интересно, про архангельскую клюкву, хрусткую капусту, сахарные великопостные пышки, сайки, баранки, сушки... калужские, боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с сольцой и маком... переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки... хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный... Стоп!
Я только про грибы:
«– А вот, лесная наша говядинка, грыб пошел! Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне.
Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные... Похлебный грыб сборный, ест протоирей соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, закусочные... Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинскне отборные, в медовом уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких!..
Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины...
– Теперь до Устьинского пойдет, – грыб и грыб! Грыбами весь свет завален».
Так что поэзия процесса, именуемого «ходить по грибы», это наше неотъемлемое, но и особое. Вот, про рыбалку или охоту – во всех литературах есть, а про грибы – только у нас. И объяснить иностранцу, в чем состоит такая уж этого процесса прелесть и завлекательность, невозможно. Как невозможно про любое чувство – почему оно? А главное – зачем?
Как ответить на все чаще звучащий ныне в России вопрос – зачем читать книги? Как объяснить не захотевшим постичь школьной математики (только не рассказывайте, что хотели и не смогли, не поверю; не смогли – значит, по-настоящему не захотели) красоту математических построений и удовольствие, получаемое от их постижения?
Все «зачем» ведут, в конечном итоге, в тупик: поскольку конец известен заранее, действительно, зачем утруждаться, все равно помрем.
«И сказал я в сердце моем: „и меня постигнет та же участь, как и глупого; к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это – суета; потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым».
Вот здесь кстати вспомнить, что цель – ничто, главное – движение к цели. Процесс.
Помереть-то помрем, но каким будет данный нам в распоряжение отрезок до этого момента, зависит только от нас самих. И от нас зависит, сколькими красками мы его расцветим.
«Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это–доля его».
Мне претит столь распространенная нынче точка зрения, широко тиражируемая рекламой, мол, «ты этого достоин» – всякий, какой бы ни был, достоин, потому что есть. Не знаешь, не понял – «не парься, это не твое». И в итоге – люби «себя, любимого», такого, какой есть.
Всякий человек, конечно, достоин человеческого к себе отношения, как творение Божие, так, да. Но ведь человек – и подобие Божие, так что будь любезен, голубчик, не оскорбляй собой его образа. Парься, корпи, утруждайся всю жизнь. Акакий Акакиевич Башмачкин – тоже человек и, как брат твой, достоин – чего?
Жалости, но никак не уважения.
Делать подобие Божие достойным жалости – повод ли для уважения?
Каждый человек – это целый мир, сколь часто это повторяют на похоронах: с человеком огромный мир уходит. Ага.
А я хорошо помню книжку из детства, называлась она «Пруд». Я тогда очень увлекался биологией и летом ловил всякую пресноводную живность – плавунцов, тритонов, улиток. Где-то в самом начале автор писал что-то вроде того, что прежде чем отправляться в далекое путешествие, подойди к большой луже, наклонись и посмотри внимательно – увидишь целый мир. И мне тогда, с моим увлечением, этот мир был очень интересен.
Однако с годами мысль обернулась другой стороной. Две цитаты столкнулись, и вышло – да, с каждым человеком уходит целый мир. Но у одного этот мир – Вселенная, а у другого – лужа. Мир одного необъятен и щедро дарит окружающих, чтобы рассмотреть другой, нужно наклоняться и внимательно всматриваться.
В нашем мире есть столько прекрасного, чтобы объять и заключить в свой: книги, чтобы читать, моря, чтобы плавать, и музыка, чтобы слушать и еще много, много всего.
И, конечно, еще есть грибы. И, собирая их в осеннем лесу, так легко думается о разном. Вот ведь куда мысль завела. Мы ведь в России такие – только дай зацепку, время и не мешай, так обязательно до смысла жизни дорассуждаться должны.
А гриб для этого очень хорош в качестве отправной точки. Нисколько не хуже любой другой.

Связь в Дунино – понятие относительное. Интернета нет, мобильная ловит, но почти сразу срывается. Поэтому, услышав мелодию вызова, нужно быстро хватать трубку и бежать на дорогу, к определенному столбу. Там есть зона радиусом метра три, где прием более или менее устойчивый, три – четыре кирпичика. Только разговаривая нужно стоять смирно, не расхаживать, а то мигом все прервется. Ну, а для длинных разговоров – деловых или задушевных, лучше дойти до моста через Пру, там вообще почти что двадцать первый век. Если, конечно, не считать состояния самого моста: он в очередной раз признан аварийным, о чем повествуют прибитые на обоих въездах солидно исполненные объявления с грамматическими ошибками. Перекрыли мост в этом году в одночасье, никого не предупредив. Просто приехали грузовик с подъемным краном, положили поперек въездов тяжелые бетонные блоки, приколотили объявления и уехали, мигом взяв в заложники всех многочисленных автомобилистов в Белякове, Колосове и Горках: этот мост – единственный, позволяющий попасть машинам туда, на остров.
За полторы последующие недели к ремонту все еще не приступили. Да так, на вид, и непонятно, чего ради его перекрыли: и опоры, и покрытие (мост целиком деревянный) выглядят вполне исправными, последний раз его капитально ремонтировали года три назад. Я подозреваю, что причина срочного ремонта вовсе не в состоянии «объекта», просто местным мостостроителям нужно освоить выделенные средства.
Ясное дело, жизнь берет свое. «Дороги – это артерии нации», – провозглашал незабвенный Гримсдейл в любимой английской кинокомедии пятидесятых годов «Мистер Питкин в тылу врага». Он тоже пытался перекрыть их для ремонта под этим красивым предлогом, причем во время войны. Жизнеспособность нации всегда и везде оказывается сильнее, уже на второй день блоки сообщенными усилиями сдвинули в сторону, машины ездят через мост, как ездили, не обращая внимания на висящие «кирпичи» и грозные предупреждения. А мы с Таней ходим через него за грибами.
Собственно, грибы можно собирать и до моста, в саженом сосняке по нашу сторону реки. Эти полкилометра от асфальта до моста грунтовка представляет собой трехмерную синусоиду, петляющую по горизонтали и вертикали между глубокими лужами, езда возможна исключительно на первой передаче. Когда мы обосновались здесь, сосенки посадили совсем недавно, нашим детям они едва доставали до пояса. Но уже тогда в них легко можно было набрать полные ведра грибов, так и не дойдя до настоящего леса. Теперь, спустя тридцать лет, получилась вполне взрослая тенистая сосновая роща с вкраплениями осин и берез. Из-за близости дороги и жилья она ужасно загажена, бутылки, банки, пакеты и прочий мусор в изобилии валяются на каждом шагу, поэтому чаще мы ходим в лес подальше. Но по дороге обычно все-таки заглядываем «в сосенки».
В этом году мне не предстояли никакие срочные ремонты большого объема, так текучка. Обкосить участок (сложная, правда, задача в сентябре, когда трава вымахала едва не в рост и уже частично высохла, а частично полегла), оборудовать водосток на задней стороне дома, слегка подтянуть провисшие ворота. Да еще я собирался вычистить кустарник, агрессивно наступающий на дальний конец участка из примыкающего с той стороны леса. Осинки, рябинки, черемуха, крушина и калина по большей части не толще пальца, но кое-где уже сантиметров в пять толщиной, за несколько лет заполнили там все пространство между большими деревьями плотным частоколом, так что не продраться.
«— Есть такое твердое правило, — сказал мне Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная…
Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика…»
Памятуя это мудрое правило, я и занимался приведением в порядок своей планеты, вовсе не находя эту работу скучной. Хотя розовых кустов у нас нет, но зато живут выкопанные около Байкала пять кедров, они прижились, но растут очень медленно. А еще Таня посадила привезенный Пашей из Рима каштан, он тоже дал побег и вот уже пятый год чувствует себя неплохо. Ну и прочее, конечно – смородина, яблоньки, дикий виноград, жимолость, жасмин и мало ли что еще. Если не защитить от осин, те в несколько лет все заполонят, хоть и не баобабы. Оставлял только клены и калину – пусть растут. Их немного, и они очень хороши осенью.
Кстати, рубить кусты оказалось намного удобнее не топором, а мачете, купленном когда-то в хозяйственной лавке на окраине Понте дель Гадо, на Азорах. Взял больше для экзотики, а вот, пригодился. Правда, теперь и на наших рынках они не редкость, видал несколько раз. Глобализация, однако.
Так вот, все эти дела оставляли достаточно времени, чтобы ходить по грибы. Мы и ходили.
Блуждание по осеннему лесу в поисках грибов располагает к философствованию, и я который раз предавался размышлениям над тем значением, которое занимает в нашей культуре это занятие, практически не встречающееся у других народов. Вопрос о наличии грибов с острым любопытством и горящими глазами обязательно зададут каждому, кто побывал осенью за городом, он все еще волнует наших соотечественников куда больше курса валют или прочих, ставших в последние годы жизненно важными проблем. В ответ вам обычно либо с грустной озабоченностью сообщат, что год не удался, «только немножко маслят было, а потом как отрезало», либо со скромной гордостью назовут количество белых (обязательно белых, остальные считать не принято), приносимых из леса ежедневно.
Собирание грибов иногда называют «третьей охотой», но от первых двух ее отличает очень многое. Во-первых, она – самая безобидная. Может быть, когда-нибудь и грибы причислят к живым существам, которые грешно лишать жизни, но я до этого точно не доживу. Еще она – самая демократичная, ибо не требует практически никакого специального снаряжения, вполне достаточно пришедшего на смену лукошку пластикового ведерка, но на худой конец сойдет и пакет. Кроме того, добыча грибов совершенно не провоцирует участников на выпивку, чего не сказать о российских охоте или рыбалке – тут вам и целая череда анекдотов, и серия фильмов Рогожкина. И, наконец, этой страсти в России в равной степени подвержены как женщины, так и мужчины, причем, не сказать, чтобы какой-нибудь из половин человечества можно было бы однозначно отдать первенство. В нашей семье, например, во всем, что касается грибов, лидирует всегда безоговорочно Таня.
За многие лета, проведенные ею в Дунине (я-то в эти месяцы обычно в экспедициях), она выучила окрестные леса как собственную квартиру. Мало того, что ей «в личико» знакомы там все дорожки, так еще она отлично помнит, где какие грибы растут. Думаю, здесь не только практика, еще и способности требуются. Кроме того, здесь сказывается наша разница в первой грибной практике, полученной в детстве. Таню в начале жизни на лето отправляли к бабушке в деревню, где грибы тогда собирали не для забавы, они составляли серьезную часть деревенского рациона, да и водились в изобилии.
Я же в нежном возрасте жил летом на даче, тоже с бабушкой, но – городской. Грибы в нашей загородной жизни были игрой, развлечением, да и плотность дачников в недалекой от Москвы Ашукинской не давала возможности по-настоящему ощутить процесс. Мы собирали все подряд, включая сыроежки. Не брали только вовсе червивые, а если немножко, то вымачивали некоторое время в тазу с подсоленной водой, считалось, что этого достаточно, дальше гриб сделался пригодным к съедению.
Ничего подобного жена не позволяет. Во-первых, мы берем только благородные грибы, во-вторых, при наличии малейшей червоточинки Татьяна бракует их безжалостно. Ну и наполняется ее ведерко значительно быстрее, а потом мы меняемся, и она добирает мое доверху. Кроме того, определяет Таня все грибы безошибочно, я так не умею.
В сентябре – октябре, когда выпадает мне (если выпадает) грибной сезон, лес по большей части влажный и сумрачный, но время от времени все-таки выглядывает солнце. Глаза шарят понизу, в траве, палой листве, лежащей толстым упругим слоем старой хвое или в густом мшанике всех оттенков зеленого. Во множестве торчат огромные нахальные мухоморы – зеленые, серые, желтые, оранжевые и, конечно, классические красные, с крапинками и без, будто только с картинок Сутеева. Все время вспоминается стишок, который учили в школе, классе в первом, наверно:
Пучеглазый мухомор
Боком сел на косогор
больше ничего не сохранилось в памяти. Когда читали его в классе, кто-то из девочек спрашивает учительницу: «Зоя Ивановна, а что такое – пучеглазый?», - и Зоя Ивановна, подумав секунду, отвечает: «Вот, Ягодин у нас пучеглазый». Колька Ягодин, нелепый весь, от толстого носа до подушечек лягушачьих, расширяющихся на концах растопыренных пальцев, предмет постоянных всеобщих насмешек, краснеет и опускает голову к парте, а все смеются. Умная женщина была Зоя Ивановна, ничего не скажешь.

Так вот и перескакиваешь мыслями с одного на другое. А ведерко постепенно наполняется – больше всё маслята, они растут семейками, нашел один, так рядом сразу еще и еще сидят. Только уж больно много среди них червивых. На вид – свежий, крепенький, а ножка на срезе вся в желтых дырочках. Я- то взял бы, но Таня все равно потом выбросит. Жалко. Не берем.
Еще мы собираем подберезовики, польские белые, редкие здесь подосиновики, и, конечно, белые – обычно крупные, увесистые, с толстыми плотными ножками. А чернушки – специально, на несколько банок для Паши, он к ним неравнодушен.
Потом, дома, наступает следующий акт, растягивающийся часто до поздней ночи. Если грибов уж очень много, я подключаюсь в помощь, и мы их чистим, параллельно сортируя. Дело это обстоятельное и неспешное. Некоторые говорят, что собирать грибы любят, а чистить – нет. Я не испытываю неприязни к этому занятию, для меня чистка – неотъемлемая часть грибного действа. Дальше, конечно, исключительно Танино соло: варка, пропаривание, пастеризация, маринование, сушка и прочее. Мое дело – кастрюли переставлять.

А потом мы закрываем сезон. Грибы, закатанные в банки и упакованные в картонные коробки, едут в Москву (бывает, что урожай не удается вывезти за один заход). И дальше – весь год, едим, закусываем, угощаем, делимся. И каждый раз все – даримые, угощаемые, и мы сами, грибам радуемся. Потому что грибы на столе всегда воспринимаются несколько по-особому. Я не знаю почему, но это так.
Прежде всего, конечно, они в нашей кухне – отзвук того, старого, досоветского, известного по книгам Гиляровского, Дорошевича, Чехова или Молоховец. Того, где «балычок с Дона, янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет… белорыбка с огурчиком, манность небесная, а не белорыбка, икорка белужья парная… паюсная ачуевская — калачики чуевские, тестовская селянка, — с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская, расстегайчики с налимьими печенками… телятина, как снег, белая, поросенок с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, чтобы розовенький, корочку водкой смочить, чтобы хрумтела, а между мясным хорошо бы лососинку Грилье, — есть живенькая, Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…» Да все это «чтобы банки да подносы, а не кот наплакал».
Все заковыченное – неполный конспективный перечень одного обеда, съеденного на троих Гиляровским, Далматовым и Григоровичем в трактире Тестова 25 мая 1897 или 98 года. Это называлось – угостить по-московски. Представить себе нынче такой обед трудно, но предки ели. Мы-то возросли на другом. Как заметил Александр Генис, советский общепит обогатил меню таким блюдом, как «рыба». Не карась, щука или карп (про стерлядь или налима молчим), а рыба вообще. Готовилась в двух видах – «рыба жареная» и «рыба отварная».
Еще потому, что они, в первую очередь, не еда, а закуска. Понятие это – исконно наше, русское, российское, и на другие языки не переводится. Ему в точности не соответствуют ни английское snack, ни французские entrée или desert. Чтобы перевести любому иностранцу нашу поговорку «когда кончается водка, закуска превращается в еду», нужны длинные объяснения с культурологическими экскурсами.
По всему по этому (и еще по многому другому) я и считаю, что грибы в нашей культуре – нечто особенное. Хотя едят их, конечно, во всем мире. Но ведь и чай пьют повсеместно, но только японцы создали из этого процесса целое действо, чайную церемонию, со своей философией – «тядо», – путь чая. Или вот, испанцы, сделавшие из неаппетитного процесса убоя скотины национальную забаву, такую торжественную, красочную, и тоже со своей глубокой философией.
Чем хуже в качестве национальной идеи наши грибы? Ведь и тут – целая философия, с обширной литературой и глубокой традицией, имеющая вещное воплощение в виде нескольких хрустальных вазочек посреди стола. Когда закусывая, всяк вспоминает осенний лес, «унылую пору, очей очарованье», раблезианские трапезы предков и милые его сердцу места, где случалось ходить по грибы.
Не забудем еще и того, что при всей их завлекательности грибы – еда не скоромная, дозволенная к употреблению в дни многочисленных православных постов. Не удержусь от еще одной цитаты –описания московского великопостного рынка у Ивана Шмелева. Торг велся на льду Москвы-реки, когда «от Каменного до Устьинского и дальше – черно от народа». Читаешь, и слюнки текут. Там и не пахнет аскезой, что подтверждает один из героев: «– Весело у нас, постом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили». Целиком всю главу приводить не буду, прочитайте сами, если интересно, про архангельскую клюкву, хрусткую капусту, сахарные великопостные пышки, сайки, баранки, сушки... калужские, боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с сольцой и маком... переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки... хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный... Стоп!
Я только про грибы:
«– А вот, лесная наша говядинка, грыб пошел! Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне.
Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные... Похлебный грыб сборный, ест протоирей соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, закусочные... Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинскне отборные, в медовом уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких!..
Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины...
– Теперь до Устьинского пойдет, – грыб и грыб! Грыбами весь свет завален».
Так что поэзия процесса, именуемого «ходить по грибы», это наше неотъемлемое, но и особое. Вот, про рыбалку или охоту – во всех литературах есть, а про грибы – только у нас. И объяснить иностранцу, в чем состоит такая уж этого процесса прелесть и завлекательность, невозможно. Как невозможно про любое чувство – почему оно? А главное – зачем?
Как ответить на все чаще звучащий ныне в России вопрос – зачем читать книги? Как объяснить не захотевшим постичь школьной математики (только не рассказывайте, что хотели и не смогли, не поверю; не смогли – значит, по-настоящему не захотели) красоту математических построений и удовольствие, получаемое от их постижения?
Все «зачем» ведут, в конечном итоге, в тупик: поскольку конец известен заранее, действительно, зачем утруждаться, все равно помрем.
«И сказал я в сердце моем: „и меня постигнет та же участь, как и глупого; к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это – суета; потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым».
Вот здесь кстати вспомнить, что цель – ничто, главное – движение к цели. Процесс.
Помереть-то помрем, но каким будет данный нам в распоряжение отрезок до этого момента, зависит только от нас самих. И от нас зависит, сколькими красками мы его расцветим.
«Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это–доля его».
Мне претит столь распространенная нынче точка зрения, широко тиражируемая рекламой, мол, «ты этого достоин» – всякий, какой бы ни был, достоин, потому что есть. Не знаешь, не понял – «не парься, это не твое». И в итоге – люби «себя, любимого», такого, какой есть.
Всякий человек, конечно, достоин человеческого к себе отношения, как творение Божие, так, да. Но ведь человек – и подобие Божие, так что будь любезен, голубчик, не оскорбляй собой его образа. Парься, корпи, утруждайся всю жизнь. Акакий Акакиевич Башмачкин – тоже человек и, как брат твой, достоин – чего?
Жалости, но никак не уважения.
Делать подобие Божие достойным жалости – повод ли для уважения?
Каждый человек – это целый мир, сколь часто это повторяют на похоронах: с человеком огромный мир уходит. Ага.
А я хорошо помню книжку из детства, называлась она «Пруд». Я тогда очень увлекался биологией и летом ловил всякую пресноводную живность – плавунцов, тритонов, улиток. Где-то в самом начале автор писал что-то вроде того, что прежде чем отправляться в далекое путешествие, подойди к большой луже, наклонись и посмотри внимательно – увидишь целый мир. И мне тогда, с моим увлечением, этот мир был очень интересен.
Однако с годами мысль обернулась другой стороной. Две цитаты столкнулись, и вышло – да, с каждым человеком уходит целый мир. Но у одного этот мир – Вселенная, а у другого – лужа. Мир одного необъятен и щедро дарит окружающих, чтобы рассмотреть другой, нужно наклоняться и внимательно всматриваться.
В нашем мире есть столько прекрасного, чтобы объять и заключить в свой: книги, чтобы читать, моря, чтобы плавать, и музыка, чтобы слушать и еще много, много всего.
И, конечно, еще есть грибы. И, собирая их в осеннем лесу, так легко думается о разном. Вот ведь куда мысль завела. Мы ведь в России такие – только дай зацепку, время и не мешай, так обязательно до смысла жизни дорассуждаться должны.
А гриб для этого очень хорош в качестве отправной точки. Нисколько не хуже любой другой.

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
