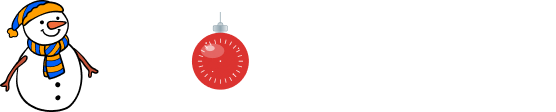Игорь Пехович,
13-05-2012 01:31
(ссылка)
День рождения Бродского
Иосиф Бродский. "Жизнь есть товар на вынос". Моноспектакль-джаз.
24 мая 2012 г. Начало в 19:00.
Москва, Театр на Таганке, Малая сцена. Вход со стороны Таганского тупика.
Подробно - http://taganka.theatre.ru/p...
Тел. 915-12-17, 915-10-15
Лариса Кузьминская,
06-05-2012 12:33
(ссылка)
ПРИГЛАШАЮ АВТОРОВ В СБОРНИК "КРАСКИ ЖИЗНИ" 11
ПРИГЛАШАЮ АВТОРОВ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ СБОРНИК СТИХОВ ПРОЕКТА "БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ"- СТИХИ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ - «КРАСКИ ЖИЗНИ» книга 11
 !
!
Стихи могут быть на любую тему, лишь бы были хорошими. В среднем в сборнике от 5 до 6 стихотворений автора.
Желающим принять участие в сборнике - просьба присылать стихи на почту Ларисы Кузьминской astrolar@mail.ru с пометкой "краски жизни 11" до 15 мая 2012 г.
Также необходимо прислать о себе краткую информацию. Например :
ЛАРИСА ЯХИМОВИЧ
Родилась и живет в г.Москве. По образованию экономист. Рисует. Увлекается портретной художественной фотографией. Много путешествует. Стихи публикует на сайте СТИХИ.РУ, в коллективных сборниках проекта "БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ" и в еженедельной газете «ПАНТЕЛЕЙМОН целитель». В 2011 году опубликован первый авторский сборник стихов «БЕЛОЕ ПЁРЫШКО». Член Союза писателей России, член Союза писателей-переводчиков, член Чеховского общества, член Регионального Общественного Фонда содействия развитию современной поэзии "СВЕТОЧ".
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 1:http://stihi.ru/2010/08/21/...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 1:http://stihi.ru/2010/10/28/...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 2:http://stihi.ru/2010/11/07/...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" 2:http://stihi.ru/2010/12/16/...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 3:http://stihi.ru/2011/01/20/...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 3:http://stihi.ru/2011/03/01/...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 4:http://stihi.ru/2011/03/29/...
Стихи из сборник "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 4 :http://www.stihi.ru/2011/07...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 5:http://www.stihi.ru/2011/06...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 5:http://www.stihi.ru/2011/07...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 6: http://www.stihi.ru/2011/08...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 7: http://www.stihi.ru/2011/11...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 8: http://www.stihi.ru/2012/01...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 9: http://www.stihi.ru/2012/02...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 10: http://www.stihi.ru/2012/03...
Сборник выйдет конце мая 2012 г., состоится его презентация.
Это хорошая возможность получить полноценную книжную публикацию за небольшую сумму.
Книги расходятся по всей России и за ее пределы, так как в них принимают участие авторы из разных городов и стран.
Книги имеют все выходные данные, поступают в Библиотеку имени В.И.Ленина, в некоторые литературные музеи Москвы, и в Библиотеку №92- Интеллектуальный центр, на базе которой создается БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ.
Многие авторы, участники сборников дарят свои экземпляры районным и городским библиотекам, а также школам. Если Вы хотите, чтобы Ваши стихи прочитали не только Ваши друзья и близкие - поступите также !!!
Это сборники стихов с цветной обложкой . Стоимость участия в них выкуп по предоплате не менее 7 экземпляров – 2000 руб. ) + пересылка 7 экз. по России - 250 рублей, за ее пределы от 350 рублей.
Для членов РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ "СВЕТОЧ" скидка 10 процентов на полученную при расчете сумму по таблице.
Для всех :
Если Вы заказываете 10 экз., то стоимость одного экз. = 250 рублей.
Если 20 экз. - 240 рублей.
Если 30 экз. - 230 рублей.
Если 40 экз. - 220 рублей.
Если 50 экз. - 210 рублей.
Лариса Кузьминская - поэт, член Союза писателей России, Президент регионального общественного фонда содействия развитию современной поэзии "СВЕТОЧ".
Живопись: Виктор Брегеда"ТВОРЧЕСТВО"
 !
!Стихи могут быть на любую тему, лишь бы были хорошими. В среднем в сборнике от 5 до 6 стихотворений автора.
Желающим принять участие в сборнике - просьба присылать стихи на почту Ларисы Кузьминской astrolar@mail.ru с пометкой "краски жизни 11" до 15 мая 2012 г.
Также необходимо прислать о себе краткую информацию. Например :
ЛАРИСА ЯХИМОВИЧ
Родилась и живет в г.Москве. По образованию экономист. Рисует. Увлекается портретной художественной фотографией. Много путешествует. Стихи публикует на сайте СТИХИ.РУ, в коллективных сборниках проекта "БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ" и в еженедельной газете «ПАНТЕЛЕЙМОН целитель». В 2011 году опубликован первый авторский сборник стихов «БЕЛОЕ ПЁРЫШКО». Член Союза писателей России, член Союза писателей-переводчиков, член Чеховского общества, член Регионального Общественного Фонда содействия развитию современной поэзии "СВЕТОЧ".
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 1:http://stihi.ru/2010/08/21/...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 1:http://stihi.ru/2010/10/28/...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 2:http://stihi.ru/2010/11/07/...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" 2:http://stihi.ru/2010/12/16/...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 3:http://stihi.ru/2011/01/20/...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 3:http://stihi.ru/2011/03/01/...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 4:http://stihi.ru/2011/03/29/...
Стихи из сборник "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 4 :http://www.stihi.ru/2011/07...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 5:http://www.stihi.ru/2011/06...
Стихи из сборника "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 5:http://www.stihi.ru/2011/07...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 6: http://www.stihi.ru/2011/08...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 7: http://www.stihi.ru/2011/11...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 8: http://www.stihi.ru/2012/01...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 9: http://www.stihi.ru/2012/02...
Информация о сборнике "КРАСКИ ЖИЗНИ" книга 10: http://www.stihi.ru/2012/03...
Сборник выйдет конце мая 2012 г., состоится его презентация.
Это хорошая возможность получить полноценную книжную публикацию за небольшую сумму.
Книги расходятся по всей России и за ее пределы, так как в них принимают участие авторы из разных городов и стран.
Книги имеют все выходные данные, поступают в Библиотеку имени В.И.Ленина, в некоторые литературные музеи Москвы, и в Библиотеку №92- Интеллектуальный центр, на базе которой создается БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ.
Многие авторы, участники сборников дарят свои экземпляры районным и городским библиотекам, а также школам. Если Вы хотите, чтобы Ваши стихи прочитали не только Ваши друзья и близкие - поступите также !!!
Это сборники стихов с цветной обложкой . Стоимость участия в них выкуп по предоплате не менее 7 экземпляров – 2000 руб. ) + пересылка 7 экз. по России - 250 рублей, за ее пределы от 350 рублей.
Для членов РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ "СВЕТОЧ" скидка 10 процентов на полученную при расчете сумму по таблице.
Для всех :
Если Вы заказываете 10 экз., то стоимость одного экз. = 250 рублей.
Если 20 экз. - 240 рублей.
Если 30 экз. - 230 рублей.
Если 40 экз. - 220 рублей.
Если 50 экз. - 210 рублей.
Лариса Кузьминская - поэт, член Союза писателей России, Президент регионального общественного фонда содействия развитию современной поэзии "СВЕТОЧ".
Живопись: Виктор Брегеда"ТВОРЧЕСТВО"
Лариса Кузьминская,
11-06-2011 17:50
(ссылка)
Большая элегия Иосифу Бродскому. Лариса Кузьминская
«Подобье птиц, и он проснётся днём.
Сейчас - лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом»
"Большая элегия Джону Донну. Ч5" И. Бродский.
Счастливым быть, когда лишь два крыла…
И ты похож на птицу с острым клювом…
Размахом крыл на гордого орла…
В реальности, что схожа с звездным сюром…
Вплетать в земное, посланное небом…
Земли сигналы в небо посылать…
Быть в тех краях, в которых прежде не был,
Багаж огромен – ручка и тетрадь.
Ну, а любовь – она недостижима…
Для гениев, а также для аббатов…
Не терпит пут, стабильности, ужимок,
Она, как ты, свободна и крылата…
Стоит двойник твой нынче у посольства…
Как будто просит визу в звездный мир…
Вкусив вселенского покоя, хлебосольства…
И к нам летят стихи через эфир…
Подобно птицам бренные поэты…
Взлетают вверх, но там и остаются…
Мы в небо смотрим в телескопов блюдца…
И жмуримся от неземного света.
Лариса Кузьминская,
10-06-2011 17:15
(ссылка)
Навеяно И. Бродским... Лариса Кузьминская
ПОСВЯЩАЕТСЯ ИОСИФУ БРОДСКОМУ
«..И, значит, остались только
иллюзия и дорога.»
И.Бродский
Мечтою жить, дорогою брести…
Свой груз тащить и гордо крест нести…
Стезя поэта, также пилигрима…
Открытым быть без умысла и грима…
Путь не прервется… он всегда без края…
Когда дорогу мы не выбираем…
Она сама расстелется по ноги….
Наряды снимем и оденем тоги….
И вдаль пойдем без серебра и злата…
Душа богатством творчества объята….
И никуда с дороги не свернуть….
Лишь только вверх, а там звездой сверкнуть.
ХУДОЖНИКУ...
«Но по мере вашего к мареву приближенья
оно обретает, редея, знакомое выраженье
прошлого: те же склоны, те же пучки травы.»
И.Бродский
Можно назвать и заревом…
То, что где-то вдали…
И разложить, как Дали…
Мир постигая заново…
В ином неизвестном ракурсе…
Представить прошлого дни…
Как будто это огни…
Листьев желтеющих в августе…
А будущее, как планету,
Еще не открытую нами…
Мерцающую над головами…
Или шальную комету…
Летящую в тартарары..
Столько больного вымысла…
Душа художника вынесла,
Уставшая от игры…
В совсем другую реальность…
В иную судьбу и стезю…
Презрев в этом мире возню…
Избрав свой путь в гениальность.
СВОЮ ЗВЕЗДУ ВСЕГДА Я ЗАМЕЧАЮ
«А если ты дом покидаешь - включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.»
И.Бродский
Свою звезду всегда я замечаю…
Когда темно и свет я выключаю…
Я для нее лишь точка в мирозданье,
Как все другие божии созданья…
Она всем светит, света ей не жалко…
Ее лучи, как нити у весталки…
Она вплетает свет в пространство ночи…
Лучи ловлю и их вплетаю в строчки.
НЕ ИЗМЕНИТСЯ ВРЕМЯ, ПОКА…
«Все станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,
потому что больше уже ничего не будет,
и еще позавидуют многие, сил избытком
пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.»
И.Бродский
Не изменится время, пока мы неизменны,
Но есть один философский вопрос:
Когда закончится осень и наступит мороз?
Потому что мы все-таки тленны…
Потому, что мы не инопланетяне
Со сложною схемой и кибермозгами,
Вот они и приходят за нами,
Потому что мы земляНЕ…
Но пока еще осень и серые тучи…
Изредка падают снежные звезды
Сквозь туманную роздымь,
И кажутся почему-то колючими.
И пока еще любим… порой безусловно,
Кто просто форму, а кто движение,
Похожее так на самосожжение…
Дающее силы парить невесомо…
Время не изменится, пока мы неизменны,
Потому, что мы не инопланетяне
Пирамиду Хеопса придумали египтяне,
И мы возводим построек стены….
Но пока еще осень и серые тучи…
И пока еще любим… порой безусловно,
И радует музыка, радует слово,
И хочется мир безмолвный озвучить…
ВЕРШИНЫ
«Холмы -- это боль и гордость.
Холмы -- это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.
Холмы -- это наши страданья.
Холмы -- это наша любовь.
Холмы -- это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.»
И.Бродский
Всё что в вышине и выше…
Возвышенностей и холмов,
Над каждого дома крышей,
Макушками наших голов…
Все это зовем вершиной,
Зовем иногда творцом,
Небесною машиной,
Вселенским прекрасным дворцом.
Стремимся к своим вершинам,
Стремимся постичь высоты,
С вершин то обвал, то лавина,
Жизнь строим свою как соты…
И высших миров ответы -
По-своему примем мы ,
Смешав белоснежность света
С бездонностью вечной тьмы.

Живопись : В.Брегеда "ИСКУССТВО".
Валентин Абрамов,
01-03-2011 19:49
(ссылка)
Как там в Ливии, мой Постум?
http://www.litprichal.ru/work/72104/ И. Бродский. Письма римскому другу.
Михаил Гасилин,
27-10-2009 23:02
(ссылка)
Песни дома Мурузи
Николай Якимов, Евгения Логвинова "Песни дома Мурузи". Аудиоримейк одноименной театрально-концертной программы по стихам Иосифа Бродского
2 CD
2 CD
День рождения
Именно сегодня Иосифу Бродскому исполнилось бы 69 лет...
Метки: круговорот, время, Бытие
* * *
Мне говорят, что нужно уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
не следует. Да, я не потеряюсь.
Ах, что вы говорите -- дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок.
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке. Без чемоданов.
Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
над родиной деревья поднимают.
Все кончено. Не стану возражать.
Ладони бы пожать -- и до свиданья.
Я выздоровел. Нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.
Вези меня по родине, такси.
Как будто бы я адрес забываю.
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.
Как будто бы я адрес позабыл:
к окошку запотевшему приникну
и над рекой, которую любил,
я расплачусь и лодочника крикну.
(Все кончено. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради Бога.
Я в небо погляжу и подышу
холодным ветром берега другого.)
Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
я к берегу пологому причалю.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
не следует. Да, я не потеряюсь.
Ах, что вы говорите -- дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок.
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке. Без чемоданов.
Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
над родиной деревья поднимают.
Все кончено. Не стану возражать.
Ладони бы пожать -- и до свиданья.
Я выздоровел. Нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.
Вези меня по родине, такси.
Как будто бы я адрес забываю.
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.
Как будто бы я адрес позабыл:
к окошку запотевшему приникну
и над рекой, которую любил,
я расплачусь и лодочника крикну.
(Все кончено. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради Бога.
Я в небо погляжу и подышу
холодным ветром берега другого.)
Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
я к берегу пологому причалю.
Александр Нескажу,
25-11-2008 04:00
(ссылка)
Посвящается Пиранези
Не то -- лунный кратер, не то -- колизей; не то --
где-то в горах. И человек в пальто
беседует с человеком, сжимающим в пальцах посох.
Неподалеку собачка ищет пожрать в отбросах.
Не важно, о чем они говорят. Видать,
о возвышенном; о таких предметах, как благодать
и стремление к истине. Об этом неодолимом
чувстве вполне естественно беседовать с пилигримом.
Скалы -- или остатки былых колонн --
покрыты дикой растительностью. И наклон
головы пилигрима свидетельствует об известной
примиренности -- с миром вообще и с местной
фауной в частности. "Да", говорит его
поза, "мне все равно, если колется. Ничего
страшного в этом нет. Колкость -- одно из многих
свойств, присущих поверхности. Взять хоть четвероногих:
их она не смущает; и нас не должна, зане
ног у нас вдвое меньше. Может быть, на Луне
все обстоит иначе. Но здесь, где обычно с прошлым
смешано настоящее, колкость дает подошвам
-- и босиком особенно -- почувствовать, так сказать,
разницу. В принципе, осязать
можно лишь настоящее -- естественно, приспособив
к этому эпидерму. И отрицаю обувь".
Все-таки, это -- в горах. Или же -- посреди
древних руин. И руки, скрещенные на груди
того, что в пальто, подчеркивают, насколько он неподвижен.
"Да", гласит его поза, "в принципе, кровли хижин
смахивают силуэтом на очертанья гор.
Это, конечно, не к чести хижин и не в укор
горным вершинам, но подтверждает склонность
природы к простой геометрии. То есть, освоив конус,
она чуть-чуть увлеклась. И горы издалека
схожи с крестьянским жилищем, с хижиной батрака
вблизи. Не нужно быть сильно пьяным,
чтоб обнаружить сходство временного с постоянным
и настоящего с прошлым. Тем более -- при ходьбе.
И если вы -- пилигрим, вы знаете, что судьбе
угодней, чтоб человек себя полагал слугою
оставшегося за спиной, чем гравия под ногою
и марева впереди. Марево впереди
представляется будущим и говорит "иди
ко мне". Но по мере вашего к мареву приближенья
оно обретает, редея, знакомое выраженье
прошлого: те же склоны, те же пучки травы.
Поэтому я обут". "Но так и возникли вы, --
не соглашается с ним пилигрим. -- Забавно,
что вы так выражаетесь. Ибо совсем недавно
вы были лишь точкой в мареве, потом разрослись в пятно".
"Ах, мы всего лишь два прошлых. Два прошлых дают одно
настоящее. И это, замечу, в лучшем
случае. В худшем -- мы не получим
даже и этого. В худшем случае, карандаш
или игла художника изобразят пейзаж
без нас. Очарованный дымкой, далью,
глаз художника вправе вообще пренебречь деталью
-- то есть моим и вашим существованьем. Мы --
то, в чем пейзаж не нуждается как в пирогах кумы.
Ни в настоящем, ни в будущем. Тем более -- в их гибриде.
Видите ли, пейзаж есть прошлое в чистом виде,
лишившееся обладателя. Когда оно -- просто цвет
вещи на расстояньи; ее ответ
на привычку пространства распоряжаться телом
по-своему. И поэтому прошлое может быть черно-белым,
коричневым, темно-зеленым. Вот почему порой
художник оказывается заворожен горой
или, скажем, развалинами. И надо отдать Джованни
должное, ибо Джованни внимателен к мелкой рвани
вроде нас, созерцая то Альпы, то древний Рим".
"Вы, значит, возникли из прошлого?" -- волнуется пилигрим.
Но собеседник умолк, разглядывая устало
собачку, которая все-таки что-то себе достала
поужинать в груде мусора и вот-вот
взвизгнет от счастья, что и она живет.
"Да нет, -- наконец он роняет. -- Мы здесь просто так, гуляем".
И тут пейзаж оглашается заливистым сучьим лаем.
1993 -- 1995
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:57
(ссылка)
Выздоравливающему Волосику
Пока срастаются твои бесшумно косточки,
не грех задуматься, Волосенька, о тросточке.
В минувшем веке без неЈ из дому гении
не выходили прогуляться даже в Кении.
И даже тот, кто справедливый мир планировал,
порой без Энгельса, но с тросточкой фланировал.
Хотя вообще-то в ход пошла вещица в Лондоне
при нежном Брэммеле и гордом Джордже Гордоне.
Потом, конечно, нравы стали быстро портиться:
то -- революция, то -- безработица,
и вскоре тросточка, устав от схваток классовых,
асфальт покинула в разгар расстрелов массовых.
Но вот теперь, случайно выбравшись с поломками
из-под колЈс почти истории с подонками,
больнички с извергом захлопнув сзади двери и
в миниатюре повторив судьбу Империи,
-- чтоб поддержать чуть-чуть своЈ телосложение --
ты мог бы тросточку взять на вооружение.
В конце столетия в столице нашей северной
представим щЈголя с улыбкою рассеянной,
с лицом, изборождЈнным русским опытом,
сопровождаемого восхищЈнным ропотом,
когда прокладывает он сквозь часть Литейную
изящной тросточкою путь в толпе в питейную.
Тут даже гангстеры, одеты в кожу финскую,
вмиг расступаются, поблЈскивая фиксою,
и, точно вывернутый брюк карман -- на деньги,
взирают тучки на блистательного дэнди.
Кто это? Это -- ты, Волосик, с тросточкой
интеллигентов окружЈнный храброй горсточкой,
вступаешь, холодно играя набалдашником,
в то будущее, где жлобы с бумажником
царить хотели бы и шуровать кастетами.
Но там все столики уж стоики и эстетами
позанимали, и Волосик там -- за главного:
поэт, которому и в будущем нет равного.
1995
* "Волосик" -- юношеская кличка от имени Володя (прим. В. Уфлянда)
не грех задуматься, Волосенька, о тросточке.
В минувшем веке без неЈ из дому гении
не выходили прогуляться даже в Кении.
И даже тот, кто справедливый мир планировал,
порой без Энгельса, но с тросточкой фланировал.
Хотя вообще-то в ход пошла вещица в Лондоне
при нежном Брэммеле и гордом Джордже Гордоне.
Потом, конечно, нравы стали быстро портиться:
то -- революция, то -- безработица,
и вскоре тросточка, устав от схваток классовых,
асфальт покинула в разгар расстрелов массовых.
Но вот теперь, случайно выбравшись с поломками
из-под колЈс почти истории с подонками,
больнички с извергом захлопнув сзади двери и
в миниатюре повторив судьбу Империи,
-- чтоб поддержать чуть-чуть своЈ телосложение --
ты мог бы тросточку взять на вооружение.
В конце столетия в столице нашей северной
представим щЈголя с улыбкою рассеянной,
с лицом, изборождЈнным русским опытом,
сопровождаемого восхищЈнным ропотом,
когда прокладывает он сквозь часть Литейную
изящной тросточкою путь в толпе в питейную.
Тут даже гангстеры, одеты в кожу финскую,
вмиг расступаются, поблЈскивая фиксою,
и, точно вывернутый брюк карман -- на деньги,
взирают тучки на блистательного дэнди.
Кто это? Это -- ты, Волосик, с тросточкой
интеллигентов окружЈнный храброй горсточкой,
вступаешь, холодно играя набалдашником,
в то будущее, где жлобы с бумажником
царить хотели бы и шуровать кастетами.
Но там все столики уж стоики и эстетами
позанимали, и Волосик там -- за главного:
поэт, которому и в будущем нет равного.
1995
* "Волосик" -- юношеская кличка от имени Володя (прим. В. Уфлянда)
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:55
(ссылка)
Воспоминание
Je n'ai pas oublie, voisin de la ville
Notre blanche maison, petite mais tranquille.
Сharles Baudelaire
Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень
парка, чьи праздные статуи, как бросившие ключи
жильцы, слонялись в аллеях, оставшихся от извилин;
когда загорались окна, было неясно -- чьи.
Видимо, шум листвы, суммируя варианты
зависимости от судьбы (обычно -- по вечерам),
пользовалcя каракулями, и, с точки зренья лампы,
этого было достаточно, чтоб раскалить вольфрам.
Но шторы были опущены. Крупнозернистый гравий,
похрустывая осторожно, свидетельствовал не о
присутствии постороннего, но торжестве махровой
безадресности, окрестностям доставшейся от него.
И за полночь облака, воспитаны высшей школой
расплывчатости или просто задранности голов,
отечески прикрывали рыхлой периной голый
космос от одичавшей суммы прямых углов.
1995
Notre blanche maison, petite mais tranquille.
Сharles Baudelaire
Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень
парка, чьи праздные статуи, как бросившие ключи
жильцы, слонялись в аллеях, оставшихся от извилин;
когда загорались окна, было неясно -- чьи.
Видимо, шум листвы, суммируя варианты
зависимости от судьбы (обычно -- по вечерам),
пользовалcя каракулями, и, с точки зренья лампы,
этого было достаточно, чтоб раскалить вольфрам.
Но шторы были опущены. Крупнозернистый гравий,
похрустывая осторожно, свидетельствовал не о
присутствии постороннего, но торжестве махровой
безадресности, окрестностям доставшейся от него.
И за полночь облака, воспитаны высшей школой
расплывчатости или просто задранности голов,
отечески прикрывали рыхлой периной голый
космос от одичавшей суммы прямых углов.
1995
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:52
(ссылка)
MCMXCIV
Глупое время: и нечего, и не у кого украсть.
Легионеры с пустыми руками возвращаются из походов.
Сивиллы путают прошлое с будущим, как деревья.
И актеры, которым больше не аплодируют,
забывают великие реплики. Впрочем, забвенье -- мать
классики. Когда-нибудь эти годы
будут восприниматься как мраморная плита
с сетью прожилок -- водопровод, маршруты
сборщика податей, душные катакомбы,
чья-то нитка, ведущая в лабиринт, и т. д. и т. п. -- с пучком
дрока, торчащим из трещины посередине.
А это было эпохой скуки и нищеты,
когда нечего было украсть, тем паче
купить, ни тем более преподнести в подарок.
Цезарь был ни при чем, страдая сильнее прочих
от отсутствия роскоши. Нельзя упрекнуть и звЈзды,
ибо низкая облачность снимает с планет ответственность
перед обжитой местностью: отсутствие не влияет
на присутствие. Мраморная плита
начинается именно с этого, поскольку односторонность --
враг перспективы. Возможно, просто
у вещей быстрее, чем у людей,
пропало желание размножаться.
1994
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:50
(ссылка)
* * *
Мы жили в городе цвета окаменевшей водки.
Электричество поступало издалека, с болот,
и квартира казалась по вечерам
перепачканной торфом и искусанной комарами.
Одежда была неуклюжей, что выдавало
близость Арктики. В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны.
Три рубля украшали летчики и шахтеры.
Я не знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет.
Эмалированные кастрюли кухни
внушали уверенность в завтрашнем дне, упрямо
превращаясь во сне в головные уборы либо
в торжество Циолковского. Автомобили тоже
катились в сторону будущего и были
черными, серыми, а иногда (такси)
даже светло-коричневыми. Странно и неприятно
думать, что даже железо не знает своей судьбы
и что жизнь была прожита ради апофеоза
фирмы Кодак, поверившей в отпечатки
и выбрасывающей негативы.
Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой ветке.
1994
Электричество поступало издалека, с болот,
и квартира казалась по вечерам
перепачканной торфом и искусанной комарами.
Одежда была неуклюжей, что выдавало
близость Арктики. В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны.
Три рубля украшали летчики и шахтеры.
Я не знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет.
Эмалированные кастрюли кухни
внушали уверенность в завтрашнем дне, упрямо
превращаясь во сне в головные уборы либо
в торжество Циолковского. Автомобили тоже
катились в сторону будущего и были
черными, серыми, а иногда (такси)
даже светло-коричневыми. Странно и неприятно
думать, что даже железо не знает своей судьбы
и что жизнь была прожита ради апофеоза
фирмы Кодак, поверившей в отпечатки
и выбрасывающей негативы.
Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой ветке.
1994
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:47
(ссылка)
Моллюск
Земная поверхность есть
признак того, что жить
в космосе разрешено,
поскольку здесь можно сесть,
встать, пройтись, потушить
лампу, взглянуть в окно.
Восемь других планет
считают, что эти как раз
выводы неверны,
и мы слышим их "нет!",
когда убивают нас
и когда мы больны.
Тем не менее я
существую, и мне,
искренне говоря,
в результате вполне
единственного бытия
дороже всего моря.
Хотя я не враг равнин,
друг ледниковых гряд,
ценитель пустынь и гор --
особенно Апеннин --
всего этого, говорят,
в космосе перебор.
Статус небесных тел
приобретаем за счет
рельефа. Но их рельеф
не плещет и не течет,
взгляду кладя предел,
его же преодолев.
Всякая жизнь под стать
ландшафту. Когда он сер,
сух, ограничен, тверд,
какой он может подать
умам и сердцам пример,
тем более -- для аорт?
Когда вы стоите на
Сириусе -- вокруг
бурое фантази
из щебня и валуна.
Это портит каблук
и не блестит вблизи.
У тел и у их небес
нету, как ни криви
пространство, иной среды.
"Многие жили без, --
заметил поэт, -- любви,
но никто без воды".
Отсюда -- мой сентимент.
И скорей, чем турист,
готовый нажать на спуск
камеры в тот момент,
когда ландшафт волнист,
во мне говорит моллюск.
Ему подпевает хор
хордовых, вторят пять
литров неголубой
крови: у мышц и пор
суши меня, как пядь,
отвоевал прибой.
Стоя на берегу
моря, морща чело,
присматриваясь к воде,
я радуюсь, что могу
разглядывать то, чего
в галактике нет нигде.
Моря состоят из волн --
странных вещей, чей вид
множественного числа,
брошенного на произвол,
был им раньше привит
всякого ремесла.
По существу, вода --
сумма своих частей,
которую каждый миг
меняет их чехарда;
и бредни ведомостей
усугубляет блик.
Определенье волны
заключено в самом
слове "волна". Оно,
отмеченное клеймом
взгляда со стороны,
им не закабалено.
В облике буквы "в"
явно дает гастроль
восьмерка -- родная дочь
бесконечности, столь
свойственной синеве,
склянке чернил и проч.
Как форме, волне чужды
ромб, треугольник, куб,
всяческие углы.
В этом -- прелесть воды.
В ней есть нечто от губ
с пеною вдоль скулы.
Склонностью пренебречь
смыслом, чья глубина
буквальна, морская даль
напоминает речь,
рваные письмена,
некоторым -- скрижаль.
Именно потому,
узнавая в ней свой
почерк, певцы поют
рыхлую бахрому --
связки голосовой
или зрачка приют.
Заговори сама,
волна могла бы свести
слушателя своего
в одночасье с ума,
сказав ему: "я, прости,
не от мира сего".
Это, сдается мне,
было бы правдой. Сей --
удерживаем рукой;
в нем можно зайти к родне,
посмотреть Колизей,
произнести "на кой?".
Иначе с волной, чей шум,
смахивающий на "ура", --
шум, сумевший вобрать
"завтра", "сейчас", "вчера",
идущий из царства сумм, --
не занести в тетрадь.
Там, где прошлое плюс
будущее вдвоем
бьют баклуши, творя
настоящее, вкус
диктует массам объем.
И отсюда -- моря.
Скорость по кличке "свет",
белый карлик, квазар
напоминают нерях;
то есть пожар, базар.
Материя же -- эстет,
и ей лучше в морях.
Любое из них -- скорей
слепок времени, чем
смесь катастрофы и
радости для ноздрей,
или -- пир диадем,
где за столом -- свои.
Собой превращая две
трети планеты в дно,
море -- не лицедей.
Вещью на букву "в"
оно говорит: оно --
место не для людей.
Тем более если три
четверти. Для волны
суша -- лишь эпизод,
а для рыбы внутри --
хуже глухой стены:
тот свет, кислород, азот.
При расшифровке "вода",
обнажив свою суть,
даст в профиль или в анфас
"бесконечность-о-да";
то есть, что мир отнюдь
создан не ради нас.
Не есть ли вообще тоска
по вечности и т. д.,
по ангельскому крылу --
инерция косяка,
в родной для него среде
уткнувшегося в скалу?
И не есть ли Земля
только посуда? Род
пиалы? И не есть ли мы,
пашущие поля,
танцующие фокстрот,
разновидность каймы?
Звезды кивнут: ага,
бордюр, оторочка, вязь
жизней, которых счет
зрения отродясь
от громокипящих га
моря не отвлечет.
Им виднее, как знать.
В сущности, их накал
в космосе объясним
недостатком зеркал;
это легче понять,
чем примириться с ним.
Но и моря, в свой черед,
обращены лицом
вовсе не к нам, но вверх,
ценя их, наоборот,
как выдуманной слепцом
азбуки фейерверк.
Оказываясь в западне
или же когда мы
никому не нужны,
мы видим моря вовне,
больше беря взаймы,
чем наяву должны.
В облике многих вод,
бегущих на нас, рябя,
встающих там на дыбы,
мнится свобода от
всего, от самих себя,
не говоря -- судьбы.
Если вообще она
существует -- и спор
об этом сильней в глуши --
она не одушевлена,
так как морской простор
шире, чем ширь души.
Сворачивая шапито,
грустно думать о том,
что бывшее, скажем, мной,
воздух хватая ртом,
превратившись в ничто,
не сделается волной.
Но ежели вы чуть-чуть
мизантроп, лиходей,
то вам, подтянув кушак,
приятно, подставив ей,
этой свободе, грудь,
сделать к ней лишний шаг.
1994
признак того, что жить
в космосе разрешено,
поскольку здесь можно сесть,
встать, пройтись, потушить
лампу, взглянуть в окно.
Восемь других планет
считают, что эти как раз
выводы неверны,
и мы слышим их "нет!",
когда убивают нас
и когда мы больны.
Тем не менее я
существую, и мне,
искренне говоря,
в результате вполне
единственного бытия
дороже всего моря.
Хотя я не враг равнин,
друг ледниковых гряд,
ценитель пустынь и гор --
особенно Апеннин --
всего этого, говорят,
в космосе перебор.
Статус небесных тел
приобретаем за счет
рельефа. Но их рельеф
не плещет и не течет,
взгляду кладя предел,
его же преодолев.
Всякая жизнь под стать
ландшафту. Когда он сер,
сух, ограничен, тверд,
какой он может подать
умам и сердцам пример,
тем более -- для аорт?
Когда вы стоите на
Сириусе -- вокруг
бурое фантази
из щебня и валуна.
Это портит каблук
и не блестит вблизи.
У тел и у их небес
нету, как ни криви
пространство, иной среды.
"Многие жили без, --
заметил поэт, -- любви,
но никто без воды".
Отсюда -- мой сентимент.
И скорей, чем турист,
готовый нажать на спуск
камеры в тот момент,
когда ландшафт волнист,
во мне говорит моллюск.
Ему подпевает хор
хордовых, вторят пять
литров неголубой
крови: у мышц и пор
суши меня, как пядь,
отвоевал прибой.
Стоя на берегу
моря, морща чело,
присматриваясь к воде,
я радуюсь, что могу
разглядывать то, чего
в галактике нет нигде.
Моря состоят из волн --
странных вещей, чей вид
множественного числа,
брошенного на произвол,
был им раньше привит
всякого ремесла.
По существу, вода --
сумма своих частей,
которую каждый миг
меняет их чехарда;
и бредни ведомостей
усугубляет блик.
Определенье волны
заключено в самом
слове "волна". Оно,
отмеченное клеймом
взгляда со стороны,
им не закабалено.
В облике буквы "в"
явно дает гастроль
восьмерка -- родная дочь
бесконечности, столь
свойственной синеве,
склянке чернил и проч.
Как форме, волне чужды
ромб, треугольник, куб,
всяческие углы.
В этом -- прелесть воды.
В ней есть нечто от губ
с пеною вдоль скулы.
Склонностью пренебречь
смыслом, чья глубина
буквальна, морская даль
напоминает речь,
рваные письмена,
некоторым -- скрижаль.
Именно потому,
узнавая в ней свой
почерк, певцы поют
рыхлую бахрому --
связки голосовой
или зрачка приют.
Заговори сама,
волна могла бы свести
слушателя своего
в одночасье с ума,
сказав ему: "я, прости,
не от мира сего".
Это, сдается мне,
было бы правдой. Сей --
удерживаем рукой;
в нем можно зайти к родне,
посмотреть Колизей,
произнести "на кой?".
Иначе с волной, чей шум,
смахивающий на "ура", --
шум, сумевший вобрать
"завтра", "сейчас", "вчера",
идущий из царства сумм, --
не занести в тетрадь.
Там, где прошлое плюс
будущее вдвоем
бьют баклуши, творя
настоящее, вкус
диктует массам объем.
И отсюда -- моря.
Скорость по кличке "свет",
белый карлик, квазар
напоминают нерях;
то есть пожар, базар.
Материя же -- эстет,
и ей лучше в морях.
Любое из них -- скорей
слепок времени, чем
смесь катастрофы и
радости для ноздрей,
или -- пир диадем,
где за столом -- свои.
Собой превращая две
трети планеты в дно,
море -- не лицедей.
Вещью на букву "в"
оно говорит: оно --
место не для людей.
Тем более если три
четверти. Для волны
суша -- лишь эпизод,
а для рыбы внутри --
хуже глухой стены:
тот свет, кислород, азот.
При расшифровке "вода",
обнажив свою суть,
даст в профиль или в анфас
"бесконечность-о-да";
то есть, что мир отнюдь
создан не ради нас.
Не есть ли вообще тоска
по вечности и т. д.,
по ангельскому крылу --
инерция косяка,
в родной для него среде
уткнувшегося в скалу?
И не есть ли Земля
только посуда? Род
пиалы? И не есть ли мы,
пашущие поля,
танцующие фокстрот,
разновидность каймы?
Звезды кивнут: ага,
бордюр, оторочка, вязь
жизней, которых счет
зрения отродясь
от громокипящих га
моря не отвлечет.
Им виднее, как знать.
В сущности, их накал
в космосе объясним
недостатком зеркал;
это легче понять,
чем примириться с ним.
Но и моря, в свой черед,
обращены лицом
вовсе не к нам, но вверх,
ценя их, наоборот,
как выдуманной слепцом
азбуки фейерверк.
Оказываясь в западне
или же когда мы
никому не нужны,
мы видим моря вовне,
больше беря взаймы,
чем наяву должны.
В облике многих вод,
бегущих на нас, рябя,
встающих там на дыбы,
мнится свобода от
всего, от самих себя,
не говоря -- судьбы.
Если вообще она
существует -- и спор
об этом сильней в глуши --
она не одушевлена,
так как морской простор
шире, чем ширь души.
Сворачивая шапито,
грустно думать о том,
что бывшее, скажем, мной,
воздух хватая ртом,
превратившись в ничто,
не сделается волной.
Но ежели вы чуть-чуть
мизантроп, лиходей,
то вам, подтянув кушак,
приятно, подставив ей,
этой свободе, грудь,
сделать к ней лишний шаг.
1994
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:46
(ссылка)
Из Альберта Эйнштейна
Петру Вайлю
Вчера наступило завтра, в три часа пополудни.
Сегодня уже "никогда", будущее вообще.
То, чего больше нет, предпочитает будни
с отсыревшей газетой и без яйца в борще.
Стоит сказать "Иванов", как другая эра
сразу же тут как тут, вместо минувших лет.
Так солдаты в траншее поверх бруствера
смотрят туда, где их больше нет.
Там -- эпидемия насморка, так как цветы не пахнут,
и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья,
и город типа доски для черно-белых шахмат,
где побеждают желтые, выглядит как ничья.
Так смеркается раньше от лампочки в коридоре,
и горную цепь настораживает сворачиваемый вигвам,
и, чтоб никуда не ломиться за полночь на позоре,
звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам.
1994
Вчера наступило завтра, в три часа пополудни.
Сегодня уже "никогда", будущее вообще.
То, чего больше нет, предпочитает будни
с отсыревшей газетой и без яйца в борще.
Стоит сказать "Иванов", как другая эра
сразу же тут как тут, вместо минувших лет.
Так солдаты в траншее поверх бруствера
смотрят туда, где их больше нет.
Там -- эпидемия насморка, так как цветы не пахнут,
и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья,
и город типа доски для черно-белых шахмат,
где побеждают желтые, выглядит как ничья.
Так смеркается раньше от лампочки в коридоре,
и горную цепь настораживает сворачиваемый вигвам,
и, чтоб никуда не ломиться за полночь на позоре,
звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам.
1994
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:37
(ссылка)
Послесловие к басне
"Еврейская птица ворона,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?"
"Нет! Чуждый ольхе или вербе,
чье главное свойство -- длина,
сыр с месяцем схож на ущербе.
Я в профиль его влюблена".
"Точней, ты скорее астроном,
ворона, чем жертва лисы.
Но профиль, присущий воронам,
пожалуй не меньшей красы".
"Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой".
<1993>
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?"
"Нет! Чуждый ольхе или вербе,
чье главное свойство -- длина,
сыр с месяцем схож на ущербе.
Я в профиль его влюблена".
"Точней, ты скорее астроном,
ворона, чем жертва лисы.
Но профиль, присущий воронам,
пожалуй не меньшей красы".
"Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой".
<1993>
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:34
(ссылка)
Посвящается Джироламо Марчелло
Однажды я тоже зимою приплыл сюда
из Египта, считая, что буду встречен
на запруженной набережной женой в меховом манто
и в шляпке с вуалью. Однако встречать меня
пришла не она, а две старенькие болонки
с золотыми зубами. Хозяин-американец
объяснял мне потом, что если его ограбят,
болонки позволят ему свести
на первое время концы с концами.
Я поддакивал и смеялся.
Набережная выглядела бесконечной
и безлюдной. Зимний, потусторонний
свет превращал дворцы в фарфоровую посуду
и население -- в тех, кто к ней
не решается прикоснуться.
Ни о какой вуали, ни о каком манто
речи не было. Единственною прозрачной
вещью был воздух и розовая, кружевная
занавеска в гостинице "Мелеагр и Аталанта",
где уже тогда, одиннадцать лет назад,
я мог, казалось бы, догадаться,
что будущее, увы, уже
настало. Когда человек один,
он в будущем, ибо оно способно
обойтись, в свою очередь, без сверхзвуковых вещей,
обтекаемой формы, свергнутого тирана,
рухнувшей статуи. Когда человек несчастен,
он в будущем.
Теперь я не становлюсь
больше в гостиничном номере на четвереньки,
имитируя мебель и защищаясь от
собственных максим. Теперь умереть от горя,
боюсь, означало бы умереть
с опозданьем; а опаздывающих не любят
именно в будущем.
Набережная кишит
подростками, болтающими по-арабски.
Вуаль разрослась в паутину слухов,
перешедших впоследствии в сеть морщин,
и болонок давно поглотил их собачий Аушвиц.
Не видать и хозяина. Похоже, что уцелели
только я и вода: поскольку и у нее
нет прошлого.
1988
из Египта, считая, что буду встречен
на запруженной набережной женой в меховом манто
и в шляпке с вуалью. Однако встречать меня
пришла не она, а две старенькие болонки
с золотыми зубами. Хозяин-американец
объяснял мне потом, что если его ограбят,
болонки позволят ему свести
на первое время концы с концами.
Я поддакивал и смеялся.
Набережная выглядела бесконечной
и безлюдной. Зимний, потусторонний
свет превращал дворцы в фарфоровую посуду
и население -- в тех, кто к ней
не решается прикоснуться.
Ни о какой вуали, ни о каком манто
речи не было. Единственною прозрачной
вещью был воздух и розовая, кружевная
занавеска в гостинице "Мелеагр и Аталанта",
где уже тогда, одиннадцать лет назад,
я мог, казалось бы, догадаться,
что будущее, увы, уже
настало. Когда человек один,
он в будущем, ибо оно способно
обойтись, в свою очередь, без сверхзвуковых вещей,
обтекаемой формы, свергнутого тирана,
рухнувшей статуи. Когда человек несчастен,
он в будущем.
Теперь я не становлюсь
больше в гостиничном номере на четвереньки,
имитируя мебель и защищаясь от
собственных максим. Теперь умереть от горя,
боюсь, означало бы умереть
с опозданьем; а опаздывающих не любят
именно в будущем.
Набережная кишит
подростками, болтающими по-арабски.
Вуаль разрослась в паутину слухов,
перешедших впоследствии в сеть морщин,
и болонок давно поглотил их собачий Аушвиц.
Не видать и хозяина. Похоже, что уцелели
только я и вода: поскольку и у нее
нет прошлого.
1988
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:32
(ссылка)
* * *
Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне.
Зеркальце там не слыхало ни о какой царевне.
Речка тоже рябит; а земля в морщинах --
и думать забыла, поди, о своих мужчинах.
Там -- одни пацаны. А от кого рожают,
знают лишь те, которые их сажают,
либо -- никто, либо -- в углу иконы.
И весною пахать выходят одни законы.
Езжай в деревню, подруга. В поле, тем паче в роще
в землю смотреть и одеваться проще.
Там у тебя одной на сто верст помада,
но вынимать ее все равно не надо.
Знаешь, лучше стареть там, где верста маячит,
где красота ничего не значит
или значит не молодость, титьку, семя,
потому что природа вообще все время.
Это, как знать, даст побороть унылость.
И леса там тоже шумят, что уже случилось
все, и притом -- не раз. И сумма
случившегося есть источник шума.
Лучше стареть в деревне. Даже живя отдельной
жизнью, там различишь нательный
крестик в драной березке, в стебле пастушьей сумки,
в том, что порхает всего лишь сутки.
И я приеду к тебе. В этом "и я приеду"
усмотри не свою, но этих вещей победу,
ибо земле, как той простыне, понятен
язык не столько любви, сколько выбоин, впадин, вмятин.
Или пусть не приеду. Любая из этих рытвин,
либо воды в колодезе привкус бритвин,
прутья обочины, хаос кочек --
все-таки я: то, чего не хочешь.
Езжай в деревню, подруга. Знаешь, дурнея, лица
лишь подтверждают, что можно слиться
разными способами; их -- бездны,
и нам, дорогая, не все известны.
Знаешь, пейзаж -- то, чего не знаешь.
Помни об этом, когда там судьбе пеняешь.
Когда-нибудь, в серую краску уставясь взглядом,
ты узнаешь себя. И серую краску рядом.
1992
Зеркальце там не слыхало ни о какой царевне.
Речка тоже рябит; а земля в морщинах --
и думать забыла, поди, о своих мужчинах.
Там -- одни пацаны. А от кого рожают,
знают лишь те, которые их сажают,
либо -- никто, либо -- в углу иконы.
И весною пахать выходят одни законы.
Езжай в деревню, подруга. В поле, тем паче в роще
в землю смотреть и одеваться проще.
Там у тебя одной на сто верст помада,
но вынимать ее все равно не надо.
Знаешь, лучше стареть там, где верста маячит,
где красота ничего не значит
или значит не молодость, титьку, семя,
потому что природа вообще все время.
Это, как знать, даст побороть унылость.
И леса там тоже шумят, что уже случилось
все, и притом -- не раз. И сумма
случившегося есть источник шума.
Лучше стареть в деревне. Даже живя отдельной
жизнью, там различишь нательный
крестик в драной березке, в стебле пастушьей сумки,
в том, что порхает всего лишь сутки.
И я приеду к тебе. В этом "и я приеду"
усмотри не свою, но этих вещей победу,
ибо земле, как той простыне, понятен
язык не столько любви, сколько выбоин, впадин, вмятин.
Или пусть не приеду. Любая из этих рытвин,
либо воды в колодезе привкус бритвин,
прутья обочины, хаос кочек --
все-таки я: то, чего не хочешь.
Езжай в деревню, подруга. Знаешь, дурнея, лица
лишь подтверждают, что можно слиться
разными способами; их -- бездны,
и нам, дорогая, не все известны.
Знаешь, пейзаж -- то, чего не знаешь.
Помни об этом, когда там судьбе пеняешь.
Когда-нибудь, в серую краску уставясь взглядом,
ты узнаешь себя. И серую краску рядом.
1992
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:29
(ссылка)
Памяти Н. Н.
Я позабыл тебя; но помню штукатурку
в подъезде, вздувшуюся щитовидку
труб отопленья вперемежку с сыпью
звонков с фамилиями типа "выпью"
или "убью", и псориаз асбеста
плюс эпидемию -- грибное место
электросчетчиков блокадной моды.
Ты умерла. Они остались. Годы
в волну бросаются княжною Стеньки.
Другие вывески, другие деньги,
другая поросль, иная падаль.
Что делать с прожитым теперь? И надо ль
вообще заботиться о содержаньи
недр гипоталамуса, т. е. ржаньи,
раскатов коего его герои
не разберут уже, так далеко от Трои.
Что посоветуешь? Развеселиться?
Взглянуть на облако? У них -- все лица
и в очертаниях -- жакет с подшитым
голландским кружевом. Но с парашютом
не спрыгнуть в прошлое, в послевоенный
пейзаж с трамваями, с открытой веной
реки, с двузначностью стиральных меток.
Одиннадцать квадратных метров
напротив взорванной десятилетки
в мозгу скукожились до нервной клетки,
включив то байковое одеяло
станка под лебедем, где ты давала
подростку в саржевых портках и в кепке.
Взглянуть на облако, где эти тряпки
везде разбросаны, как в том квадрате,
с одним заданием: глаз приучить к утрате?
Не стоит, милая. Что выживает, кроме
капризов климата? Другое время,
другие лацканы, замашки, догмы.
И я -- единственный теперь, кто мог бы
припомнить всю тебя в конце столетья
вне времени. Сиречь без платья,
на простыне. Но, вероятно, тело
сопротивляется, когда истлело,
воспоминаниям. Как жертва власти,
греху отказывающей в лучшей части
существования, тем паче -- в праве
на будущее. К вящей славе,
видать, архангелов, вострящих грифель:
торс, бедра, ягодицы, плечи, профиль
-- всЈ оборачивается расплатой
за то объятие. И это -- гибель статуй.
И я на выручку не подоспею.
На скромную твою Помпею
обрушивается мой Везувий
забвения: обид, безумий,
перемещения в пространстве, азий,
европ, обязанностей; прочих связей
и чувств, гонимых на убой оравой
дней, лет, и прочая. И ты под этой лавой
погребена. И даже это пенье
есть дополнительное погребенье
тебя, а не раскопки древней,
единственной, чтобы не крикнуть -- кровной!
цивилизации. Прощай, подруга.
Я позабыл тебя. Видать, дерюга
небытия, подобно всякой ткани,
к лицу тебе. И сохраняет, а не
растрачивает, как сбереженья,
тепло, оставшееся от изверженья.
<1993>
в подъезде, вздувшуюся щитовидку
труб отопленья вперемежку с сыпью
звонков с фамилиями типа "выпью"
или "убью", и псориаз асбеста
плюс эпидемию -- грибное место
электросчетчиков блокадной моды.
Ты умерла. Они остались. Годы
в волну бросаются княжною Стеньки.
Другие вывески, другие деньги,
другая поросль, иная падаль.
Что делать с прожитым теперь? И надо ль
вообще заботиться о содержаньи
недр гипоталамуса, т. е. ржаньи,
раскатов коего его герои
не разберут уже, так далеко от Трои.
Что посоветуешь? Развеселиться?
Взглянуть на облако? У них -- все лица
и в очертаниях -- жакет с подшитым
голландским кружевом. Но с парашютом
не спрыгнуть в прошлое, в послевоенный
пейзаж с трамваями, с открытой веной
реки, с двузначностью стиральных меток.
Одиннадцать квадратных метров
напротив взорванной десятилетки
в мозгу скукожились до нервной клетки,
включив то байковое одеяло
станка под лебедем, где ты давала
подростку в саржевых портках и в кепке.
Взглянуть на облако, где эти тряпки
везде разбросаны, как в том квадрате,
с одним заданием: глаз приучить к утрате?
Не стоит, милая. Что выживает, кроме
капризов климата? Другое время,
другие лацканы, замашки, догмы.
И я -- единственный теперь, кто мог бы
припомнить всю тебя в конце столетья
вне времени. Сиречь без платья,
на простыне. Но, вероятно, тело
сопротивляется, когда истлело,
воспоминаниям. Как жертва власти,
греху отказывающей в лучшей части
существования, тем паче -- в праве
на будущее. К вящей славе,
видать, архангелов, вострящих грифель:
торс, бедра, ягодицы, плечи, профиль
-- всЈ оборачивается расплатой
за то объятие. И это -- гибель статуй.
И я на выручку не подоспею.
На скромную твою Помпею
обрушивается мой Везувий
забвения: обид, безумий,
перемещения в пространстве, азий,
европ, обязанностей; прочих связей
и чувств, гонимых на убой оравой
дней, лет, и прочая. И ты под этой лавой
погребена. И даже это пенье
есть дополнительное погребенье
тебя, а не раскопки древней,
единственной, чтобы не крикнуть -- кровной!
цивилизации. Прощай, подруга.
Я позабыл тебя. Видать, дерюга
небытия, подобно всякой ткани,
к лицу тебе. И сохраняет, а не
растрачивает, как сбереженья,
тепло, оставшееся от изверженья.
<1993>
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:27
(ссылка)
Михаилу Барышникову (поздний вариант)
Михаилу Барышникову (поздний вариант)
Раньше мы поливали газон из лейки.
В комара попадали из трехлинейки.
Жука сажали, как турка, на кол.
И жук не жужжал, комар не плакал.
Теперь поливают нас, и все реже -- ливень.
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.
Что до жука и его жужжанья,
всюду сходят с ума машины для подражанья.
Видно, время бежит; но не как часы, а прямо.
И впереди, говорят, не гора, а яма.
И рассказывают, кто приезжал оттуда,
что погода там лучше, когда нам худо.
Помнишь скромный музей, где не раз видали
одного реалиста шедевр "Не дали"?
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем
то, на что мы теперь глазеем?
Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы
увлекаются боксом и любят танцы;
когда они ставят ногу -- как розу в вазу,
и когда убивают быка -- то сразу.
Разве что облачность может смутить пилота;
как будто там кто-то стирает что-то
не уступающее по силе
света тому, что в душе носили.
<1993>
Раньше мы поливали газон из лейки.
В комара попадали из трехлинейки.
Жука сажали, как турка, на кол.
И жук не жужжал, комар не плакал.
Теперь поливают нас, и все реже -- ливень.
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.
Что до жука и его жужжанья,
всюду сходят с ума машины для подражанья.
Видно, время бежит; но не как часы, а прямо.
И впереди, говорят, не гора, а яма.
И рассказывают, кто приезжал оттуда,
что погода там лучше, когда нам худо.
Помнишь скромный музей, где не раз видали
одного реалиста шедевр "Не дали"?
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем
то, на что мы теперь глазеем?
Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы
увлекаются боксом и любят танцы;
когда они ставят ногу -- как розу в вазу,
и когда убивают быка -- то сразу.
Разве что облачность может смутить пилота;
как будто там кто-то стирает что-то
не уступающее по силе
света тому, что в душе носили.
<1993>
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:26
(ссылка)
Михаилу Барышникову
Раньше мы поливали газон из лейки,
в комара попадали из трехлинейки,
жука сажали, как турка, на кол.
И жук не жужжал, комар не плакал.
Теперь поливают нас, и все реже -- ливень.
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.
Что до жука и его жужжанья,
всюду сходят с ума машины для подражанья.
Видно, время бежит, но не в часах, а прямо.
И впереди, говорят, не гора, но яма.
И рассказывают, кто приезжал оттуда,
что погода там лучше, когда нам худо.
Помнишь скромный музей, где не раз видали
одного реалиста шедевр "Не дали"?
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем
то, на что мы теперь глазеем?
Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы
увлекаются боксом и любят танцы,
когда они ставят ногу, как розу в вазу,
и когда убивают быка, то сразу.
Но говорят, что пропеллер замер.
Что -- особенно голые -- мы тяжелей, чем мрамор:
столько лет отталкивались от панели
каблуком, что в итоге окаменели.
Лучше, видно, остаться. Лечь, постелив на сене,
чтобы плававший при свечах в теплом, как суп, бассейне,
чью каплю еще хранит ресница,
знал, где найти нас, решив присниться.
Видимо, низкая облачность может вправду смутить пилота:
как будто там кто-то стирает что-то,
не уступающее по силе
света тому, что в душе носили.
1992
в комара попадали из трехлинейки,
жука сажали, как турка, на кол.
И жук не жужжал, комар не плакал.
Теперь поливают нас, и все реже -- ливень.
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.
Что до жука и его жужжанья,
всюду сходят с ума машины для подражанья.
Видно, время бежит, но не в часах, а прямо.
И впереди, говорят, не гора, но яма.
И рассказывают, кто приезжал оттуда,
что погода там лучше, когда нам худо.
Помнишь скромный музей, где не раз видали
одного реалиста шедевр "Не дали"?
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем
то, на что мы теперь глазеем?
Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы
увлекаются боксом и любят танцы,
когда они ставят ногу, как розу в вазу,
и когда убивают быка, то сразу.
Но говорят, что пропеллер замер.
Что -- особенно голые -- мы тяжелей, чем мрамор:
столько лет отталкивались от панели
каблуком, что в итоге окаменели.
Лучше, видно, остаться. Лечь, постелив на сене,
чтобы плававший при свечах в теплом, как суп, бассейне,
чью каплю еще хранит ресница,
знал, где найти нас, решив присниться.
Видимо, низкая облачность может вправду смутить пилота:
как будто там кто-то стирает что-то,
не уступающее по силе
света тому, что в душе носили.
1992
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:24
(ссылка)
Лидо
Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури,
как стоптанный полуботинок, который, вздохнув, разули.
Команда в одном исподнем -- бабники, онанюги --
загорает на палубе, поскольку они на юге,
но без копейки в кармане, чтоб выйти в город,
издали выглядящий, точно он приколот
как открытка к закату; над рейдом плывут отары
туч, запах потных подмышек и перебор гитары.
О, Средиземное море! после твоей пустыни
ногу тянет запутаться в уличной паутине.
Палубные надстройки и прогнивший базис
разглядывают в бинокль порт, как верблюд -- оазис.
Ах, лишь истлев в песке, растеряв наколки,
можно видать, пройти сквозь ушко иголки,
чтоб сесть там за круглый столик с какой-нибудь ненаглядной
местных кровей под цветной гирляндой
и слушать, как в южном небе над флагом морской купальни
шелестят, точно пальцы, мусоля банкноты, пальмы.
1989
как стоптанный полуботинок, который, вздохнув, разули.
Команда в одном исподнем -- бабники, онанюги --
загорает на палубе, поскольку они на юге,
но без копейки в кармане, чтоб выйти в город,
издали выглядящий, точно он приколот
как открытка к закату; над рейдом плывут отары
туч, запах потных подмышек и перебор гитары.
О, Средиземное море! после твоей пустыни
ногу тянет запутаться в уличной паутине.
Палубные надстройки и прогнивший базис
разглядывают в бинокль порт, как верблюд -- оазис.
Ах, лишь истлев в песке, растеряв наколки,
можно видать, пройти сквозь ушко иголки,
чтоб сесть там за круглый столик с какой-нибудь ненаглядной
местных кровей под цветной гирляндой
и слушать, как в южном небе над флагом морской купальни
шелестят, точно пальцы, мусоля банкноты, пальмы.
1989
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:21
(ссылка)
* * *
Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода -- смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней -- оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв -- тем более. Воспоминанья --
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.
<1993>
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода -- смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней -- оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв -- тем более. Воспоминанья --
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.
<1993>
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:20
(ссылка)
Архитектура
Евгению Рейну
Архитектура, мать развалин,
завидующая облакам,
чей пасмурный кочан разварен,
по чьим лугам
гуляет то бомбардировщик,
то -- более неуязвим
для взоров -- соглядатай общих
дел -- серафим,
лишь ты одна, архитектура,
избранница, невеста, перл
пространства, чья губа не дура,
как Тассо пел,
безмерную являя храбрость,
которую нам не постичь,
оправдываешь местность, адрес,
рябой кирпич.
Ты, в сущности, то, с чем природа
не справилась. Зане она
не смеет ожидать приплода
от валуна,
стараясь прекратить исканья,
отделаться от суеты.
Но будущее -- вещь из камня,
и это -- ты.
Ты -- вакуума императрица.
Граненностью твоих корост
в руке твоей кристалл искрится,
идущий в рост
стремительнее Эвереста;
облекшись в пирамиду, в куб,
так точится идеей места
на Хронос зуб.
Рожденная в воображеньи,
которое переживешь,
ты -- следующее движенье,
шаг за чертеж
естественности, рослых хижин,
преследующих свой чердак,
-- в ту сторону, откуда слышен
один тик-так.
Вздыхая о своих пенатах
в растительных мотивах, etc.,
ты -- более для сверхпернатых
существ насест,
не столько заигравшись в кукол,
как думая, что вознесут,
расчетливо раскрыв свой купол
как парашют.
Шум Времени, известно, нечем
парировать. Но, в свой черед,
нужда его в вещах сильней, чем
наоборот:
как в обществе или в жилище.
Для Времени твой храм, твой хлам
родней как собеседник тыщи
подобных нам.
Что может быть красноречивей,
чем неодушевленность? Лишь
само небытие, чьей нивой
ты мозг пылишь
не столько циферблатам, сколько
галактике самой, про связь
догадываясь и на роль осколка
туда просясь.
Ты, грубо выражаясь, сыто
посматривая на простертых ниц,
просеивая нас сквозь сито
жил. единиц,
заигрываешь с тем светом,
взяв формы у него взаймы,
чтоб поняли мы, с чем на этом
столкнулись мы.
К бесплотному с абстрактным зависть
и их к тебе наоборот,
твоя, архитектура, завязь,
но также плод.
И ежели в ионосфере
действительно одни нули,
твой проигрыш, по крайней мере,
конец земли.
<1993>
Архитектура, мать развалин,
завидующая облакам,
чей пасмурный кочан разварен,
по чьим лугам
гуляет то бомбардировщик,
то -- более неуязвим
для взоров -- соглядатай общих
дел -- серафим,
лишь ты одна, архитектура,
избранница, невеста, перл
пространства, чья губа не дура,
как Тассо пел,
безмерную являя храбрость,
которую нам не постичь,
оправдываешь местность, адрес,
рябой кирпич.
Ты, в сущности, то, с чем природа
не справилась. Зане она
не смеет ожидать приплода
от валуна,
стараясь прекратить исканья,
отделаться от суеты.
Но будущее -- вещь из камня,
и это -- ты.
Ты -- вакуума императрица.
Граненностью твоих корост
в руке твоей кристалл искрится,
идущий в рост
стремительнее Эвереста;
облекшись в пирамиду, в куб,
так точится идеей места
на Хронос зуб.
Рожденная в воображеньи,
которое переживешь,
ты -- следующее движенье,
шаг за чертеж
естественности, рослых хижин,
преследующих свой чердак,
-- в ту сторону, откуда слышен
один тик-так.
Вздыхая о своих пенатах
в растительных мотивах, etc.,
ты -- более для сверхпернатых
существ насест,
не столько заигравшись в кукол,
как думая, что вознесут,
расчетливо раскрыв свой купол
как парашют.
Шум Времени, известно, нечем
парировать. Но, в свой черед,
нужда его в вещах сильней, чем
наоборот:
как в обществе или в жилище.
Для Времени твой храм, твой хлам
родней как собеседник тыщи
подобных нам.
Что может быть красноречивей,
чем неодушевленность? Лишь
само небытие, чьей нивой
ты мозг пылишь
не столько циферблатам, сколько
галактике самой, про связь
догадываясь и на роль осколка
туда просясь.
Ты, грубо выражаясь, сыто
посматривая на простертых ниц,
просеивая нас сквозь сито
жил. единиц,
заигрываешь с тем светом,
взяв формы у него взаймы,
чтоб поняли мы, с чем на этом
столкнулись мы.
К бесплотному с абстрактным зависть
и их к тебе наоборот,
твоя, архитектура, завязь,
но также плод.
И ежели в ионосфере
действительно одни нули,
твой проигрыш, по крайней мере,
конец земли.
<1993>
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:15
(ссылка)
Fin de Siecle
Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее -- влиянье небытия
на бытие. Охотника, так сказать, на дичь --
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,
пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был
прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,
как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако время, шурша,
сделало именно это. Поди его упрекни.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни
в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой
юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей;
тиран уже не злодей,
но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль
инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.
И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой
счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву "л",
арию, что пропел
голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси -- примерно как "хоть убей"
или "больше не пей" --
и рука выпускает пустой графин.
Однако в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-
де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье.
Когда в результате вы все это с нее
стаскиваете, жилье
озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного "виват!"
срывается "виноват".
Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на
те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте
человечества -- в сущности, от него
другого ждать не приходится -- о нео-
душевленности холуя и о
вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,
но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек
тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,
но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз
смотрящего -- или через плечо --
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо
наощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком
объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне
время не стоит внимания. Движущееся назад
сто'ит, или стои'т, как иной фасад,
смахивая то на сад,
то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке -- но и жильцов,
исключая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
впору, давая срок,
мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе. Либо -- самый мир
сфотографировать и размножить -- шесть
на девять, что исключает лесть --
чтоб им после не лезть
впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанемент авиакатастроф,
век кончается; Проф.
бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной
точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши "спаси", "не мучь",
"прости", вынуждая луч
разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро
и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,
в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,
пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там
главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном
экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера --
копирку, как мысль чела --
букву, как рой -- пчела,
искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж
каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но
ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово "заря", то -- "зря".
И, услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть -- не с целью открыть
остров или растенье, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом -- рот.
1989
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее -- влиянье небытия
на бытие. Охотника, так сказать, на дичь --
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,
пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был
прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,
как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако время, шурша,
сделало именно это. Поди его упрекни.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни
в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой
юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей;
тиран уже не злодей,
но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль
инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.
И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой
счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву "л",
арию, что пропел
голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси -- примерно как "хоть убей"
или "больше не пей" --
и рука выпускает пустой графин.
Однако в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-
де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье.
Когда в результате вы все это с нее
стаскиваете, жилье
озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного "виват!"
срывается "виноват".
Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на
те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте
человечества -- в сущности, от него
другого ждать не приходится -- о нео-
душевленности холуя и о
вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,
но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек
тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,
но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз
смотрящего -- или через плечо --
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо
наощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком
объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне
время не стоит внимания. Движущееся назад
сто'ит, или стои'т, как иной фасад,
смахивая то на сад,
то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке -- но и жильцов,
исключая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
впору, давая срок,
мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе. Либо -- самый мир
сфотографировать и размножить -- шесть
на девять, что исключает лесть --
чтоб им после не лезть
впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанемент авиакатастроф,
век кончается; Проф.
бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной
точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши "спаси", "не мучь",
"прости", вынуждая луч
разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро
и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,
в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,
пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там
главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном
экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера --
копирку, как мысль чела --
букву, как рой -- пчела,
искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж
каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но
ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово "заря", то -- "зря".
И, услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть -- не с целью открыть
остров или растенье, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом -- рот.
1989
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:12
(ссылка)
* * *
М. Б.
Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.
Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь -- человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.
1989
Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.
Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь -- человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.
1989
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:09
(ссылка)
На столетие Анны Ахматовой
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос --
Бог сохраняет все; особенно -- слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь -- одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, -- тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
июль 1989
секиры острие и усеченный волос --
Бог сохраняет все; особенно -- слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь -- одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, -- тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
июль 1989
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:09
(ссылка)
Выступление в Сорбонне
Изучать философию следует, в лучшем случае,
после пятидесяти. Выстраивать модель
общества -- и подавно. Сначала следует
научиться готовить суп, жарить -- пусть не ловить --
рыбу, делать приличный кофе.
В противном случае, нравственные законы
пахнут отцовским ремнем или же переводом
с немецкого. Сначала нужно
научиться терять, нежели приобретать,
ненавидеть себя более, чем тирана,
годами выкладывать за комнату половину
ничтожного жалованья -- прежде, чем рассуждать
о торжестве справедливости. Которое наступает
всегда с опозданием минимум в четверть века.
Изучать труд философа следует через призму
опыта либо -- в очках (что примерно одно и то же),
когда буквы сливаются и когда
голая баба на смятой подстилке снова
дл вас фотография или же репродукция
с картины художника. Истинная любовь
к мудрости не настаивает на взаимности
и оборачивается не браком
в виде изданного в ГЈттингене кирпича,
но безразличием к самому себе,
краской стыда, иногда -- элегией.
(Где-то звенит трамвай, глаза слипаются,
солдаты возвращаются с песнями из борделя,
дождь -- единственное, что напоминает Гегеля.)
Истина заключается в том, что истины
не существует. Это не освобождает
от ответственности, но ровно наоборот:
этика -- тот же вакуум, заполняемый человеческим
поведением, практически постоянно;
тот же, если угодно, космос.
И боги любят добро не за его глаза,
но потому что, не будь добра, они бы не существовали.
И они, в свою очередь, заполняют вакуум.
И может быть, даже более систематически,
нежели мы: ибо на нас нельзя
рассчитывать. Хотя нас гораздо больше,
чем когда бы то ни было, мы -- не в Греции:
нас губит низкая облачность и, как сказано выше, дождь.
Изучать философию нужно, когда философия
вам не нужна. Когда вы догадываетесь,
что стулья в вашей гостиной и Млечный Путь
связаны между собою, и более тесным образом,
чем причины и следствия, чем вы сами
с вашими родственниками. И что общее
у созвездий со стульями -- бесчувственность, бесчеловечность.
Это роднит сильней, нежели совокупление
или же кровь! Естественно, что стремиться
к сходству с вещами не следует. С другой стороны, когда
вы больны, необязательно выздоравливать
и нервничать, как вы выглядите. Вот что знают
люди после пятидесяти. Вот почему они
порой, глядя в зеркало, смешивают эстетику с метафизикой.
март 1989
после пятидесяти. Выстраивать модель
общества -- и подавно. Сначала следует
научиться готовить суп, жарить -- пусть не ловить --
рыбу, делать приличный кофе.
В противном случае, нравственные законы
пахнут отцовским ремнем или же переводом
с немецкого. Сначала нужно
научиться терять, нежели приобретать,
ненавидеть себя более, чем тирана,
годами выкладывать за комнату половину
ничтожного жалованья -- прежде, чем рассуждать
о торжестве справедливости. Которое наступает
всегда с опозданием минимум в четверть века.
Изучать труд философа следует через призму
опыта либо -- в очках (что примерно одно и то же),
когда буквы сливаются и когда
голая баба на смятой подстилке снова
дл вас фотография или же репродукция
с картины художника. Истинная любовь
к мудрости не настаивает на взаимности
и оборачивается не браком
в виде изданного в ГЈттингене кирпича,
но безразличием к самому себе,
краской стыда, иногда -- элегией.
(Где-то звенит трамвай, глаза слипаются,
солдаты возвращаются с песнями из борделя,
дождь -- единственное, что напоминает Гегеля.)
Истина заключается в том, что истины
не существует. Это не освобождает
от ответственности, но ровно наоборот:
этика -- тот же вакуум, заполняемый человеческим
поведением, практически постоянно;
тот же, если угодно, космос.
И боги любят добро не за его глаза,
но потому что, не будь добра, они бы не существовали.
И они, в свою очередь, заполняют вакуум.
И может быть, даже более систематически,
нежели мы: ибо на нас нельзя
рассчитывать. Хотя нас гораздо больше,
чем когда бы то ни было, мы -- не в Греции:
нас губит низкая облачность и, как сказано выше, дождь.
Изучать философию нужно, когда философия
вам не нужна. Когда вы догадываетесь,
что стулья в вашей гостиной и Млечный Путь
связаны между собою, и более тесным образом,
чем причины и следствия, чем вы сами
с вашими родственниками. И что общее
у созвездий со стульями -- бесчувственность, бесчеловечность.
Это роднит сильней, нежели совокупление
или же кровь! Естественно, что стремиться
к сходству с вещами не следует. С другой стороны, когда
вы больны, необязательно выздоравливать
и нервничать, как вы выглядите. Вот что знают
люди после пятидесяти. Вот почему они
порой, глядя в зеркало, смешивают эстетику с метафизикой.
март 1989
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:04
(ссылка)
Посвящение
Ни ты, читатель, ни ультрамарин
за шторой, ни коричневая мебель,
ни сдача с лучшей пачки балерин,
ни лампы хищно вывернутый стебель
-- как уголь, данный шахтой на-гора,
и железнодорожное крушенье --
к тому, что у меня из-под пера
стремится, не имеет отношенья.
Ты для меня не существуешь; я
в глазах твоих -- кириллица, названья...
Но сходство двух систем небытия
сильнее, чем двух форм существованья.
Листай меня поэтому -- пока
не грянет текст полуночного гимна.
Ты -- все или никто, и языка
безадресная искренность взаимна.
<1987>
за шторой, ни коричневая мебель,
ни сдача с лучшей пачки балерин,
ни лампы хищно вывернутый стебель
-- как уголь, данный шахтой на-гора,
и железнодорожное крушенье --
к тому, что у меня из-под пера
стремится, не имеет отношенья.
Ты для меня не существуешь; я
в глазах твоих -- кириллица, названья...
Но сходство двух систем небытия
сильнее, чем двух форм существованья.
Листай меня поэтому -- пока
не грянет текст полуночного гимна.
Ты -- все или никто, и языка
безадресная искренность взаимна.
<1987>
Александр Нескажу,
25-11-2008 03:02
(ссылка)
* * *
Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской "Вырица" или "Тарту".
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. "В нашей семье, -- волнуясь,
ты бы вставила, -- не было ни военных,
ни великих мыслителей". Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток --
то есть, извилин! -- вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу "умерла, умерла", покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.
1985
нет! как платформа с вывеской "Вырица" или "Тарту".
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. "В нашей семье, -- волнуясь,
ты бы вставила, -- не было ни военных,
ни великих мыслителей". Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток --
то есть, извилин! -- вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу "умерла, умерла", покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.
1985
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу