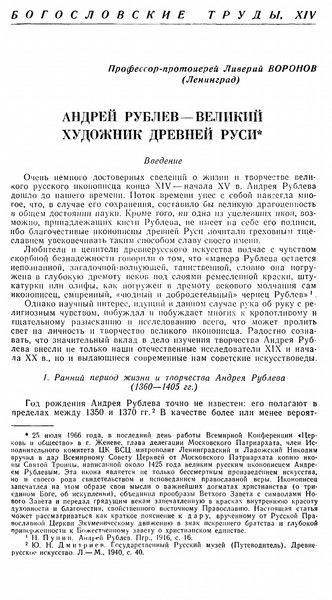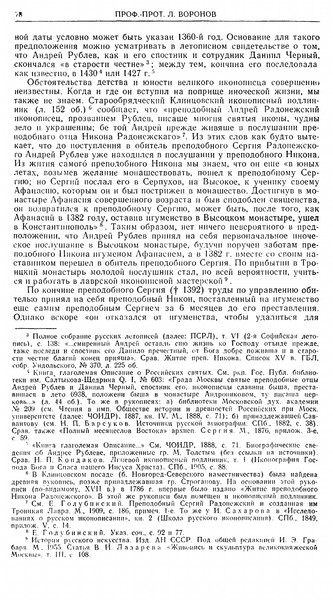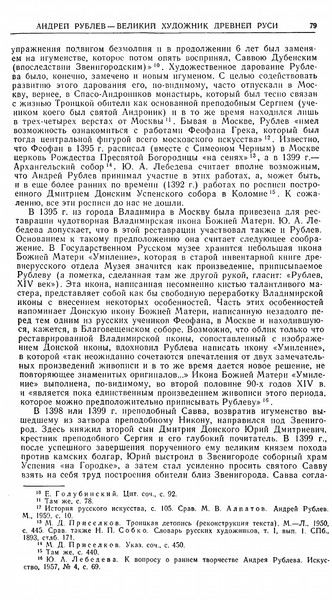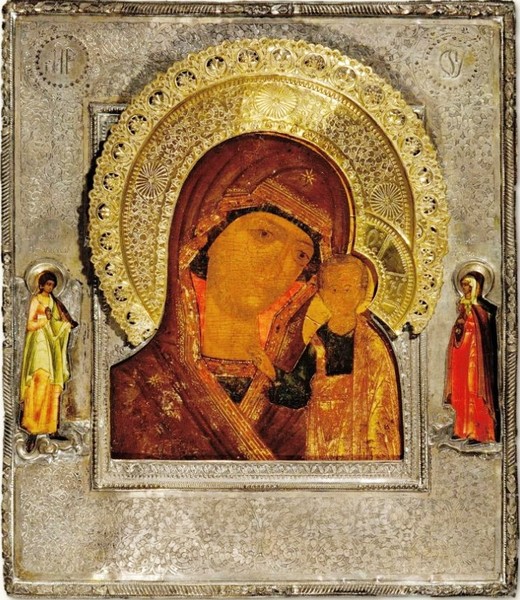Супруги-иконописцы Максим и Марина
Очевидно, самому Богу было угодно, чтобы будущие супруги встретились. Максим Фесенко родился в Германии, где отец служил в Западной группе войск, а затем с родителями приехал в Украину. После школы талантливый юноша поступил в Криворожский пединститут на художественно-графический факультет. И был на третьем курсе, когда в городе открылась иконописная школа. Разумеется, в первую очередь туда пригласили студентов-художников. После вузовских лекций и занятий Максим спешил на другой конец города в иконописную школу, где было вечернее обучение.
В эту же школу Марина Стеблина пришла в... 12 лет. Преподавателям показалось, что девочка сказала «17 лет», и ее приняли. А когда узнали истинный возраст, то прилежную ученицу отчислять уже не стали. Максим поясняет, что Марина длинную юбочку носила, платочек — как все православные молодые девушки, потому и выглядела старше ровесниц.
Ее путь к иконописи начался в детстве. Когда маленькая Маринка приходила к маме — учительнице истории — в школу, та отводила ее в класс рисования. Девочка подружилась с преподавателем Галиной Викторовной Чеботаревой, со всей ее творческой семьей, и стала для них родным человеком. Чеботаревы привели ее, восьмилетнюю, в школу искусств, а еще брали по воскресеньям на церковные службы. Однажды Марина узнала об открытии иконописной школы и загорелась мечтой о поступлении.
— Я даже реферат по истории искусств готовила про Андрея Рублева! — вспоминает 25-летняя Марина Стеблина. — В конце работы написала, что очень хочу учиться в иконописной школе (тогда она еще не носила имя Андрея Рублева). Мне все пожелали успеха, и я чудом поступила — благодаря тому, что приемная комиссия неверно услышала мой возраст.
Мы разговариваем в импровизированной иконописной мастерской супругов, обустроенной на месте крохотной кухни обыкновенной двухкомнатной квартиры. Здесь рабочее место, состоящее из стола и стульев, да стеллажи, заполненные иконами и книгами. Кухня и прочие бытовые помещения в квартире тоже остались, просто для того, чтобы каждый сантиметр в доме использовался, хозяевам пришлось в одном месте заложить двери кирпичом, а в другом — прорубить их вместе с окошком.
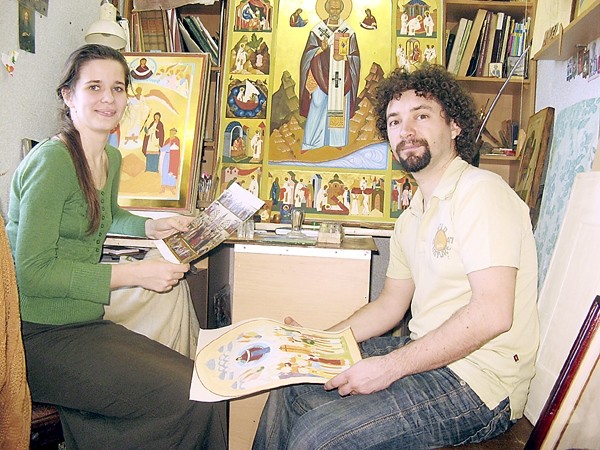
Максим Фесенко, окончив вуз, сначала работал в общеобразовательной школе учителем рисования и черчения. Попробовал себя и в рекламном деле. А вот Марина, несмотря на уговоры школьных преподавателей о необходимости получить высшее образование, сразу почувствовала свое призвание: писать иконы. Затем и мужу посоветовала: «Чем в рекламном агентстве сидеть, клеить билборды — лучше заниматься любимым и более важным делом».
— Интересно, чему вас учили в иконописной школе?
— Говорили, что мы должны стать специалистами такого уровня, при котором не копируют старинные образа, а сами создают полноценную икону, — объясняет Марина. — Наш учитель, отец Демьян, рассказывал, что когда он учился в Сергиевом Посаде, то нарисовал Матерь Божию, как сам это представлял. Икона понравилась, все стали выяснять ее автора и название. Но ведь изначально древние художники так и рисовали!
Мы исполняем завет нашего учителя. Вот, смотрите, я изобразила Феодосия Станкевича — мелитопольского мученика.
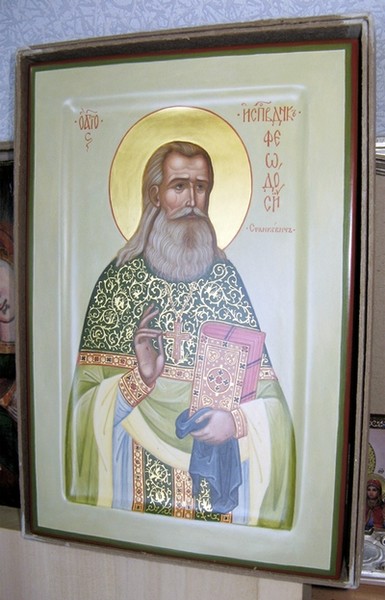
А сейчас мечтаем с Максимом написать икону «Собор запорожских святых» со всеми нашими новопрославленными батюшками. Меня впечатлила история про священномученика Михаила Чехранова и его супругу Софию — их казнили вдвоем, батюшку бросили в прорубь, а матушка туда добровольно за мужем пошла. Уже эскиз подготовили, хотим к владыке пойти за благословением. Прежде чем начать работу над иконой, читаешь житие святого, и он уже тебе становится родным, ну прямо как член семьи.
— А в чьи руки уходят ваши иконы?
— Их заказывают в храмы, на подарок, увозят в другие города, в Россию и дальнее зарубежье, — говорит 34-летний Максим Фесенко. — Один человек, содержавший магазин церковной утвари, заказывал у нас иконы и оформлял их в виде роскошной книги: на одной стороне лик святого, на другой — молитва ему.
— Как-то пришел юноша, объяснил, что собирается свататься к девушке по имени Ия, и заказал икону в подарок семье избранницы, — добавляет Марина. — Ну, раз любовь, думаю, цветы нужны. И я вот такое сотворила: Ия с цветами, рядом — ее родители, а здесь — молитва. Не зная, что в переводе с греческого имя Ия означает «фиалка», я подсознательно нарисовала почти такие же цветы. Влюбленному очень понравилось, он сказал, что именно так все себе и представлял! А мне радостно, что сейчас есть парни, которые идут свататься к своим девушкам с такими подарками.
Один из наших постоянных заказчиков привозил из Греции кувшины и прочую утварь, на которых мы изображали библейские сюжеты. На дне корыта, в котором когда-то месили тесто, он попросил написать сюжет, связанный с хлебом, и я выбрала «Авраамово гостеприимство»: Авраам и Сара потчуют пришедших к ним трех ангелов.
— А вот последнего заказа мужчина не дождался, умер, — говорит Максим. — Это был керамический горшочек, в котором пекли куличи. Когда Марина дописала на нем пасхальный сюжет, то передала вещицу вдове заказчика. Это случилось как раз в ее день рождения, и потрясенная женщина сочла совпадение мистическим: муж таким образом передал ей подарок с того света...
Марина и Максим занимаются и реставрационными работами. Фотографии икон, выполненные до и после реставрации, просто поражают. Доски, на которых написаны старые образа, зачастую такие темные, что и ликов-то не видно, покрыты плесенью и трещинами. Марина предпочитает «хирургическое лечение» — очищает иконы от пыли и грязи. «Терапией» занимается Максим, восстанавливая утраченную роспись.
— А бывает, что душа не лежит к заказу?
— Бывает, — вздыхает Марина. — Наверное, это зависит от человека, который заказывает работу. Тогда пишется очень тяжело, спотыкаешься на каждом этапе. А когда заказчики своими молитвами нам помогают, работается легко, прямо на крыльях летаешь!
— Вы пишете иконы на деревянной доске. Какая древесина лучше всего подходит?
— В идеале, конечно, липа, но в наших краях ее сложно достать, потому используем ольху,— говорит Максим. — Можно еще брать кедр, но это слишком дорого.
— На доске пишем темперными красками из минеральных пигментов, — объясняет Марина. — При реставрации используем и масляные.
— А на пейзажи, натюрморты, сюжетные картины хватает времени и желания?
— Ни времени, ни... желания, — хором отвечают супруги.
Максим поясняет, что делает иногда карандашные наброски жены, однако до живописного портрета любимой все как-то руки не доходят.
— Монахи пишут иконы в тишине и уединении, ничто мирское их не отвлекает. А у вас семья, дети...
— Случается, что работаем часов до трех ночи, — признается Марина. — Потом отсыпаемся. Когда у нас «запарка», то переходим на «пельменный» режим питания, экономя драгоценное время. Муж мне помогает во всем по хозяйству. Даже с детьми (семилетним Мишей и шестилетней Аней) в больнице лежал, и все мамочки на них с завистью смотрели...
— Интересно, детям передался родительский талант?
— Рисовать они любят, — улыбается мама. — Однажды маленький Миша даже помог мне написать образ святой Вероники. Как-то икона осталась без присмотра, и сынок немного ее подправил. Но я об этом не жалею, потому что в итоге получился лучший вариант.
— Считается, что люди творческие довольно темпераментны. Часто бывают размолвки с супругой? — спрашиваю у Максима.
— Да нет, у нас в семье мир и согласие, — пожимает плечами глава семьи. — Нас даже спрашивают: «Вы что, никогда не ссоритесь?» Не ссоримся, хоть 8 мая исполнится восемь лет, как мы в браке.
— Чем вас пленила будущая жена?
— Кротким характером, — отвечает Максим. — Но она и огнем своим может зажечь.
— А мне понравилась борода Максима, — лукаво глядит на супруга Марина. — Пока ее не было, не обращала на парня внимания. Но однажды он пришел с бородкой, и все увидели: Максим нашел свой стиль! Мы поженились, когда я еще училась в 11 классе. О предстоящей свадьбе сказала по секрету только одной девочке, но новость мгновенно разнеслась по всей школе!
— Марина с Максимом и люди благочестивые, и иконописцы хорошие, — утверждает протоиерей запорожского храма Косьмы и Дамиана Евгений (Молчанов). — Мне нравится их стиль, поэтому я заказываю иконы только у них. Мы сейчас строим большую красивую церковь в Шевченковском районе, и я мечтаю, что доживу до того дня, когда Марина с Максимом станут ее расписывать.
Источник: https://fakty.ua/162597-sup...
Метки: Иконопись, Украина, творчество, церковное искусство
Новые покровители Екатеринбургской митрополии
На пленарном заседании VI Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История», которое состоялось 11 февраля 2018 года, были названы новые имена, включенные в Собор Екатеринбургских святых.
Это священномученик Михаил Макаров, священномученик Ефрем Долганев и мученик Константин Минятов, отдавшие свою жизнь в Екатеринбурге в попытке спасти из заключения епископа Тобольского Гермогена в 1918 году, а также мученик Афанасий Жуланов, псаломщик из села Бисерть, расстрелянный красноармейцами в 1918 году за отказ отречься от Христа.
Доклад на тему новомучеников, включенных в Собор Екатеринбургских святых, представила настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова).
Новые покровители Екатеринбургской митрополии.
Материалы о новомучениках, включенных в Собор Екатеринбургских святых в 2018 году

Собор Екатеринбургских святых
Сто лет назад, в 1918 году, начались жестокие гонения, из-за которых, по выражению одного архипастыря, вся русская земля стала антиминсом, потому что вся она пропитана кровью мучеников. Конечно, и для нашей митрополии эта дата особенно памятна. Ведь именно в 1918 году приняли мученический венец большинство новомучеников екатеринбургских. Это и святые Царственные страстотерпцы, и преподобномученицы Елисавета и Варвара, и священномученик Константин Меркушинский, и мученики Иакинф и Каллист Верхотурские и многие другие.
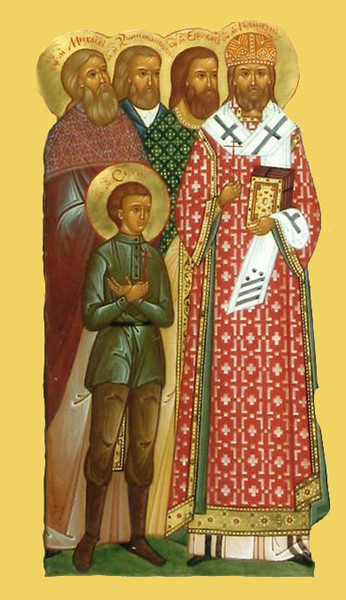
Новомученики новые
До недавнего времени нам было известно 47 имен, а чуть больше двух недель назад Собор пополнился еще четырьмя именами – священномучеников Ефрема и Михаила, мучеников Константина и Афанасия. Эти святые были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2000 году. А не так давно были обнаружены сведения, что они приняли мученическую кончину именно в нашей митрополии. И на основании этих сведений, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 26-го января 2018 года они включены в Собор Екатеринбургских святых.

Владыка Гермоген
Трое из них – священномученики Ефрем и Михаил и мученик Константин – пострадали вместе. В кровавом 1918 году, когда повсюду совершались зверские убийства, они не устрашились исповедать свою веру и вместе отправились ходатайствовать перед большевиками об освобождении из-под ареста священномученика Гермогена (Долганева), епископа Тобольского. Неслучайно именно им было доверено такое ответственное и трудное поручение. Ведь это были люди с горячим сердцем, мужественные, подлинно жившие во Христе.

Священномученик Ефрем Долганев
Священномученик Ефрем Долганев через всю свою жизнь пронес глубокую любовь к Церкви. Он и его старший брат, священномученик Гермоген, напоминают христиан первых веков – настолько пламенной и живой была их вера. Ефрем был младше владыки Гермогена на 16 лет. Он родился в 1874 году. С детства он видел перед собой только один путь – стать священником; в 13 лет он поступил в Одесскую семинарию, затем – в Московскую Духовную Академию. Во время учебы Ефрем терпел крайнюю нужду, но при этом считал себя самым счастливым человеком. Он готов был вытерпеть всё – только бы удостоиться служить Церкви, совершать литургию и проповедовать слово Божие. Не жалея себя, он много работал, чтобы можно было и платить за учебу, и помогать семье.
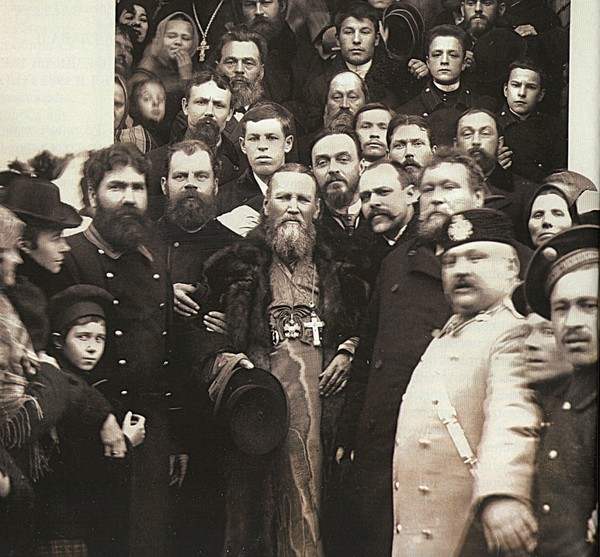
Отец Иоанн Кронштадтский
Когда Ефрему было 19 лет, он ездил в Кронштадт и видел святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как он писал брату, вернулся он оттуда «с великим сокровищем в душе». Богослужение, совершенное отцом Иоанном, потрясло Ефрема. Стоя в алтаре, юноша, онемев, смотрел, как молится отец Иоанн, и «весь проникался великостью совершавшейся на престоле жертвы». Как он писал, для него в тот момент открылось особое величие в призвании священника, но величие не грозное, не царственное, а особое – смиренное, Божественное, небесное. Отец Ефрем до самой смерти отца Иоанна сохранял любовь и почитание к нему, общался ним, а когда сам стал священником, то и служил вместе с ним: иногда в Кронштадте, а иногда в монастыре на Карповке. Отец Ефрем часто бывал в этом монастыре и после смерти отца Иоанна; его знала игумения Ангелина и все сестры обители.
Отец священномучеников архимандрит Иннокентий
Отец Ефрем всегда с особым благоговением относился к монашескому чину. Когда его овдовевший отец-священник решил принять постриг, для Ефрема это стало большой радостью, и они с отцом беседовали об этом всю ночь. Позднее Ефрем рассказывал брату: «Мы не чувствовали усталости, забыли о сне, не переставая любоваться этой мыслью – о папином постриге». Их отец принял постриг с именем Иннокентий, подвизался в Саратовском Спасо-Преображенском монастыре и имел титул почетного архимандрита. Настоятелем монастыря и правящим архиереем в Саратовской епархии был его сын, епископ Гермоген. Почил архимандрит Иннокентий в 1906 году, а много лет спустя, в 1918 году, он явился во сне владыке Гермогену и открыл ему его дальнейшую судьбу – мученическую кончину от рук безбожников.
Архимандрит Иннокентий был достойным отцом своих сыновей: священномучеников Гермогена и Ефрема. Все они любили Церковь и всю жизнь предстояли пред Богом в молитве и служении.
Долганева Варвара Сергеевна
Ефрем Долганев, в отличие от отца и брата, монахом не стал; Промысел Божий устроил так, что он женился на девице Варваре, дочери священника Петропавловского собора Санкт-Петербурга, и вскоре после венчания принял священный сан. Исполнилось его заветное желание, и отец Ефрем благодарил Бога и в то же время трепетал, думая о высоте своего нового служения. Он писал брату: «Я прошу Господа, чтобы Он даровал мне сильную веру и горячую молитву. Я чувствую, как я слаб и недостоин совершать Великие Таинства Церкви. Взирая на образы славных пастырей Церкви и сравнивая себя с ними, я сознаю, как я далек от них. Но я имею сильное, глубокое желание быть истинным пастырем во дворе овчем. Подкрепи меня, дорогой брат, и помоги мне своими святительскими, сильными у Бога молитвами».
Дети Долганевых
Кроме Петропавловского собора, отец Ефрем, служил в церквях святителя Николая Чудотворца при Мариинском дворце и святого Александра Невского в Аничковом дворце. В его семье родилось пятеро детей: сыновья Сергий, Григорий, Ефрем и дочери Ксения и Варвара. Своих детей отец Ефрем учил любить Бога и ближних, жертвовать собой ради других. О том, какой дух царил в его семье, свидетельствует то, что его старший сын Сергий тоже впоследствии совершил подвиг жертвенной любви и пострадал от рук большевиков. Сергий Долганев, когда ему было всего лишь 15 лет, был расстрелян большевиками за то, что попытался завладеть оружием с красноармейского склада, которое хотел передать восставшим крестьянам. Перед расстрелом большевики предлагали юноше отречься от своих религиозных убеждений, обещая сохранить за это жизнь. Сергий сознательно, со всей решимостью и ответственностью выбрал смерть, помня о подвиге отца и дяди, которых он очень любил. О том, что он с истинно мученическим настроем принял смерть, свидетельствует его предсмертная записка. «Я смерти не боюсь», – написал он в ней. В таком духе воспитал его отец – священномученик Ефрем.
В Санкт-Петербурге отец Ефрем совершал свое служение вплоть до Февральской революции, а затем переехал с семьей в Тобольск, поближе к владыке Гермогену, за которого вскоре ему пришлось ходатайствовать перед большевиками.
Предположительно Михаил Макаров
Вместе с отцом Ефремом ходатайствовал об освобождении владыки Гермогена еще один священномученик. Это отец Михаил Макаров, ревностный миссионер, который всю свою жизнь отдал проповеди Православия. Редко кому подается дар миссионерства, и отец Михаил был избранником Божиим, которого Господь вел по этому пути с юных лет. Сын крестьянина Пензенской губернии, он окончил церковно-приходскую школу и стал помощником известного миссионера, протоиерея Ксенофонта Крючкова.
Отец Ксенофонт Крючков
Этот ревностный пастырь в свое время сам находился в расколе, но читая православные книги, общаясь с митрополитом Московским Филаретом, он всем сердцем полюбил Православную Церковь, присоединился к ней и стал священником-миссионером, чтобы, как сам он говорил, «неумолчно проповедовать слово Божие и возвещать, что кроме основанной Христом Церкви с ее иерархией нигде нет спасения».
Тюмень, монастырь
Находясь рядом с таким пастырем, его помощник Михаил Макаров горел духом и не желал никакого другого служения, кроме миссионерского. Он очень любил Церковь и жил только ею. Михаил пел на клиросе, преподавал в церковно-приходской школе. В 31 год он стал священником, а через два года, в 1914 году был направлен в Тюменский уезд, где тогда было множество старообрядцев и сектантов. Отец Михаил со всем усердием принялся за дело проповеди, и, как писали современники, его беседы остановили в Тюмени распространение баптизма. Сам он с радостью писал в своих отчетах, что «народ жаждет бесед». Однажды отец Михаил беседовал с жителями деревни, в которой активно проповедовали свое учение адвентисты седьмого дня. Целых шесть часов он отвечал на вопросы сельчан, приводил различные доводы. Он совсем не думал о себе и всю свою любовь отдавал этим людям, которые слушали его. Слово его было живым и сильным, проникающим в душу. Его доводы убедили сельчан крепко держаться Православия. И беседа его так им понравилась, что они попросили его приехать еще раз, недели через две, когда они закончат уборку хлеба.
У отца Михаила не было семьи, так как супруга его скончалась вскоре после венчания. И он всего себя отдавал молитве и миссионерскому служению. После прихода к власти большевиков отец Михаил не только не оставил свое служение, но наоборот с еще большей ревностью вдохновлял свою паству хранить верность Православной Церкви.
К. А. Минятов, студент
Теперь хотелось бы рассказать о третьем новомученике, который пострадал вместе с отцом Ефремом и отцом Михаилом, — о Константине Минятове. Это был человек с необычной судьбой. Он родился в 1874 году в семье капитана артиллерии, потомственного дворянина, католика. Константин был крещен матерью в Православии, но много лет оставался равнодушным к вере. Будучи студентом Санкт-Петербургского университета, он увлекся социалистическими идеями, которые захватили тогда почти всю учащуюся молодежь. Проучившись три года, Константин был отчислен из университета за участие в одной из студенческих акций. В то время он уже был женат на дочери священника Надежде Ягодовской. Вскоре Константин уехал в Германию, где жил вместе с семьей несколько лет. Заграницей, увидев своими глазами западное общество, которому русские люди поклонялись как кумиру, Константин разочаровался в социалистических идеях. Ощутив пустоту в душе, он словно очнулся и вспомнил о Боге, о красоте и силе православной веры. Константин начал ходить в храм. Вскоре он вернулся в Россию, испросив помилование у Российского правительства. Он завершил высшее образование и поселился в Москве, став адвокатом, или присяжным поверенным, как тогда называлась эта должность. После пережитых испытаний Константин стал глубоко церковным человеком. Его дочь как-то в начале Великого Поста послала брату его фотографию и написала: «Посылаю тебе портрет папы, снятый на пятый день его поста. Он до сих пор ничего не ест и страшно похудел».
Константин Минятов
После революции Константин Минятов переехал с семьей в Тюмень. Сердце его все так же горело ревностью и любовью к Богу, и революция не могла заставить его изменить образ жизни. Он жил богослужением и Таинствами Церкви, соблюдал посты, молился. Константин слишком хорошо знал, как трудно человеку жить без Бога; Христос и Его Церковь были для него главной радостью и надеждой. Его благочестие было всем известно, и именно его епархиальный съезд направил вместе со священниками Ефремом и Михаилом ходатайствовать об освобождении владыки Гермогена.
Царская семья
Владыка был арестован большевиками в Тобольске в апреле 1918 года и привезен в Екатеринбург 1 мая, на следующий день после того, как туда были доставлены Государь, Государыня, Великая княжна Мария и несколько царских слуг. В эти дни в город регулярно привозили ссыльных. Через четыре дня после Царской семьи в Екатеринбург прибыли в ссылку Великий князь Сергей Михайлович, князья Императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Их поселили в гостинице «Атамановские номера». Спустя еще неделю туда же была привезена Великая княгиня Елизавета Феодоровна. И наконец, еще через двенадцать дней в Екатеринбург доставили четверых Царских детей и некоторых слуг. Так, всего за месяц город стал местом ссылки для тех, кого особенно ненавидела новая власть и кто был обречен ею на смерть.
Тюрьма №2, Екатеринбург
Владыка Гермоген был заключен в арестном доме, вблизи Сенной площади, рядом с Симеоновской церковью. Эта тюрьма вскоре стала местом заключения также и для верных подданных Царя: князя Василия Долгорукова, генерала Ильи Татищева, графини Анастасии Гендриковой, гоф-лектрисы Екатерины Шнейдер, камердинера Алексея Волкова, а еще чуть позже – для матроса Климентия Нагорного и лакея Ивана Седнева, служивших у Цесаревича Алексия.
Условия в арестном доме были тяжелыми. Владыке не разрешались никакие встречи и передачи; к нему можно было пронести только обед, доставляемый из Ново-Тихвинского женского монастыря, воду для чая и одну-две духовные книги, на что всегда требовалось разрешение комиссара.
Епископ Гермоген (Долганев)
В мае в Екатеринбург прибыли отец Ефрем, отец Михаил и Константин Минятов, готовые сделать все ради освобождения своего архипастыря. Большевики долго им отказывали или давали уклончивые ответы и, наконец, потребовали залог в сто тысяч рублей за перевод Владыки в Тюменский монастырь. Узнав об этом, Владыка передал членам делегации письмо, в котором писал: «Милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее выкупа в 100 тысяч рублей! Если паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы. Это что-то несовместимое с пастырством». Власти, конечно, неслучайно запросили такую огромную сумму: они рассчитывали, что делегаты отступятся и уедут. Но те готовы были бороться за Владыку до конца. Ими двигала преданность Церкви, они желали послужить делу Божию, а о себе совсем не думали. И они продолжили свои хлопоты, настойчиво требуя уменьшить сумму «залога». После долгого торга большевики снизили ее до десяти тысяч рублей. Деньги были получены от одного екатеринбургского коммерсанта и переданы властям. Но конечно, большевики вовсе не намерены были освобождать Владыку. Они взяли деньги, а от делегатов решили избавиться, поняв, что сломить их дух невозможно. 15 июня делегаты в очередной раз пошли в Облсовет, и больше никто из них не возвратился…
Григорий Никулин
Что же произошло? Долгое время это оставалось тайной. И лишь недавно сведения об их кончине обнаружились в воспоминаниях чекиста Никулина. Этот человек принимал участие в целом ряде кровавых преступлений, главным из которых было убийство Царской семьи.
Стена подвала Ипатьевского дома, 1918 г.
Григорий Никулин был одним из ярых фанатиков революции. Он был малообразованным, но при этом имел некоторые организаторские способности, и в ЧК его ценили за умение «расправляться с буржуазией». В мае 1918 года он стал начальником одного из подразделений ЧК, а впоследствии помощником коменданта в доме Ипатьева. О его жестокости говорят многие факты, в том числе обращение с Царской семьей. Например, первое, что он сделал, придя в дом Ипатьева, – вместе с Юровским изъял у Царственных узников рояль, чтобы, как он сам говорил, они «почувствовали себя на положении арестованных, а не гостей». Кроме того, также вместе с Юровским он решил жестко ограничить передачу Царской семье продуктов, приносимых сестрами Ново-Тихвинского монастыря. Никулин, как и другие чекисты, был человеком, который ни во что не ставил чужую жизнь и считал, что его долг – уничтожать всех, кто не принадлежал классу рабочих и крестьян. Об убийстве Царской семьи он впоследствии рассказывал как об исполнении своего долга. Он с гордостью говорил, что встречался с Царственными узниками каждый день, утром и вечером, сопровождал их на прогулках, но когда получил приказ убить их, то хладнокровно исполнил свой долг.
Кроме того, приблизительно за месяц до расстрела Царской семьи Никулин с той же бесчеловечной жестокостью совершил еще несколько убийств. Во-первых, 10 июня они вместе с чекистом Валентином Сахаровым увезли в лес и расстреляли двух приближенных Царя: князя Долгорукова и генерала Татищева. Прошло всего несколько дней, и эти же чекисты, Никулин и Сахаров, организовали убийство делегатов из Тобольска.
Григорий Никулин был начальником так называемого летучего отряда, и именно он приказал бойцам отряда отвезти отца Ефрема, отца Михаила и Константина Минятова за город в лес и расстрелять. Много лет спустя Никулин рассказывал, что палачи бросили убитых в неглубокий шурф, то есть в разведочную шахту. А через некоторое время сам Никулин вместе с Сахаровым отправился проверять, как выполнено задание. Подъезжая к месту убийства, чекисты услышали вой волков и увидели, как хищники терзают тела убитых. Никулин с Сахаровым разогнали их выстрелами, но зарывать тела они не стали.
Так, из рассказа палача стало известно, что все члены делегации были расстреляны на самой окраине Екатеринбурга, в лесу. И, скорее всего, расстрел совершился в день ареста – 15 июня. Христианская жизнь двух священников и одного мирянина достойно завершилась общим мученическим подвигом.
Теперь хотелось бы кратко рассказать о псаломщике Афанасии Жуланове, жизнь которого завершилась также мученическим венцом в 1918 году.
Мученик Афанасий Жуланов
Мученик Афанасий был из числа тех ревностных христиан, которые хотя и не имели священного сана, но преданно служили Церкви и не оставили своего служения даже в годы гонений. Известно, что он происходил из крестьянской семьи и с юных лет прислуживал в храме. Можно сказать, вся его жизнь прошла в храме: каждый день он слышал божественные песнопения и сам пел и читал на службах. Богослужение было для него воздухом, которым он дышал.
Афанасие-Кирилловская церковь
Последним местом, где служил Афанасий, была Афанасие-Кирилловская церковь в селе Афанасьевском. Здесь молодой псаломщик провел последние четыре года своей жизни. У Афанасия была семья: благочестивая жена Зинаида и дочери Людмила и Мария. Когда в 1918 году начались убийства верующих, перед Афанасием встал выбор: утаить свою веру и остаться в живых или исповедать ее и умереть. Его крестьянское происхождение позволяло ему избежать репрессий. Но отречься от Христа, не служить Церкви, не дышать ее святым воздухом – для Афанасия это было немыслимо. Подобно древним мученикам, он мог бы сказать: «Жизнь без Христа не жизнь, но смерть». Афанасий продолжал открыто ходить в храм, участвовал в службах. Он не мог жить без того, чтобы петь Богу и славить Его.
Наконец, настал день его мученической кончины: в августе 1918 года большевики безжалостно расправились с молодым псаломщиком. Афанасию было тогда 26 лет. До сих пор не было точно известно, где и когда он был убит. В документах храма села Афанасьевского, где он служил, запись об этом не обнаружили. И только недавно, после долгих поисков, исследователи нашли запись в метрической книге другого храма – Рождество-Богородицкой церкви Бисертского завода. В книге указано: «убит, расстрелян красноармейцами». И поставлена дата, когда это произошло – 2-е августа (то есть 15-е по новому стилю). Мученик был погребен на приходском кладбище.
Икона Собора Екатеринбургских святых
Теперь эти четыре новомученика вошли в Собор Екатеринбургских святых и стали нашими новыми покровителями. И их жития свидетельствуют о силе Церкви и о том, что только жизнь в Боге есть подлинная жизнь.
Святой нашего времени, святитель Николай Сербский, писал, что кровавые события в России показали всему миру, какие последствия бывают, когда люди пытаются жить без Бога. И он говорил, что русские новомученики пострадали не напрасно: по их молитвам Россия духовно возродится. Он писал: «Наступает время, братья мои, вот уже на пороге оно, когда грязью залитое, изможденное страданиями лицо русского народа просияет, как солнце. И блаженны вы, плачущие ныне с Россией, ибо с нею и утешитесь! Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею и возрадуетесь!»
И хочется верить, что молитвами святых новомучеников духовное возрождение России будет продолжаться, и на нашей земле будет прославляться Бог.
Источник: http://www.ekaterinburg-epa...
Метки: Новые покровители Екатеринбургск, Большой террор, Екатеринбургская митрополия, Русский мир, Собор Екатеринбургских святых
Заключенный-иконописец
Заключенный новосибирской колонии строгого режима занял первое место во
Всероссийском конкурсе иконописи среди осужденных «Канон» 28 января.
Победившая работа — Владимирская икона Божией Матери — пока остается в
Москве, а ее автор совсем не стремится к свободе. Иконописец уверен:
только за решеткой нашел себя. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились в
колонию, чтобы увидеть, как сочетаются в заключенных непоколебимая вера в
Бога и преступные наклонности.
 Заключенный Николай Ерохин из колонии строгого режима ФКУ ИК-18 занял
Заключенный Николай Ерохин из колонии строгого режима ФКУ ИК-18 занял первое место во Всероссийском конкурсе иконописи среди осужденных
«Канон», написав Владимирскую икону Божией Матери. Пока мы ждем выдачи
пропусков, хрупкая блондинка, сотрудник отдела безопасности, рассуждает
об отличиях нашей системы наказаний от американской: у нас осужденные
пожизненно сидят в «одиночках», а в Америке они заняты на исправительных
работах наряду с другими заключенными. «А я бы запретила к ним ходить, —
неожиданно резко констатирует она. — Пусть сидят, с ума сходят».

За победу в конкурсе 29-летний зэк получил 5 тыс. руб. и потир (чашу для
причащения) для своего прихода. Победившая икона сейчас находится в
Москве, ее дальнейшая судьба Николаю неизвестна. Как и призовая икона,
его другие работы выполнены в традиционной технике яичной темперы на
дереве. На своих работах он не подписывается, только ставит крестик на
обороте.

Николай Ерохин осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)
«Вступился за человека», — поясняют здешние прихожане. Ему дали 8 лет,
из которых отсидел уже 4. Родители Ерохина рано умерли, а на воле у него
остались сестра и брат. «Может, они будут спасаться моими молитвами», —
рассуждает иконописец, получивший первую судимость.

Николай говорит спокойно и размеренно — видно, что торопиться ему
некуда, да и незачем. Он попал в колонию уже крещеным, но веры не было.
«Кто-то приходит к Богу уже здесь», — размышляет Николай, явно
подразумевая себя. Рисовать начал в школе, но профессионального
образования не получил. К вере Николай пришел так: сперва нарисовал храм
колонии из барака, потом зашел внутрь, увидел образ Богородицы на
иконостасе — и «провалился» в нее. «Икона пропускает человека только в
молитвенном состоянии», — объясняет художник. Он рисует иконы уже 3
года.

Прихожане отзываются о Николае как о честном и прямом. Верующий
заключенный Олег Ольховский рассказал, что сперва их отношения с
иконописцем не складывались из-за его прямого характера. Но потом
Николай подарил ему к рождению дочери икону своей работы, которую создал
буквально за день, растопив лед в их отношениях. Сдержанность и
одинаковая серая одежда здешних прихожан в сочетании с обилием икон
напоминает не о колонии, а о мужском монастыре. Впрочем, туда никто не
собирается — Олега ждут дома жена с дочерью, Николай планирует и после
освобождения быть при храме.
Общая численность «сидельцев» в колонии — около 1000 человек. Из них
регулярно в храм приходят 50–60 человек, общее количество «захожан»
составляет 150–200 человек. Община здесь насчитывает 15 человек. Олег
рекомендует каждому провести год жизни, лишившись самого ценного, «не
обязательно свободы». Заключенные рассказывают, что в колонии они стали
чаще молиться — буквально на каждом шагу, «как учили», — и в
подтверждение тут же начинают нараспев читать: «Помилуй мя, грешного».
В местном храме зэки каются в двух типах грехов: одни грехи «принесли со
свободы», другие — это мелкие, которые происходят с тобой здесь и
сейчас. Среди повседневных проступков в колонии верующие называют
чревоугодие, сквернословие и онанизм. Здесь нет наркотиков и алкоголя,
поэтому люди налегают на еду, пояснили заключенные. Кажется, они готовы
рассуждать на любые темы — то ли к ним зачастили журналисты, то ли
просто хватает времени, чтобы думать о вечном.
В коридорах на входе в колонию стоят люди с печатью беды на лице — это
родственники заключенных, ожидающие встречи. Они принесли в больших
пакетах сок, зеленые яблоки, профитроли и туалетную бумагу — рядовой
набор продуктов, который за решеткой станет деликатесом. Свидания здесь
длятся 2–4 часа. В местной церковной библиотеке пользуются популярностью
Катехизис, жития святых и сборник «Несвятые святые» отца Тихона
Шевкунова.
Николай проводит за мольбертом до 10 часов в день — фактически все свое
свободное время. Он предпочитает рассуждать о живописи и вере, обходя
вопросы семьи и прошлого. «Мой сосед хочет домой, а я нет. Я нашел здесь
смысл жизни, мне уже ничего не надо», — констатирует иконописец.
Условия его жизни корреспондентам увидеть не удалось. Работники колонии
рассказывают, что его место содержания, скорее, похоже на казарму и не
из самых благополучных.
В помещение проскальзывает рыжий кот, мигом меняя тему с пространных
разговоров о вере к простым радостям жизни. К нему со всех сторон
протягиваются руки. Рыжика прихожане называют «православным котом». «Он
пришел сюда сам, — объясняет Олег. — Над ним прочитали «Отче наш», и он
остался здесь жить». Прихожане подкармливают кота консервами и рыбой с
кухни.
В основном опрошенные заключенные сидят по ст. 228 УК РФ (незаконное
хранение и сбыт наркотиков). «Большинство оказались не в то время не в
том месте — и машина зажевала», — объясняет Олег, но со стороны это
рассуждение покажется лукавством. Здесь, в колонии, верующие острее
чувствуют присутствие Бога. «На свободе мирская суета, а здесь я провожу
в храме весь день, — признается иконописец. Он не хочет подавать
документы на условно-досрочное освобождение. — Если Богу будет угодно,
то выйдем пораньше».
Продавец антиквариата Александр Хаустов рассказал, что современная икона
размером 40х50 см с эмалью и сусальным золотом, выполненная по канону,
может стоить 10 тыс. руб. Цена может достигать и 50–60 тыс. руб., если
покупателю приглянулась работа художника.
Источник: http://news.ngs.ru/more/164...
Влюблен в икону

Как Вы заболели иконописью? Помните тот момент?Абсолютно четко помню. Это был трогательный возраст, то время невозможно забыть. Это было чудесное призвание. Уверен, что свыше.
Прекрасно помню, как я с приятелями зашёл, после очередной сдачи школьных экзаменов, в церковь. Просто зашёл.
Мы зашли и, помнится, стали хихикать. Мальчишки же. Посмотрел я по сторонам, как сейчас помню, при входе в храм были изображены иконы архимандрита Зинона, посмотрел я внимательно, что-то внутри произошло, и вышел я из храма совершенно другим человеком. Пришёл домой и сразу попытался изобразить что-то подобное. А дальше… Меня стал манить запах храма и абсолютно всё, что связано с церковью. Ничего не мог с собой поделать. Меня тянуло в храм до сумасшествия.
У моего товарища были иконы. Одна – живопись в серебряном кованом окладе из тонкого металла, вероятно конца 19 века. А вторая – образ Николая Чудотворца, выполненный тонко и в более каноническом стиле. На меня производили невероятное впечатление. Я, конечно, тогда не разбирался в иконах. Мне они просто очень нравились. Я их понимал и чувствовал. Они для меня были живыми. Не было знаний, были только пылкая, раскрывшаяся в сердце любовь к иконе и страстное желание творить – писать иконы.
Вы стали ходить в тот храм?
Нет, в другой. Совершенно случайно я начал ходить в храм на городском кладбище. Есть такое известнейшее второе кладбище в Одессе, там похоронена актриса Вера Холодная, и там есть Димитровский храм.
Как-то со школьниками мы приехали туда на субботник – чистить захоронения потёмкинцев, которые там находятся. И я предложил товарищам зайти в храм. В то время за это ругали, могли пожурить, это где-то 82-83 год. Постояли мы в храме. И я заболел этим храмом. Тянуло меня туда каждый день.
Так как храм находился на кладбище, туда привозили покойников и там их отпевали. Я, как все дети, жутко боялся покойников. Они мне не были неприятны, нет, просто по-детски было жутко. Когда сердце закрыто, то смерть – это ужас. Открытое сердце всё воспринимает по-другому. И в какой-то момент я стал иначе воспринимать смерть. Перестал ощущать ужас и страх, а стал видеть в отходе души какое-то благородство. Я часто присутствовал, когда отпевали.

Купил на базаре рыбу, родителям сказал, что поймалИ вот я повадился каждый день уходить с уроков раньше. Ехал в храм и проводил там целый день. Перезнакомился со всеми. Обожал слушать истории. И больше мне ничего больше не надо было. Простаивал целыми днями в храме, рассматривал иконы и ждал, чтобы кто-то из зашедших меня о чём-то спросил, а я ответил. Ждал, вдыхал запах ладана, жадно улавливал, среди других запахов, запах доски, на которой написаны иконы…
Интересные там были люди. Мы все были разные, конечно. Приходили в храм – общались, хихикали, шутили. Но церковь нас манила. Несмотря на наши шутки. Меня очень ненавязчиво научили класть крестное знамение. Я там чувствовал себя как дома. Захотел – покушал, были очень вкусные пирожки, захотел – отдохнул. Там я начал рисовать. На кухне, на каких-то створках от старой мебели. Меня туда тянуло. Это был совсем другой мир, всё по-другому. Во дворе – одно, шантрапа собирается, а там – совершенно другое.
И, наконец, я решил креститься. Учился я тогда в 8 классе. И вот, тайно от родителей, поехал я креститься. Поехал в деревню. Родителям сказал, что на рыбалку. Помню – хор пел красиво. Крёстную свою я больше не видел никогда. Это был случайный человек.
Домой приехал, купил на базаре рыбу, родителям сказал, что поймал. Помню, как со слезами доказывал, что я её ловил. Родители не верили, а я доказывал. Вот такое было – романтика такая. И пошло – поехало. Мне начало не давать покоя рукоделие. Я ходил вокруг домов, заглядывал соседям в окна – какие иконы там есть, есть ли вообще.
Он посмотрел на меня внимательно и ничего не сказал. На следующий день он подозвал меня к себе и вытащил два альбома русской иконографии
Как ваше увлечение сказывалось на отношении окружающих?Преподаватель русского языка (а учился я не слишком хорошо, рисовал на задней парте) вызвал как-то меня к доске. Он что-то спрашивал, я отвечал с натяжкой. Он посмотрел на меня внимательно и ничего не сказал. На следующий день он подозвал меня к себе, вытащил два альбома русской иконографии и подарил мне – это были первые мои альбомы.

Я рисовал всё, что касалось икон. С особым чувством встречался с
верующими. Всё было тайно, тихо. И когда тихо спрашивали – верующий, я с
гордостью шёпотом отвечал – да. Тогда такие вещи надо было говорить
втайне.
Но люди друг друга часто понимали и без слов. Например, мой
преподаватель по живописи подарил мне этюдник и сказал: "Это вам,
Александр, за любовь к миниатюре". И пригласил меня к себе домой, где
было собрание икон. Представляете? Открылся мне, стал показывать – в те
времена!
Рисовал я на чём попало – на чертёжных досках, делал
киотики, вставлял стёклышки, чеканил, как будто это оклад. Потихоньку
познавая этот путь.
Познакомился с иконописцами. Мы собирались на
квартире, не афишировали свои занятия. Все были старше меня, я младший,
поэтому называли меня Александрушкой. Помню, как удивлялись, что у меня
получается делать мелкие работы: у многих такое не выходило, получались
только монументальные лики.
На тот момент я уже знал, чем буду
заниматься всю жизнь. Меня не интересовала программа художественного
училища, и меня отчислили за неуспеваемость. Правда, когда я после армии
пришёл и восстановился, сдал с похвалой и отличием.

Долго служили в армии?
Прослужил
два года. Там тоже продолжал писать иконы. Пилил доски, в магазине
покупал вино и яйца – делал из них краски. Как было тогда принято,
отслужил полтора года – положено лечение в госпитале. И когда я лежал в
госпитале, написал (попутно с положенными плакатами) две иконы.
Прошли
годы, и буквально несколько лет назад в Киеве, на блошинном рынке,
увидел я деда с иконами. И почувствовал, что как дети родные они мне.
Всматриваюсь и понимаю, что это же мои иконы, те самые, которые я
нарисовал в армии, в госпитале. Мне неважно было, сколько они стоят,
даже сейчас не вспомню, я их забрал и принёс домой. Такая вот спустя
многие годы произошла встреча.
Затем я стал ведущим иконописцем Московской иконописной мастерской.
В русской иконографии на меня никто не влиял – влияло время, жизнь, трудСборная
выставка в 1992 году. Я считал себя зрелым иконописцем, но сейчас
понимаю, что я тогда лишь искал себя – писал в русском стиле, затем
имитировал византийский. Меня бросало из стороны в сторону, хотя любил
я строгановскую школу.
Сольвычегодск?
Да,
Сольвычегодск, Великий Устюг. Такие иконы не все могут понять, а делать
их чрезвычайно тяжело. Легче писать, имитируя Византию.
Кто на вас повлиял, стал вашим учителем?
В русской иконографии на меня никто не влиял – влияло время, жизнь, труд. А главное – любовь к этому делу.
Первый
альбом – Попов, новгородская живопись. И Фёдор Зубов. Я в него
влюбился. Я помню, как пахнет бумага. Я и сейчас, бывает, открываю этот
альбом и вспоминаю то время.
Мне нравились все стили. Всё, что
сделано профессионально, с любовью, с трепетом. Да, была такая манера в
такое время, но это было сделано с любовью. Так тогда воспитаны были
художники, такие были нравы.
Конечно, Византийские иконы меня
покорили. Помню, какое впечатление на меня произвёл альбом с фресками
монастыря Хора в Стамбуле. Я мечтал туда попасть. И вот как-то с
приятелем я очутился в Стамбуле и первым делом предложил ему пойти
посмотреть этот дивный монастырь. Он железно уверил меня, что Хора
находится в Индии. Ему настолько туда не хотелось, настолько не надо
было туда, что я не смог его переубедить, и мы поехали в магазины.
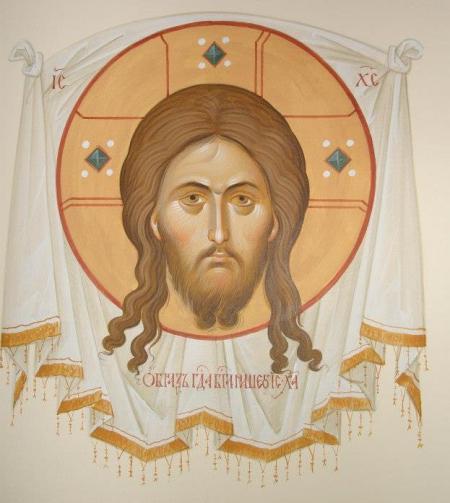
На меня произвела впечатление именно эта Византия, не комниновского
периода, как любил писать архимандрит Зинон. Мне его работы казались
схематичными и знаменными, а живою представлялась живопись и фрески
Хоры. Это откровение. Так надо видеть и уметь делать. Это не спишешь.
Я
был очень плодовитый по молодости. Мог написать икону за два дня.
Ставлю доску, беру карандаш и пошёл. Сел - и полностью утонул.
Можно ли словами описать стиль Александра Рудого?
Я
незаметно что-то привношу в иконопись. У меня нет специальных "фишек" –
рука такая, наклон головы такой… Я делаю еле уловимые штрихи, которые
со временем, с годами, возможно, что-то поменяют в иконографии. Как
последовательно икона Рублёва тихо и мягко была заменена иконой
Дионисия. Становится письмо более лаконичным, плоским, с тонким рисунком
– всё чётко на своих местах.
Когда я наблюдаю, как коллеги подражают
комниновскому периоду, я вижу, как они чёркают. Например, я знаю, что
сажа должна просвечивать из-под краски, чтоб было оптическое смешение
цвета. Если мы начинаем чёрной краской намечать рисунок, а сверху
закрашиваем охрой, то чёрный цвет просвечивает через охру. Получается
зеленоватый цвет. Это всё может быть – если делать тонко. А там – мусор.
Одна линия так, другая сяк. Человек не совсем понимает, чего он хочет и
не знает, как это сделать.
Я свои рисунки всегда любил продумывать
до мелочей. Как этот палец идёт, будет он так или сяк. А все искания в
процессе – это лишнее. Важнее всего чёткое понимание и знание рисунка. И
видеть его сразу в цвете. Можно сделать шикарный рисунок, а когда
будете писать в цвете, делать цветовые нагрузки – всё изменится. Нужен
жёсткий костяк. Как говорил один художник, в рисунке 99 процентов
рисунка и один процент цвета.
Есть ли у вас ученики? Хотите ли создать школу?
Нет.
Есть лишь люди, которые подражают в чём-то. Раньше, в самом начале, мне
этого хотелось – видимо, от гордости. А в процессе я понял, что для
меня это лишнее: ничего не успею ни тут, и ни там. Я не желаю никого
тянуть, самому надо тянуться. У меня есть сын, и жена просит, чтоб я
научил его рисовать. Я, конечно, многое могу ему рассказать и показать.
Но я это буду делать по чуть-чуть. Не стоит безотрывно им заниматься,
стоит подхватывать, и только при условии, что он сам этого хочет.
Я
ведь не подсказываю разработчикам космических ракет, как их
конструировать. Не советую хирургу, в какой руке держать скальпель во
время операции. Такое же доверие к профессионалам необходимо в иконописи
и, поверьте, последствия нарушения правил могут быть не менее страшнымиКак у вас складывается взаимодействие с заказчиками?
Это
скорби. Очень тягомотная работа. Людям нужны плоды – здесь и сейчас. Им
хочется получить результат в короткие сроки. Они не хотят ждать – в
этом основная проблема. Желательно, чтоб работа была сделана быстро и
красиво. А так не бывает. И мне это не интересно. Я не хочу делать к
сроку.
Каждому стоит заниматься собственным
делом, в нём диктовать правила. Я ведь не подсказываю разработчикам
космических ракет, как их конструировать. Не советую хирургу, в какой
руке держать скальпель во время операции. Такое же доверие к
профессионалам необходимо в иконописи, и, поверьте, последствия
нарушения правил могут быть не менее страшными. Ведь дело моих рук
воздействует и обращается к самому главному и священному для каждого из
нас – к душе.
День, два, три – я могу не выходить из комнаты, пока не напишу икону. Махом, на одном дыханииКакое расписание дня иконописца?
Возьмём
лучший день. Завёз ребёнка в школу. Заехал домой, попил чаю – уже 11
часов, пока собрался – уже 12. Ещё надо что-то по дороге куда-то
завести, забросить. Я еду в мастерскую. Дома я рисовать не могу. Нет
такой возможности – всё отвлекает, невозможно настроиться. Мне не дадут
там рисовать. Я еду в свою комнатку (родительская квартира) 3 на 3,
именно там я сделал несметное количество работ. Буквально несметное.
Приезжаю уставшим, как после работы. Хотя приехал на работу. Я же должен
ещё включится в работу, походить, загореться. Я понимаю, что у меня
пару часов всего лишь, а дальше надо ехать забирать ребёнка, делать
покупки. А мне никуда не хочется ехать. Я ведь только настроился… Вот
так и работаем. Вечер – что-то глянул в интернете – уже час ночи. Пора
спать. Завтра в семь вставать – ребёнка в школу. Когда я жил сам без
семьи – была связь между днями. Я мог ничего не делать, но один день
плавно переходил в другой. Утро благое – солнце, внизу, под домом
детский садик. Ты слышишь, как кричат дети, разные звуки – я начинаю
готовиться к работе, настраиваюсь. Вот я начинаю работать и пошёл. День,
два, три – я могу не выходить из комнаты, пока не напишу икону. Махом,
на одном дыхании – раз и готово.
Нужно гореть. Если я горю – мне ничего не помеха. Конечно, горение – это
страсть. Всё, чем я занимаюсь – это страсть. У меня была такая страсть –
реставрировать иконы, возвращать к жизни и продавать. Я мог откладывать
текущую работу, если я увлечён, пока не удовлетворю интерес, свою
страсть – не успокоюсь. Но страсти уходят.
Один старец мне сказал,
когда я ещё думал уйти в монастырь, что у меня не получится – нужно
иметь огненную ревность по отношению к монашеству. А у меня её нет. И я
его понимаю, у меня такая огненная ревность есть к иконе.
Я настолько
увлечён иконой, что мне даже некогда было делать выставки и книги
писать, заниматься "пиаром". И это тоже неправильно. Один мой знакомый
сказал: излишняя скромность – путь к забвению. Я прислушался и решил
выяснить, что про меня пишут в интернете. Посмотрел – мало информации и
не той. Не знают меня, не чувствуют. Например, говорят, что я использую
синтетические краски. Да не использую я синтетические краски на всех
иконах. Вот, зарегистрировался на фейсбуке. Сделал страничку и выставил
там свои работы.
Может, была у вас любимая икона?
Иконы как дети. Я не могу одних выгораживать за счёт других. Но, может быть, я люблю писать больше всего Николая Чудотворца.
Когда
я сажусь писать, икона уже у меня в голове полностью родилась. Весь
рисунок, цветовая гамма, замысел. Настраиваюсь. Щелчок. И понимаю, что
это будет вот такая икона, такого размера, гаммы… Не буду делать сильно
пробеленной, буду делать тихой, акцент только на одном рисунке… Вот до
таких деталей знаю всё.
Кто ваш небесный покровитель?
Александр
Невский. Но больше люблю Александра Свирского. Человек один уезжал в
Америку и подарил икону прп. Александра Свирского – палех, наверное,
сделана манерно, красиво, с тактом. Так красиво предстоял преподобный…
Но я продал её, не удержался, и купил штаны.
Что вас ещё завораживает?
Мне
нравится всё самое лучшее. Фантастическая мозаика в Софии на втором
этаже – это великолепная, состоявшаяся живопись и чудесное ремесло.
Росписи Монастыря в Хоре. Я знаю, что надо ориентироваться на лучшее,
смотреть на него, впитывать его. Останется хоть что-то, но лучшее.
Я сапожник без сапог. Ничего нет в загашнике. Только две иконы 1991 годаУ вас много икон в квартире?
У
меня почти нет икон. Я сапожник без сапог. Ничего нет в загашнике.
Только две иконы 1991 года. Икона Спаса, которая лопнула на две части и я
оставил её себе. И иконочка Богородицы, маленькая. Было много икон
старинных – то продал, то друзьям подарил.
Что Вас сильно впечатлило, можете вспомнить?
Был
на выставке, посвящённой Сергию Радонежскому. Было свезено столько икон
– можно было с ума сойти. У меня были ассоциации со сборкой винограда в
школе. После сбора я пришёл домой – а у меня виноградные грозди
крутятся в голове. Так и здесь. У меня после выставки крутились иконы.
Всё красиво, всё прекрасно, всё люблю. Но особенно меня поразили две
иконы – Сергия Радонежского и Никона Радонежского – в живописной манере
написаны, как писали в XIX веке, в русской Академии. До сих пор помню
выражение лица Никона. Фантастически. Тайная живопись, я её так называю,
реалистическое письмо, но с таким отбором – теневые стороны не
перегружены, глаза в глубине, игра света, настолько передан объём…
Фантастика! Долго не мог забыть. Вот это живопись! Сейчас так никто не
пишет. Пересолят, передавят и получатся намётки… Раньше ученики учились.
Всё делали с таким тактом.
Такт чувствуется в Ваших иконах.
Я
вообще ругаю свои работы. Но, признаюсь, одна мне очень нравится. В
Нещерове, под Киевом, в нижнем храме я написал икону Богородицы с
младенцем. Младенец прижался к Богородице. У Богородицы глаза скорбные. А
младенец… Я когда писал младенца, получал огромное удовольствие. Я на
сына своего смотрел, когда он спал, маленький. Я его постоянно
укладывал, нянчил его. У меня с сыном сильная связь. Смотрю, он в
кроватке лежит на боку, и такая щёчка пухлая, носик такой, лобик
гладенький. И я как пошёл… Как на лике Спасителя на Византийских иконах.
И я понял, они видели, как было в натуре. У них живые иконы. Они
отмечали эту живость. Я взял карандаш, быстро зарисовал. Я ключик искал.
Хоп, я поймал – щёчка, носик, лобик, маленький подбородок… Это очень
полезно делать зарисовки, это возможность отыскать ключик.
Важно всё
сделать на уровне. Нельзя игнорировать шрифты, это тоже часть иконы.
Мастер напишет буквы как следует, и они будут поддерживать всю
композицию. Буквы – это орнамент.
Можно молиться, как древние христиане молились, без икон. У них их просто не было. Икона – это как вдохновляющий моментДля чего нужна икона?
Для
молитвы. Можно обойтись и без иконы. Всё ж не сошлось на них. Можно
молиться, как древние христиане молились, без икон. У них их просто не
было. Икона – это вдохновляющий момент, как чётки. Это призыв к молитве.
Например, сплели мне сёстры из монастыря чётки, висят они у меня. Глядя
на них, приходят мысли (ассоциативный ряд): чётки, история, когда я их
держал. Икона вас призывает, возбуждает к молитве. Но вы можете и без
неё. Вы же не рассматриваете, какие щёки у Спасителя: у Вас нет
чувственных моментов и не должно быть.
Поэтому язык иконы должен
раскрыть многие тонкости человеческой души, незатронутые струны. Если
подобрал ключики иконописец, или ему было открыто это, то и открыл он
чьё-то сердце с помощью такого видения, своего мастерства.
Ему это не принадлежит, иконописцу. Это всё божественное проявление. Но
даётся оно открыто, легко – за любовь. Если человек открыт и ревностно к
делу относится и бескорыстно – ему всё даётся. Этот закон действует не
только в иконописи. Сколько просишь – столько и даётся. Перестал просить
– не даётся. Всё просто. Люби, гори и делай.
Вот я с восьмого класса пишу иконы. А влюблён в это до сих пор.
Вы очень искренний человек, это редкость.
Иконы вынуждают быть искренним. Иначе не напишешь.
Источник: http://pravlife.org/content/vlyublen-v-ikonu-otkrovennoe-intervyu-s-ikonopiscem-aleksandrom-rudym
Метки: Иконопись
Азбука древнерусского письма уставом
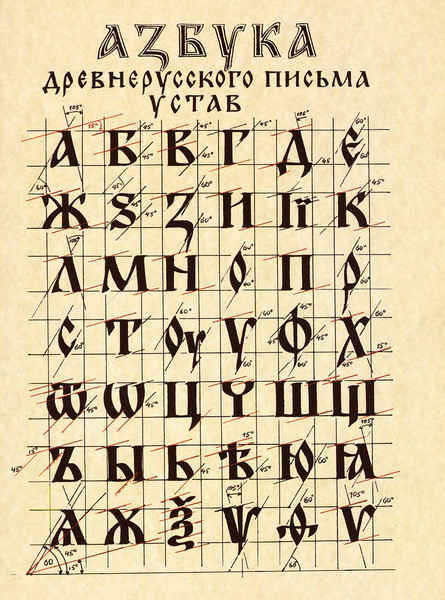
В древнерусских рукописях различается три вида письма
- устав,
- полуустав
- скоропись
Отличается уставное письмо тем, что его буквы стоят на значительном расстоянии одна от другой и по пропорциям близки либо к квадрату, либо к прямоугольнику, а ширина пера укладывается в высоту буквы 4-5 раз.
Из-за сложности своего начертания каждая уставная буква выводилась в несколько приемов постановки пера, прямо и аккуратно устанавливалась на строке. Рука, несмотря на то, что ей приходилось поворачивать перо под разными углами, тонко реагировать на переходы от толстых линий к тонким линиям и наоборот, всегда двигалась неторопливо, тщательно выписывая каждый элемент.
Написание большинства букв начиналось и закапчивалось засечкой. Не от того ли уставное древнерусское письмо столь величественно и красиво. Слова писались слитно и почти без сокращений как крупным, так и мелким уставом.
В XI по XIV веке писали древним видом устава в основном на пергаменте. Своим строгим и торжественным ритмом это письмо во многом напоминало греческое уставное письмо. Чтобы понять и почувствовать это сходство, достаточно сравнить фрагмент греческого уставного письма IX века со страницей Остромирова Евангелия, написанного древним уставом.
Выдержать пропорции при написании устава вам поможет соблюдение определенных условий:
- ширина кончика пера должна укладываться в высоту буквы 4-5 раз;
- промежуток между буквами (апрош) должен составлять 1-2 ширины пера в зависимости от формы рядом стоящих букв;
- промежуток между строчками (интерлиньяж) - не менее высоты буквы. Именно в таких пропорциях написаны буквы и текст Остромирова Евангелия — классического образца древнерусского письма.
источник
Метки: древнерусское письмо, устав, типографика
Иконопись и стенопись в XXI веке
Иконописцы обсудили проблемы в современном церковном творчестве
14 ноября 2015 г

В Сергиев Посаде, в стенах Троице-Сергивой Лавры состоялся
Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы практического иконописания. Иконопись
и стенопись в XXI веке», в котором приняли участие иконописцы, искусствоведы и
учащаяся молодежь.
Сегодня между последователями традиционной иконописи и
модернистами (сторонниками так называемого прогрессивного церковного
творчества) идет активная полемика о том, какой должна быть современная
иконопись. По словам протоиерея Александра Салтыкова суть спора в том, что по
мнению модернистов современные иконописцы, которых поддерживает Церковь, не создают ничего нового, а только копируют в своих работах веками созданное до
них. В частности, священник процитировал слова своих оппонентов: «В
иконопись нужно внести узнаваемую печать времени, обогащать творческий процесс,
нужно новое прочтение древности». Другие хотят «оживить» церковное
искусство, словно оно умерло. Третьи убеждены, что: «церковное общество должно
наконец понять, что украшение храма – это не ритуальное декорация, а возможность одаренным людям принести свой талант Богу». А кого-то смущает словосочетание
«христианское искусство», пока оно существует, мы оказываемся в лучшем случае в анденграуде. Примечательно, что модернистов поддерживают и некоторые
православные священнослужители, уточнил отец Александр.
Что можно ответить на это? «Нам нужно постоянно обращаться к основам церковного
учения об образе и постигать это учение в свете подобных современных вызовов и
требований к церковному искусству», - считает отец Александр.В частности, в
учении Церкви нет никакого свободного искусства в церковном смысле слова. Оно
существует автономно само по себе. В Церкви есть догмат об иконопочитании,
который разделяет изображения религиозного содержания на почитаемые (обладающие
святостью) и не почитаемые. Проблема в том, по мнению отца Александра, что
модернисткую общественность волнует вопрос о каноне в церковном искусстве, но
вопрос о догмате –гораздо более существенный- не интересует вообще. Между тем
учение об иконопочитании есть учение о правдивом образе Христа и святых. Если
отступить от догмата, образ Христа и образ святых будет искажен, и в результате
произойдет подмена образа. А нарушение догмата как такового Церковь всегда
определяла как ересь. По мнению выступающего, только разъяснение этой позиции
Церкви в процессе диалога поможет в решении возникающих споров.
Народный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств Евгений Максимов затронул тему подготовки и заинтересованности молодых художников в
церковном искусстве. Так, по его словам, молодые люди, поступающие в
Суриковский институт после художественного училища, оказываются совершенно не
подготовленные для церковной живописи и работе с фреской. «У них смутное
представление о том, что такое церковное искусств, мне постоянно приходится
разъяснять основы литургики и богословия,- рассказал Евгений Максимов.- Еще
одна проблема в том, что они думают больше о деньгах, чем о творчестве. Эйфория
90-х начала 2000-х прошла. И если в то время у молодых художников было больше
энтузиазма, люди не спрашивали, сколько вы мне заплатите, то сейчас люди
достаточно прагматичны. Они начинают настенной живописью заниматься с расчетом,
что это каким-то образом поможет им в жизни». В этом конетексте вспоминаются
слова известного иконописца Александра Солдатова, которые он говорит
своим ученикам: «Ребята, не гонитесь за деньгами, пусть деньги сами за вами
бегают», подразумевая, что мастерство и профессионализм важнее денег.

Руководитель реставрационно-иконописной мастерской Александро-Невской Лавры
Дмитрий Мироненко поделился опытом проектирования иконостасов и интерьеров
храмов. В частности, он отметил, что часто приходится сталкиваться с ситуацией,
когда современные архитекторы совершенно не задумываются, как этот храм будет
расписан, где будут царские врата, хватит ли места для того, чтобы их полностью
раскрыть. Дмитрий призвал также участников конференции, среди которых было
много студентов, к обязательному творческому сотрудничеству с духовенством, чей
храм они расписывают: «Вы должны уметь говорить, уметь защищать икону не только
своим профессиональным мастерством, но и словом. Иконописец должен уметь
убедить даже того, кого убедить сложно». В доказательство своих слов он привел
историю из личной практики, когда настоятель храма настаивал на том, чтобы его
храм был расписан яркими красками. «У тебя палитра слишком тихая, все блеклое,
людям это не понравится. Ты выйди на улицу, кругом сочная реклама, люди смотрят
цветной телевизор – все яркое, пестрое, броское, сделаем таким ярким и наш
храм», - говорил он. Но Дмитрий возразил на это, что человек от этой яркости,
броскости, наглости, пассионарности устает. И где как не в церкви ему искать
утешения для души и для глаз. Если он увидит это еще и в церкви, то надолго ли
останется там? Позже настоятель признал, что иконописец был прав.
Подводя итоги Круглого стола заведующий Иконописной школы при Троице-Сергиевой
Лавре архимандрит Лука (Головков) выразил надежду, что такие круглые столы
очень полезны, и такие встречи, на которых обсуждаются спорные вопросы
церковного искусства и где происходит обмен опытом, станут регулярными.
На круглом столе также выступили с докладами Анатолий
Алёшин: «Росписи Троицкого собора Дивеевского монастыря», Игорь Самалыго «
Росписи храма св. блгв. кн. Владимира Московского Епархиального дома», Лариса
Гачева «Практика обустройства домовых храмов в светских учереждениях», Андрей
Патраков «Об опыте взаимодействия священника-заказчика и иконописца при
создании росписи храма Троицы Живоначальной в Бестужево», Людмила Армеева
«Прот. Михаил Боголюбский о соотношении реалистичиского и церковного
искусства», Мария Глебова: «Образы святых ХХ века: проблема создания новой
иконографии».
Алексей Реутский
Источник
Метки: Иконопись и стенопись в XXI веке, своременная иконопись, иконописная традиция
Иконография образа «Царственных страстотерпцев»

Принято считать, что истоки упадка русской иконописи
коренятся в начале XVIII века. Фактически же это произошло на несколько
десятилетий раньше. Именно в середине XVII столетия западное влияние на русскую иконопись оказалось столь сильным, что патриарх Никон вынужден был прибегнуть к самым решительным мерам: велел отбирать иконы, писанные по образцу западных картин.
Собственно, само по себе искусство, привнесенное из западной
церковной традиции, не является антихудожественным или принципиально
несовместимым с традиционной русской иконописью. Причина кроется в подходе к
сути изображаемого: в разрушении древнего иконографического канона и
исторической правдивости, когда, так называемая, «авторская свобода», то есть
вольное истолкование иконописных образов, растворяет догматическую суть
иконописного образа и уводит от правдивого изображения исторической реальности.
Православная икона пишется с точки зрения вечности, она —
свидетельство Царства Божия, а свидетельство не имеет права на интерпретацию.
То, что допустимо в религиозной живописи, интерпретирующей определенный
священный сюжет, немыслимо в иконе, где изображенное должно следовать (или
восходить) первообразу.
Определение VII Вселенского Собора гласит: «честь
воздаваемая образу, переходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется
существу изображенного на ней». Московский Собор 1667 года свидетельствует:
«чесо ради иконописцы пишут стаго Петра, Алексия и Иону московских чудотворцев в белых клобуках, неправедно: зане они клобуки белыя не носиша, и ниже бысть еще в Российских странах при них сей обычай?…Иконописцы ложно сие пишут, тяко и ина много ко прелести невеждам».
К каноническим требованиям русской иконографии также
относится отсутствие на православных иконах черт чувственной, плотской
привлекательности, которая очевидна в религиозной живописи. 100 правило VI
Вселенского Собора гласит: «Изображение на досках или ином чем представляемыя, обаяющыя зрение, растлевающыя умы, и производящия воспламенения нечистых удовольствий, непозволимо отныне, каким бы то ни было способом начертавати».
Современные условия требуют от иконописцев не бездумно копировать готовые образцы, но быть вдумчивыми творцами, высокообразованными,
как в иконописном деле, так и в истории. К сожалению, при выборе стиля и
образцов художники-иконописцы нередко руководствуются преимущественно лишь своими вкусами или желаниями заказчика. В итоге выразительная форма оказывается не выражением догматического содержания, а его интерпретацией, зачастую весьма вольной.
Создание новых иконографий всегда было делом трудным и очень
ответственным. Сегодня мы становимся свидетелями создания иконографий святых нового времени. Самый обширный пласт новой иконографии составляют образы
новомучеников. За период с 1988 года и до настоящего времени в Русской
Православной Церкви был прославлен сонм святых. Только на Юбилейном
Архиерейском Соборе 2000 года было прославлено 1154 святых. По традиции, при
канонизации каждому святому пишется икона, но для многих новомучеников еще не найдено общепризнанного образа. Те иконы, которые все-таки пишутся сегодня, не всегда удовлетворяют каноническим и художественным требованиям.
Каждая икона, вне зависимости от того, старая она или новая,
может быть названа православною только в том случае, если с точки зрения
композиции и художественного исполнения удовлетворяет догматико-каноническим, историческим и иконографическим требованиям.
Очертив круг наиболее важных требований, которые предъявляются к традиционной русской иконописи, попытаемся рассмотреть несколько образов иконографии «Царственных мучеников», столь широко ныне почитаемых.

Св. Царь мученик Николай II

Один из первых и наиболее известных сегодня образов царя мученика Николая II пришел к нам из Зарубежной
церкви. На иконе изображен Николай II со скипетром и державою, в одеяниях, свойственных одежде русских царей в XVI -XVII веках. Главу Николая II покрывает царская шапка с крестом, на груди массивный крест. При более тщательном рассмотрении иконы нетрудно обнаружить несколько противоречий принципиального характера и множество не столь принципиальных. Остановимся на главных.
Следует отметить, что икона написана с нарушением исторической правдивости изображения. Во-первых, это касается одеяний императора. Николай II, как известно, на Всероссийский престол был коронован в 1896 году. Коронация проходила в соответствии с установившейся традицией. Во время церемонии император получил символы царской власти: скипетр и державу, облачен он был в парадный военный мундир и горностаевую мантию.
Впервые данная атрибутика была использована во время провозглашения императором Петра I, но ко времени вступления на престол Николая II превратилось в, своего рода, закон. Одежд русских царей XVI-XVII веков император Николай II не носил и во все время своего дальнейшего правления.
Следующая и весьма существенная историческая погрешность в изображении заключается в том, что Царь Николай изображен со скипетром и державой в руках, как с неотъемлемыми атрибутами русского самодержца. Не вдаваясь в дебаты, «как» и «отчего» произошли известныеисторические события. Остановимся на бесспорном: Государь добровольно отрекся от Престола, сложив, тем самым, с себя монаршую власть. Возможность отречения Российского Государя от Престола по какой бы то ни было причине не предусматривалась Актом о Престолонаследии, и, в этой связи отречение Императора Николая II от государственной власти явилось беспрецедентным фактом в государственной жизни России. Изображение на иконе царя-мученика этих символов власти, ни с какой точки зрения не может быть расценено как исторически обоснованное. Вместе с тем, иконографический канон строго определяет усвоение мученикам и страстотерпцам как действительно неотъемлемогосимвола мученического креста в деснице. Но этого нет в рассматриваемом образе.

Собор новых мучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных
Среди других наиболее известных икон с изображением Царской
Семьи обращает на себя внимание икона «Собор новомучеников и исповедников
Российских за Христа пострадавших явленных и неявленных» из храма Христа
Спасителя. Средник этой иконы очень известен, благодаря многократному
литографическому тиражированию.
В центральной нижней части средника изображена Царская Семья. И, в первую очередь, обращает на себя внимание все та же историческая
ошибка. Император, императрица и все члены семьи изображены в стилизованных
облачениях, напоминающих облачения русских царей и княжон XVI-XVII веков.
Вызывает недоумение, почему царь Николай II и царица Александра изображены на втором плане семифигурной композиции. В иконографических традициях ключевые фигуры святых изображаются в центре, обозначая тем самым композиционный и смысловой центр. Возможно, что иконописцы поместили их в глубину композиции с целью избежать некоторых проблем, связанных с детализацией изображения образов.
Но это нарушает существующие иконописные каноны.
В последнее время широкое распространение получила икона
«Святые Царственные мученики». Икона выполнена в живописной манере письма, если не считать изображения в верхней части иконы двух ангелов, несущих икону
«Державной Богоматери», написанную в сугубо иконописной технике. Подобное
смешение стилей является невозможным для православной иконы, но, к сожалению, в иконе есть и другие еще более серьезные противоречия.
В древней традиции православной иконописи через надписание
святых, а не через портретную схожесть, написанному образу усвояется статус
иконы для поклонения и почитания. В данном случае икона надписана как
«Царственные мученики». Согласно определению Освященного Архиерейского Собора 2000 года, прославившего Царскую Семью, говорится: «прославить как
страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских». Слово
«страстотерпец» восходит к посланиям апостола Павла (2 Тим 2 : 3, 5; Евр 10,
32), причем в послании к Евреям говорится о стойкости (славянский синоним -
терпение) в перенесении страданий. В истории Русской Церкви такими
страстотерпцами были святые благоверные князья Борис и Глеб (1015 г.), Игорь Черниговский (1147 г.), Андрей Боголюбский (1174 г.), Михаил Тверской (1319 г.), которые в строгом смысле не были мучениками за христианскую веру, но завершили свою жизнь от рук гонителей веры и убийц. Все они своим подвигом страстотерпцев явили высокий образец христианской нравственности, терпения и личного мужества. Тем самым, чтобы не нарушать пусть и незначительную, но все же разницу в сложившихся понятиях, надписание икон должно жестко следовать определению о канонизации.
В древней иконографии встречаются примеры, когда страстотерпцам, как и мученикам, усвояются в правую руку мученические кресты
(как, например, на иконе свв. Бориса и Глеба – первая половина XIV в). Святые
изображены с мученическими крестами в правой руке и с мечами — в левой. На
иконе «Царственные мученики» все члены Царской Семьи имеют в руках мученические кресты, причем у св. Николая и св. Александры — один крест значительно больших размеров, и св. Николай держит его в левой руке.
Среди часто издаваемых большими тиражами икон есть иконы и с
изображением непосредственно св. Царя Николая II. В целом, им, как правило,
присущи те же иконографические противоречия, о которых говорилось выше.
Кроме того, стоит отметить, что изображение святого не в окружении членов
Царской Семьи все-таки тоже выходит за рамки канона. В иконографической
традиции, конечно, есть примеры, когда из собора святых изображались лишь
избранные святые, но они единичны. Для общего поклонения и почитания в традиции Русской Церкви с древности изображались соборы единопрославленных святых: «40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся», «Священномученики, в Херсонесе епископствовавшие» и др.
Таким образом, кратко обозначив круг основных требований иконографического канона и рассмотрев на общеизвестных примерах основные противоречия, существующие в современной иконографии «Царственных страстотерпцев», попытаемся определить, что же включает в себя исторически обоснованное и иконографически верное иконописное изображение.
Первоочередным здесь выступает требование следовать строго иконографическим традициям русской иконописи, не смешивая стили и художественные решения. С точки зрения иконографии нам представляется наиболее обоснованным следующее решение.
В центральной части образа в полный рост помещаются фигуры Царя Николая II, царицы Александры и царевича Алексия. Композицию дополняют фигуры великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Исторически обоснованным должно быть изображение одеяний святых. Как
свидетельствует житие св. царя Николая и его семьи, после отречения от Престола
и до часа своей кончины Царь носил военный мундир (без погон), на груди —
Георгиевский крест. Подобные одежды носил и царевич Алексий. Скромными были одеяния и головной убор царицы Александры. Скромны и просты одежды великих княжон. Головы великих княжон не были покрыты. Соблюдая иконографические каноны, но сохраняя черты исторической реальности, наиболее обоснованным было бы изображать Царскую Семью именно в таких одеяниях.

Портретные черты изображаемых святых могут быть весьма
условны. Иконописный канон ориентирован на обобщенный, символический образ, в котором индивидуальные черты едва намечены, ровно настолько, чтобы образ был узнаваем, чтобы он вычленялся из общего сонма. Каждому святому должен усвояться в правую руку мученический крест, свидетельствующий о его личном подвиге.
Совершенно справедливо и оправдано, как с иконографической,
так и с исторической точки зрения, изображение царских мученических венцов над
головами изображенных. В акте отречения Николая II говорится: «…признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с Себя верховную власть», но это лишь сложение верховной власти. С церковной же точки зрения факт отречения Государя не является каноническим нарушением, потому что не было соборно принятых Православной Церковью установлений.
Более того, к моменту своей кончины св. Николай оставался
единственным законно поставленным государем, единственным помазанником. В
России помазание Святым миром на царство было воспринято из традиции
Византийской империи, но восходило ко временам Ветхозаветной Истории (вспомним помазание на царство царя Давида (1 Пар. 16,1.12)). Согласно учению Церкви, Дары Духа Святого, которые подаются через таинство миропомазания, неизгладимы, и даже добровольно оставивший Престол св. Царь Николай оставался единственным законным правителем.
Завершить композицию иконы «Царственных страстотерпцев», с нашей точки зрения, необходимо изображением в верхней ее части образа Иисуса
Христа с благословляющей десницей или двух ангелов, несущих образ Богородицы, именуемой «Державная». Икона Царской семьи, как определено в акте о канонизации, должна быть надписана «Царственные страстотерпцы» с перечислением имен всех членов семьи.
Иконографически справедливым будет, с учетом сказанного, изображать Царскую Семью и в Соборе новомучеников и исповедников Российских,
где она по праву должна занимать центральное место.
Иконопись, бесспорно, является верной хранительницей преемственности священных традиций. Эту мысль отразили в своих определениях
Отцы VII Вселенского Собора, и эту мысль должно продолжать во исполнение
догматической и исторической истины.
Источник: http://www.ekaterinburg-epa...
Пример неканоничной ошибочной надписи на иконе
Источник: https://www.pinterest.com/p...
Источник
Метки: Иконография, Царственные Страстотерпцы
Ирина Языкова: Понимают ли современные иконописцы смысл иконы?
11 декабря в выставочном зале «Царская башня»,
расположенном в здании Казанского вокзала, откроется выставка
«Современные иконописцы России». Чуть больше четверти века назад в
Москве прошла первая подобная выставка. Что изменилось с тех пор?
Появился ли у иконописцев свой стиль, или по-прежнему иконы пишутся «как
в Византии», «как в XVI веке»? Иконописцев стало больше, но понимают ли
они глубинный, богословский смысл иконы? Обо всём этом мы поговорили с
куратором выставки искусствоведом Ириной Языковой.

Ирина Языкова. Фото Анны Гальпериной
– Что изменилось с тех пор, когда вы более 25 лет назад делали первую выставку современной иконописи?
– Тогда, в 1989 году, сразу после 1000-летия крещения Руси, мы
боялись, что не наберем икон на достаточно большой зал, но набрали около
ста работ, и очень радовались. Участники той выставки были
полуподпольными иконописцами, имена которых почти не знали, за
исключением нескольких человек, например, архимандрита Зинона (Теодора), его имя уже было на слуху.
Конечно, тогда был начальный уровень: иконописцы только начинали
открывать традицию, хотя некоторые работали уже 10-15 лет. Но это было
после десятилетий тотального уничтожения церковной культуры, это была
духовная пустыня.
Сегодня же можно сказать, что традиция восстановилась и развивается.
По-разному, на разных уровнях – есть иконописцы, которые делают работы
очень высокого качества, но также очень много ремесленников. Ведь
традиция идет не только вглубь, в высоту, но и вширь, – открывается
много храмов, много людей заказывают иконы.
Ремесленники – это тоже нормально, и в Древней Руси не все были Андреи Рублевы.
Средний уровень, слава Богу, растет. Но важны ориентиры – те, на кого
стоит равняться, кто может быть учителем, кто пролагает пути традиции, а
не только повторяет пройденное.
Поэтому мы стараемся на выставке показать мастеров, разные
мастерские, но также и учебные заведения: это иконописная школа
Московской духовной академии и Свято-Тихоновский университет,
иконописная школа святого Алипия Печерского из Дубны. Дипломные работы
студентов расположились рядом с работами уже сложившихся мастеров, таких
как отец Зинон, Александр Лавданский, Александр Соколов, отец Андрей Давыдов, Ирина Зарон. Это нужно, чтобы показать, что молодые тоже могут писать достойные иконы, что есть у мастеров достойная смена.
Молодеющая традиция
На выставке вообще много работ молодых иконописцев, и это радует –
традиция молодеет. Одно время мне казалось, что хорошо работают только
мастера, которых я знала 20-25 лет назад, и что всё время повторялись
одни и те же имена. Сейчас появляются новые имена.

Е. Луканина. Умиление
Сегодня успешно трудится уже второе поколение, есть целые династии
иконописцев. Например, прекрасно работает Филипп Давыдов, сын отца
Андрея Давыдова, со своей женой Ольгой Шаламовой; Александр Черный, сын
Сергея Черного; дети Лавданского и Соколова тоже приобщились к
церковному искусству. То есть в иконопись пришли люди, которые видели,
как делается икона, с самого детства, они буквально выросли на лесах
храмов.
Обычно мы показывали работы московских иконописцев, но на эту
выставку удалось привезти произведения иконописцев из Питера, Владимира,
Суздаля, Архангельска, Свияжска, Твери. Так что выставка дает
представление, что делается в других городах, а не только в столице.
Вообще-то это редкий случай – когда столько разных иконописцев
экспонируются вместе.

В. Жданова. Преподобный Серафим Вырицкий
Различать стиль и канон
– Можно ли говорить про язык современной иконы?
– Нельзя сказать, что существует какой-то общий стиль – мы видим сегодня большое стилистическое разнообразие. И это хорошо.
Но еще важно отметить, что сегодня есть общее стремление к тому,
чтобы сделать икону художественным произведением, а не просто неким
слепком, списком, копией, чтобы повторить все складочки древних образов.
В то же время многие иконописцы, создавая произведение, стремятся не
потерять каноничность, строгость, молитвенность.
Мне нравится разнообразие стилистических поисков, потому что одно
время было распространено стремление сделать икону «как в XV веке»,
например, или «как в ранневизантийский период» и так далее. А сейчас
развитие идет по пути, что называется, авторской иконы, когда нет
привязки к определенному стилю, но появляется своя самостоятельная и
очень узнаваемая манера. Иконописцы, слава Богу, стали различать стиль и
канон, и при соблюдении канона они не боятся художественной свободы,
поиска новых выразительных средств.

Иван Кусов, Святой целитель Пателеимон
Хотя на выставке есть и иконы-копии, они хорошего качества, в них
точно виден и образец, и мастерство исполнителя, но их немного, всё
больше иконописцев, которые уже хорошо усвоили иконописный язык,
свободно перерабатывают образцы и выдают оригинальные вещи.
Бог же не творит всё одинаково – и человек тоже должен стремиться к тому, чтобы творить новое.
И для Бога в том числе.
Конечно, иконы пишутся для Церкви, для Бога, а не для самовыражения, в
них не нужно стремиться показывать что-то эдакое, сильно
оригинальничать. Но икона должна быть высокохудожественным
произведением, иконописец может сказать свое слово так, чтобы оно было
услышано, написать так, чтобы его икона стала для кого-то откровением.
По идее, каждая икона, каждый образ должен быть уникальным, потому
что красота любого святого индивидуальна, неповторима. Я уж не говорю о
Богородице, о Христе.
Тон свободы, поиска, художественной неповторимости, что особенно
чувствуется в последнее десятилетие, опять же задают мастера. Помню,
каким открытием стали лет 10-15 назад появившиеся на выставке иконы
Ирины Зарон. Она с начала девяностых работала для храмов, ничего не
показывая на выставках, как-то вдали от всех. А потом однажды дала свои
иконы на выставку и все стали ходить смотреть на них, потому что она –
удивительный художник, ее ни с кем не спутаешь, она пишет канонично и
при этом свободно, я бы сказала, в художественно изысканной манере, и
это всегда живые и по-настоящему новые произведения.

Мария Египетская
Богословие или ремесло?
– Насколько сейчас художники прониклись именно богословским пониманием иконы?
– Есть иконописцы-богословы, но их мало. Отец Зинон
– редкий пример, чтобы понять это, достаточно почитать его тексты. С
некоторыми его суждениями трудно согласиться, но именно потому, что он
думает, размышляет, ищет. Александр Соколов, недавно от нас ушедший,
тоже смотрел на икону с точки зрения богословской глубины.
По большей же части люди идут путем ремесла, в лучшем случае –
искусства, постигая икону с этой стороны. Это тоже неплохо, мастерство
необходимо. Но, к сожалению, не все понимают, что такое богословский
язык иконы. Теоретически все сегодня грамотные, все читали Флоренского,
Трубецкого, Успенского, писания Святых отцов об иконе – Иоанна
Дамаскина, Федора Студита… Но икона не просто отражение богословия, она и
есть способ богословствования. Вот этого, к сожалению, в большинстве
случаев у иконописцев нет, они не могут пойти дальше, чем просто
художественное выражение канонических форм.
Поэтому не все понимают глубину образа, не все умеют сделать новый
образ. Но всё равно сейчас в иконописи есть движение, нет застылости на
месте, и это хорошо, это живой процесс.
По выставкам, которые проходят раз в два-три
года, я вижу, что и молодые растут, тянутся, пользуются находками, пусть
не своими, а чужими, всё равно это движение.

М. Шешуков. Симеон Богоприимец
– Иконописцам стало понятно, как писать образы новомучеников?
– К сожалению, это остается проблемой. Мы, когда собирали эту
выставку (а готовить ее начали больше чем за полгода), даже просили
некоторых иконописцев: «Напишите какие-то новые образы». И я заметила,
что очень мало пишут новомучеников, потому что они не получаются. Как
правило, берут древних святых, просто менее известных…
Сделать новый образ – это уже значит мыслить по-иконному. То есть не
просто научиться ремеслу, не просто быть художником, который пишет в
иконном стиле, а действительно сделать новый образ. Пока так не
получается. Образы новомучеников – это, наверное, самая большая проблема
вообще в современной иконописи.
Имена иконописцев нужно знать
– На что стоит обратить внимание на выставке?
– Всегда радует Ирина Зарон, ее тонкие и глубокие работы. Рядом с
ними, по контрасту – замечательные иконы отца Андрея Давыдова из
Суздаля, который работает в технике энкаустики (восковой живописи). У
него всегда яркие, декоративные, радостные образы.
Есть на выставке две иконы отца Зинона. Это, кстати, редкий момент, он не любит давать иконы на выставку.

Архимандрит Зинон. Святой Исаак Сирин
Заслуживают внимания работы иконописца, которого мы недавно открыли
через интернет – Максима Шишукова из Свияжска. Он, художник по
образованию, пишет очень необычно, ни на кого не похоже.
Интересны работы петербургских иконописцев – Филиппа Давыдова и Ольги Шаламовой, Дмитрия Мироненко, Александра Стальнова.

Дмитрий Мироненко. Святой первомученик Стефан
Хочется отметить работы мастерской Ново-Тихвинского монастыря из Екатеринбурга.
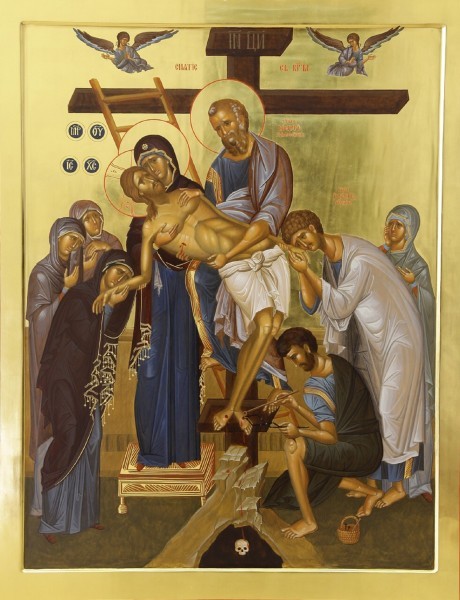
Мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Снятие с Креста
На выставке есть и мозаика. Так, Александр Давыдович Корноухов дал свой эскиз в материале – огромная четырехметровая мозаика Спасителя. Интересны мозаики молодого мастера Дениса Иванникова.
– Сейчас много учебных заведений, готовящих именно
иконописцев. Но на слуху почему-то всё те же имена мастеров, которые
начинали еще в советское или постсоветское время, у которых было
художественное образование, но иконопись они изучали самостоятельно…
– Имена младшего поколения иконописцев просто не на слуху, но они
есть. Те же Филипп Давыдов, Ольга Шаламова, Денис Иванников, которых я
упомянула. Или, например, Александр Солдатов (он в нынешней выставке,
правда, не участвует), выпускник Иконописной школы при Московской
духовной академии, сейчас он уже преподаватель – это один из лучших
мастеров сегодня. У нас представлено несколько дипломных работ этой
школы, показывающих, что там обучают на очень высоком уровне.
Зачем мы устраиваем выставки? Именно для того,
чтобы люди знали имена современных иконописцев. Потому что даже в
храмах, которые расписывали известные художники, прихожане часто этого
не знают.
Я сколько раз спрашивала в Серпухове: «Вы знаете, кто написал икону
“Неупиваемая Чаша”?» Не знают. И удивляются, что написал ее на тот
момент 33-летний Александр Соколов: «А мы думали, она старинная».
Мне хочется, чтобы выставка была для народа открытием имен. Мы
привыкли, что искусство иконы анонимное. Да, оно анонимное в каком-то
смысле. У нас нет традиции подписывать иконы, как в Греции. Но всё равно
и в Древней Руси знали имена Андрея Рублева, Дионисия, потому что их
искусство отличалось от других и люди это замечали.
Хотелось бы, чтобы люди ходили на выставку, смотрели, узнавали и
запоминали эти имена, эти образы, чтобы они знали: у нас хорошие
иконописцы, есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться, есть даже у
кого заказать икону.
У выставки много целей, и надеюсь, что все они будут достигнуты.
Надеюсь, что выставка не разочарует, а наоборот, будет открытием для
многих людей.
Ирина Константиновна Языкова
родилась в Москве. В 1981 году окончила отделение искусства
исторического факультета МГУ. После университета работала в
Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева, затем во
Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
С 1980-х годов читает лекции по иконописи для самой широкой
аудитории. Впоследствии эти лекции легли в основу ее первой монографии
«Богословие иконы», написанной по заказу Московской Патриархии,
готовившей серию учебников для духовных школ. Вышло второе, исправленное
и дополненное издание «Богословия иконы».
С 1991 года преподает в богословских вузах. Первым среди них был
Общедоступный православный университет (ОПУ), основанный протоиереем
Александром Менем в 1990 году. В 1995-м перешла в Библейско-богословский
институт святого апостола Андрея (ББИ), который выделился из ОПУ как
самостоятельный аккредитованный богословский вуз. Ныне она занимает
должность проректора ББИ.
С 2001 года читает курс по церковному искусству в Коломенской
духовной семинарии. С 2002 года преподавала также в Российском
православном институте святого Иоанна Богослова на факультете
церковно-исторической живописи. Была деканом этого факультета.
В 2002 году в Италии издательством «Матрёнин двор» была выпущена
книга Ирины Языковой «Се творю всё новое. Икона в ХХ веке». Книга вышла
на двух языках – итальянском и русском – и стала первым серьезным
исследованием иконописной традиции прошедшего столетия. Эта книга легла в
основу диссертационной работы Ирины Языковой «Икона в духовной культуре
России ХХ века» на соискание ученой степени кандидата наук, которую она
защитила в 2005 году.
Весной 1989 года, работая в ВООПИиК заведующей выставочным залом,
Ирина Языкова подготовила выставку «Современная икона», которая
экспонировалась в Знаменском соборе на Варварке (тогда улица Разина). С
этого времени исследовательский интерес Ирины Языковой сосредоточился на
современном иконописном творчестве. Ею написаны десятки статей,
подготовлены несколько каталогов современных иконописцев, она постоянно
выступает с этой темой на научных конференциях и круглых столах,
устраивает выставки.
В 2008 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
наградил Ирину Языкову орденом святой равноапостольной княгини Ольги III
степени за многолетнюю преподавательскую работу и исследовательскую
деятельность.
Источник
Метки: смысл иконы, своременная иконопись, канон, иконописная традиция
Книги об иконописе
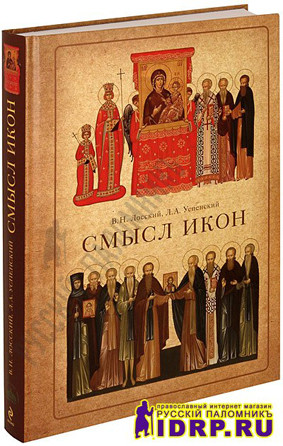
Скачать: http://vk.com/doc281246330_...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Удивительная разносторонность талантов и творческих интересов Бориса
Викторовича Раушенбаха, привыкшего достигать высот во всем, чем бы он ни
занимался, заставляет вспомнить имена мыслителей эпохи Возрождения. Ему
тесно на путях науки, его постоянно влекут новые горизонты. Обратившись
к искусствоведению, к истории иконописи, Б.В. Раушенбах привнес в свои
исследования методику точных наук, открыв новые возможности
интерпретации уже многократно изучавшегося материала, фундаментальные
исследования "Пространственные построения в древнерусской живописи"
(1975), "Пространственные построения в живописи" (1980), "Системы
перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы"
(1986) и многие другие - это профессиональный вклад математика в теорию
художественного творчества.
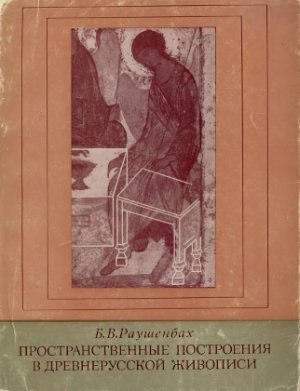
Скачать: http://vk.com/doc150254044_...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Краткий очерк развития русской церковной живописи с древнейших времен до настоящего времени.
В книге раскрывается понятие иконописи как искусства, рассматривается
сходство и различие с живописью, Раскрывается история иконописи от
первых веков христианства, Византийской империи, до времен написания
данного труда.
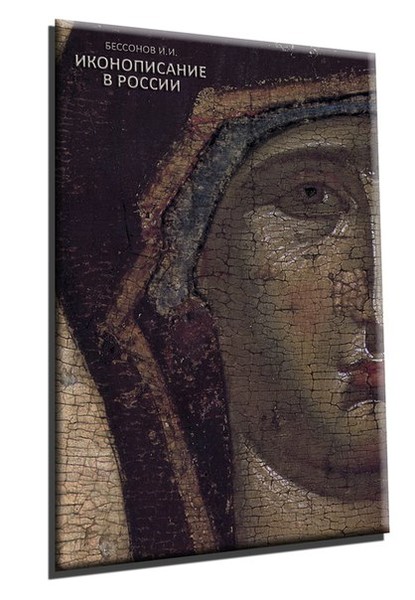
Скачать: http://vk.com/doc150254044_...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Зинон (Теодор), архимандрит - Беседы иконописца
Автор книги — не просто практик и теоретик иконописания, он может быть назван ревнителем достоинства Иконы, в котором с нерастраченной силой выступает то расположение духа, которое было ощутимо когда-то в богословах Иконы первого призыва. Этого подделать невозможно.
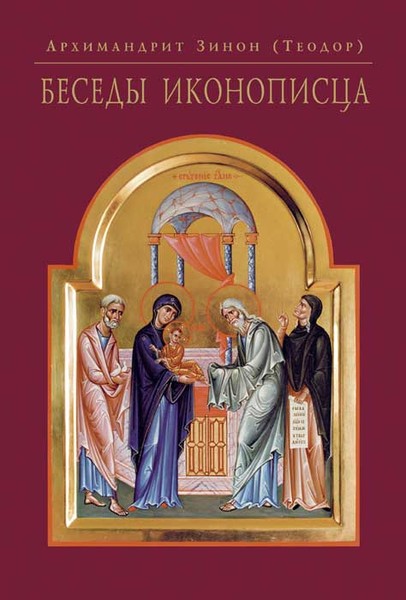
Скачать: https://cloud.mail.ru/public/5n7n/14XS9SNLf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Раздел будет обновляться.
Метки: иконопись, икона, иконоведение, книги
Их жизнь — пример для нас

Прп. Алипий, иконописец Печерский Роспись свода Братской трапезной ТСЛ
Преподобный Алипий Печерский
был одним из первых и лучших русских иконописцев, постриженник
преподобного Никона (+ 1088; память 23 марта/5 апреля), с молодых лет
подвизался в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он учился у
греческих мастеров, которые расписывали Печерскую церковь. Св. Алипий
был очевидцем дивного чуда: когда иконописцы украшали живописью алтарь,
то в нем сама собой изобразилась икона Пресвятой Богородицы; при этом
икона блистала ярче солнца, потом из уст Пречистой Богородицы вылетел
голубь, который, полетав долгое время по церкви, влетел в уста
Спасителя, изображенного на иконе, находящейся в верхней части церкви.
Преподобный Алипий писал иконы даром и
если узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе
и поправлял безвозмездно. Святой никогда не был праздным и оставлял
иконописание только ради Божественной службы. Он был посвящен в сан
иеромонаха. Святой Алипий был известен даром чудотворений еще при жизни.
Преподобный исцелил киевлянина, страдавшего проказой, помазав раны
больного красками. Много икон, написанных преподобным прославились как
чудотворные. Известны некоторые случаи, когда Ангелы Божии помогали ему
писать иконы. Один киевлянин, построив церковь, поручил двум инокам
заказать для нее иконы. Иноки утаили деньги и ничего не сказали
преподобному Алипию. Прождав долгое время, киевлянин обратился с жалобой
к игумену на преподобного, и тут только обнаружилось, что святой ничего
не слышал о заказе. Когда принесли доски, данные заказчиком, оказалось,
что на них уже написаны прекрасные лики. Когда сгорела для них
построенная церковь, то иконы остались целыми. В другой раз Ангел
написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, когда святой лежал в
предсмертной болезни. Тот же Ангел принял душу преподобного Алипия,
который скончался в 1114 г. и был погребен в Ближних пещерах.
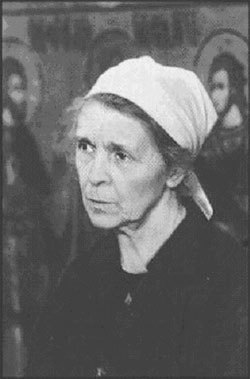
Сегодня в день ее Ангела мы вспоминаем также подвижническую жизнь монахини Иулиании
(в миру Марии Николаевны Соколовой; 8 ноября 1899 — 16 февраля 1981).
Дочь священника, духовная дочь святого праведного Алексея Мечева, она
духовно возрастала в трудные революционные и послереволюционные годы
гонений на русскую православную церковь. Когда в 1946 году вновь
открылась Троице-Сергиева Лавра, Марию Николаевну пригласили в монастырь
как талантливого иконописца. Ею расписана Серапионова палата, написаны
иконы для иконостаса Никоновского придела Троицкого собора и образ
преподобного Сергия, помещенный у гробницы с его мощами, созданы иконы
«Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию», «Собор Русских
святых», «Собор святых града Владимира», «Собор Ярославских святых»,
«Собор святых первосвятителей всея России», «Собор святителей, в земле
Российской просиявших» и многие другие. В 1952−1954 годах ею был создан
трёхъярусный иконостас для Свято-Сергиевского храма г. Ферганы − копия
иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Много времени Мария
Николаевна отдавала обучению молодежи. С 1957 года на протяжении 23 лет
Мария Николаевна руководила созданным ею иконописным кружком при
Московской Духовной академии, а с 1976 года — реставрационно-иконописной
мастерской. За десять лет до кончины она приняла тайный постриг с
именем мученицы Иулиании. Скончалась 16 февраля 1981 года. Погребена на
кладбище посёлка Семхоз. Неоценим вклад матушки в дело разъяснения
значимости древнерусской иконы и утверждения иконописных традиций в
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, среди братии монастыря и среди будущего
духовенства – выпускников Московской духовной семинарии и Московской
духовной академии. Вечная ей память!
Источник: http://www.stsl.ru/news/all...
Метки: жития святых, Иконопись, прп. Алипий иконописец Печерский
Обучение иконописи
Иконопись – это вид живописи, обладающий своей эстетикой, приёмами, технологией. В данной статье основное внимание я уделяю эстетико-ремесленному началу в иконописи. Для создания совершенного образа, по возможности, нужно овладевать и совершенной формой. Кроме овладения ремесленными навыками необходимо воспитывать художественный вкус, почаще созерцать шедевры русской и мировой иконописи, находящихся в музеях, что, к сожалению, доступно не всем. Часто репродукции икон грешат искажением цвета, сами иконы бывают в плачевном состоянии. Для обучения необходимы, конечно, хорошие альбомы, репродукции, лучше фотографии фрагментов, сделанные в музеях, которыми обладают серьёзные иконописные школы.
После элементарных упражнений, описанных в предыдущей статье – горки, архитектура, вода, деревья, можно приступить к письму античных одеяний святых, поизучать систему пробело́в на складках. Основные приёмы создания иконописной оптической системы: роскрышь, притенение, высветление, опись, лессировка. Часто учащиеся вместо постоянных упражнений желают узнать какие-то «секреты» или «особые технологии», которых не существует. Лучше хорошо выполнить простую задачу, например, многократно написать рукав, или другой фрагмент одеяний, чтобы он выглядел убедительно. Упражнения можно делать на залевкашенной натянутой бумаге или оргалите, неудавшиеся моменты надо научиться счищать скальпелем. Роскрышь, т. е. пятно цвета на одеждах, набирается плотнее, чем горки, но с некоторой долей прозрачности. Пробела́ имеют ступенчатый характер, достигая в некоторых древнерусских иконах до пяти ступеней. Они должны чётко отделяться друг от друга, иметь свою логику построения объёма. Начинаются пробела́ не чистыми белилами, в них может подмешиваться цвет роскрыши или другой пигмент. На сиреневом цвете часто делаются холодно-синие пробела́, такой цвет дают смесь белил и чёрного. Пробела́ в последних фазах достигают полной плотности, в средних – более прозрачно, сквозь них может просвечивать цвет одежд. С теневой стороны объём моделируется «притенениями» – тонкими, прозрачными, лессировочными слоями краски, цвета немного темнее роскрыши. Завершается построение формы описями и белильными тонкими мазками. Описи создают теневую «глубину», они имеют разную интенсивность, с теневой стороны – темнее. Необходимо научиться в поисках выразительности спокойно «мять» материал, менять пропорции, цвета, двигать какие-то детали, что-то счищать частично или полностью. Исправления рисунка видны на древних иконах, никакой «графьёй» старые мастера не пользовались. Процарапывание контура делается при золочении, чтобы при нахлёстывании золота не потерять силуэт. Техника построения объёма в иконе многослойная, слои подсушиваются, работа «по сырому» не ведётся.
При написании многоцветных праздников важно гармонично подобрать цвета, постепенно уточняя их, всегда лучше начинать бледно, чем потом счищать слои скальпелем. В искусстве иконописи многое зависит от внутренней культуры человека, его эстетических принципов и ремесленно-художественных навыков, умение выбирать из всего огромного материала самое выразительное. Все цвета на иконе поддерживают друг друга, сам по себе цвет вообще не существует, какой нибудь охристый цвет рядом с синим выглядит ярко-оранжевым, а грязно-зелёный рядом с красным становится весьма ярким. Можно делать колеровку на бумаге, приставляя кусочек колерованной бумаги к другим цветам. Важно не задерживаться на каком-то одном этапе, а попробовать проработать чётко наиболее понятный элемент иконы. Начать писать описи, пробела́, затем опять перейти к уточнению цвета, тогда станет виден дальнейший путь работы. Конечно, мастерство достигается большим трудом и практикой. Чётко определённой последовательности написания иконы я не придерживаюсь.
Последовательность написания икон
Иногда начинаю с проработки лика, иногда – одеяний. Укладывать золото, в некоторых случаях, приходится также после определения основных цветовых пятен и силуэта, который в карандашном рисунке не всегда понятен. Карандашный рисунок я не обвожу тёмной краской, как делают многие иконописцы, наношу цвета не так плотно, чтобы рисунок просвечивал сквозь роскрышь, затем намечаю складки, пробела́, снова уплотняю общий тон, иногда меняя, уточняя предварительный рисунок. Часто применяю лессировку – это покрытие тонким слоем краски уже написанных частично или полностью фрагментов иконы. Этот приём обобщает дробно написанные детали. Применяю его и в письме ликов. Начинаю с наиболее понятных мест иконы, дальнейшее решение образа приходит постепенно. Важно научиться принимать волевые решения и продвигать работу, не зацикливаясь на каком-то этапе.
Нанесене ассиста
Последняя стадия создания иконы – нанесение золотых штрихов на ассист. Липкое вещество – чесночный сок, винилик – синтетический материал. Я пользуюсь виниловым незасыхающим лаком “goldsize”. Готовую икону лучше подсушить несколько дней. На места, где будет ассист, нанести мел хорошего качества, слегка втирая его кисточкой, для обезжиривания. Аккуратно нанести клеящее вещество штрихами и пятнами. Затем можно наносить золото, нарезая его небольшими кусочками и перенося и приминая его хлебным мякишем. Останутся золотые штрихи, в тех местах, где был нанесён винилик. Надпись я компоную на кальке, затем передавливаю ручкой без пасты на золотой фон. По золоту можно писать акриловой краской или темперой ПВА. Место, где будет надпись, покрываю акриловым лаком, краска по нему хорошо ложится. Золото покрывается прозрачным лаком, икона олифится.
Готовая икона покрывается натуральной олифой с сиккативом, поскольку синтетический лак и разбавители выбеливают желток. Эта операция также может превратиться в проблему и требует навыка. Сырая олифа без сиккатива долго сохнет и на неё может налипнуть пыль. Я пользуюсь покупной немецкой олифой, разбавляя сырой натуральной. Также можно протомить натуральную олифу с ацетатом кобальта, который является сиккативом, т. е. убыстряет процесс высыхания. Томят в духовке 3-4 часа. Покрываю икону кистями не за один раз. Руками особо не разглаживаю, потому что можно ободрать ассист и краску. Лучше всё это пробовать на каком-либо ненужном эскизе, который не жалко испортить.
Процесс написания иконы
на примере иконы «Воскресение Христово»
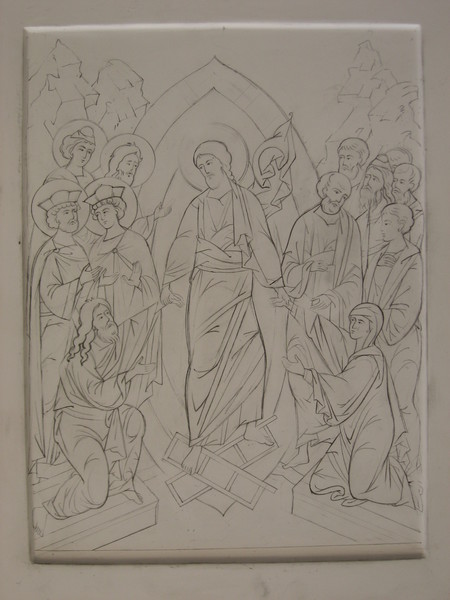
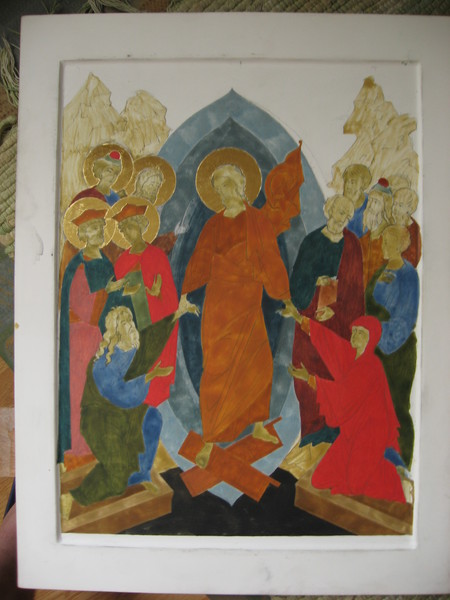
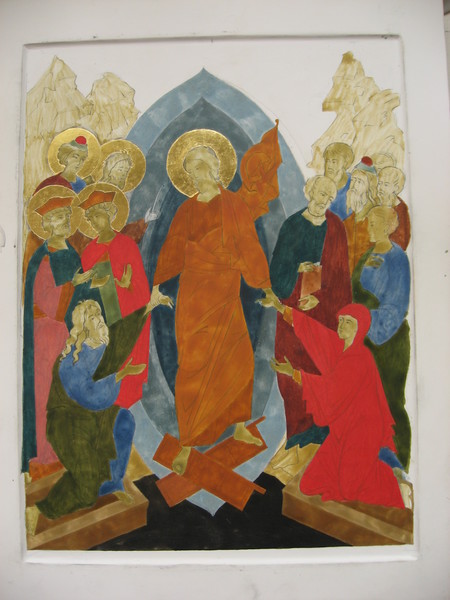


Источник
Метки: иконопись, обучение иконописи
Как мусульманка стала иконописцем

– Пожалуй, не многие мусульмане, а уж особенно женщины, решатся пойти в вере против семьи. Что у вас случилось, с чего вдруг вы так резко крутанули колесо семейной истории?
– Я родилась в мусульманской семье. Обе бабушки были верующими, совершали намазы. Особенно была усердной папина мама, она, как положено, несколько раз на дню молилась, и меня она мусульманским молитвам учила. Но они меня, к сожалению, не трогали, потому что я твердила их на непонятном арабском языке. Перевода бабушка не знала. Сколько себя помню, я искала веры осмысленной, и поэтому доверительные отношения с Богом у меня тогда никак не складывались.
– И когда они начали складываться?
– Окончив школу, я продолжала упорно искать смысл жизни и для начала прочитала весь Коран. Но в этой мудрой книге не нашла ответов на свои вопросы и потому начала читать разных философов: марксистов, идеалистов, потом переключилась на Соловьева, Бердяева, Розанова. Последний из перечисленных меня и подтолкнул ко Христу. Но дорога к Нему оказалась довольно тернистой: в конце 1980-х на фоне повального интереса ко всему паранормальному у меня открылись всякие «способности», и на несколько лет я увязла в болоте эзотерики, приобретя массу всяких фобий. В голове у меня тогда было, по выражению отца Андрея Кураева, любимое блюдо российской интеллигенции – каша: буддизм, эзотерика, теософия. И всё это было приправлено соусом ислама и перчиком смутных представлений о христианстве. Вот тогда я начала читать Евангелие, а на ночь клала его под подушку и только так могла спать спокойно, так как без него меня мучили кошмары. В 1987 году моя бабушка заболела раком, к осени она слегла и больше всего переживала о том, что умирать придется, видимо, зимой и закопают ее в холодную землю. И совершенно случайно на этюдах на берегу реки Смоленки я разговорилась с преподавателем, рассказала о том, что бабушка при смерти и больше двух недель, по мнению врачей, она не проживет. Он предложил отвести меня к блаженной Ксении, часовня которой стояла неподалеку на Смоленском кладбище, так как Ксения помогает всем. Когда пришли, он показал, где свечку купить, где поставить. Это было часа в четыре. Я от души молилась, просила Ксению помочь бабушке, облегчить страдания. Я почему-то настолько доверилась незнакомой мне православной святой, что, приехав вечером домой, даже не удивилась, увидев, что бабушка ходит по квартире и что лучше ей стало именно в четыре часа дня.
– После этого вы уже без сомнений пошли в Православие?
– Всё не так просто. К тому времени я прочитала Евангелие и в храме бывала постоянно, но креститься не решалась: всё-таки перемена веры – шаг серьезный. Я понимала, что для родителей это станет ударом, боялась за их здоровье. Я лишь просила Господа, чтобы Он дал мне знак четкий и внятный, чтобы понять, является ли мое крещение Его волей. И однажды пришла я в храм на Смоленке; до начала службы было еще часа два, народу никого, и я стояла в приделе Ксении Петербуржской, прислонившись к колонне. Вдруг пространство вокруг изменилось: исчезло всё – ни пола, ни потолка, ничего вообще не было, но в то же время это была не пустота, а густая синева, почти чернота. Черный – тот же, что и на мандорлах новгородской иконы «Сошествие во ад». Я потом долго не понимала, почему пространство было темным, и лишь несколько лет спустя у Дионисия Ареопагита прочитала, что Божественный нетварный свет человек видит как мрак. В общем, это было безумно красиво, абсолютно непонятно, и, наверное, мои чувства были сродни тому, что чувствует ребенок в лоне матери, – защищенность и любовь. Потом из дымки, окутывающей всё пространство, ко мне протянулась рука с крестиком на цепочке. Я подставила ладонь, и когда в нее положили этот крестик, я моментально вернулась в реальность. На следующий день без всяких сомнений я пошла креститься.
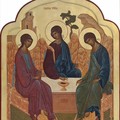
Увеличить
– А иконопись возникла как одна из граней профессии?
– На то был Промысл Божий, и тоже с предысторией. В году, наверное, 1994-м в моей жизни случился глобальный кризис: во-первых, творческий – я не могла писать картины; во-вторых, предмет любви меня покинул, громко хлопнув дверью; в-третьих, из-за астмы я почти перестала дышать. И самое главное, я поняла, что весь этот букет неприятностей – результат мой бурной предыдущей жизни. Но Господь нас никогда не оставляет. И поняв, что без храма Божиего мне не обойтись, 6 февраля, в день памяти Ксении Блаженной, я буквально доползла до ее часовни, с трудом отстояла службу, и после этого мне стало значительно легче. Когда я наконец перестала чувствовать себя полуживым инвалидом, начала более-менее нормально дышать, встал вопрос, как жить дальше. В 29 лет менять профессию? Но живопись для меня была не просто профессией, я 11 лет работала как одержимая по 16 часов в сутки для того, чтобы стать живописцем. Если менять профессию, значит, все труды и жертвы были напрасны и вся моя предыдущая жизнь – бессмысленна. Случайно узнав о Дивееве и о Серафиме Саровском, я решила поехать к нему за ответом на свой внутренний вопрос, хотя понятия не имела, что такое монастырь и паломническая поездка. Поехала с приятельницей. До Нижнего Новгорода мы добрались легко, а вот дальше… Вместо приятной трехчасовой поездки в комфортабельном автобусе 13 часов мы стояли в гигантской пробке из-за сильнейшего снегопада. И едва закончилась эта пытка дорогой, как началась пытка сугробами: я в первый – и, надеюсь, последний – раз в жизни проваливалась в снег по шею.

Увеличить
Первые несколько дней в монастыре вспоминаю как кошмар. Было очень тяжело. Но именно там я родилась заново. Хозяйка, у которой мы остановились и с которой успели подружиться за две недели нашего проживания в Дивееве, спросила однажды у меня: «Вот ты же художник. Может, напишешь мне блаженную Ксению?» Просьба эта оказалась совершенно промыслительной. Отец Владимир Шикин сам подошел ко мне в храме, увидев мою растерянность. Я объяснила ситуацию, а он сказал, что просто так икону писать не благословляет, что этому надо учиться и поэтому он меня благословляет ехать в Тверь в иконописную артель Андрея Запрудного. Сказал и заспешил по своим делам. А я ему вслед: «Батюшка, как же родители?! Они ведь мусульмане, не поймут и не отпустят меня в чужой город…» Он на ходу только рукой махнул: «Господь управит». Отец Владимир оказался прав: Господь управил так, что родители спокойно восприняли новость о том, что я еду учиться в Тверь. Правда, я не стала им уточнять, что это школа церковных ремесел. Встав на путь Православия и новой для себя профессии, я всегда чувствовала помощь Божию и Его Промысл обо мне.
– Никогда до этого не мыслили себя иконописцем? Но как художник, вы, наверное, всегда восхищались творениями Феофана Грека, Рублева?
– Еще не будучи крещеной, в году, наверное, 1991-м я побывала на выставке из фондов Русского музея: Кандинский, Малевич, Гончарова, Шагал, Филонов… Но меня потрясли не они – хотя тогда я всё это очень любила, – а русские иконы из собрания Никодима Кондакова, известного историка искусства. Это был праздник, несказанное ощущение рая и чуда, и я долго ходила будто оглушенная. На эту выставку я приходила раз десять именно из-за икон, так как оказалось, что Шагала даже в третий-четвертый раз смотреть неинтересно. Меня поразило мастерство, с которым были написаны иконы. Я на них увидела рай. И для меня это стало открытием потому, что к русской иконе в советское время было принято относиться как-то снисходительно: вот итальянский ренессанс – это да, а икона – конечно, мило, но… Восхищение иконой жило во мне все последующие годы и стало сродни ключику, который однажды открыл дверь в мир Православия. Собственно, это, наверное, и определило мой теперешний праздничный стиль.
– Когда вы начали писать святых, искушения возникали, или как по маслу всё пошло, благословенно?
– Первая написанная мною икона – «Бичевание святого Георгия». Артель тогда писала два иконостаса для белорусского храма, один алтарь был посвящен святому Георгию. Потом я написала Троицу для иконостаса в Дивееве. Вообще с иконами, которые я писала, у меня всё как-то больше какие-то искушения связаны. Чудес не припомню, а вот искушений – выше крыши. Особенно когда пишешь запрестольный образ, крест или иконостас. Первую запрестольную икону я писала в начале «нулевых» для храма Сергия Радонежского в Сертолове Всеволожского района Ленинградской области. Едва приступив к работе, я умудрилась сломать ребро. Лекарства болеутоляющие пить сама не догадалась, а врач не подсказал. Иконная доска была огромных размеров, тяжелая, и мне ее приходилось то и дело поднимать, переворачивать, снимать с мольберта, переносить на стол, потом снова ставить на мольберт. Батюшка требовал скорее эту икону закончить и не считал, что мне нужен больничный хотя бы на первое время после перелома. Из-за постоянной физической боли я пребывала в каком-то оглушенном состоянии, может, поэтому она и получилась хорошей, молитвенной. Это все говорили. Первые две иконы из первого моего иконостаса очень трудно мне дались, всё время что-то случалось, потом чуток полегчало, хотя тоже не гладко шло. Одна из этих моих икон мироточила потом. Икона изображает мир горний. Мы иногда забываем, что за этим словосочетанием стоит любовь Христова. Мы изображаем мир полноценной гармоничной Любви, который не может быть печальным, или скорбным, или мрачным – это всё человеческое. Православие – радость Богообщения. Мы потому и славим Бога, что Он принес нам Благую весть о Любви. И это отражается в иконах.
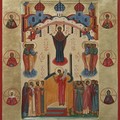
Увеличить
С Аллой Мещеровой
беседовала Ольга Лунькова
4 февраля 2015 года
Источник
Метки: Иконописец, Алла Мещерова, творчество, Бл. Ксения Петербургская
Реставрация фресок в Спасо-Преображенском соборе Мирожского мона

В течение лета-осени 2014 г. художники-реставраторы МНРХУ (Межобластного научно-реставрационного и художественного управления г. Москва) работали в западном рукаве Мирожского собора. Руководитель бригады — В.Д. Сарабьянов. В этой части храма утраты росписей были значительны. До настоящего времени все древние фрески западного рукава Спасо-Преображенского собора находились под записью. В задачу реставраторов входило очищение фресок XII в. от загрязнений и клеевой записи начала XX в. и укрепление древней живописи.
В ходе работ были раскрыты композиции «Вход Господен в Иерусалим», «Тайная вечеря», «Омовение ног» и др., а также сделаны некоторые открытия. Например, в композиции «Тайная вечеря» в центр на блюде в росписях XII в. действительно написана рыба – один из символов Христа, это изображение очень напоминает реальную рыбу, обитающую в Галилейском озере и которую принято называть «рыба апостола Петра». А вместо вилок, написанных иконописцами начала XX в. в этой композиции оказались другие столовые приборы. Много другой интересной информации дали реставрационные работы этого сезона. И если финансирование работ по реставрации мирожских фресок будет продолжено, то уже в следующем экскурсионном сезоне посетители Псковского музея смогут увидеть вновь открытые фрески западного рукава Спасо-Преображенского собора. Древние византийские фрески порадуют гостей музея своими яркими цветами минеральных красок — лазурита, малахита, охр и др.
Составитель: Мельникова И.А. 7.11.2014 г.
Источник
На фресках Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря реставраторы обнаружили «рыбу апостола Петра»
В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря завершен реставрационный сезон 2014 года. В течение лета-осени 2014 года художники-реставраторы МНРХУ (Межобластного научно-реставрационного и художественного управления г. Москва) работали в западном рукаве Мирожского собора.
В этой части храма утраты росписей были значительны. До настоящего времени все древние фрески западного рукава Спасо-Преображенского собора находились под записью. В задачу реставраторов входило очищение фресок XII в. от загрязнений и клеевой записи начала XX в. и укрепление древней живописи.
В ходе работ были раскрыты композиции «Вход Господен в Иерусалим», «Тайная вечеря», «Омовение ног» и другие, а также сделаны некоторые открытия. Например, в композиции «Тайная вечеря» в центре на блюде в росписях XII в. действительно написана рыба - один из символов Христа, это изображение очень напоминает реальную рыбу, обитающую в Галилейском озере и которую принято называть «рыба апостола Петра».
А вместо вилок, написанных иконописцами начала XX в. в этой композиции оказались другие столовые приборы. Много другой интересной информации дали реставрационные работы этого сезона. И если финансирование работ по реставрации мирожских фресок будет продолжено, то уже в следующем экскурсионном сезоне посетители Псковского музея смогут увидеть вновь открытые фрески западного рукава Спасо-Преображенского собора. Древние византийские фрески порадуют гостей музея своими яркими цветами минеральных красок – лазурита, малахита, охр и др.
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря сохранил уникальные византийские росписи и на данный момент является единственным памятником России, в котором сохранилось 80% фресок XII в. Древние фрески реставрируются. Реставрационные работы ведутся по федеральной целевой программе «Культура России» с 1991 года по мере финансирования.
Источник

Фото отсюда
Смотреть еще фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
Метки: Спасо-Преображенский собор, фреска, Псков, Культура Россия, реставрация, Мирожский монастырь
Достопримечательности — Великий Новгород

К 1044 году новгородские летописи относят строительство князем Ярославом каменного детинца или, как часто его называли в древнем Новгороде, «каменного города». Никаких следов этой постройки до нас не дошло, ибо в последующие годы новгородский детинец неоднократно перестраивался. Однако не может быть сомнений в том, что эта первая каменная новгородская крепость находилась на том же месте, где расположен сохранившийся доныне детинец, хотя размеры ее были значительно меньше. Подробно››
Софийский Собор

Новгородский Софийский собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Значение новгородской Софии в общественно-политической жизни древнего Новгорода было исключительно велико. Выстроенная сыном Ярослава Мудрого – новгородским князем Владимиром в 1045 – 1050 годах, София уже в З0-х годах ХII века перестала быть княжеским храмом, превратившись в главный храм Новгородской вечевой республики, Вплоть до последних лет новгородской самостоятельности София была как бы символом Новгорода. Побродно››
Музей деревянного зодчества Витославлицы

Новгородский музей народного деревянного зодчества Витославлицы расположен в живописной местности близ бывшего Юрьева монастыря. Нынешнее его название связано с селом Витославлицы, которое существовало здесь в течение шести столетий — в XII-XVIII веках.
В 1964 году сюда, на берег озера Мячино, было перевезено здание церкви Успения из села Курицко. Так было положено начало одному из интереснейших в нашей стране музеев народной деревянной архитектуры. За год в нем бывает более 80 тысяч посетителей. Подробно››
Ярославо Дворище

Судя по названию, возникновение этого двора относится еще к середине ХI века. В новгородских летописях Ярославов двор под именем «Княжого двора» упоминается впервые под 1113 годом в связи с постройкой здесь княжеского храма Николы. Название «Ярославов двор» на страницах летописи впервые фигурирует под 1208 годом. Побробно››
Свято-Юрьев монастырь

Монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традиционно именуемый Юрьев, принадлежит к числу древнейших обителей не только Новгородской Епархии, но всей России. Он был основан в 1030 году сыном равноапостольного крестителя Руси, православным русским князем Ярославом Мудрым. Подробно››
Алексеевская (Белая) башня
Алексеевская башня (второе название Белая) — находится в Великом Новгороде на пересечении земляного вала Софийской стороны и Троицкой-Пробойной улицы, которая, выходя за пределы города, переходит в дорогу на Юрьев монастырь (Юрьевское шоссе). Подробно››
Памятник «Тысячелетие России»
Идеологическая основа памятника – утверждение принципов «самодержавия, православия и народности». Памятник представляет собой покрытый горельефными фигурами большой круглый пьедестал, на котором установлен огромный шар, изображающий «державу» с возвышающимся наверху крестом. На пьедестале изображено 109 горельефных фигур различных деятелей политической истории, науки, искусства и литературы, начиная от киевских князей Х – ХI веков и вплоть до выдающихся представителей русской культуры середины ХIХ века. Подробно››
Церковь Спаса Преображения на Ильине улице
Церковь Спаса была выстроена в 1374 году, а в 1378 году расписана фресками. Из летописного известия о «подписании» храма Спаса известно, что храм был расписан «повелением благородного и боголюбивого боярина Василия Даниловича со уличаны Ильины улицы». Весьма вероятно, что уличане-ильинцы были и строителями церкви Спаса. Церковь Спаса является одним из наиболее выдающихся памятников новгородского зодчества ХIV века. Подробно››
Десятинный монастырь
Десятинный женский монастырь расположен в Людином конце, к югу от Прусской улицы, примыкая к линии вала Окольного города. Не совсем понятно с чем связано его название, хотя известно, что первый каменный храм, построенный в Киеве почти сразу после Крещения Руси, назывался «Десятинным», он был разрушен татаро-монголами в 1240 г. Возможно, название связано с тем, что постройки возводились на княжеской земле — «десятине». Подробно››
Антониев монастырь
Антониев монастырь основан в первые годы XII века. Его собор принадлежит к древнейшим церквам Новгорода. Первые века Антониева монастыря, как и все здесь, в этой легендарной области, окружено преданиями. Они фантастичны, они сплетены на основе того доверчивого, допускающего всякое вмешательство высших сил в ход человеческой жизни, мистицизма, которым наполнены летописи жития святых, о котором в невыразимо убедительных формах вещают иконописцы. Подробно››
Деревяницкий монастырь — Воскресенский собор
Храм находится на улице Восточной посёлка Деревяницы, который возник в 14-ом веке при строительстве Деревяницкого монастыря. От старого монастыря никаких строений не осталось, а в здании более поздней постройки рядом с собором располагается наркологический стационар. Долгое время Воскресенский собор использовался как склад готовой продукции находящегося поблизости завода «Стекловолокно». В настоящее время пребывает в неудовлетворительном состоянии. Маковка одного из куполов отсутствует. Как минимум два из оставшихся четырёх находятся в аварийном состоянии. Подробно››
Зверин монастырь
Напротив за Волховом белеют церкви Зверина монастыря. Он тоже основан в начале XII века. Его две церкви — Покрова Богородицы и Симеона Богоприимца построены в 1399 и 1468 годах. Церковь покрова Белый куб без всяких украшений, кроме ниспадающих полукружий; над этими бедными стенами высится глава дивного рисунка, завершающая церковь заостренной полусферой. Новгород создал эти главы, украсил ими все свои старые церкви; это такая же логичная и самобытная форма, как колонна для греческого храма. Много раз повторяло человечество античные колонны, и все эти перепевы кажутся совершенными, пока далек оригинал. Главы московских и ярославских церквей становятся такими же перепевами после храмов Новгорода! Подробно››
Церковь Троицы Свято-Духова монастыря
Из древних монастырских построек заслуживает внимания трапезная церковь Троицы, выстроенная около 1557 года. Трапезная с церквью Троицы расположена примерно в центре территории монастыря в нескольких метрах севернее церкви Святого Духа. Каменная трапезная с церквью Троицы в Духове монастыре построена в 1557 году, по заказу игумена Ионы. Церковь Троицы представляет собой высокохудожественный образец середины XVI века. Обладает рядом композиционных, конструктивных и декоративных особенностей. Отличается стройными, удачно найденными пропорциями. Подробно››
Знаменский собор
В XVII веке в Новгороде сооружен обширный Знаменский собор. Cобор построен между 1682 и 1699 годами. По ярославской традиции он весь усеян стенописью не только внутри, но и снаружи — на святых воротах, в сводах крыльца, в полукружиях по верхнему карнизу и т.д. Собор пестрит узорами и красками и красками; на стенах его много изображений, и все они подавляют одно другое, лишая значительности каждое отдельное клеймо. Подробно››
Церковь Бориса и Глеба
Расположенная в северо-западном углу Плотницкого конца, на берегу Волхова, церковь Бориса и Глеба в Плотниках свидетельствует о том, что новгородские зодчие ХVI века отнюдь не сразу отказались от старых, укоренившихся навыков и привычек. Церковь Бориса и Глеба в Плотницком конце была поставлена в 1536 году на месте более древней постройки, которую перед тем разобрали. Церковь возводилась жителями Запольской и Конюховой улиц при участии новгородских и московских гостей. Подробно››
Церковь Федора Стратилата
Одним из выдающихся памятников новгородского зодчества является церковь Федора Стратилата на Ручью, выстроенная в 1360 – 1361 годах посадником Семеном Андреевичем. Русло древнего Федоровского ручья, на берегу которого стоял храм, в недавнее время было засыпано, и по засыпи проложена трасса автострады Москва – Ленинград. Фресковая роспись церкви Федора Стратилата сохранилась почти на всех стенах, на столбах, арках и сводах храма, но фрагментарно, с большими утратами. Композиции и отдельные фигуры росписи несут на себе несомненный отпечаток византийского искусства ХIII – ХIV веков. Подробно››
Источник
Метки: Достопримечательности, Великий Новгород, храмы
Как золотить икону
Золочение — это нанесение на поверхность произведения листового (сусального) золота, серебра и других металлов или твореного золота и серебра.
Сусальное золото и серебро. Золото и серебро, выкованные в тонкие листки, называются сусальным золотом и сусальным серебром.
Из предварительно отожженных (для мягкости) металлов посредством ручной ковки получали тончайшие листки сусального золота и серебра. Для золочения художники пользовались чаще всего листками сусального червонного золота. Листки бывали разных оттенков — от зеленоватого до красноватого, зависевших от количества примеси серебра и меди. Золото зеленоватого оттенка получается при повышенном содержании серебра. Начиная с XVI века русские художники стали применять в живописи еще один вид сусального золота — «двойник», скованные вместе тончайшие листки золота и серебра. Верхняя сторона «двойника» имеет золотой цвет, а нижняя — серебряный.
До XVI века для позолоты икон пользовались преимущественно сусальным золотом. На самых ранних русских иконах золото имеет зеленоватый оттенок; листки здесь сравнительно с сусальным золотом XV—XVI веков более толстые (плотные). Такого вида зеленоватое золото можно видеть на иконах XII века «Великомученик Георгий», «Деисус оплечный» и на ряде других икон вплоть до XV века. Золото ярко-желтого и красноватого цвета имеет небольшую примесь меди.
Сусальное серебро использовали редко. Самым ранним произведением станковой живописи с посеребренной поверхностью нимба является икона «Николай Чудотворец» начала ХШ века из Новодевичьего монастыря (ныне хранится в, ГТГ).
Имитации серебра оловом, а золота медью встречается очень редко. Примером может служить икона «Богоматерь Толгская» (начало XIV века, Ярославский художественный музей), фон которой был покрыт вместо серебра листками олова. Олово, покрытое желтым лаком, часто встречается лишь на иконах XIX—XX веков.
Золочение сусальным золотом, серебром и другими металлами. Сусальным золотом и серебром золотили обычно фон и нимбы, но иногда и другие элементы изображения (одежды, детали архитектуры, мебель и т. д.). Делали это до начала писания иконы красками. Тончайшие листки золота, серебра или олова наклеивали на гладко обработанный левкас в соответствии с прорисованным изображением. Существовали два основных типа золочения — без полимента и по полименту.
ПОЗОЛОТА НА ПОЛИМЕНТ
Позолота на полимент по левкасо-меловому грунту позволяет золотить очень большие площади.
Полимент — это темно-коричневая краска, составленная из сиены жженой, охры и мумии. Перечисленные краски разводятся водой, растираются на каменной плите курантом до идеальной тонкости и затем просушиваются. Засушенная
смесь и называется полиментом. Перед позолотой полимент размачивался и разводился на томленом яичном белке, доведенном до такого состояния, что им можно ровно красить кистью.
Белковый состав подготавливается так. Яичный белок, отделенный от желтков, наливают в бутылку и ставят в теплое место для томления. Томится он до тех пор, пока не сделается очень жидким и из него не уйдет вся тягучесть, но сохранится известная доля клейкости, необходимая для полимента. Все имеющиеся сорта клея хрупки, и позолота на них при полировке часто слетает. Яично-желтковый разбавитель, на котором разводятся краски, имеет некоторую жирность, из-за чего положенное на него золото полировкой может стереться. Свежий белок применять нельзя, потому что он имеет тягучую, студенистую массу. Но приготовленная из него описанным способом жидкость очень ровная, обладает нужной клейкостью и, что важнее всего, мягкой эластичностью. Испытана эта жидкость практикой многих лет и укрепилась как самый лучший разбавитель для позолоты по левкасо-меловому грунту. На такой подготовке золото держится прочно и хорошо поддается полировке.
Для того чтобы полимент имел сильный красновато-коричневый тон, им прокрашивают по одному месту два-три раза. После просушки, когда полимент делается матовым, его стирают чистой суконкой, чтобы полиментная подготовка стала чистой, ровной и блестящей. Затем место, на которое будет накладываться золото, кистью смачивается сорокоградусной водкой, наполовину разбавленной водой.
Позолотчик должен иметь шкатулку размером 40 х 40 см, в ней хранятся инструменты для позолоты и само золото. На верхнюю крышку шкатулки накладывают что-либо мягкое (лучше всего войлок) и обтягивают ее замшей — образуется маленькая подушечка, на которую перед позолотой и выкладывают золото. Используется в работе листовое золото, уложенное в специальные книжечки.
Если надо золотить большие площади, то золотят цельными листами. Если же нужно золотить места меньше, чем лист золота, то его разрезают специальным ножом с круглым концом и отточенным с обеих сторон лезвием. Таким ножом Удобно разрезать листы золота и перекладывать их на подушке с одного места на другое.
В позолоту идет очень тонкое и легкое золото. При первом же прикосновении оно прилипает к пальцам. Если неосторожно дохнуть или шевельнуть одеждой, золото, приготовленное на подушке, разлетается, и его поймаешь не скоро. Поэтому мастеру-позолотчику приходится быть очень осторожным и брать золото только лампемзелем — специальным инструментом для позолоты. Лампемзель делается так. От беличьего хвоста отрезается самый кончик. Волосы кончика веерообразно раздвигаются и вклеиваются между двумя небольшими картоночками. Когда клей высохнет, веерочек будет в них держаться, как в коротеньком картонном череночке. Для большего удобства в работе, его вделывают в деревянный черенок, длиной и толщиной с обычный карандаш. На другой конец чере-ночка пристраивают кисточку, которая необходима для подмачивания полимента под золото водкой. Таким образом лампемзель имеет вид череночка с веерочком из беличьих волос с одного конца и с беличьей кистью с другого. Чтобы взять золото, веерочек несколько подмачивают.
Среди инструментов для позолоты имеется масленка — это кожаная пластинка размером 20 * 12 см, промасленная коровьим маслом. Перед тем как брать золото на лампемзель, надо два-три раза провести веерком по масляной пластине для того, чтобы на нем появился незначительный жирный налет. После этого веерок прикладывают к листу золота и переносят его на то место, где должна быть позолота. От веерка золото отстанет, а к полименту, подмоченному водкой, золото хорошо пристанет. Так и происходит золочение. Дальше позолоту просушивают до такого состояния, когда ее можно полировать, так как без полировки она бывает матовой, не блестящей. Полируют золото агатом — хорошо отшлифованным камнем в форме лопаточки от одного до трех сантиметров ширины. Для полировки изогнутых плоскостей требуются агаты в форме крючков, также разных размеров. Агаты вставляются в металлические трубки и насаживаются на черенки примерно в палец толщиной, несколько длинней карандаша. При полировке агатовую лопаточку нужно крепко нажимать обеими руками. Если просушка окажется недостаточной, то золото под агатом может свозиться, а если позолота пересохнет, то отполированное золото будет выглядеть суховатым и тусклым. Когда же просушка угадана, как требуется в норму, золото после полировки будет глубокого сильного тона и хорошо блестеть.
ЗОЛОЧЕНИЕ БЕЗ ПОЛИМЕНТА
Золочение без полимента проводилось так: по шлифованному левкасу прокладывали слой светлой охры, разведенной на чистой воде. После просыхания сухой тканью шлифовали всю покрытую охрой поверхность. Жидким мездровым или осетровым клеем смачивали небольшие участки поверхности так, чтобы не смыть охру, и накладывали листки золота или серебра, нарезанные по размеру и форме участка. После окончания золочения всю поверхность металла шлифовали «зубком» — медвежьим или кабаньим зубом или полированным кремнем, сердоликом, агатом. Иногда золотили непосредственно по шлифованному левкасу без охры на клей.
ПОЗОЛОТА НА «ГУЛЬФАРБУ»
Этот способ позолоты применяется на всех грунтах по дереву, по полотну, стеклу и металлу. Гульфарба составляется из лака-мордана с примесью небольшого количества оранжевого крона, растертого на льняном масле. Крон к лаку примешивается как подкладка под золото, чтобы оно имело более сильный и глубокий тон. Инструменты для позолоты требуются все те же, что и при позолоте на полимент: замшевая подушечка, лампемзель, нож, масленка. Процесс золочения сложен и требует мастерства.
Перед золочением место для позолоты тщательно подготовляется, так чтобы поверхность, на которую будет накладываться золото, была ровная и чистая.
Дальше эти места прокрашиваются кистью жирным слоем гульфарбы и затем просушиваются. Если гульфарба не досохнет, то наложенное золото будет свозиться, а если пересохнет, то золото не будет к ней приставать. Надо довести просушку гульфарбы до небольшого отлипа, тогда золото будет хорошо к ней приставать и будет иметь хороший блеск.
Золото накладывается на гульфарбу лампемзелем, который поверх веерка слегка прижимается ватой. Оно всасывается в гульфарбу и принимает хороший вид. Полируют его не агатом, как позолоту на полимент, а слегка протирая кусочком ваты.
ЗОЛОЧЕНИЕ НА АССИСТ
Часто в иконах поверх живописного слоя накладывали штрихи из сусального золота на складки одежд, перья, крылья ангелов, скамьи, столы, престолы. В современной литературе эти штрихи принято называть ассистом.
Ассист — состав, употребляемый под золото. Готовится из отстоев пива, которые наливаются в посуду и томятся на горячей печи до состояния густой, клейкой массы, или из очищенных головок чеснока, которые в небольшом горшке томят в нежаркой печи, пока они не дойдут до такого же состояния. При употреблении его разводят водой до такой густоты, чтобы им можно было проводить кистью очень тонкие линии. Ассистом пишут пробела инокопью для наложения чистого золота. Те места на живописи, где будут наносится пробела, слегка припорашиваются очень мелким мелом и прописываются ассистом: (Цвет ассиста—темнокоричневый, блестящий.) Потом небольшим кусочком мягкого черного хлеба, смятого в комочек, берется листовое золото прямо из книжки, отрывается небольшими кусочками и накладывается на пробела, написанные ассистом. Они легонько прижимаются хлебом, таким образом закрепляется золотом вся роспись. Этим же куском хлеба осторожно золото простукивается в вертикальном положении, тогда начинает проясняться пробел. На линиях ассиста золото крепко пристанет, а с промежутков между штрихами пробела золото снимается. Так идет наложение золота до полного выявления всего пробела, а оставшийся мел, которым ранее припорашивалось место, где накладывался ассист, опахивается гусиным пером. Пробел делается ярким, чистого цвета золота. Таким же способом расписывались парчи на одеждах и украшались золотым орнаментом каймы икон.
Золотой или серебряный ассист шлифовали для придания ему блеска.
В редких случаях встречается ассист, нанесенный твореным золотом.
ТВОРЕНОЕ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ДЛЯ РОСПИСИ
В древнерусском искусстве «твореными» первоначально называли все краски (от слова «творить» — затирать). Однако, начиная с XIX века, твореными стали называть только золотую и серебряную краски.
Чтобы приготовить золото для живописи, его смешивают с гуммиарабиком, являющимся связующим веществом, и с водой, превращающей смесь в жидкую массу.
Принятая норма золота для приготовления одной порции — десять листов. Она является самой подходящей как для получения высококачественного золота, так и для процесса его творения.
В чистое чайное блюдце насыпают два грамма гуммиарабика порошком, вливают несколько капель воды и размешивают указательным пальцем правой руки, пока не получится густая клейкая масса. Этим же пальцем переносят в блюдце лист золота. Палец осторожно поднимают и снова прижимают, вследствие чего золото рвется на мельчайшие частички и всасывается в клейкую массу. Делать это надо осторожно, не крутить золото, а рвать его вертикальными движениями пальца, иначе оно может закататься катышками и будет плохо растираться. Так постепенно снимаются все десять листов. Это первая стадия творения.
Теперь надо растирать золото. Делают это тем же пальцем, двигая его то вправо, то влево по окружности блюдца. Растирают с большим нажимом в продолжение полутора часов, время от времени добавляя по нескольку капель воды. Это вторая стадия творения.
Когда уже видно глазом и палец чувствует, что золото растворилось мелко, в получившуюся массу для большей клейкости добавляют еще два грамма гуммиарабика и снова «творят», чтобы гуммиарабик хорошо соединился с золотом. Теперь в блюдце надо влить треть чайного стакана чистой воды, хорошо размешать и поставить его на отстой. Золото отстаивается за двадцать минут, после чего лишнюю воду сливают, а его просушивают, держа блюдце над лампой. Это третья стадия творения.
Просушенное золото готово для тончайшей росписи. Весь процесс требует соблюдения исключительной чистоты, так как если в золото попадет пыль или какие-нибудь соринки, им будет плохо писать.
У малоопытного мастера золото может получиться непригодным для росписи. Неудачное творение золота зависит от нескольких причин. Первая причина: взято недостаточно гуммиарабика — при росписи золото не будет держаться на предмете, будет стираться с него. Вторая причина: гуммиарабика положено слишком много — золото не будет блестеть, будет казаться желтой краской. Плохо твореным золотом нельзя писать тонко.
Твореным золотом и серебром прорисовывали складки одежд (освещенные места), элементы окружения персонажей (например, листья на деревьях и т. п.), а также орнаменты. Тонкие штрихи наносили параллельными линиями («в перо») или сеткой («в рогожку»).
Пробела одежд, исполненные золотом или серебром, в отличии от выполненных обычными красками называются золото-пробельным письмом.
Участки живописи твореным золотом и особенно серебром после высыхания не имели яркого металлического блеска. Поэтому, чтобы получить этот блеск, их полировали, подобно листовому золоту и серебру, «зубком» из агата или натуральным зубом животного.
Чеканка — создание рельефа из металлического листа, использующее его вязкость, ковкость. Лист металла закрепляют на пластичной массе — подушке из вара с толченым кирпичом. Ударами молотка по чекану (металлическому стержню), приставленному к листу металла, выбивают на нем рельефные узоры или изображения. Наиболее высокие части рельефа выбиваются с оборотной стороны, затем, перевернув лист, выполняют остальную чеканку с лицевой стороны. Чекан с острым концом в виде шила называют канфарником. Им наносят на поверхность металла углубленные точки, образующие зернистую поверхность. Чеканами с другими формами наконечников вычеканивают бороздки, составляющие орнаментальный рисунок, похожий на гравировку.
С начала XVI века чеканные оклады стали вытесняться басменными. Басма — это тонкая металлическая пластинка, на которой рельеф получен тиснением с матрицы. Матрица из меди, камня, железа и даже из дерева имела рельефный узор. На нее накладывали небольшого размера тонкий листок металла, преимущественно из серебра (реже из меди и белой жести — «немецкого железа»). На лицевую сторону клали свинцовую подушку — толстый лист из свинца, по которому ударяли деревянным молотком. От того что матрица находилась с тыльной стороны листка, узор на тыльной стороне получался более отчетливым, чем на лицевой. Чтобы получить более четкий узор на лицевой стороне, ее прочеканивали чеканами (чаще всего канфарником). Такую басму называют канфаренной басмой. Из отдельных пластинок — басм — набирали оклад на икону. Если форма и размер ее не соответствовал изображению, басму подкраивали. Каждую пластинку прибивали к поверхности иконы маленькими гвоздиками. Если олифная пленка была еще свежей, то рельефы басмы оттискивались на ней. Когда нимб хотели сделать возвышающимся над поверхностью, на изображения венца сначала накладывали валик из воска (реже из дерева), а уже поверх него закрепляли басму.
Существовало немало различных способов художественной обработки металлических окладов — резьба, чернение, эмаль, скань.
Резьба (гравировка) — это нанесение изображения (узора) с помощью стальных резцов — штихелей. Особый прием глубокой резьбы — оброн, при котором фон вокруг линии изображения или надписи опускался (обирался) при помощи резца, благодаря чему изображение выступало над фоном. Иногда углубление оброна заполняли чернью или эмалью.
Эмаль — особый сплав стекла различных цветов. Чаще всего она бывает непрозрачной. Чтобы покрыть металл эмалью на его поверхность напаивали перегородки, которые разделяли эмали разных цветов друг от друга. Иногда эмалями заполняли гравированные углубления при оброне. Перегородчатые эмали на драгоценных окладах русских икон встречаются с конца XVI века. Широко их применяли для украшения венцов, уголков рамок и инициалов на окладах в XIX — начале XX века.
Чернь — это особый сплав сернистого серебра, меди и свинца. Цвет его — от серого до бархатистого черного. На иконных окладах чернью наводили орнаментальные рисунки или на небольших пластиночках — дробницах — делали изображения фигурок святых, которые прикрепляли к поверхности оклада. Иногда на дробницах писали инициалы или полностью имена изображенных на иконе персонажей.
Отдельные части оклада, а иногда и полностью весь оклад делали из скани — скрученных металлических проволочек, обычно пропущенных через плоские вальцы, в результате чего получалась ленточка, у которой рубчатыми оставались лишь верхний и нижний края, а боковые части становились плоскими, гладкими. Изогнутые по рисунку ленты спаивали между собой. Сканые оклады делали ажурными, из сквозного набора, и сплошными, в которых скань напаивали на металлическую пластинку.
На поверхность сканого набора иногда еще напаивали маленькие металлические шарики — зернь.
В XIX веке начинают изготавливать штампованные оклады, которые были обычно украшены машинной гравировкой по листам позолоченного серебра. Для икон-подокладниц (грунтованные красно-коричневым грунтом иконы с изображением только лиц, рук и ног святых) в конце XIX века производили латунные штампованные оклады и оклады из медной посеребренной фольги.
ТВОРЕНЫЙ АЛЮМИНИЙ И БРОНЗА ДЛЯ РОСПИСИ
Вместо серебра можно с успехом применять алюминий, который по блеску не уступает, а по прочности превосходит его.
Алюминий обычно бывает в порошке, но очень грубом, и растиранию поддается гораздо труднее, чем золото. Поэтому его растирают на толстом стекле и стеклянным курантом. Для этого смешивают на стекле по пять граммов порошка алюминия и гуммиарабика и наливают воды столько, чтобы было хорошо растирать. Тереть надо с усилием, движениями то вправо, то влево по кругу не менее трех-четырех часов, пока не убедишься, что алюминий растерся мелко. Тогда всю растертую клейкую массу снимают со стекла в чайное фарфоровое блюдце, подливают полстакана чистой воды и ставят на отстой; алюминий отстаивается очень медленно, не менее четырех-пяти часов. Потом лишняя вода сливается, а алюминий просушивается над стеклом керосиновой лампы. Здесь, как и при растворении золота, все зависит от правильных пропорций гуммиарабика и воды. Если они взяты правильно — алюминием будет легко работать над самыми тончайшими деталями, и он будет хорошо блестеть.
Бронза приготовляется точно так же, как и алюминий, с теми же пропорциями гуммиарабика и воды.
РОСПИСЬ ПО ЗОЛОТУ
Иногда листовое золочение делали на левкасах с лепным рельефом. В других случаях золоченую поверхность украшали узорами, сделанными способом чеканки.
Орнаментальные росписи по золоту и серебру делали уже в XI—XII веках. В XVII веке эта техника получила широкое применение. Ее называли «цвечением золота». Росписи по серебру и золоту делали ярко-зеленой, красной, красно-коричневой лессировочными красками, иногда красной киноварью с последующим соскабливанием краски цировкой до поверхности позолоты. Наряду с «цвечением» в XVII веке широко распространяется орнаментальная роспись черной краской, напоминающая черневую наводку по металлу.
Краски орнаментальных росписей по металлу обычно готовили на смолах, которые легко размягчаются растворителями (легче и быстрее, чем защитный слой иконы из олифы).
Источник: Икона. Кравченко А.С. М., 1993
Источник
Метки: золочение иконы, иконопись золочения, технология
Справочники и материалы по древнерусскому искусству и иконописи
http://www.wco.ru/biblio/bo...
Иллюстрированный словарь по иконописи:
http://nesusvet.narod.ru/ic...
Орнаменты. Большая подборка в хорошем качестве
http://sankire.ru/Ornament....
Метки: СЛОВАРИ, древнерусское искусство, справочники
Древнерусская икона
ГТГ. Студия "Кварт".
Метки: Древнерусская икона, древнерусские шедевры, икона, древнерусское искусство
Реставрация икон Императорского дворца
36 икон Тверской картинной галереи готовятся к переезду. В ближайшее время они покинут Императорский путевой дворец, который закрывают на ремонт. В музей иконы попали в советское время и использовались вместо строительных досок. Реставраторы уверены, что восстановить древнерусские шедевры можно.
источник
Метки: древнерусское искусство, икона, древнерусские шедевры, императорский путевой дворец
Ярославская иконописная школа
Ярославская иконописная школа — художественное явление русского искусства второй половине XVI — XVII вв. Она сложилась и развивалась в заключительный период истории древнерусского искусства, поэтому во многом подвела итог семивековому развитию русской иконописи. Школа сложилась на основе местной художественной традиции, существовавшей в Ярославле в XIII — XV веках. Подробнее: http://www.icon-art.info/bo...
Метки: ярославская школа, иконопись, икона, древнерусское искусство
“Открытие” древнерусской иконы в XX веке
Как произошло открытие первозданной красоты древнерусской иконы?

Древняя Русь пережила несколько периодов расцвета иконописного искусства (например, середина XI в., XV в.). Но к 18—19 столетиям во многих древних храмах фрески скрывались под слоем копоти или были закрыты позднейшими записями. Многие древние иконы, писанные на доске, были украшены металлическими окладами-ризами. Украсить икону драгоценной ризой считалось на Руси делом добрым и благочестивым. Это являлось выражением жертвенного настроения того, кто давал средства на изготовление ризы для иконы. Но оклады-ризы закрывали значительную часть поверхности иконы и невольно скрывали ее красоту. Кроме того, с древних времен икона, написанная на доске, поверх изображения покрывалась прозрачной олифой. Олифа хорошо проявляла цвет и предохраняла живопись от повреждений. Но примерно за 70— 100 лет олифа темнела настолько, что изображение становилось иногда едва различимым.
Иконописцы древности, вероятно, знали способы «расчистки» потемневших икон, но эти способы были очень сложными и трудоемкими. Поэтому со временем потемневшие иконы стали просто «поновляться»: поверх олифы иконописец писал изображение заново. Так на некоторых древних иконах появилось несколько иконописных слоев.
К началу XIX века, когда в России стал активно проявляться интерес к древнерусской культуре, заметно потемнели уже иконы 16 и 17 столетий. Темнота изображения стала восприниматься как одно из характерных свойств древней русской иконы. Но до середины XIX века древнерусская икона еще не воспринималась искусствоведами как шедевр православной культуры России. Общераспространенным оставалось представление, что искусства («художества») были водворены в России Петром I.
Средой, где допетровская старина составляла существенную сторону жизни, было старообрядчество. Старообрядцы любили и ревниво оберегали «тонкость древнего письма», что искусно показал писатель Н.С. Лесков в своем произведении «Запечатленный ангел; Одним из первых обратил внимание на икону как на высокое искусство академик Ф.И.Буслаев (1818—1897), написавший работу «Общее понятие о русской иконописи», а затем целый ряд других замечательных трудов по русской иконографии.
К началу XX века Россия имела бесчисленное множество икон. Эти иконы в соответствии с церковной традицией писались, хранились, ставились или выносились для молитвы в церквах, монастырях, домах, учебных и иных заведениях, а иногда на улицах и перекрестках дорог. В то время Россия еще не знала опустевших храмов без икон. Место икон было в храмах, а не в экспозициях или запасниках музеев. Одним из первых домов, стены которого были увешаны иконами, воспринимаемыми не только как святыня и как памятники старины, но и как произведения искусства, был дом богатой москвички М.К. Морозовой.
Однако интерес к русской иконе как к высокому изобразительному искусству пробудился уже в 19 столетии. В конце этого столетия в России начинают складываться первые частные собрания икон. Наиболее известные собрания принадлежали А.В. Морозову и И.С. Остроухову. Свое собрание икон завещал переданной в дар Москве в 1892 году картинной галерее П.М. Третьяков.
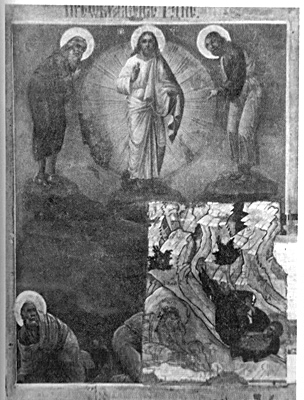
И.С. Остроухов (1858—1929), ставший попечителем Третьяковской галереи, одним из первых в России стал заботиться о расчистке древнерусских икон. Под его надзором опытные реставраторы, убирая с поверхности древних икон олифу и поздние записи, открывали первописанную икону. В начале же XX века, еще до революции 1917 года, в России стали устраивать выставки древнерусских икон, благодаря которым в короткий срок русская икона была признана одним из высочайших достижений мировой художественной культуры. Знаменитый французский художник А. Матисс (1869—1954), посетивший выставку древнерусских икон в 1911 году, сказал: «Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Италия в этой области дает меньше».
Так в начале XX века совершилось «открытие» древнерусской иконы, которая ранее была доступна для молитвенного созерцания, а с этого времени получила признание и как вершина мирового изобразительного искусства. Замечательный русский философ, профессор Московского и Киевского университетов князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863—1920) был одним из первых русских искусствоведов, положивших начало глубокому осмыслению древнерусской иконописи как высочайшего искусства. Он написал три очерка, которые до настоящего времени привлекают интерес тех, кто обращается к изучению русской иконы. Вот названия этих работ: «Умозрение в красках», «Два в ее иконе».
«В исторических судьбах русской иконы есть что-то граничащее с чудесным. Чудо заключается, разумеется, не в тех превратностях, которые она испытала, а в том, что, несмотря на все эти превратности, она осталась целою. Казалось бы, против нее ополчились самые могущественные враги — равнодушие, непонимание, небрежение, безвкусие неосмысленного почитания, но и этой коалиции не удалось ее разрушить. И копоть старины, и позднейшие записи, и золотые ризы послужили во многих случаях как бы футлярами, которые предохраняли от порчи ее древний рисунок и краски. Точно в эти дни забвенья и утраты святыни невидимая рука берегла ее для поколений, способных ее понять. Тот факт, что она предстала перед нами почти нетронутая временем во всей красе, есть как бы новое чудесное явление древней иконы». Так писал князь Евгений Трубецкой в своей работе «Умозрение в красках» («Три очерка о русской иконе»)2. В 60-е годы XX века для многих любителей отечественной культуры открытие древнерусской иконы совершилось благодаря писательскому таланту В.А. Солоухина (1924—1997), посвятившего иконе многие страницы своих сочинений «Письма из Русского музея» и «Черные доски». В 70-е годы благодаря фильму А. Тарковского «Андрей Рублев» более широко стало известно имя величайшего иконописца России. XX век стал не только временем открытия художественных достоинств древнерусской иконы, но и временем возрождения иконописного искусства в соответствии с иконописными канонами древности. Здесь особая заслуга принадлежит талантливой художнице Марии Николаевне Соколовой (1899 — 1981), в 1970 году принявшей тайный постриг с именем Иулиания. Монахиня Иулиания много лет работала в реставрационной мастерской Троице-Сергиевой Лавры. Большинство современных иконописцев в России — ее ученики или ученики тех, кто обучался у нее высокому иконописному искусству. Создание новых храмов, возрождение монастырей и духовных школ Русской Православной Церкви в последнее десятилетие 20 столетия вызвало к жизни и возрождение иконописного искусства. В настоящее время в России существует множество иконописных мастерских, училищ и школ, где дети и взрослые учатся древнему искусству иконописания. А первым пособием для начинающих иконописцев всегда были и остаются лучшие образцы русской иконописи, о чем каждый может прочитать в работе М. Соколовой «Наставление начинающему иконописцу».
Вот уже почти столетие русская икона привлекает к себе внимание не только богословов и искусствоведов, но также бесчисленного множества любителей живописи, писателей, философов и даже физиков и математиков, пытающихся «дешифровать» художественный язык древнерусской иконописи. Академику Б.В. Раушенбаху (1915-2001), например, принадлежит замечательный труд «Пространственные построения древнерусской живописи» (М., 1975). Однако, несмотря на многочисленные исследования, посвященные русской иконе, она остается во многом загадкой для современного секуляризованного общества. К разрешению тайны древнерусской иконы можно приблизиться настолько, насколько человек приближается к горнему, духовному миру, который отражается на иконе. Пытаться понять икону в отрыве от той духовной реальности, о которой она свидетельствует — невозможно, так же как невозможно постичь только одним разумом то, что всеми чувствами человека постигается через образное восприятие.
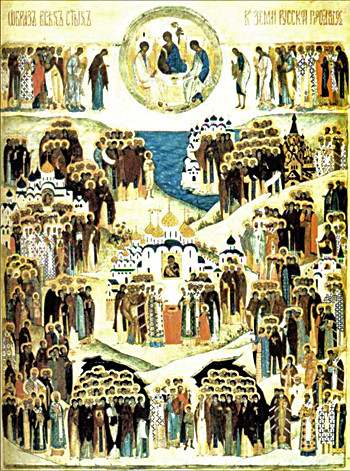
Поэтому сколько бы мы ни всматривались в русскую икону, сколько бы ни изучали ее художественные особенности — мир русской иконы всегда останется для нас миром горним и таинственно прекрасным, так же как прекрасны и таинственны вершины величайших гор, для большинства людей остающиеся недостижимыми...
В замечательном очерке князя Евгения Николаевича Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» (1916) есть такие проникновенные слова: «...открытие иконы дает нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, подслушать ее исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях выявилось все жизнепонимание и все мирочувствие русского человека с XII по XVII век. Из них мы узнаем, как он мыслил и что он любил, как судила его совесть, и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал. Когда мы проникнем в тайну этих художественных и мистических созерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того — ее будущее».
Б.И. Пивоваров. Православная культура России, учебное пособие для учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев. С.94 -97. Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, Новосибирск, 2002
источник
Метки: икона, открытие иконы, реставрация, древнерусское искусство
Священник Андрей Давыдов: Меняется ли икона?

Священник и иконописец Андрей Давыдов размышляет о том, как икона участвует в создании пространства для общения предстоящего с первообразом, и какие сегодня на этом пути возникают препятствия.
— Отец Андрей, икона — древнее литургическое искусство. Оно родилось в ту эпоху, когда Церкви важно было найти образ свидетельства о Христе. Но насколько сегодня актуальна икона?
— Христианская вера не передается генетическим путем, каждый человек и
каждое поколение призваны открыть ее для себя как единственные «путь,
истину и жизнь». Поэтому проповедь, передача, распространение веры —
постоянная творческая задача Церкви с момента произнесения слов «Идите и
научите все народы...» Чтобы «научить», недостаточно произнести список
догматических постановлений Церкви. Надо увлечь, вовлечь и показать на
деле содержание и результаты веры. Для меня образ Богоматери
Владимирской или Спасителя из Синайского монастыря и многих других икон
непосредственно являет «истину, добро и красоту» христианства и при
каждом обращении к ним заставляет меня снова и снова возвращаться «от
временного к вечному, от тленного к нетленному».
— Мир меняется. Церковь меняется. Меняется ли икона?
— Церковное искусство менялось и развивалось во все периоды своего существования начиная с живописи катакомб и по сей день.
Неправильно представлять, что иконопись — некое вневременное,
неизменяющееся явление, некогда развившееся до идеальной формы и теперь
только бесконечно воспроизводимое. Проповедь должна быть живой,
актуальной, насущной, лично обращенной к собеседнику. Христианское
изобразительное искусство, так же как и другие формы церковного
провозвестия, обращено лично к каждому человеку и всегда диалог
современника с современниками. Каждый христианин еще и дитя своей эпохи.
В иконописи есть незыблемая традиция, с которой всё начинается. Эта
традиция постоянно пополняется за счет ее новых интерпретаций в
различных локальных школах и в каждом новом времени.
Хотя основная задача сакрального искусства всегда оставалась
неизменной, его формы постоянно изменялись. Все попытки буквального
воспроизведения стиля прошлых эпох кончаются неживой стилизацией. Мне
кажется, это неправильная художественная установка, которая очень
распространена сейчас среди наших иконописцев. Хорошо знать традицию —
очень полезная и необходимая часть иконописного мастерства, но традиция
не цель, а средство. Каждый человек уникален. Если художник не будет
сочувствовать тому, что он пишет, он не создаст убедительного
произведения. Если будет сочувствовать — вольно или невольно вложит в
произведение и свое прочтение. Не случайно выражения «сделано с душой»,
«вложил душу» — похвала работы мастера. Поэтому произведения иконописцев
всегда изменялись и будут изменяться от мастера к мастеру и от эпохи к
эпохе. Иконопись — это не подстрочный перевод, в котором при тщательной
попытке быть ближе к оригиналу теряется его главное качество —
художественная убедительность. Скорее эта работа ближе к художественному
переводу, в котором переводчик, беря за основу произведение
предшественника, создает его новую вариацию применительно к условиям
другой языковой культуры.
— Круг сюжетов иконописи ограничен. Человеку несведущему
вообще кажется, что иконописец пишет всегда одно и то же. Не надоедает
ли вам писать из года в год одни и те же образы?
— Круг сюжетов не менее широк, чем у художников других областей
изобразительного искусства. Вся ветхозаветная и новозаветная история до
наших дней (сейчас как раз работаю над иконой великой княгини Марии
Романовой), плюс каждый образ имеет огромное количество прототипов и
вариантов иконографии. Только вариантов иконографии Богоматери есть
более семисот, и на многие из них у меня в памяти и в библиотеке есть по
100 и более различных прекрасных древних образов, которые хочется
исследовать более подробно, чтобы использовать полученные знания в
дальнейшей работе.
Мне не только не надоедает работать в области иконописи, но наоборот,
всё интереснее и интереснее, потому что давно и постоянно присутствует
чувство, что только сейчас в работе начинает открываться главное, с чего
надо было бы начинать, а предыдущее — были подступы. Теперь только бы
успеть поработать исходя из этого главного понимания. Всё время есть
ощущение открывающегося чудесного секрета, который по форме всё проще, а
по содержанию всё важнее.
— Что главное для иконописца, когда он пишет образ?
— Исходя из вышесказанного не дерзну сказать с окончательной
интонацией. Как видите, это главное имеет свойство двигаться вглубь, как
горизонт для путника. Некоторое время назад я начал понимать реальность
прописной истины из учебников первого класса воскресной школы о том,
что основная богословская интуиция, на которой зиждется иконописание, —
присутствие первообраза в образе. Легко произнести, но трудно воспринять
всерьез, иначе всё в твоей работе должно претерпеть коренную перемену.
Вот у меня и стало многое меняться: в подходе к работе, к задачам
иконописания, в художественных предпочтениях, в технологии, процессе и
последовательности работы и т.д. С первых и до последних шагов работы
над каждой иконой я стараюсь постоянно учитывать, что главная (и очень
непростая) задача моей работы — создать пространство для общения
предстоящего с первообразом. С некоторых пор для меня это не просто
декларируемый догмат Церкви, но реальная часть моей каждодневной работы.
Мне кажется, если иконописец не ставит для себя во главу угла этой
задачи, то своего самого важного профессионального задания он выполнить
не сможет, в каком бы изысканном стиле он ни работал. Если же эта задача
для иконописца присутствует как важнейшая — икона получается. И в
по-детски наивной Эфиопии, и в академическом Константинополе. Мне
кажется, что, изучая и учась у иконописцев древности, надо исследовать и
учиться в первую очередь тем методам, которыми они достигали решения
этой главной задачи в разных условиях. В пещерной церкви Каппадокии, в
соборе Константинопольской Софии, в деревенской горнице и многоярусном
столичном иконостасе.
— Икона — это богословие в красках. Насколько иконописец свободен в своем богословствовании или он только повторяет уже сказанное Церковью?
— Если понимать под богословием свод догматов, к которым пришла
Церковь, стараясь установить неизменяемые основы нашей веры, то это не
та область, в которой каждый из нас необходимо должен найти собственную
интерпретацию. Иконы, напрямую иллюстрирующие богословские догматы в
художественном отношении, как правило, не очень интересны, потому что
они пытаются рассказать, а не показать, проиллюстрировать умопостроение,
а не явить в реальности.
С другой стороны, есть высказывание: «Кто чисто молится, тот
богослов». Есть иконы, несущие в себе громадную богословскую нагрузку и
разъясняющие догматы лучше многих интеллектуальных конструкций. Таковой,
например, является для меня икона Спаса из монастыря святой Екатерины
на Синае.
То, что Христос одновременно и Бог, и человек и что возможно такое
«неслитное и нераздельное» соединение, понятно мне на этой иконе лучше,
чем после академического семестра изучения истории халкидонского
догмата. Совсем не потому, что, как объясняют гиды доверчивым туристам,
«лик Его ассиметричен, одна половина лика гармоничная — Божественная
часть, другая, страдающая, — человеческая». При этом гиды закрывают
части лика подвернувшимся под руку календариком. Это не так. Лик
построен в классических канонах позднеантичного искусства, через
некоторую асимметрию передававшую движение фигуры и лица. На синайской
иконе этот эффект усиливается небольшой утратой красочного слоя в
области глаза. Такие безнадежные попытки словами объяснить несловесную
часть изобразительного творчества приходится слышать часто.
Художественный замысел у иконописца синайского Спаса, конечно, был,
но он видел его в изобразительных образах. Этот замысел ничего не
приобретает (а возможно, теряет в непосредственности и ясности
восприятия) от словесных интерпретаций и в них не нуждается. Есть
некоторые установления нашей веры, которые не очень воспринимаются в
словесных формулировках, но становятся очень достоверны в хороших
иконных образах. Это еще один довод в пользу иконописания как особого
средства проповеди веры, обладающего специфическими возможностями.
Богословскую интуицию о единстве природ во Христе нельзя убедительно
перевести в область слов и доказать рассудочным путем. Но ее можно явить
в образе, если он связан с первообразом.
Возможно, при таком подходе точнее говорить не о «богословии», но об
«умозрении» в красках, которое посредством иконного образа в личном
опыте открывает верующему истину церковных догматов.
— Но всё же иконописание — это и искусство, сакральное искусство.
Принято говорить об особом понимании красоты в иконе, красоты духовной, неземной. Применимы ли к иконе эстетические критерии?
— Для меня вопрос стоит несколько иначе. Во-первых, я не могу себе
представить, что может быть настоящая красота не от Бога. Красота — это
одно из Его качеств, которые передаются всему, что Он сотворил.
Когда я работаю над иконой, я специально о красоте не думаю. Мне
кажется, что и многие художники, которых я люблю и от творчества которых
много получаю, необязательно иконописцы, но, например, Веласкес или Ван
Гог, отнюдь не ставили себе задачу «сделать красиво», но ставили задачу
передать жизнь, а в результате их произведения являются для нас
примером художественной красоты. Я стараюсь писать образ так, чтобы
первообраз того, кого я изображаю: Христа, Богоматери, святых или даже
не святых (например, пастухов в Рождестве), присутствовал, жил в нашем
пространстве через его образ. Не могу сказать яснее. Жизнь — это то, что
всему дается от Бога. Жизнь — это качество Живого Бога, как и красота,
энергия, свет и т.д. Это наименования разных граней одного и того же
алмаза. Можно сказать, что эта Божественная жизнь, энергия Духа и есть
первообраз всякого образа. Мне думается, что икона старается показать
зрителю внутреннюю, Божественную основу изображаемых персонажей и
объектов.
Если проблеск этой жизни хоть в какой-то степени удается выразить в
образе, я считаю, что работа в чем-то получилась и имеет право на
существование.
— Вы используете энкаустику, древнюю технику. Сегодня мало кто так пишет. Вы к этому пришли сознательно. Насколько вообще вопрос техники, технологии важен в иконописи? Или не так важно, в какой технике
сделана икона. Сегодня и крестиком вышивают, и по дереву режут, и
гальванопластику используют, и просто пластмассу.
— К работе энкаустикой я пришел не потому, что мне было любопытно
освоить еще одну экзотическую технику живописи. Поняв, что важнейшее в
иконописи — выразить присутствие первообраза в образе, я стал выделять
во всей обширной традиции истории церковного искусства те образцы,
которые, по моему мнению, обладают этой выразительностью в наибольшей
степени. Учиться у них, применяя их художественные методы в своей
работе. Я не ограничивался каким-то определенным периодом или стилем.
Ориентируясь на указанный критерий проявления первообраза, можно найти
много прекрасных икон не только в русской школе XV века, но и в
искусстве доиконоборческого периода, византийской классики, русской
домонгольской живописи, различных национальных школ иконописи, западного
романского и средневекового искусства, наших икон XVIII и XIX веков и
т.д.
Параллельно, акцентируя поиски на выразительности и монументальности
образа, мне хотелось найти технику, предоставляющую для этого более
широкие возможности, чем яичная темпера. Энкаустическая живопись дает
нам много прекрасных примеров в поздней античности. Ее методы были очень
плодотворно восприняты христианским искусством, а также ранней
церковной стенописи и икон. Сохраняя все преимущества яичной темперы,
энкаустика добавляет церковному художнику новые художественные средства,
обладает особой светоносностью и глубиной цвета. Особым бонусом для
меня оказалась прекрасная сохранность всех моих энкаустических работ,
которые в течение 20 лет никак не изменились даже в самых не подходящих
для живописи условиях. Современная иконопись развивается в России уже
четвертый десяток лет. Глядя на наши работы 20-летней давности,
написанные яичной темперой, можно констатировать, что очень многие из
них находятся в плохом состоянии. Это еще один повод для церковных
художников обратить свои взоры к работе с энкаустикой, краски которой,
как я проверил на 20-летней практике, не портятся от времени и
воздействия среды.
Чувство материала, с которым работаешь, имеет большое значение для
художника. Есть материал, который тебя слушается, сотрудничает и
подсказывает пути решения, как воск или фреска, а есть неживой,
отсутствующий, аморфный, как, например, гальванопластик или акрил,
которые к тому же очень недолговечны.
— Сегодня в нашей стране икона получила большое
распространение. Даже слишком большое. Иконописные образы мы видим не
только на досках и стенах храмов, но и на открытках, календарях, майках,
тарелках, ковриках и пр. Не происходит ли девальвация сакрального
образа?
— Икона является по определению самым «зримым» свидетелем о нашей
Церкви во всем христианском мире. Мы, будучи хранителями и
продолжателями столь великой традиции христианского религиозного
искусства, должны понимать меру ответственности, которая на нас
возложена.
Мы не можем контролировать внешний рынок маек и ковриков, но никто не
запретит нам иметь благоговейное отношение к иконному образу хотя бы у
нас в церкви и дома, не допуская профанации сакрального образа. Если мы
хотим избавиться от китча на религиозную тематику, нам стоит начать с
себя. Мне кажется, в области современного церковного искусства за
последние 20 лет у нас накопилось много насущных проблем, которые должны
решаться на ответственном и компетентном уровне.
Вот некоторые вопросы, с которыми я постоянно сталкиваюсь в моей
практике иконописца и настоятеля храма. Типичная ситуация, списанная с
натуры, которая, к сожалению, случается достаточно часто. Древний храм в
самом центре города срочно расписывается заезжей бригадой
художников-отделочников, среди которых нет ни одного профессионального
иконописца, в стиле, в котором часто расписывались деревенские церкви в
1970-х годах, пафосно называемом «академическим». Спонсора, так же
малокомпетентного в области церковного искусства, этот стиль и бригада
устраивают. Так как во многих епархиях нет действующего
квалифицированного худсовета, решающим фактором в принятии решения
оказывается готовность спонсора оплатить именно эту работу.
Возникают вопросы: обязательно ли срочно расписывать этот храм, пока
спонсор согласен жертвовать средства, или стоит оставить его белым, пока
(или когда) не создадутся условия для качественного и
квалифицированного выполнения росписей?
Существует ли какая-то экспертная церковная комиссия, которая могла
бы порекомендовать и проконтролировать соответствие канонам церковного
искусства, профессиональную квалификацию мастеров, художественное
качество исполнения росписей и их соответствие архитектурному
пространству данного храма?
Существует ли общецерковная цензура на продукцию церковных художеств,
продаваемых в наших храмах? Если мы признаем изделие, например, иконой,
мы должны гарантировать, что это изделие соответствует всем
требованиям, предъявляемым к иконе, например обязательно быть
«составленной из долговечного материала». Как относиться к фотографиям
на картоне, которые по определению выцветут через два-три года?
Всякое ли изображение, композиционно соответствующее сложившемуся
церковному канону и имеющее надпись, можно назвать сакральным образом?
Что совершается в чине освящения иконы? Становится ли после освящения
полноценной иконой, пригодной для молитвы, ковер из универмага с
маловразумительным (но читаемым) изображением Троицы?
Обязан ли священник освящать такое изделие чином освящения иконы
Троицы? Какие канонические основания он может привести, если считает,
что этого не нужно делать?
Есть ли разница между фотографической иконой, напечатанной станком в
большом количестве, и иконой, написанной человеком, а в случае если
икона напечатана в газете?
Не имею определенного ответа на многие из этих и подобных им вопросов.
Думаю, что они могут быть разрешаемы в правильном ключе при условии,
если мы, верующие миряне, иконописцы и иерархия, начнем относиться к
церковному искусству как к унаследованному общему богатству, которое мы
не имеем права профанировать. Как к действенному средству, которое мы (в
отличие от других христианских конфессий) имеем возможность полноценно
использовать в деле проповеди веры, но можем и потерять, если подменим
его творческую силу китчем и безвкусицей.
— Как вы думаете, у иконы есть будущее?
— Это зависит и от нас с вами.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ирина Языкова
священник Андрей Давыдов
10 апреля 2013 г.
источник
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу