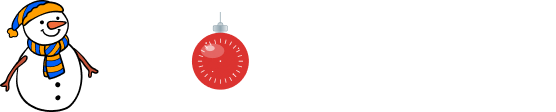Julia Nifontova,
11-09-2017 07:27
(ссылка)
Новый рассказ!
Новенький, свежий, горячий и ооочень стрррашный... рассказ!!!
Никита Гребенников,
19-08-2012 14:51
(ссылка)
Рассвет
Гоша уже не спал, но ещё и не до конца проснулся. Он продолжал нежиться в мягком и теплом, сверкающем всеми цветами радуги небытие, пока туда не ворвался девичий голос:
- Гоша! Проснись! Гоша, блин! Проснись! Четыре часа уже!

Яркие краски потонули в темноте закрытых век. Сознание, все ещё мешаясь со сном, стало медленно возвращаться.
Его зовут Георгий. Он сидит в автобусе, стоящим возле сопки под названием Каменка, в котором его с классом привезли встречать рассвет, так как у них был выпускной. Рядом сидела его подруга – Аня.
Ребята сидели в легких куртках, защищаясь от мозглости дождливой ночи, заползавшей под одежду. Спасавшиеся от дождя комары противно звенели над ушами и крылышками щекотали лица.
Гоша и Аня были одни в автобусе. Даже водитель вылез из своей кабины и присоединился к общему веселью. Родители сидели у столиков с едой и разговаривали о судьбах своих детей, освещаемые большим прожектором, на который, словно на большой кусок меда, налипли тучи мух и комаров. Сами же чада, приводя в ужас сонных тарбаганов, оглашали укрытую ночным мраком степь громкими криками, смехом, пошловатыми песнями под гитару, греясь у огромного костра. Он ярко освещал рассевшихся вокруг него выпускников, показывая свои ярко-желтые языки плачущему ночному небу, тщетно пытающемуся его потушить.
За стенами автобуса были смех и веселье. И лишь Гоша и Аня, не вписывавшиеся в общую веселую кампанию, по обоюдному согласию удалились, дабы не мешать празднику и лишний раз не портить настроение ни себе, ни другим.
Сидеть у костра, слушать песни, смеяться над шутками одноклассниковбыло, конечно же, весело. Но на фоне своих одноклассников Аня и Гоша всегда считали себя лишними. Почувствовали они это и сейчас. В кампании на них либо пялились как на дурачков (а эти-то что тут забыли?) или вообще махали на них руками и демонстративно отворачивались – в самом деле, что эдакие непродвинутые смыслят в их мудрых разговорах? На их вопросы отвечали на отвяжись, таким тоном, как будто Гоша и Аня говорили не со сверстниками, а по молодости спросили какую-то ерунду у тридцатилетних дяденек. Ну, не нравится – не надо. Друзьям и так было не скучно в автобусе… правда немного обидно.
- Да уж! Классный выпускной, что и говорить! А я-то так его ждала! Никогда так старательно не красилась! Столько денег парикмахерам не отдавала! Думала, будет классный день, думала, с Лешей, наконец, смогу потанцевать… - Аня с грустной задумчивостью посмотрела в потолок. – Из всех планов только золотая медаль сбылась.
- Как же… потанцует он… Он лучше со всякими Виками Викторовыми потанцует. – Сказал Гоша и посмотрел на свою подругу. В принципе, что такое было у Вики Викторовой, чего не было у Ани? Разве что только богатенький папа. Зато у Ани точно было то, чего не было у Вики: огромные голубые глаза, шикарные, похожие на водопады, волосы, тело, стройное как у гимнастки, богатое воображение, золотая медаль и много чего другого. Но парня при всем при этом она в свои восемнадцать так и не успела завести. В чем же проблема? Эта золотая проблема сейчас пряталась в кармане ее куртки. Она подолгу сидела за учебниками, много читала, занималась музыкой, в результате, у нее было катастрофически мало времени. Вдобавок ко всему она не пила, не водила знакомств с уличными «авторитетами», риальными пацанами. Она была интересной собеседницей. Гоша это знал. Но всем остальным на это было наплевать – они даже не пробовали с ней заговорить.
Примерно такие же проблемы были и у серебряного медалиста, Гоши.

Он то, наверное, больше всех был рад выпускному. Точнее тому факту, что видит свой класс в последний раз. Он даже не собирается по кому то скучать. Максимум – по учителям. А по классу… уж лучше его забыть. Забыть,как ему ни разу не подали руки для приветствия. Забыть, как его затыкали, стоило ему встрять в разговор. Забыть, как он сидел на перемене в гордом одиночестве, уткнувшись носом в скрещенные на парте руки, и отсчитывал секунды до звонка.
Гошу постоянно мучила зависть. Особенно, когда он смотрел на собравшихся в кучу и посмеивающихся над чьей-то шуткой одноклассников. Как ему хотелось к ним. Поговорить с ними по душам, пошутить, посмеяться. Им, наверное, очень весело. И им точно будет, что вспомнить после школы. А ему? Нечего ему вспоминать. Разве что только серые монотонные дни, проведенные в гордом одиночестве за школьной партой.
Гоша вытащил из кармана серебряную медаль. Вот он, итог всей его школьной жизни. Годы посиделок за учебниками, отличной учебы. В то время как все нормальные, уважающие свой досуг, дети играли во дворе в футбол, Максим сидел дома и листал Пушкина и Достоевского. И все ради этой вот серебряной штучки. Ну и поставит он её на стенку, как красивый сувенир. Ну и что дальше? И тут его голову посетила гениальная мысль:
- Слушай, Аня. А тебе не кажется, что мы с тобой зря потратили все эти одиннадцать лет?
- В смысле? Мы же медалисты!
- А смысл? Ну и будут у нас эти медали. И что? Вот, у них нет медалей. – Мальчик головой указал в сторону костра. –Зато у них есть друзья. А у нас? Они будут с радостью вспоминать эти годы. А мы? Нам тупо нечего вспоминать. У нас ничего такого примечательного, как у них, не случилось.
Аня вздохнула:
- Ты прав… я сама об этом думала…
И на такой пессимистичной ноте в автобусе воцарилась тишина. Через несколько минут Аня снова вздохнула и сказала:
- Пойдем. Уже половина пятого. Весь класс уже поднимается.
- Пошли.
Гоша и Аня вышли из автобуса, ступили на мокрую траву и, распугивая кузнечиков, направились вслед за одноклассниками к сопке.Было все ещё темно, но уже можно было разглядеть едва заметный силуэт сопки. Что же было у ребят под ногами разглядеть было абсолютно не возможно. Выпускники шли почти что на ощупь, натыкаясь на камни, холмики, рытвины, ямы, мусор.
Гоша оглянулся назад. С каждой минутой огромные костер и прожектор отдалялись, становясь все меньше и меньше, пока не превратились в маленькие мигающие точки. Родители отказались взбираться на сопку вместе с детьми и решили остаться у костра. Гоша отвернулся и продолжил путь, помогая Ане взбираться по огромным камням, которыми была усыпана вся Каменка.
И вот он, пик! Здесь было уже не так темно, как у подножия. Огромные камни не четко, но вырисовывались на фоне пасмурного ночного неба. Они казались руинами древнего города, ночной мрак окутывал их пеленой таинственности.
И вот, покрытое тучами небо из темно-синего стало серым – близился рассвет. Тучи слились с утренним туманом, затопившим всю степь. Каменка летела в этом молочном космосе, и было непонятно, где заканчивается земля и начинается небо.
Через некоторое время рассвет полностью вошел в свои права. Солнечные лучи начали прожигать тучи и падать на землю, рассеивая туман. Через окна в тумане можно было разглядеть то, что раньше скрывала мутная серая стена: бескрайнюю степь, где-то покрытую зеленым ковром, а где-то посыпанную золотой крупой сухой травы.

И внезапно, под громкие рваные звуки дабстепа, на сопку вскарабкался автомобиль. Из окошка высунулась довольная пьяная мордашка одного из выпускников:
- Ребята! Я пиво привез!
Ребята поддержали своего одноклассника восторженными возгласами и направились к машине остановившейся чуть ниже пика, уже не обращая внимания ни на просыпающуюся степь, ни на рассвет, ради которого они сюда приехали. Гоша и Аня остались на месте – они не пили. Остальные же повернулись к рассвету спиной и стали разбирать банки с пивом.
А солнце становилось все выше и ярче. Перед его величием расступились все тучи. Туман рассеялся в его лучах, наливающих яркими красками все вокруг, заставляющих степь то блестеть золотом, то светиться ярким зеленым цветом, приукрашенным кое-где фиолетовыми, желтыми и белыми мазками цветов. Проснувшаяся степь залилась музыкой: трелью птиц, басом шмелей, стрекотанием кузнечика. Таинственность Каменки исчезла. Перед ребятами предстали обычные, но огромные и красивые камни.
Гоша оглянулся на своих одноклассников. Пьяных, матерящихся, раскидывающих пошлые шутки, повернувшихся к этой красоте спиной… а зачем им поворачиваться к ней лицом, если они все равно не увидят ее, не поймут. В их жизни нет места настоящей красоте. Какой бы веселой не казалась их жизнь, она серая, как асфальт. Ведь они стремятся жить как все, не выделяться из серой массы. А серая толпа безразлична к красоте. Они променяла знания на уличный авторитет, а сверкание солнца на блеск алюминиевой банки с пивом.
Гоша взглянул на Аню, так же, как и он, стоявшую в изумлении от красоты природой. Их с Аней жизнь не серый асфальт. Это – прекрасные цветки, каждый со своей индивидуальной формой и расцветкой. Ведь они живут своими идеалами, а не слепо идут за толпой. Они на нее не похожи, и именно поэтому никто их и не любит. Не потому что они плохие, не потому что зря потратили эти одиннадцать лет. А просто потому что они… это они!
- Знаешь, Георгий… - Аня улыбнулась и посмотрела на друга. – Все-таки ты не прав. Мы замечательно провели эти одиннадцать лет. Мы приобрели друг друга, а они приобрели друзей, которые забудут их, едва расставшись. Они не умеют ценить людей, они вообще никого не умеют ценить кроме себя. Да и себя то… не особо ценят…
Аня была права. Сотню раз права.
Солнце ярко освещало Каменку. Наступал новый день! Первый день новой жизни!
- Гоша! Проснись! Гоша, блин! Проснись! Четыре часа уже!

Яркие краски потонули в темноте закрытых век. Сознание, все ещё мешаясь со сном, стало медленно возвращаться.
Его зовут Георгий. Он сидит в автобусе, стоящим возле сопки под названием Каменка, в котором его с классом привезли встречать рассвет, так как у них был выпускной. Рядом сидела его подруга – Аня.
Ребята сидели в легких куртках, защищаясь от мозглости дождливой ночи, заползавшей под одежду. Спасавшиеся от дождя комары противно звенели над ушами и крылышками щекотали лица.
Гоша и Аня были одни в автобусе. Даже водитель вылез из своей кабины и присоединился к общему веселью. Родители сидели у столиков с едой и разговаривали о судьбах своих детей, освещаемые большим прожектором, на который, словно на большой кусок меда, налипли тучи мух и комаров. Сами же чада, приводя в ужас сонных тарбаганов, оглашали укрытую ночным мраком степь громкими криками, смехом, пошловатыми песнями под гитару, греясь у огромного костра. Он ярко освещал рассевшихся вокруг него выпускников, показывая свои ярко-желтые языки плачущему ночному небу, тщетно пытающемуся его потушить.
За стенами автобуса были смех и веселье. И лишь Гоша и Аня, не вписывавшиеся в общую веселую кампанию, по обоюдному согласию удалились, дабы не мешать празднику и лишний раз не портить настроение ни себе, ни другим.
Сидеть у костра, слушать песни, смеяться над шутками одноклассниковбыло, конечно же, весело. Но на фоне своих одноклассников Аня и Гоша всегда считали себя лишними. Почувствовали они это и сейчас. В кампании на них либо пялились как на дурачков (а эти-то что тут забыли?) или вообще махали на них руками и демонстративно отворачивались – в самом деле, что эдакие непродвинутые смыслят в их мудрых разговорах? На их вопросы отвечали на отвяжись, таким тоном, как будто Гоша и Аня говорили не со сверстниками, а по молодости спросили какую-то ерунду у тридцатилетних дяденек. Ну, не нравится – не надо. Друзьям и так было не скучно в автобусе… правда немного обидно.
- Да уж! Классный выпускной, что и говорить! А я-то так его ждала! Никогда так старательно не красилась! Столько денег парикмахерам не отдавала! Думала, будет классный день, думала, с Лешей, наконец, смогу потанцевать… - Аня с грустной задумчивостью посмотрела в потолок. – Из всех планов только золотая медаль сбылась.
- Как же… потанцует он… Он лучше со всякими Виками Викторовыми потанцует. – Сказал Гоша и посмотрел на свою подругу. В принципе, что такое было у Вики Викторовой, чего не было у Ани? Разве что только богатенький папа. Зато у Ани точно было то, чего не было у Вики: огромные голубые глаза, шикарные, похожие на водопады, волосы, тело, стройное как у гимнастки, богатое воображение, золотая медаль и много чего другого. Но парня при всем при этом она в свои восемнадцать так и не успела завести. В чем же проблема? Эта золотая проблема сейчас пряталась в кармане ее куртки. Она подолгу сидела за учебниками, много читала, занималась музыкой, в результате, у нее было катастрофически мало времени. Вдобавок ко всему она не пила, не водила знакомств с уличными «авторитетами», риальными пацанами. Она была интересной собеседницей. Гоша это знал. Но всем остальным на это было наплевать – они даже не пробовали с ней заговорить.
Примерно такие же проблемы были и у серебряного медалиста, Гоши.

Он то, наверное, больше всех был рад выпускному. Точнее тому факту, что видит свой класс в последний раз. Он даже не собирается по кому то скучать. Максимум – по учителям. А по классу… уж лучше его забыть. Забыть,как ему ни разу не подали руки для приветствия. Забыть, как его затыкали, стоило ему встрять в разговор. Забыть, как он сидел на перемене в гордом одиночестве, уткнувшись носом в скрещенные на парте руки, и отсчитывал секунды до звонка.
Гошу постоянно мучила зависть. Особенно, когда он смотрел на собравшихся в кучу и посмеивающихся над чьей-то шуткой одноклассников. Как ему хотелось к ним. Поговорить с ними по душам, пошутить, посмеяться. Им, наверное, очень весело. И им точно будет, что вспомнить после школы. А ему? Нечего ему вспоминать. Разве что только серые монотонные дни, проведенные в гордом одиночестве за школьной партой.
Гоша вытащил из кармана серебряную медаль. Вот он, итог всей его школьной жизни. Годы посиделок за учебниками, отличной учебы. В то время как все нормальные, уважающие свой досуг, дети играли во дворе в футбол, Максим сидел дома и листал Пушкина и Достоевского. И все ради этой вот серебряной штучки. Ну и поставит он её на стенку, как красивый сувенир. Ну и что дальше? И тут его голову посетила гениальная мысль:
- Слушай, Аня. А тебе не кажется, что мы с тобой зря потратили все эти одиннадцать лет?
- В смысле? Мы же медалисты!
- А смысл? Ну и будут у нас эти медали. И что? Вот, у них нет медалей. – Мальчик головой указал в сторону костра. –Зато у них есть друзья. А у нас? Они будут с радостью вспоминать эти годы. А мы? Нам тупо нечего вспоминать. У нас ничего такого примечательного, как у них, не случилось.
Аня вздохнула:
- Ты прав… я сама об этом думала…
И на такой пессимистичной ноте в автобусе воцарилась тишина. Через несколько минут Аня снова вздохнула и сказала:
- Пойдем. Уже половина пятого. Весь класс уже поднимается.
- Пошли.
Гоша и Аня вышли из автобуса, ступили на мокрую траву и, распугивая кузнечиков, направились вслед за одноклассниками к сопке.Было все ещё темно, но уже можно было разглядеть едва заметный силуэт сопки. Что же было у ребят под ногами разглядеть было абсолютно не возможно. Выпускники шли почти что на ощупь, натыкаясь на камни, холмики, рытвины, ямы, мусор.
Гоша оглянулся назад. С каждой минутой огромные костер и прожектор отдалялись, становясь все меньше и меньше, пока не превратились в маленькие мигающие точки. Родители отказались взбираться на сопку вместе с детьми и решили остаться у костра. Гоша отвернулся и продолжил путь, помогая Ане взбираться по огромным камням, которыми была усыпана вся Каменка.
И вот он, пик! Здесь было уже не так темно, как у подножия. Огромные камни не четко, но вырисовывались на фоне пасмурного ночного неба. Они казались руинами древнего города, ночной мрак окутывал их пеленой таинственности.
И вот, покрытое тучами небо из темно-синего стало серым – близился рассвет. Тучи слились с утренним туманом, затопившим всю степь. Каменка летела в этом молочном космосе, и было непонятно, где заканчивается земля и начинается небо.
Через некоторое время рассвет полностью вошел в свои права. Солнечные лучи начали прожигать тучи и падать на землю, рассеивая туман. Через окна в тумане можно было разглядеть то, что раньше скрывала мутная серая стена: бескрайнюю степь, где-то покрытую зеленым ковром, а где-то посыпанную золотой крупой сухой травы.

И внезапно, под громкие рваные звуки дабстепа, на сопку вскарабкался автомобиль. Из окошка высунулась довольная пьяная мордашка одного из выпускников:
- Ребята! Я пиво привез!
Ребята поддержали своего одноклассника восторженными возгласами и направились к машине остановившейся чуть ниже пика, уже не обращая внимания ни на просыпающуюся степь, ни на рассвет, ради которого они сюда приехали. Гоша и Аня остались на месте – они не пили. Остальные же повернулись к рассвету спиной и стали разбирать банки с пивом.
А солнце становилось все выше и ярче. Перед его величием расступились все тучи. Туман рассеялся в его лучах, наливающих яркими красками все вокруг, заставляющих степь то блестеть золотом, то светиться ярким зеленым цветом, приукрашенным кое-где фиолетовыми, желтыми и белыми мазками цветов. Проснувшаяся степь залилась музыкой: трелью птиц, басом шмелей, стрекотанием кузнечика. Таинственность Каменки исчезла. Перед ребятами предстали обычные, но огромные и красивые камни.
Гоша оглянулся на своих одноклассников. Пьяных, матерящихся, раскидывающих пошлые шутки, повернувшихся к этой красоте спиной… а зачем им поворачиваться к ней лицом, если они все равно не увидят ее, не поймут. В их жизни нет места настоящей красоте. Какой бы веселой не казалась их жизнь, она серая, как асфальт. Ведь они стремятся жить как все, не выделяться из серой массы. А серая толпа безразлична к красоте. Они променяла знания на уличный авторитет, а сверкание солнца на блеск алюминиевой банки с пивом.
Гоша взглянул на Аню, так же, как и он, стоявшую в изумлении от красоты природой. Их с Аней жизнь не серый асфальт. Это – прекрасные цветки, каждый со своей индивидуальной формой и расцветкой. Ведь они живут своими идеалами, а не слепо идут за толпой. Они на нее не похожи, и именно поэтому никто их и не любит. Не потому что они плохие, не потому что зря потратили эти одиннадцать лет. А просто потому что они… это они!
- Знаешь, Георгий… - Аня улыбнулась и посмотрела на друга. – Все-таки ты не прав. Мы замечательно провели эти одиннадцать лет. Мы приобрели друг друга, а они приобрели друзей, которые забудут их, едва расставшись. Они не умеют ценить людей, они вообще никого не умеют ценить кроме себя. Да и себя то… не особо ценят…
Аня была права. Сотню раз права.
Солнце ярко освещало Каменку. Наступал новый день! Первый день новой жизни!
Метки: Гребенников Н С
Ирина Богатова,
14-01-2012 10:38
(ссылка)
"Сказка для..."
В один весенний
погожий день, когда шум листвы не нарушал тишину природной красоты, у окна
сидела девушка. На вид ей было около двадцати лет, хотя карие глаза её,
покрытые завесой грусти, выдавали уже сформировавшегося и умудрённого жизнью
человека. Сидела она неподвижно. Со стороны могло показаться, что она спит. Но
нет. Настроение у неё было совсем не сонное. Она любовалась красотой природы,
наблюдала за полётом птиц. Ей представлялось, что она вот так же свободно и
легко может подняться в небо, вспорхнуть в мир необъятный, далёкий и
прекрасный. Представлялось, что ноги побегут по облакам, оставляя белые следы
на мягкой пелене...
Она так
замечталась, что действительно готова была встать и пойти. К ней вернулась надежда
на чудесное исцеление. Но… посмотрев на свои ноги, неподвижно лежащие на
коляске, она пришла в себя.
1
Проезд в общественном транспорте с утра оказался не таким безмятежным, как казалось до этого момента Никите. «Чёрт меня дёрнул поехать на трамвае на работу», - подумал Никита. Это был молодой человек 26 лет, одетый с ног до головы, включая
кепку, в джинсовые вещи, с выразительным взглядом. Он направлялся на утреннее
совещание, но, как назло, у него не заводилась машина. Поэтому ему пришлось
добираться своим ходом. «И нет, чтоб вызвать такси»,- подумал молодой человек,-
«а мне захотелось прокатиться на железной громадине». Он работал страховым
агентом, приходилось много передвигаться по городу. А тут такая незадача. Но не
это уже беспокоило Никиту, а то, как бы пробраться к выходу, сквозь плотно
стоящих пассажиров. Ведь скоро его остановка, а людей было столько много, что
казалось не осуществимым протиснуться на выход. Все толкались, пытаясь занять
более удобное положение. На передних местах мирно посапывали старушки, которые
непонятно куда ехали рано утром. Во главе этого хаоса была женщина - кондуктор,
которая грозилась пройтись по вагону, если не будут передавать за проезд. Она как
грозный коршун приподнималась на каждой остановке, высматривая добычу -
безбилетника, как только деньги опускались в её безразмерную сумочку, она
успокаивалась, занимала место на своём пьедестале и что - то бурчала себе под
нос.
Огромных усилий
стоило Никите выбраться на свежий воздух. Он проверил наличие всех карманов,
пуговиц, замков и с облегчением направился в контору.
Общий сбор рано
утром не предвещал ничего хорошего. Скучные монотонные фразы и долгие беседы
тяготили молодого человека. У него была
творческая натура. Он любил фотографию и всё, что с ней связано. Ему нравилось
снимать природу, животных, небо, любоваться красотами полей и лугов. На миг ему
показалось, что он стоит среди белоснежных берёзок, вдыхает свежий воздух, что луч
солнца присел к нему на щёку. Но это было всего лишь распахнутое настежь от
сквозняка окно.
«Ник, ты спишь
что ли?» - подтолкнул в правый бок молодого человека парень в белой заботливо
выглаженной рубашке. Это был приятель и коллега Никиты.
«Нет – нет, я
всё слышу, так навеяло…».
Совещание как
никогда прошло быстро, без лишних задержек и пустых фраз, что очень порадовало
всех.
- - - - - - - - - - - - - - - -
А в это время,
девушка, что сидела в инвалидной коляске, пошевелилась, ей захотелось пить, и
она медленно развернула колёса в сторону кухни. Плед, накрывавший ноги, съехал
на пол. И ей потребовалось несколько минут, чтобы его поднять. Она разозлилась.
Но чувство жажды взяло верх, и она продолжила путь к воде.
В минуты, когда
дома никого не было, ей было особенно спокойно. Было тихо, и она оставалась со
своими размышлениями наедине. Кроме неё в доме жили мама и младший брат. Мама
была на работе, а братишка в школе. Сама она рисовала, иногда, на заказ. Это
приносило ей небольшой доход. Каждый месяц она получала пособие по
инвалидности, так что на шее у родных она не сидела. Но в плане физическом
было, конечно, тяжело. Она понимала, что доставляет родным множества неудобств.
Но поделать ничего не могла. Прогнозы врачей не предвещали ничего
утешительного. Хотя, сказали, что выздоровлению, возможно, поспособствует
эмоциональный или психологический толчок. Но где ж ему взяться? Каждый день
повторяется заново.
Вот так и этот
день – повторился заново, прошёл в обычных делах и заботах, не оставив о себе
памяти, скрылся в потоке вселенной.
2
Солнечные лучи
били уже в лицо, когда Ник открыл глаза. Сегодня настал обычный будничный день,
но для него этот день предвещал что-то праздничное. Сегодня был день его
рождения. Наскоро одевшись, забыв про завтрак, молодой человек отправился на
работу. Во дворе дома, где он жил, гудел эвакуатор, забиравший его машину в
ремонт. Но он, почему – то, ни капельки не сделался грустнее от этого. Ему даже
понравилась мысль о том, чтобы проехаться на общественном транспорте. Вчера,
хоть изрядно потолкавшись, ему всё же доставило некое любопытство, происходящее
в трамвае. Как всегда, он захватил с собой фотоаппарат. По пути на работу он,
иногда, успевал запечатлеть интересные и прекрасные моменты жизни:
фотографировал дома, людей, спешивших по делам, птиц и, конечно, небо. Небо –
это его страсть! Он любил снимать восходы, закаты, тучи, солнце и его блики.
Впрыгнув налегке
в нужный ему трамвай, Никита протиснулся к окну. Его окружали люди. От этого
ему сделалось необычайно уютно. Настроение было радостное, и от этого казалось,
что люди улыбались ему. Странное ощущение охватило его тогда, никогда раньше он
не испытывал такого чувства. Ведь, он каждый день одиноко ездил на своей машине
на работу и с неё, по делам.
День выдался
сумбурным, но приятным. На работе его ждали поздравления от коллег и
начальства, премия и подарки. Даже, вечно хмурый охранник на входе славно
расплылся в улыбке. Дела не заставляли себя ждать, именинник с двойным усердием
работал: ездил к клиентам, заключал договора, общался и много звонил.
-----------------------------------
Жил Никита один,
поэтому, дома его никто не ждал. Из родных у него был только отец, живший в
деревне. Именинник ездил к нему на большие праздники, в остальное время папа
посвящал себя огороду. Друзья звали отметить день рождения в ресторане, но ему
захотелось провести этот вечер за фотографией.
Молодой человек
побродил по зелёным улицам, послушал пение птиц, сделал несколько снимков
солнечных бликов, оставлявших на окнах причудливые окрасы. Ему также нравилось
фотографировать людей в окнах домов: он снимал бытовые моменты их жизни, порой
смешные, а бывало и трагичные.
Никита сделал
несколько снимков, и хотел было уже отправиться дальше, но, вдруг, его внимание
привлекла девушка, сидевшая у окна, которая грустно, даже печально, смотрела
вдаль из окна. Она что – то перебирала в руках. Издалека фотограф не мог это
разглядеть. Ему стало интересно, и он направил фокус аппарата на девушку.
Вблизи она была ещё печальнее, чем издали. Но это ничуть её не портило,
наоборот, грусть была ей к лицу, от этого она становилась загадочнее. Молодой
человек сделал несколько снимков и хотел подойти поближе, чтобы сделать крупное
фото, но девушка, будто почувствовав, что находится под наблюдением, повернула
голову в сторону фотографа. Она увидела, что её снимают и немного покраснела.
Она не привыкла к вниманию окружающих, поэтому ей сделалось немного не по себе.
Тут только Ник увидел, что в руке у неё была кисть для рисования. «Тоже
творец», - подумал фотограф, - «вот почему грустный взгляд, ведь, творчество
рождается из тянущего душу чувства». Девушка смутилась и задёрнула шторы. Никто
никогда её вот так не фотографировал. Она испугалась, но не того, что её
снимают, а какого – то непонятного чувства. Толи это был стыд, толи ещё что –
то она не знала. Лёгкий холодок прошёл по спине, сердце забилось. Она
встревожилась, отложила кисть и впала в раздумья.
Никита больше не
стал ничего снимать. Он побрёл домой. Обычно, фотография приносила ему радость,
эмоциональный подъём, а, порой, облегчение. Но сейчас он чувствовал
разочарование, что потревожил юную девушку. «Может быть, она обиделась? Нет,
наверно, я её напугал. Как можно было так бесцеремонно поступить!» - эти мысли
не давали покоя имениннику. «А как хорошо начинался день», - подумал Никита, -
«и почему она задёрнула шторы? Она была так грустна и загадочна». Остаток дня
его прошёл за повседневными заботами, и даже поздравления, доносящиеся из
весело трезвонящего телефона, не добавляли радости.
--------------------------------
-Амелия, я дома,
- сказала женщина, вошедшая в прихожую.
-Добрый вечер,
мама, ты сегодня рано, - сказала девушка, что сидела напротив окна.
-А ты будто не
рада? Что – то случилось?
-Нет - нет, что
ты! Всё хорошо, - ответила девушка, и поправила плед, съезжающий на пол.
-Сегодня удалось
пораньше с работы выбраться, - сказала мама.
-Прекрасно. А
Вальки ещё нет, - ответила девушка, направляя коляску в сторону прихожей. Валька,
а точнее Валентин, был её младший брат.
Амелия – это та
самая девушка, что сидела временами у окна. Она всё вспоминала тот момент,
когда фотограф пытался запечатлеть её. Это было для неё так необыкновенно и
удивительно, что ещё долго после этого она не могла прийти в себя. Она не
ожидала такого к себе внимания. В сердце как – то по – новому защемило. И что
это было, она сама ещё не знала. Новое чувство подарило ей приятные ощущения,
но и в то же время беспокойство, смятение. Так всегда случается, когда тебе
открывается что – то неизведанное. Сердце начинает стучать быстрее и становится
необъяснимо легко и радостно.
Она покатила
коляску к себе в комнату. Только здесь она могла остаться одна со своими
переживаниями. В прихожей хлопнула дверь. По радостному возгласу она определила
приход братишки. «Теперь все дома», - подумала она. С новыми ощущениями она ещё
долго сидела у окна.
3
Настроение было
мрачное, под стать погоде. Никита тщётно
вглядывался в окна проходящего дома, где вчера случилось встретить незнакомку.
Он не запомнил этаж, на котором жила девушка, поэтому вглядывался в каждое
окно. Но никто сегодня не смотрел печальным взором, все окна были плотно
закрыты. Тогда Никита дал себе обещание - во что бы то ни стало каждый день
проходить мимо, всматриваться в окна, возможно, он её встретит. Девушка ему
очень понравилась. Была в ней какая – то тайна, недосказанность, грусть и
надежда. Её образ никак не выходил у Никиты из головы.
Отправившись в
своём машинном одиночестве на работу, Ник вспомнил, что девушка вчера в руках
держала кисть. «Она, наверно, любит природу», - подумал молодой человек.
----------------------------
Амелия с самого
утра выглядывала из окон своей квартиры, в надежде увидеть вчерашнего
фотографа. Ей было интересно, придёт ли он снова. На улице моросил дождик, дул
прохладный ветер, поэтому она не решалась отворить окно. Девушка продолжала
рисовать пейзажную картину на заказ, смешивала цвета, чтобы получить желаемый
оттенок небесного цвета. Ей очень нравилось изображать небесные красоты.
Рисовала Амелия, обычно, рядом с окном, так свет падал лучше, да и нравилось ей
смотреть на проходящих мимо людей, на природу.
За картиной
прошёл почти весь день. Она уже не надеялась сегодня увидеть за окном
загадочного молодого человека. Раздвинув шторы, она приотворила окно. Вдруг,
внизу, на скамейке рядом с домом девушка увидела вчерашнего фотографа, только
сегодня он был не такой счастливый и без своего аппарата. Ей захотелось его
окрикнуть, но она не решалась это сделать. Вид у фотографа был встревоженный.
Неожиданно, молодой человек встал со скамейки и принялся взглядом искать
загадочное окно. Будто почувствовав, что на него смотрят, он направил взор на
то самое окно, откуда с нетерпением выглядывала Амелия. Глаза молодых людей
встретились. Они долго смотрели друг на друга, не сводя глаз. Сколько
напряжения было во взгляде, сколько непередаваемых чувств! Так много хотелось
сказать, так много хотелось спросить, но не один не решался прервать момент
оцепенения.
- Здравствуйте,
- заговорил первый Никита. – Извините, что вчера Вас напугал. Я только хотел
снять Вас в таком задумчиво – грустном виде.
- Да, я немного
была удивлена, - сказала девушка.
- Позвольте
узнать Ваше имя, - едва сдерживая эмоции, сказал молодой человек.
- Амелия, -
промолвила девушка.
- А моё имя
Никита.
- Очень приятно,
- сказала Амелия. Непонятное чувство, что появилось вчера, ныло где – то
глубоко внутри, придавая взволнованности голосу.
- Сегодня
пасмурная погода, - заговорил Ник, после паузы.
- Да, зато
воздух свежий, - заметила Амелия.
- А хотите, мы
можем с Вами прогуляться, подышать свежестью, - сказал молодой человек.
От этих слов у
девушки защемило в груди. Она не знала, что ответить. Как сказать ему, что она
не может ходить? А, вдруг, она ему будет не нужна такая?
- Извините, я не
хожу, - промолвила, наконец, Амелия. Ей стало больно от этих слов.
- Не ходите
гулять в такую погоду? – спросил Ник.
- Нет, я вообще
не хожу, я инвалид, - сказала девушка.
Эти слова
слетели с губ с хриплым оттенком. Она заплакала, да так, как никогда раньше. В
первый раз она почувствовала какое – то настоящее тяготение, какое – то приятно
– щемящее душу чувство. От этого ей было и радостно, и больно. «Вот, теперь он не захочет со мной больше
говорить и уйдёт», - подумала Амелия. «Зачем я ему, калека», - слёзы лились из
глаз, будто давно ждали этого момента.
- О, простите
меня за бестактность, - почти шёпотом сказал Никита. Ему было так горько от
слёз этой прекрасной девушки. Как жаль, что он ничем не мог помочь её горю. Так
обидно стало за неё, что именно ей выпала эта беспощадная участь. Он будто
прочувствовал в их коротком разговоре, как теплится её душа, как она открыта и
прекрасна.
Слёзы душили
Амелию, она не могла сказать ни слова. Только тихо тряслась и плакала.
- Простите,
простите, простите! Я не хотел причинить Вам боль! – вырвалось из груди у
Никиты. – Я сейчас же приду, дождитесь, милая.
С этими словами
он кинулся бежать, что есть мочи, оставив девушку плакать у окна. Он бежал, сам
не зная куда. «Надо что – то сделать», - глухо крутилось в голове у Никиты. Он
побежал в цветочный магазин, что находился за углом. Выбрал самый красивый
букет из нежных роз и помчался обратно. Он, вдруг, почувствовал, что нужен
Амелии, этому нежному созданию. Он почувствовал, что и она ему нужна, будто
только её он искал всю жизнь. Чувства переполняли его грудь. Сердце билось всё
сильней, в голове пульсировала мысль о неожиданно появившемся счастье. Ему не
хотелось больше расставаться с Амелией.
Подбежав к дому,
он увидел, что окно, из которого выглядывала его сказочная девушка, зашторено.
«Я ей сделал больно», - промелькнуло в голове у Никиты. По окну он высчитал
квартиру Амелии. Что есть мочи Ник рванул дверцу подъезда и побежал на 4 этаж.
Дверь в квартиру, где жила девушка, была плотно закрыта. Ничего уже не
соображая от переизбытка чувств, молодой человек забарабанил в дверь. Он так
стучал, будто за ним кто – то гнался и он боялся, что его схватят. Так стучал
он несколько минут. Потом, услышал за дверью тихое шуршание. Руки перестали
стучать. Дверь тихо, медленно отворилась. Пред ним была та, которая подарила
миг счастья. Она сидела на кресле неподвижно, стыдясь своего недуга. Щёки её
пылали красным цветом. Их взгляд встретился. Столько любви было в этих минутах
тишины! Сердце обоих молодых людей билось и трепетало от счастья, было по - детски
радостно и легко.
Никита упал на
колени перед Амелией. Он нежно целовал ноги своей возлюбленной. Не нужно было
слов, не нужно было знать, что было до этого в жизни каждого. Было так хорошо
рядом, так радостно и свободно, что забывалось обо всём. Он посмотрел в её
глаза, протянул букет цветов и взял её за руку. Девушка не могла вымолвить ни
слова.
- Ты подарила
мне счастье, - тихо сказал Никита. – Ты прекрасна.
Почему именно
так всё быстро случилось, Амелия не понимала. Как можно было так быстро понять,
что они две части целого? Она не могла себе это объяснить, да и уже было не
важно, что стало причиной этому. Главное – он рядом. Он - такой трепетный и
настоящий, любящий её и ничего не просящий взамен. И она почувствовала, что
первый раз в жизни любит.
Девушка, вдруг,
пошевелила ногой. Сначала, она думала, что ей это показалось. Она посмотрела на
правую ногу. Нет, ошибки здесь не было. Нога действительно двигалась. Пусть
немного, совсем чуть – чуть. Какое счастье принёс этот миг!
- Смотри, -
прокричала она Никите, - у меня двигается нога! Раньше этого никогда не
случалось, мои ноги всегда были неподвижны.
Ник бережно
приподнял её ногу. Да, действительно нога пыталась сделать некоторые движения.
Он с любовью посмотрел на возлюбленную, отпустил её ногу. Немного
приподнявшись, он нежно коснулся губами её губ. Он поцеловал её так, будто
никогда раньше не отдавал столько нежности. Теперь хотелось отдать её всю!
------------------------------
Что случилось в
жизни молодых людей, никто не знал. Почему один взгляд изменил всю их жизнь?
Возможно, это и есть настоящее чувство, которое берегут, как дитя.
Эта история закончилась,
как и все сказки, счастливым концом. У Амелии появилась возможность ходить.
Никита продал свою машину и отдал все сбережения, чтобы мечта его волшебной
девушки осуществилась. Ей сделали операцию на ноги, и, по словам докторов, она
идёт на поправку.
После выписки из
больницы, двое влюблённых учились заново жить, учились делать первые шаги, как
в прямом, так и в переносном смысле. Чудесное исцеление было сказкой… для
двоих.
погожий день, когда шум листвы не нарушал тишину природной красоты, у окна
сидела девушка. На вид ей было около двадцати лет, хотя карие глаза её,
покрытые завесой грусти, выдавали уже сформировавшегося и умудрённого жизнью
человека. Сидела она неподвижно. Со стороны могло показаться, что она спит. Но
нет. Настроение у неё было совсем не сонное. Она любовалась красотой природы,
наблюдала за полётом птиц. Ей представлялось, что она вот так же свободно и
легко может подняться в небо, вспорхнуть в мир необъятный, далёкий и
прекрасный. Представлялось, что ноги побегут по облакам, оставляя белые следы
на мягкой пелене...
Она так
замечталась, что действительно готова была встать и пойти. К ней вернулась надежда
на чудесное исцеление. Но… посмотрев на свои ноги, неподвижно лежащие на
коляске, она пришла в себя.
1
Проезд в общественном транспорте с утра оказался не таким безмятежным, как казалось до этого момента Никите. «Чёрт меня дёрнул поехать на трамвае на работу», - подумал Никита. Это был молодой человек 26 лет, одетый с ног до головы, включая
кепку, в джинсовые вещи, с выразительным взглядом. Он направлялся на утреннее
совещание, но, как назло, у него не заводилась машина. Поэтому ему пришлось
добираться своим ходом. «И нет, чтоб вызвать такси»,- подумал молодой человек,-
«а мне захотелось прокатиться на железной громадине». Он работал страховым
агентом, приходилось много передвигаться по городу. А тут такая незадача. Но не
это уже беспокоило Никиту, а то, как бы пробраться к выходу, сквозь плотно
стоящих пассажиров. Ведь скоро его остановка, а людей было столько много, что
казалось не осуществимым протиснуться на выход. Все толкались, пытаясь занять
более удобное положение. На передних местах мирно посапывали старушки, которые
непонятно куда ехали рано утром. Во главе этого хаоса была женщина - кондуктор,
которая грозилась пройтись по вагону, если не будут передавать за проезд. Она как
грозный коршун приподнималась на каждой остановке, высматривая добычу -
безбилетника, как только деньги опускались в её безразмерную сумочку, она
успокаивалась, занимала место на своём пьедестале и что - то бурчала себе под
нос.
Огромных усилий
стоило Никите выбраться на свежий воздух. Он проверил наличие всех карманов,
пуговиц, замков и с облегчением направился в контору.
Общий сбор рано
утром не предвещал ничего хорошего. Скучные монотонные фразы и долгие беседы
тяготили молодого человека. У него была
творческая натура. Он любил фотографию и всё, что с ней связано. Ему нравилось
снимать природу, животных, небо, любоваться красотами полей и лугов. На миг ему
показалось, что он стоит среди белоснежных берёзок, вдыхает свежий воздух, что луч
солнца присел к нему на щёку. Но это было всего лишь распахнутое настежь от
сквозняка окно.
«Ник, ты спишь
что ли?» - подтолкнул в правый бок молодого человека парень в белой заботливо
выглаженной рубашке. Это был приятель и коллега Никиты.
«Нет – нет, я
всё слышу, так навеяло…».
Совещание как
никогда прошло быстро, без лишних задержек и пустых фраз, что очень порадовало
всех.
- - - - - - - - - - - - - - - -
А в это время,
девушка, что сидела в инвалидной коляске, пошевелилась, ей захотелось пить, и
она медленно развернула колёса в сторону кухни. Плед, накрывавший ноги, съехал
на пол. И ей потребовалось несколько минут, чтобы его поднять. Она разозлилась.
Но чувство жажды взяло верх, и она продолжила путь к воде.
В минуты, когда
дома никого не было, ей было особенно спокойно. Было тихо, и она оставалась со
своими размышлениями наедине. Кроме неё в доме жили мама и младший брат. Мама
была на работе, а братишка в школе. Сама она рисовала, иногда, на заказ. Это
приносило ей небольшой доход. Каждый месяц она получала пособие по
инвалидности, так что на шее у родных она не сидела. Но в плане физическом
было, конечно, тяжело. Она понимала, что доставляет родным множества неудобств.
Но поделать ничего не могла. Прогнозы врачей не предвещали ничего
утешительного. Хотя, сказали, что выздоровлению, возможно, поспособствует
эмоциональный или психологический толчок. Но где ж ему взяться? Каждый день
повторяется заново.
Вот так и этот
день – повторился заново, прошёл в обычных делах и заботах, не оставив о себе
памяти, скрылся в потоке вселенной.
2
Солнечные лучи
били уже в лицо, когда Ник открыл глаза. Сегодня настал обычный будничный день,
но для него этот день предвещал что-то праздничное. Сегодня был день его
рождения. Наскоро одевшись, забыв про завтрак, молодой человек отправился на
работу. Во дворе дома, где он жил, гудел эвакуатор, забиравший его машину в
ремонт. Но он, почему – то, ни капельки не сделался грустнее от этого. Ему даже
понравилась мысль о том, чтобы проехаться на общественном транспорте. Вчера,
хоть изрядно потолкавшись, ему всё же доставило некое любопытство, происходящее
в трамвае. Как всегда, он захватил с собой фотоаппарат. По пути на работу он,
иногда, успевал запечатлеть интересные и прекрасные моменты жизни:
фотографировал дома, людей, спешивших по делам, птиц и, конечно, небо. Небо –
это его страсть! Он любил снимать восходы, закаты, тучи, солнце и его блики.
Впрыгнув налегке
в нужный ему трамвай, Никита протиснулся к окну. Его окружали люди. От этого
ему сделалось необычайно уютно. Настроение было радостное, и от этого казалось,
что люди улыбались ему. Странное ощущение охватило его тогда, никогда раньше он
не испытывал такого чувства. Ведь, он каждый день одиноко ездил на своей машине
на работу и с неё, по делам.
День выдался
сумбурным, но приятным. На работе его ждали поздравления от коллег и
начальства, премия и подарки. Даже, вечно хмурый охранник на входе славно
расплылся в улыбке. Дела не заставляли себя ждать, именинник с двойным усердием
работал: ездил к клиентам, заключал договора, общался и много звонил.
-----------------------------------
Жил Никита один,
поэтому, дома его никто не ждал. Из родных у него был только отец, живший в
деревне. Именинник ездил к нему на большие праздники, в остальное время папа
посвящал себя огороду. Друзья звали отметить день рождения в ресторане, но ему
захотелось провести этот вечер за фотографией.
Молодой человек
побродил по зелёным улицам, послушал пение птиц, сделал несколько снимков
солнечных бликов, оставлявших на окнах причудливые окрасы. Ему также нравилось
фотографировать людей в окнах домов: он снимал бытовые моменты их жизни, порой
смешные, а бывало и трагичные.
Никита сделал
несколько снимков, и хотел было уже отправиться дальше, но, вдруг, его внимание
привлекла девушка, сидевшая у окна, которая грустно, даже печально, смотрела
вдаль из окна. Она что – то перебирала в руках. Издалека фотограф не мог это
разглядеть. Ему стало интересно, и он направил фокус аппарата на девушку.
Вблизи она была ещё печальнее, чем издали. Но это ничуть её не портило,
наоборот, грусть была ей к лицу, от этого она становилась загадочнее. Молодой
человек сделал несколько снимков и хотел подойти поближе, чтобы сделать крупное
фото, но девушка, будто почувствовав, что находится под наблюдением, повернула
голову в сторону фотографа. Она увидела, что её снимают и немного покраснела.
Она не привыкла к вниманию окружающих, поэтому ей сделалось немного не по себе.
Тут только Ник увидел, что в руке у неё была кисть для рисования. «Тоже
творец», - подумал фотограф, - «вот почему грустный взгляд, ведь, творчество
рождается из тянущего душу чувства». Девушка смутилась и задёрнула шторы. Никто
никогда её вот так не фотографировал. Она испугалась, но не того, что её
снимают, а какого – то непонятного чувства. Толи это был стыд, толи ещё что –
то она не знала. Лёгкий холодок прошёл по спине, сердце забилось. Она
встревожилась, отложила кисть и впала в раздумья.
Никита больше не
стал ничего снимать. Он побрёл домой. Обычно, фотография приносила ему радость,
эмоциональный подъём, а, порой, облегчение. Но сейчас он чувствовал
разочарование, что потревожил юную девушку. «Может быть, она обиделась? Нет,
наверно, я её напугал. Как можно было так бесцеремонно поступить!» - эти мысли
не давали покоя имениннику. «А как хорошо начинался день», - подумал Никита, -
«и почему она задёрнула шторы? Она была так грустна и загадочна». Остаток дня
его прошёл за повседневными заботами, и даже поздравления, доносящиеся из
весело трезвонящего телефона, не добавляли радости.
--------------------------------
-Амелия, я дома,
- сказала женщина, вошедшая в прихожую.
-Добрый вечер,
мама, ты сегодня рано, - сказала девушка, что сидела напротив окна.
-А ты будто не
рада? Что – то случилось?
-Нет - нет, что
ты! Всё хорошо, - ответила девушка, и поправила плед, съезжающий на пол.
-Сегодня удалось
пораньше с работы выбраться, - сказала мама.
-Прекрасно. А
Вальки ещё нет, - ответила девушка, направляя коляску в сторону прихожей. Валька,
а точнее Валентин, был её младший брат.
Амелия – это та
самая девушка, что сидела временами у окна. Она всё вспоминала тот момент,
когда фотограф пытался запечатлеть её. Это было для неё так необыкновенно и
удивительно, что ещё долго после этого она не могла прийти в себя. Она не
ожидала такого к себе внимания. В сердце как – то по – новому защемило. И что
это было, она сама ещё не знала. Новое чувство подарило ей приятные ощущения,
но и в то же время беспокойство, смятение. Так всегда случается, когда тебе
открывается что – то неизведанное. Сердце начинает стучать быстрее и становится
необъяснимо легко и радостно.
Она покатила
коляску к себе в комнату. Только здесь она могла остаться одна со своими
переживаниями. В прихожей хлопнула дверь. По радостному возгласу она определила
приход братишки. «Теперь все дома», - подумала она. С новыми ощущениями она ещё
долго сидела у окна.
3
Настроение было
мрачное, под стать погоде. Никита тщётно
вглядывался в окна проходящего дома, где вчера случилось встретить незнакомку.
Он не запомнил этаж, на котором жила девушка, поэтому вглядывался в каждое
окно. Но никто сегодня не смотрел печальным взором, все окна были плотно
закрыты. Тогда Никита дал себе обещание - во что бы то ни стало каждый день
проходить мимо, всматриваться в окна, возможно, он её встретит. Девушка ему
очень понравилась. Была в ней какая – то тайна, недосказанность, грусть и
надежда. Её образ никак не выходил у Никиты из головы.
Отправившись в
своём машинном одиночестве на работу, Ник вспомнил, что девушка вчера в руках
держала кисть. «Она, наверно, любит природу», - подумал молодой человек.
----------------------------
Амелия с самого
утра выглядывала из окон своей квартиры, в надежде увидеть вчерашнего
фотографа. Ей было интересно, придёт ли он снова. На улице моросил дождик, дул
прохладный ветер, поэтому она не решалась отворить окно. Девушка продолжала
рисовать пейзажную картину на заказ, смешивала цвета, чтобы получить желаемый
оттенок небесного цвета. Ей очень нравилось изображать небесные красоты.
Рисовала Амелия, обычно, рядом с окном, так свет падал лучше, да и нравилось ей
смотреть на проходящих мимо людей, на природу.
За картиной
прошёл почти весь день. Она уже не надеялась сегодня увидеть за окном
загадочного молодого человека. Раздвинув шторы, она приотворила окно. Вдруг,
внизу, на скамейке рядом с домом девушка увидела вчерашнего фотографа, только
сегодня он был не такой счастливый и без своего аппарата. Ей захотелось его
окрикнуть, но она не решалась это сделать. Вид у фотографа был встревоженный.
Неожиданно, молодой человек встал со скамейки и принялся взглядом искать
загадочное окно. Будто почувствовав, что на него смотрят, он направил взор на
то самое окно, откуда с нетерпением выглядывала Амелия. Глаза молодых людей
встретились. Они долго смотрели друг на друга, не сводя глаз. Сколько
напряжения было во взгляде, сколько непередаваемых чувств! Так много хотелось
сказать, так много хотелось спросить, но не один не решался прервать момент
оцепенения.
- Здравствуйте,
- заговорил первый Никита. – Извините, что вчера Вас напугал. Я только хотел
снять Вас в таком задумчиво – грустном виде.
- Да, я немного
была удивлена, - сказала девушка.
- Позвольте
узнать Ваше имя, - едва сдерживая эмоции, сказал молодой человек.
- Амелия, -
промолвила девушка.
- А моё имя
Никита.
- Очень приятно,
- сказала Амелия. Непонятное чувство, что появилось вчера, ныло где – то
глубоко внутри, придавая взволнованности голосу.
- Сегодня
пасмурная погода, - заговорил Ник, после паузы.
- Да, зато
воздух свежий, - заметила Амелия.
- А хотите, мы
можем с Вами прогуляться, подышать свежестью, - сказал молодой человек.
От этих слов у
девушки защемило в груди. Она не знала, что ответить. Как сказать ему, что она
не может ходить? А, вдруг, она ему будет не нужна такая?
- Извините, я не
хожу, - промолвила, наконец, Амелия. Ей стало больно от этих слов.
- Не ходите
гулять в такую погоду? – спросил Ник.
- Нет, я вообще
не хожу, я инвалид, - сказала девушка.
Эти слова
слетели с губ с хриплым оттенком. Она заплакала, да так, как никогда раньше. В
первый раз она почувствовала какое – то настоящее тяготение, какое – то приятно
– щемящее душу чувство. От этого ей было и радостно, и больно. «Вот, теперь он не захочет со мной больше
говорить и уйдёт», - подумала Амелия. «Зачем я ему, калека», - слёзы лились из
глаз, будто давно ждали этого момента.
- О, простите
меня за бестактность, - почти шёпотом сказал Никита. Ему было так горько от
слёз этой прекрасной девушки. Как жаль, что он ничем не мог помочь её горю. Так
обидно стало за неё, что именно ей выпала эта беспощадная участь. Он будто
прочувствовал в их коротком разговоре, как теплится её душа, как она открыта и
прекрасна.
Слёзы душили
Амелию, она не могла сказать ни слова. Только тихо тряслась и плакала.
- Простите,
простите, простите! Я не хотел причинить Вам боль! – вырвалось из груди у
Никиты. – Я сейчас же приду, дождитесь, милая.
С этими словами
он кинулся бежать, что есть мочи, оставив девушку плакать у окна. Он бежал, сам
не зная куда. «Надо что – то сделать», - глухо крутилось в голове у Никиты. Он
побежал в цветочный магазин, что находился за углом. Выбрал самый красивый
букет из нежных роз и помчался обратно. Он, вдруг, почувствовал, что нужен
Амелии, этому нежному созданию. Он почувствовал, что и она ему нужна, будто
только её он искал всю жизнь. Чувства переполняли его грудь. Сердце билось всё
сильней, в голове пульсировала мысль о неожиданно появившемся счастье. Ему не
хотелось больше расставаться с Амелией.
Подбежав к дому,
он увидел, что окно, из которого выглядывала его сказочная девушка, зашторено.
«Я ей сделал больно», - промелькнуло в голове у Никиты. По окну он высчитал
квартиру Амелии. Что есть мочи Ник рванул дверцу подъезда и побежал на 4 этаж.
Дверь в квартиру, где жила девушка, была плотно закрыта. Ничего уже не
соображая от переизбытка чувств, молодой человек забарабанил в дверь. Он так
стучал, будто за ним кто – то гнался и он боялся, что его схватят. Так стучал
он несколько минут. Потом, услышал за дверью тихое шуршание. Руки перестали
стучать. Дверь тихо, медленно отворилась. Пред ним была та, которая подарила
миг счастья. Она сидела на кресле неподвижно, стыдясь своего недуга. Щёки её
пылали красным цветом. Их взгляд встретился. Столько любви было в этих минутах
тишины! Сердце обоих молодых людей билось и трепетало от счастья, было по - детски
радостно и легко.
Никита упал на
колени перед Амелией. Он нежно целовал ноги своей возлюбленной. Не нужно было
слов, не нужно было знать, что было до этого в жизни каждого. Было так хорошо
рядом, так радостно и свободно, что забывалось обо всём. Он посмотрел в её
глаза, протянул букет цветов и взял её за руку. Девушка не могла вымолвить ни
слова.
- Ты подарила
мне счастье, - тихо сказал Никита. – Ты прекрасна.
Почему именно
так всё быстро случилось, Амелия не понимала. Как можно было так быстро понять,
что они две части целого? Она не могла себе это объяснить, да и уже было не
важно, что стало причиной этому. Главное – он рядом. Он - такой трепетный и
настоящий, любящий её и ничего не просящий взамен. И она почувствовала, что
первый раз в жизни любит.
Девушка, вдруг,
пошевелила ногой. Сначала, она думала, что ей это показалось. Она посмотрела на
правую ногу. Нет, ошибки здесь не было. Нога действительно двигалась. Пусть
немного, совсем чуть – чуть. Какое счастье принёс этот миг!
- Смотри, -
прокричала она Никите, - у меня двигается нога! Раньше этого никогда не
случалось, мои ноги всегда были неподвижны.
Ник бережно
приподнял её ногу. Да, действительно нога пыталась сделать некоторые движения.
Он с любовью посмотрел на возлюбленную, отпустил её ногу. Немного
приподнявшись, он нежно коснулся губами её губ. Он поцеловал её так, будто
никогда раньше не отдавал столько нежности. Теперь хотелось отдать её всю!
------------------------------
Что случилось в
жизни молодых людей, никто не знал. Почему один взгляд изменил всю их жизнь?
Возможно, это и есть настоящее чувство, которое берегут, как дитя.
Эта история закончилась,
как и все сказки, счастливым концом. У Амелии появилась возможность ходить.
Никита продал свою машину и отдал все сбережения, чтобы мечта его волшебной
девушки осуществилась. Ей сделали операцию на ноги, и, по словам докторов, она
идёт на поправку.
После выписки из
больницы, двое влюблённых учились заново жить, учились делать первые шаги, как
в прямом, так и в переносном смысле. Чудесное исцеление было сказкой… для
двоих.
алекс грин,
03-01-2012 20:42
(ссылка)
Весенняя песня
Как-то раз тихим безоблачным вечером в конце апреля Снусмумрик зашел очень далеко на север – там в тени кое-где еще оставались маленькие островки снега.
Целый день шел он, любуясь дикой природой и слушая, как над головой у него кричат перелетные птицы. И они направлялись домой из южных стран. Шагал он бодро и весело, так как рюкзак его был почти пуст и не было у него на душе ни тревог, ни печалей. Все его радовало – и лес, и погода, и собственное одиночество. Завтрашний день казался таким же далеким, как и вчерашний; между ветвями берез мелькало красноватое неяркое солнышко, и воздух был прохладен и ласков.
«Подходящий вечерок для песни, – подумал Снусмумрик. – Для новой песни, в которой было бы и томление, и весенняя грусть, и, самое главное, безудержное веселье, радость странствий и одиночества».
Эта мелодия звучала в нем уже много дней, но он все не решался выпустить ее на волю. Она должна была как следует подрасти и прихорошиться, стать настолько самостоятельной, чтобы все ее звуки радостно попрыгали на свои места, как только он прикоснется губами к гармошке.
Если бы он вызвал их слишком рано, могло бы случиться так, что они расположились бы как попало, и песня получилась бы так себе, не очень удачной, и он тогда, возможно, потерял бы к этому всякий интерес. Песня – дело серьезное, особенно если она должна быть и веселой, и грустной.
Но в этот вечер Снусмумрик был уверен в своей песне. Она уже почти сложилась – она станет лучшей из его песен.
А когда он подойдет к долине троллей, он сыграет ее, стоя на перилах моста через реку, и Муми-тролль сразу же скажет, что это прекрасная песня, просто прекрасная песня.
Снусмумрик ступил на мох и остановился. Ему стало немного не по себе, он вспомнил Муми-тролля, который его ждал и очень по нему соскучился, который им восхищался и говорил: «Ну конечно, ты свободен, ясное дело, ты уйдешь, неужели я не понимаю, что тебе надо иногда побыть одному». И в то же время в глазах его были тоска и безысходность.
– Ай-ай-ай, – сказал Снусмумрик и двинулся дальше. – Ай-ай-ай. Он такой чувствительный, этот Муми-тролль. Мне не надо о нем думать. Он очень милый, но сейчас я не буду о нем думать. В этот вечер я наедине с моей песней, и сегодня – это еще не завтра.
Через минуту-другую Снусмумрику удалось выбросить Муми-тролля из головы. Выискивая подходящее местечко для привала, он услышал журчание ручья где-то чуть поодаль, в глубине леса, и сразу направился туда.
Между стволами деревьев потухла последняя красная полоска, медленно сгущались весенние сумерки. Весь лес погрузился в вечернюю синеву, и березы точно белые столбы отступали все дальше и дальше в полумрак.
Это был прекрасный ручей.
Чистый и прозрачный, он, приплясывая, бежал над коричневыми клочьями прошлогодних листьев, пробегал по еще не растаявшим ледяным туннелям и, повернув на поросшую мхом лужайку, бросался вниз головой на белое песчаное дно, образуя небольшой водопад. Ручей этот то весело напевал тоненьким комариным голоском, то придавал своему голосу суровое и угрожающее выражение, а иногда, прополоскав как следует горло снеговой водицей, заливался смехом.
Снусмумрик стоял и слушал. «Ручей тоже попадет в мою песенку, – подумал он. – Может быть, как припев».
В этот момент из запруды выпал камень, изменивший мелодию ручья на одну октаву.
– Недурно, – восхищенно сказал Снусмумрик. – Именно так это и должно звучать. Еще одна нота – как раз та, которая нужна. А может, посвятить ручью отдельную песню?..
Он достал свою старую кастрюлю и наполнил ее под водопадом. Зашел под ели в поисках хвороста. Из-за таявшего снега и весенних дождей в лесу было мокро и сыро, и Снусмумрику, чтобы найти сухие ветки, пришлось забраться в густой бурелом. Он протянул лапу – и в тот же миг кто-то взвизгнул и метнулся под ель и еще долго тихонько повизгивал, удаляясь в глубь леса.
– Ну да, конечно, – сказал самому себе Снусмумрик. – Под каждым кустом всякая мелюзга. Знаю я их... И почему они всегда такие беспокойные? Чем меньше, тем непоседливей.
Он вытащил сухой пень и немного сухих веток и, не торопясь, разложил походный костер в излучине ручья. Костер сразу же занялся, ведь Снусмумрик привык готовить себе обед. А готовил он всегда только себе самому, и никому больше. Чужие обеды его не очень-то интересовали, потому что все его знакомые никак не хотели расставаться с привычкой болтать за едой.
И еще они питали слабость к стульям и столам, а некоторые из них пользовались и салфетками.
Он даже слышал об одном хемуле, который переодевался, прежде чем приняться за еду, но это, наверное, была просто клевета.
С отсутствующим видом Снусмумрик хлебал свой жиденький суп, и взгляд его все это время был устремлен на зеленый мшистый ковер, что раскинулся под березами.
Мелодия сейчас была совсем близко, оставалось только ухватить ее за хвост. Но он мог и не торопиться, она все равно была окружена и уже не могла ускользнуть. Поэтому сначала он займется мытьем посуды, потом трубкой, а затем, когда запылают угли в костре и в лесу начнут перекликаться ночные звери, – вот тогда настанет время для песни.
Он увидел ее, когда мыл в ручье кастрюлю. Эта малышка притаилась за корневищем и таращилась на него из-под взъерошенных, нависших надо лбом волос. Глазки смотрели испуганно, но с необыкновенным любопытством, они следили за каждым движением Снусмумрика.
Снусмумрик сделал вид, что ничего не замечает. Он подгреб угли в костре и срезал несколько еловых веток, чтобы было помягче сидеть. Потом достал трубку и неторопливо раскурил ее. Он пускал в ночное небо тонкие струйки дыма и ждал, когда к нему пожалует его весенняя песня.
Но песня не торопилась. Зато малышкины глаза смотрели на него не отрываясь, они восхищенно следили за всеми его действиями, и это начинало его раздражать.
Снусмумрик поднес ко рту сложенные вместе лапы и крикнул:
– Брысь!
Крошка юркнула под свой корень и, необычайно смущенная, пропищала:
– Надеюсь, я тебя не напугала? Я знаю, кто ты такой. Ты Снусмумрик.
Она забралась в ручей и стала перебираться на другой берег. Для такой крохи ручей оказался глубоковат, да и вода в нем была слишком холодная. Несколько раз ноги ее теряли опору, и она плюхалась в воду, но Снусмумрик был так рассержен, что даже не попытался ей помочь.
Наконец на берег выползло какое-то жалкое и тоненькое, как ниточка, существо, которое, стуча зубами, сказало:
– Привет! Как удачно, что я тебя повстречала.
– Привет, – холодно ответил Снусмумрик.
– Можно погреться у твоего костра? – продолжала кроха, сияя всей своей мокрой рожицей. – Подумать только, я стану одной из тех, кому хоть раз удалось посидеть у походного костра Снусмумрика. Я буду помнить об этом всю свою жизнь. – Малышка пододвинулась поближе, положила лапку на рюкзак и торжественно прошептала: – Это здесь у тебя хранится губная гармошка? Она там, внутри?
– Да, там, – сказал Снусмумрик довольно недружелюбно. Его уединение было нарушено, его песня уже не вернется – пропало все настроение. Он покусывал трубку и смотрел на стволы берез пустыми, невидящими глазами.
– Ты нисколечко мне не помешаешь! – с самым невинным видом воскликнула кроха. – Ну если б ты вдруг захотел поиграть. Ты себе даже не представляешь, как мне хочется послушать музыку. Я еще ни разу не слышала музыки. Но о тебе я слышала. И Ежик, и Кнютт, и моя мама – все они рассказывали... А Кнютт даже видел тебя! Ты ведь не знаешь... здесь так скучно... И мы так много спим...
– Но как же тебя зовут? – спросил Снусмумрик. Вечер все равно был испорчен, и он решил, что уж лучше поболтать, чем просто молчать.
– Я еще слишком маленькая, и у меня еще нет имени, – с готовностью отвечала малышка. – Меня никто об этом раньше не спрашивал. А тут вдруг появляешься ты, о котором я так много слышала и которого так хотела увидеть, и спрашиваешь, как меня зовут. А может, ты смог бы... Я хочу сказать, тебе было бы нетрудно придумать мне имя, которое было бы только моим и больше ничьим? Прямо сейчас...
Снусмумрик что-то пробормотал и надвинул на глаза шляпу. Над ручьем, взмахнув длинными, заостренными на концах крыльями, пролетела какая-то птица, и крик ее, тоскливый и протяжный, еще долго разносимся по лесу: ти-у-у, ти-у-у.
– Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться, – неожиданно сказал Снусмумрик. – Уж я-то знаю.
– Я знаю, что ты все знаешь, – затараторила малышка, подвигаясь еще ближе к костру. – Я знаю, что ты видел все на свете. Все, что ты говоришь, все так и есть, и я всегда буду стараться стать такой же свободной, как ты. А сейчас ты идешь в Муми-дол, чтобы как следует отдохнуть и встретиться с друзьями... Ежик говорил, что когда Муми-тролль встает после зимней спячки, то он сразу начинает по тебе скучать... Правда, приятно, когда кто-нибудь ко тебе скучает и все ждет тебя и ждет?
– Я приду к нему, когда захочу! – не на шутку рассердился Снусмумрик. – Может, я еще вообще не приду. Может, я пойду совсем в другую сторону.
– Но он тогда, наверно, обидится, – сказала кроха. Она уже начала подсыхать, и оказалось, что спинка ее покрыта мягким светло-коричневым мехом. Снова потеребив рюкзак, она осторожно спросила: – А может быть, ты... Ты так много путешествовал...
– Нет, – сказал Снусмумрик. – Не сейчас. – И он с раздражением подумал: «Почему они никак не могут оставить меня в покое? Неужели они не могут понять, что я все только испорчу своей болтовней, если начну об этом рассказывать? Тогда ничего не останется, я запомню только свой собственный рассказ, если попытаюсь рассказать о своих странствиях».
Надолго воцарилось молчание, снова закричала ночная птица.
Наконец малышка поднялась и едва слышно проговорила:
– Да, конечно. Тогда я пойду домой. Пока.
– Пока, – сказал Снусмумрик. – Да, послушай-ка. Я насчет твоего имени. Тебя можно было бы назвать Ти-ти-уу. Ти-ти-уу, понимаешь, веселое и задорное начало и долгое и грустное «у» на конце.
Малышка стояла и смотрела на него не мигая, и в отблесках костра глаза ее светились, словно желтые огоньки. Она немного подумала, тихонько прошептала свое новое имя, точно пробуя его на вкус, примерилась к нему как следует и наконец, задрав мордочку к небу, провыла это свое новое, свое собственное имя, и в вое этом было столько восторга и тоски, что у Снусмумрика по спине пробежал холодок.
Затем коричневый хвостик юркнул в зарослях вереска, и все стихло.
– Эх, – вздохнул Снусмумрик и поддал ногой угли в костре. Выбив трубку, он поднялся и закричал: – Эй, вернись! – Но лес молчал. – Ну вот, – сказал Снусмумрик. – Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь. И ведь малышка получила свое имя...
Он снова сел и, прислушиваясь к журчанию ручья и ночной тишине, стал дожидаться своей мелодии. Но она не появлялась. И тогда он понял, что она улетела уже слишком далеко и ему ее, наверное, никогда не догнать. У него в ушах звенел лишь восторженный и робкий голосок этой малявки, которая все говорила, говорила и говорила...
– Ей бы сидеть дома со своей мамой, – проворчал Снусмумрик и улегся на еловые ветки. Через минуту он приподнялся и снова закричал, глядя в сторону леса. Он долго вслушивался в ночную тишину, потом надвинул на глаза шляпу и приготовился спать.
На следующее утро Снусмумрик отправился дальше. Он чувствовал усталость и был не в духе; не глядя по сторонам, он держал путь на север, и в голову ему не приходило ничего даже отдаленно напоминающего мелодию.
Снусмумрик не мог думать ни о чем другом, кроме этой малышки. Он помнил каждое ее слово, помнил все, что говорил сам, раз за разом перебирал в памяти все подробности их встречи, он все шел и шел и присел отдохнуть, лишь почувствовав полное изнеможение.
«Что это со мной? – вконец сбитый с толку, раздраженно думал Снусмумрик. – Такого со мной еще никогда не бывало. Наверное, я заболел».
Он поднялся и побрел дальше, и все началось сначала, он снова начал вспоминать все, что говорила малышка, и все, что он ей отвечал.
Наконец он не выдержал. Где-то во второй половине дня Снусмумрик решительно повернулся и пошел обратно.
Через несколько минут он почувствовал себя лучше. Он шел все быстрее и быстрее, бежал, спотыкался. В ушах его звучали обрывки песен, но ему было не до них. Ближе к вечеру, снова оказавшись в березовой роще, он принялся звать малышку.
– Ти-ти-уу! – кричал он. – Ти-ти-уу!
И ночные птицы отвечали ему: ти-у-у, ти-у-у. Но малышка не отзывалась.
Снусмумрик исходил все вокруг вдоль и поперек, он искал ее и звал, пока не стемнело. Над полянкой появился молодой месяц. Снусмумрик посмотрел на него и подумал: «Загадаю-ка я желание, ведь это же молодой месяц».
И он чуть было не загадал то же, что обычно загадывал: новую песню или, как иногда бывало, новые приключения. Но он вдруг передумал и сказал:
– Хочу увидеть Ти-ти-уу.
И он повернулся три раза кругом, потом пересек поляну и вошел в лес. Ему показалось, в кустах что-то зашуршало, что-то коричневое и пушистое.
– Ти-ти-уу, – тихо позвал Снусмумрик. – Я вернулся, чтобы поболтать с тобой.
– А, привет, – высунувшись из кустов, сказала Ти-ти-уу. – Хорошо, что ты пришел. Я покажу тебе, что у меня есть. Моя собственная табличка с именем! Смотри! Когда у меня будет свой дом, я повешу ее над дверью. – Малышка держала кусочек коры, на котором было вырезано ее имя, и важно продолжала: – Красиво, правда? Всем очень понравилось.
– Замечательно! – воскликнул Снусмумрик. – А у тебя будет свой дом?
– А как же! – просияла малышка. – Я ушла из дома и начала жить, как большая! Это так интересно! Понимаешь, пока у меня не было собственного имени, я просто бегала по лесу и всюду совала свой нос, а все события происходили сами по себе, иногда было очень страшно, иногда нет, все это было не по-настоящему... Ты меня понимаешь? – Снусмумрик попытался что-то сказать, но малышка тут же снова заговорила: – Теперь я стала личностью, и все, что вокруг происходит, все это что-нибудь да значит. Потому что происходит это не само по себе, а происходит со мной, Ти-ти-уу. И Ти-ти-уу может подумать одно, а может подумать другое – понимаешь, что я имею в виду?
– Конечно, понимаю, – сказал Снусмумрик. – Я, пожалуй, все же навещу Муми-тролля. Мне даже кажется, я немного по нему соскучился.
– Что? А-а, Муми-тролля? Да, да, конечно, – сказала Ти-ти-уу.
– А если хочешь, я мог бы тебе немного поиграть, – продолжал Снусмумрик. – Или что-нибудь рассказать.
Малышка выглянула из кустов и сказала:
– Рассказать? Да, да, конечно. Только попозже. А сейчас у меня дела, ты уж меня извини...
Коричневый хвостик скрылся в кустах, но через несколько секунд Снусмумрик увидел малышкины ушки и услышал веселый голосок:
– Пока, привет Муми-троллю! А я тороплюсь, я потеряла столько времени! – И в тот же миг она исчезла.
Снусмумрик почесал в затылке.
– Вот оно что, – протянул он. – Так, та-ак.
Он улегся на мох, лежал и смотрел в весеннее небо, ясно-синее прямо над ним и цвета морской волны над верхушками деревьев. И тут он услышал свою мелодию, зазвучавшую у него где-то под шляпой, мелодию, в которой было и томление, и весенняя грусть, и, самое главное, безудержное веселье, радость странствий и одиночества.
алекс грин,
29-12-2011 20:37
(ссылка)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ
В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом
обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии
Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой
обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят - Боссе, Бетан и Малыша.
- Я вовсе не самый обыкновенный малыш, - говорит Малыш.
Но это, конечно, неправда. Ведь на свете столько мальчишек, которым
семь лет, у которых голубые глаза, немытые уши и разорванные на коленках
штанишки, что сомневаться тут нечего: Малыш - самый обыкновенный мальчик.
Боссе пятнадцать лет, и он с большей охотой стоит в футбольных
воротах, чем у школьной доски, а значит - он тоже самый обыкновенный
мальчик.
Бетан четырнадцать лет, и у нее косы точь-в-точь такие же, как у
других самых обыкновенных девочек.
Во всем доме есть только одно не совсем обыкновенное существо -
Карлсон, который живет на крыше. Да, он живет на крыше, и одно это уже
необыкновенно. Быть может, в других городах дело обстоит иначе, но в
Стокгольме почти никогда не случается, чтобы кто-нибудь жил на крыше, да
еще в отдельном маленьком домике. А вот Карлсон, представьте себе, живет
именно там.
Карлсон - это маленький толстенький самоуверенный человечек, и к тому
же он умеет летать. На самолетах и вертолетах летать могут все, а вот
Карлсон умеет летать сам по себе. Стоит ему только нажать кнопку на
животе, как у него за спиной тут же начинает работать хитроумный моторчик.
С минуту, пока пропеллер не раскрутится как следует, Карлсон стоит
неподвижно, но когда мотор заработает вовсю, Карлсон взмывает ввысь и
летит, слегка покачиваясь, с таким важным и достойным видом, словно
какой-нибудь директор, - конечно, если можно себе представить директора с
пропеллером за спиной.
Карлсону прекрасно живется в маленьком домике на крыше. По вечерам он
сидит на крылечке, покуривает трубку да глядит на звезды. С крыши,
разумеется, звезды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только
удивляться, что так мало людей живет на крышах. Должно быть, другие жильцы
просто не догадываются поселиться на крыше. Ведь они не знают, что у
Карлсона там свой домик, потому что домик этот спрятан за большой дымовой
трубой. И вообще, станут ли взрослые обращать внимание на какой-то там
крошечный домик, даже если и споткнутся о него?
Как-то раз один трубочист вдруг увидел домик Карлсона.
Он очень
удивился и сказал самому себе:
- Странно... Домик?.. Не может быть! На крыше стоит маленький
домик?.. Как он мог здесь оказаться?
Затем трубочист полез в трубу, забыл про домик и уж никогда больше о
нем не вспоминал.
Малыш был очень рад, что познакомился с Карлсоном. Как только Карлсон
прилетал, начинались необычайные приключения. Карлсону, должно быть, тоже
было приятно познакомиться с Малышом. Ведь что ни говори, а не очень-то
уютно жить одному в маленьком домике, да еще в таком, о котором никто и не
слышал. Грустно, если некому крикнуть: "Привет, Карлсон!", когда ты
пролетаешь мимо.
Их знакомство произошло в один из тех неудачных, дней, когда быть
Малышом не доставляло никакой радости, хотя обычно быть Малышом чудесно.
Ведь Малыш - любимец всей семьи, и каждый балует его как только может. Но
в тот день все шло шиворот-навыворот. Мама выругала его за то, что он
опять разорвал штаны, Бетан крикнула ему: "Вытри нос! ", а папа
рассердился, потому что Малыш поздно пришел из школы.
- По улицам слоняешься! - сказал папа.
"По улицам слоняешься!" Но ведь папа не знал, что по дороге домой
Малышу повстречался щенок. Милый, прекрасный щенок, который обнюхал Малыша
и приветливо завилял хвостом, словно хотел стать его щенком.
Если бы это зависело от Малыша, то желание щенка осуществилось бы тут
же. Но беда заключалась в том, что мама и папа ни за что не хотели держать
в доме собаку. А кроме того, из-за угла вдруг появилась какая-то тетка и
закричала: "Рики! Рики! Сюда!" - и тогда Малышу стало совершенно ясно, что
этот щенок уже никогда не станет его щенком.
- Похоже, что так всю жизнь и прожзшешь без собаки, - с горечью
сказал Малыш, когда все обернулось против него. - Вот у тебя, мама, есть
папа; и Боссе с Бетан тоже всегда вместе. А у меня - у меня никого нет!..
- Дорогой Малыш, ведь у тебя все мы! - сказала мама.
- Не знаю... - с еще большей горечью произнес Малыш, потому что ему
вдруг показалось, что у него действительно никого и ничего нет на свете.
Впрочем, у него была своя комната, и он туда отправился.
Стоял ясный весенний вечер, окна были открыты, и белые занавески
медленно раскачивались, словно здороваясь с маленькими бледными звездами,
только что появившимися на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о
подоконник и стал смотреть в окно. Он думал о том прекрасном щенке,
который повстречался ему сегодня. Быть может, этот щенок лежит сейчас в
корзинке на кухне и какой-нибудь мальчик - не Малыш, а другой - сидит
рядом с ним на полу, гладит его косматую голову и приговаривает: "Рики, ты
чудесный пес!"
Малыш тяжело вздохнул. Вдруг он услышал какое-то слабое жужжание. Оно
становилось все громче и громче, и вот, как это ни покажется странным,
мимо окна пролетел толстый человечек. Это и был Карлсон, который живет на
крыше. Но ведь в то время Малыш еще не знал его.
Карлсон окинул Малыша внимательным, долгим взглядом и полетел дальше.
Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и
повернул назад, к окну. Затем он прибавил скорость и пронесся мимо Малыша,
как настоящий маленький самолет. Потом сделал второй круг. Потом третий.
Малыш стоял не шелохнувшись и ждал, что будет дальше. У него просто
дух захватило от волнения и по спине побежали мурашки - ведь не каждый
день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки.
А человечек за окном тем временем замедлил ход и, поравнявшись с
подоконником, сказал:
- Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться?
- Да, да, пожалуйста, - поспешно ответил Малыш и добавил: - А что,
трудно вот так летать?
- Мне - ни капельки, - важно произнес Карлсон, - потому что я лучший
в мире летун! Но я не советовал бы увальню, похожему на мешок с сеном,
подражать мне.
Малыш подумал, что на "мешок с сеном" обижаться не стоит, но решил
никогда не пробовать летать.
- Как тебя зовут? - спросил Карлсон.
- Малыш. Хотя по-настоящему меня зовут Сванте Свантесон.
- А меня, как это ни странно, зовут Карлсон. Просто Карлсон, и все.
Привет, Малыш!
- Привет, Карлсон! - сказал Малыш.
- Сколько тебе лет? - спросил Карлсон.
- Семь, - ответил Малыш.
- Отлично. Продолжим разговор, - сказал сон.
Затем он быстро перекинул через подоконник одну за другой свои
маленькие толстенькие ножки и очутился в комнате.
- А тебе сколько лет? - спросил Малыш, решив, что Карлсон ведет себя
уж слишком ребячливо для взрослого дяди.
- Сколько мне лет? - переспросил Карлсон. - Я мужчина в самом
расцвете сил, больше я тебе ничего не могу сказать.
Малыш в точности не понимал, что значит быть мужчиной в самом
расцвете сил. Может быть, он тоже мужчина в самом расцвете сил, но только
еще не знает об этом? Поэтому он осторожно спросил:
- А в каком возрасте бывает расцвет сил?
- В любом! - ответил Карлсон с довольной улыбкой. - В любом, во
всяком случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру
упитанный мужчина в самом расцвете сил!
Он подошел к книжной полке Малыша и вытащил стоявшую там игрушечную
паровую машину.
- Давай запустим ее, - предложил Карлсон.
- Без папы нельзя, - сказал Малыш. - Машину можно запускать только
вместе с папой или Боссе.
- С папой, с Боссе или с Карлсоном, который живет на крыше. Лучший в
мире специалист по паровым машинам - это Карлсон, который живет на крыше.
Так и передай своему папе! - сказал Карлсон.
Он быстро схватил бутылку с денатуратом, которая стояла рядом с
машиной, наполнил маленькую спиртовку и зажег фитиль.
Хотя Карлсон и был лучшим в мире специалистом по паровым машинам,
денатурат он наливал весьма неуклюже и даже пролил его, так что на полке
образовалось целое денатуратное озеро. Оно тут же загорелось, и на
полированной поверхности заплясали веселые голубые язычки пламени. Малыш
испуганно вскрикнул и отскочил.
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон и предостерегающе
поднял свою пухлую ручку.
Но Малыш не мог стоять спокойно, когда видел огонь. Он быстро схватил
тряпку и прибил пламя. На полированной поверхности полки осталось
несколько больших безобразных пятен.
- Погляди, как испортилась полка! - озабоченно произнес Малыш. - Что
теперь скажет мама?
- Пустяки, дело житейское! Несколько крошечных пятнышек на книжной
полке - это дело житейское. Так и передай своей маме.
Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза его
заблестели.
- Сейчас она начнет работать.
И действительно, не прошло и секунды, как паровая машина заработала.
Фут, фут, фут... - пыхтела она. О, это была самая прекрасная из всех
паровых машин, какие только можно себе вообразить, и Карлсон выглядел
таким гордым и счастливым, будто сам ее изобрел.
- Я должен проверить предохранительный клапан, - вдруг произнес
Карлсон и принялся крутить какую-то маленькую ручку. - Если не проверить
предохранительные клапаны, случаются аварии.
Фут-фут-фут... - пыхтела машина все быстрее и быстрее. -
Фут-фут-фут!.. Под конец она стала задыхаться, точно мчалась галопом.
Глаза у Карлсона сияли.
А Малыш уже перестал горевать по поводу пятен на полке. Он был
счастлив, что у него есть такая чудесная паровая машина и что он
познакомился с Карлсоном, лучшим в мире специалистом по паровым машинам,
который так искусно проверил ее предохранительный клапан.
- Ну, Малыш, - сказал Карлсон, - вот это действительно "фут-фут-фут"!
Вот это я понимаю! Лучший в мире спе...
Но закончить Карлсон не успел, потому что в этот момент раздался
громкий взрыв и паровой машины не стало, а обломки ее разлетелись по всей
комнате.
- Она взорвалась! - в восторге закричал Карлсон, словно ему удалось
проделать с паровой машиной самый интересный фокус. - Честное слово, она
взорвалась! Какой грохот! Вот здорово!
Но Малыш не мог разделить радость Карлсона. Он стоял растерянный, с
глазами, полными слез.
- Моя паровая машина... - всхлипывал он. - Моя паровая машина
развалилась на куски!
- Пустяки, дело житейское! - И Карлсон беспечно махнул своей
маленькой пухлой рукой. - Я тебе дам еще лучшую машину, - успокаивал он
Малыша.
- Ты? - удивился Малыш.
- Конечно. У меня там, наверху, несколько тысяч паровых машин.
- Где это у тебя там, наверху?
- Наверху, в моем домике на крыше.
- У тебя есть домик на крыше? - переспросил Малыш. - И несколько
тысяч паровых машин?
- Ну да. Уж сотни две наверняка.
- Как бы мне хотелось побывать в твоем домике! - воскликнул Малыш.
В это было трудно поверить: маленький домик на крыше, и в нем живет
Карлсон...
- Подумать только, дом, набитый паровыми машинами! - воскликнул
Малыш. - Две сотни машин!
- Ну, я в точности не считал, сколько их там осталось, - уточнил
Карлсон, - но уж никак не меньше нескольких дюжин.
- И ты мне дашь одну машину?
- Ну конечно!
- Прямо сейчас!
- Нет, сначала мне надо их немножко осмотреть, проверить
предохранительные клапаны... ну, и тому подобное. Спокойствие, только
спокойствие! Ты получишь машину на днях.
Малыш принялся собирать с пола куски того, что раньше было его
паровой машиной.
- Представляю, как рассердится папа, - озабоченно пробормотал он.
Карлсон удивленно поднял брови:
- Из-за паровой машины? Да ведь это же пустяки, дело житейское. Стоит
ли волноваться по такому поводу! Так и передай своему папе. Я бы ему это
сам сказал, но спешу и поэтому не могу здесь задерживаться... Мне не
удастся сегодня встретиться с твоим папой. Я должен слетать домой,
поглядеть, что там делается.
- Это очень хорошо, что ты попал ко мне, - сказал Малыш. - Хотя,
конечно, паровая машина... Ты еще когда-нибудь залетишь сюда?
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон и нажал кнопку на
своем животе.
Мотор загудел, но Карлсон все стоял неподвижно и ждал, пока пропеллер
раскрутится во всю мощь. Но вот Карлсон оторвался от пола и сделал
несколько кругов.
- Мотор что-то барахлит. Надо будет залететь в мастерскую, чтобы его
там смазали. Конечно, я и сам мог бы это сделать, да, беда, нет времени...
Думаю, что я все-таки загляну в мастерскую. Малыш тоже подумал, что так
будет разумнее. Карлсон вылетел в открытое окно; его маленькая толстенькая
фигурка четко вырисовывалась на весеннем, усыпанном звездами небе.
- Привет, Малыш! - крикнул Карлсон, помахал своей пухлое ручкой и
скрылся.
КАРЛСОН СТРОИТ БАШНЮ
- Я ведь вам уже говорил, что его зовут Карлсон и что он живет там,
наверху, на крыше, - сказал Малыш. - Что же здесь особенного? Разве люди
не могут жить, где им хочется?..
- Не упрямься, Малыш, - сказала мама. - Если бы ты знал, как ты нас
напугал! Настоящий взрыв. Ведь тебя могло убить! Неужели ты не понимаешь?
- Понимаю, но все равно Карлсон - лучший в мире специалист по паровым
машинам, - ответил Малыш и серьезно посмотрел на свою маму.
Ну как она не понимает, что невозможно сказать "нет", когда лучший в
мире специалист по паровым машинам предлагает проверить предохранительный
клапан!
- Надо отвечать за свои поступки, - строго сказал папа, - а не
сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не
существует.
- Нет, - сказал Малыш, - существует!
- Да еще и летать умеет! - насмешливо подхватил Боссе.
- Представь себе, умеет, - отрезал Малыш. - Я надеюсь, что он залетит
к нам, и ты сам увидишь.
- Хорошо бы он залетел завтра, - сказала Бетан. - Я дам тебе крону,
Малыш, если увижу своими глазами Карлсона, который живет на крыше.
- Нет, завтра ты его не увидишь - завтра он должен слетать в
мастерскую смазать мотор.
- Ну, хватит рассказывать сказки, - сказала мама. - Ты лучше погляди,
на что похожа твоя книжная полка.
- Карлсон говорит, что это пустяки, дело житейское! - И Малыш махнул
рукой, точь-в-точь как махал Карлсон, давая понять, что вовсе не стоит
расстраиваться из-за каких-то там пятен на полке.
Но ни слова Малыша, ни этот жест не произвели на маму никакого
впечатления.
- Вот, значит, как говорит Карлсон? - строго сказала она. - Тогда
передай ему, что, если он еще раз сунет сюда свой нос, я его так отшлепаю
- век будет помнить.
Малыш ничего не ответил. Ему показалось ужасным, что мама собирается
отшлепать лучшего в мире специалиста по паровым машинам. Да, ничего
хорошего нельзя было ожидать в такой неудачный день, когда буквально все
шло шиворот-навыворот.
И вдруг Малыш почувствовал, что он очень соскучился по Карлсону -
бодрому, веселому человечку, который так потешно махал своей маленькой
рукой, приговаривая: "Неприятности - это пустяки, дело житейское, и
расстраиваться тут нечего". "Неужели Карлсон больше никогда не прилетит?"
- с тревогой подумал Малыш.
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал себе Малыш, подражая
Карлсону. - Карлсон ведь обещал, а он такой, что ему можно верить, это
сразу видно. Через денек-другой он прилетит, наверняка прилетит.
...Малыш лежал на полу в своей комнате и читал книгу, когда снова
услышал за окном какое-то жужжание, и, словно гигантский шмель, в комнату
влетел Карлсон. Он сделал несколько кругов под потолком, напевая
вполголоса какую-то веселую песенку. Пролетая мимо висящих на стенах
картин, он всякий раз сбавлял скорость, чтобы лучше их рассмотреть. При
этом он склонял набок голову и прищуривал глазки.
- Красивые картины, - сказал он наконец. - Необычайно красивые
картины! Хотя, конечно, не такие красивые, как мои.
Малыш вскочил на ноги и стоял, не помня себя от восторга: так он был
рад, что Карлсон вернулся.
- А у тебя там на крыше много картин? - спросил он.
- Несколько тысяч. Ведь я сам рисую в свободное время. Я рисую
маленьких петухов и птиц и другие красивые вещи. Я лучший в мире
рисовальщик петухов, - сказал Карлсон и, сделав изящный разворот,
приземлился на пол рядом с Малышом.
- Что ты говоришь! - удивился Малыш. - А нельзя ли мне подняться с
тобой на крышу? Мне так хочется увидеть твой дом, твои паровые машины и
твои картины!..
- Конечно, можно, - ответил Карлсон, - само собой разумеется. Ты
будешь дорогим гостем... как- нибудь в другой раз.
- Поскорей бы! - воскликнул Малыш.
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон. - Я должен
сначала прибрать у себя в доме. Но на это не уйдет много времени. Ты ведь
догадываешься, кто лучший в мире мастер скоростной уборки комнат?
- Наверно, ты, - робко сказал Малыш.
- "Наверно"! - возмутился Карлсон. - Ты еще говоришь "наверно"! Как
ты можешь сомневаться! Карлсон, который живет на крыше, - лучший в мире
мастер скоростной уборки комнат. Это всем известно.
Малыш не сомневался, что Карлсон во всем "лучший в мире". И уж
наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом Малыш убедился
на собственном опыте... Правда, Кристер, и Гунилла тоже хорошие товарищи,
но им далеко до Карлсона, который живет на крыше! Кристер только и делает,
что хвалится своей собакой Еффой, и Малыш ему давнозавидует.
"Если он завтра опять будет хвастаться Еффой, я ему расскажу про
Карлсона. Что стоит его Еффа по сравнению с Карлсоном, который живет на
крыше! Так я ему и скажу".
И все же ничего на свете Малыш так страстно не желал иметь, как
собаку... Карлсон прервал размышления Малыща.
- Я бы не прочь сейчас слегка поразвлечься, - сказал он и с
любопытством огляделся вокруг. - Тебе не купили новой паровой машины?
Малыш покачал головой. Он вспомнил о своей паровой машине и подумал:
"Вот сейчас, когда Карлсон здесь, мама и папа смогут убедиться, что он в
самом деле существует". А если Боссе и Бетан дома, то им он тоже покажет
Карлсона.
- Хочешь пойти познакомиться с моими мамой и папой? - спросил Малыш.
- Конечно! С восторгом! - ответил Карлсон. - Им будет очень приятно
меня увидеть - ведь я такой красивый и умный... - Карлсон с довольным
видом прошелся по комнате. - И в меру упитанный, - добавил он. - Короче,
мужчина в самом расцвете сил. Да, твоим родителям будет очень приятно со
мной познакомиться.
По доносившемуся из кухни запаху жарящихся мясных тефтелей Малыш
понял, что скоро будут обедать. Подумав, он решил свести Карлсона
познакомиться со своими родными после обеда. Во-первых, никогда ничего
хорошего не получается, когда маме мешают жарить тефтели. А кроме того,
вдруг папа или мама вздумают завести с Карлсоном разговор о паровой машине
или о пятнах на книжной полке... А такого разговора ни в коем случае
нельзя допускать. Во время обеда Малыш постарается втолковать и папе и
маме, как надо относиться к лучшему в мире специалисту по паровым машинам.
Вот когда они пообедают и все поймут, Малыш пригласит всю семью к себе в
комнату.
"Будьте добры, - скажет Малыш, - пойдемте ко мне. У меня в гостях
Карлсон, который живет на крыше".
Как они изумятся! Как будет забавно глядеть на их лица!
Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. Он замер на месте и
стал принюхиваться, словно ищейка.
- Мясные тефтели, - сказал он. - Обожаю сочные вкусные тефтели!
Малыш смутился. Собственно говоря, на эти слова Карлсона надо было бы
ответить только одно: "Если хочешь, останься и пообедай с нами". Но Малыш
не решился произнести такую фразу. Невозможно привести Карлсона к обеду
без предварительного объяснения с родителями. Вот Кристера и Гуниллу - это
другое дело. С ними Малыш может примчаться в последнюю минуту, когда все
остальные уже сидят за столом, и сказать: "Милая мама, дай, пожалуйста,
Кристеру и Гунилле горохового супа и блинов". Но привести к обеду
совершенно незнакомого маленького толстого человечка, который к тому же
взорвал паровую машину и прожег книжную полку, - нет, этого так просто
сделать нельзя!
Но ведь Карлсон только что заявил, что обожает сочные вкусные мясные
тефтели, - значит, надо во чтобы то ни стало угостить его тефтелями, а то
он еще обидится на Малыша и больше не захочет с ним играть... Ах, как
много теперь зависело от этих, вкусных мясных тефтелей!
- Подожди минутку, - сказал Малыш. - Я сбега на кухню за тефтелями.
Карлсон одобряюще кивнул головой.
- Неси скорей! - крикнул он вслед Малышу. - Одними картинами сыт не
будешь!
Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике стояла у плиты и
жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую
сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и
переворачивались на другую сторону.
- А, это ты, Малыш? - сказала мама. - Скоро будем обедать.
- Мамочка, - произнес Малыш самым вкрадчивым голосом, на который был
только способен, - мамочка, положи, пожалуйста, несколько тефтелек на
блюдце, и я отнесу их в свою комнату.
- Сейчас, сынок, мы сядем за стол, - ответил; мама.
- Я знаю, но все равно мне очень нужно... После обеда я тебе объясню,
в чем дело.
- Ну ладно, ладно, - сказала мама и положила на маленькую тарелочку
шесть тефтелей. - На, возьми.
О, чудесные маленькие тефтели! Они пахли так восхитительно и были
такие поджаристые, румяные - словом, такие, какими и должны быть хорошие
мясные тефтели!
Малыш взял тарелку обеими руками и осторожно понес ее в свою комнату.
- Вот и я, Карлсон! - крикнул Малыш, отворяя дверь.
Но Карлсон исчез. Малыш стоял с тарелкой посреди комнаты и
оглядывался по сторонам. Никакого Карлсона не было. Это было так грустно,
что у Малыша сразу же испортилось настроение.
- Он ушел, - сказал вслух Малыш. - Он ушел. Но вдруг...
- Пип! - донесся до Малыша какой-то странный писк.
Малыш повернул голову. На кровати, рядом с подушкой, под одеялом,
шевелился какой-то маленький комок и пищал:
- Пип! Пип!
А затем из-под одеяла выглянуло лукавое лицо Карлсона.
- Хи-хи! Ты сказал: "он ушел", "он ушел"... Хи-хи! А "он" вовсе не
ушел - "он" только спрятался!.. - пропищал Карлсон.
Но тут он увидел в руках Малыша тарелочку и мигом нажал кнопку на
животе. Мотор загудел, Карлсон стремительно спикировал с кровати прямо к
тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвился к потолку
и, сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принялся жевать.
- Восхитительные тефтельки! - воскликнул Карлсон. - На редкость
вкусные тефтельки! Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист
по тефтелям!.. Но ты, конечно, знаешь, что это не так, - добавил он.
Карлсон снова спикировал к тарелке и взял еще одну тефтельку.
В этот момент из кухни послышался мамин голос:
- Малыш, мы садимся обедать, быстро мой руки!
- Мне надо идти, - сказал Малыш Карлсону и поставил тарелочку на пол.
- Но я очень скоро вернусь. Обещай, что ты меня дождешься.
- Хорошо, дождусь, - сказал Карлсон. - Но что мне здесь делать без
тебя? - Карлсон спланировал на пол и приземлился возле Малыша. - Пока тебя
не будет, я хочу заняться чем-нибудь интересным. У тебя правда нет больше
паровых машин?
- Нет, - ответил Малыш. - .Машин нет, но есть кубики.
- Покажи, - сказал Карлсон. Малыш достал из шкафа, где лежали
игрушки, ящик со строительным набором. Это был и в самом деле великолепный
строительный материал - разноцветные детали различной формы.
обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии
Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой
обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят - Боссе, Бетан и Малыша.
- Я вовсе не самый обыкновенный малыш, - говорит Малыш.
Но это, конечно, неправда. Ведь на свете столько мальчишек, которым
семь лет, у которых голубые глаза, немытые уши и разорванные на коленках
штанишки, что сомневаться тут нечего: Малыш - самый обыкновенный мальчик.
Боссе пятнадцать лет, и он с большей охотой стоит в футбольных
воротах, чем у школьной доски, а значит - он тоже самый обыкновенный
мальчик.
Бетан четырнадцать лет, и у нее косы точь-в-точь такие же, как у
других самых обыкновенных девочек.
Во всем доме есть только одно не совсем обыкновенное существо -
Карлсон, который живет на крыше. Да, он живет на крыше, и одно это уже
необыкновенно. Быть может, в других городах дело обстоит иначе, но в
Стокгольме почти никогда не случается, чтобы кто-нибудь жил на крыше, да
еще в отдельном маленьком домике. А вот Карлсон, представьте себе, живет
именно там.
Карлсон - это маленький толстенький самоуверенный человечек, и к тому
же он умеет летать. На самолетах и вертолетах летать могут все, а вот
Карлсон умеет летать сам по себе. Стоит ему только нажать кнопку на
животе, как у него за спиной тут же начинает работать хитроумный моторчик.
С минуту, пока пропеллер не раскрутится как следует, Карлсон стоит
неподвижно, но когда мотор заработает вовсю, Карлсон взмывает ввысь и
летит, слегка покачиваясь, с таким важным и достойным видом, словно
какой-нибудь директор, - конечно, если можно себе представить директора с
пропеллером за спиной.
Карлсону прекрасно живется в маленьком домике на крыше. По вечерам он
сидит на крылечке, покуривает трубку да глядит на звезды. С крыши,
разумеется, звезды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только
удивляться, что так мало людей живет на крышах. Должно быть, другие жильцы
просто не догадываются поселиться на крыше. Ведь они не знают, что у
Карлсона там свой домик, потому что домик этот спрятан за большой дымовой
трубой. И вообще, станут ли взрослые обращать внимание на какой-то там
крошечный домик, даже если и споткнутся о него?
Как-то раз один трубочист вдруг увидел домик Карлсона.
Он очень
удивился и сказал самому себе:
- Странно... Домик?.. Не может быть! На крыше стоит маленький
домик?.. Как он мог здесь оказаться?
Затем трубочист полез в трубу, забыл про домик и уж никогда больше о
нем не вспоминал.
Малыш был очень рад, что познакомился с Карлсоном. Как только Карлсон
прилетал, начинались необычайные приключения. Карлсону, должно быть, тоже
было приятно познакомиться с Малышом. Ведь что ни говори, а не очень-то
уютно жить одному в маленьком домике, да еще в таком, о котором никто и не
слышал. Грустно, если некому крикнуть: "Привет, Карлсон!", когда ты
пролетаешь мимо.
Их знакомство произошло в один из тех неудачных, дней, когда быть
Малышом не доставляло никакой радости, хотя обычно быть Малышом чудесно.
Ведь Малыш - любимец всей семьи, и каждый балует его как только может. Но
в тот день все шло шиворот-навыворот. Мама выругала его за то, что он
опять разорвал штаны, Бетан крикнула ему: "Вытри нос! ", а папа
рассердился, потому что Малыш поздно пришел из школы.
- По улицам слоняешься! - сказал папа.
"По улицам слоняешься!" Но ведь папа не знал, что по дороге домой
Малышу повстречался щенок. Милый, прекрасный щенок, который обнюхал Малыша
и приветливо завилял хвостом, словно хотел стать его щенком.
Если бы это зависело от Малыша, то желание щенка осуществилось бы тут
же. Но беда заключалась в том, что мама и папа ни за что не хотели держать
в доме собаку. А кроме того, из-за угла вдруг появилась какая-то тетка и
закричала: "Рики! Рики! Сюда!" - и тогда Малышу стало совершенно ясно, что
этот щенок уже никогда не станет его щенком.
- Похоже, что так всю жизнь и прожзшешь без собаки, - с горечью
сказал Малыш, когда все обернулось против него. - Вот у тебя, мама, есть
папа; и Боссе с Бетан тоже всегда вместе. А у меня - у меня никого нет!..
- Дорогой Малыш, ведь у тебя все мы! - сказала мама.
- Не знаю... - с еще большей горечью произнес Малыш, потому что ему
вдруг показалось, что у него действительно никого и ничего нет на свете.
Впрочем, у него была своя комната, и он туда отправился.
Стоял ясный весенний вечер, окна были открыты, и белые занавески
медленно раскачивались, словно здороваясь с маленькими бледными звездами,
только что появившимися на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о
подоконник и стал смотреть в окно. Он думал о том прекрасном щенке,
который повстречался ему сегодня. Быть может, этот щенок лежит сейчас в
корзинке на кухне и какой-нибудь мальчик - не Малыш, а другой - сидит
рядом с ним на полу, гладит его косматую голову и приговаривает: "Рики, ты
чудесный пес!"
Малыш тяжело вздохнул. Вдруг он услышал какое-то слабое жужжание. Оно
становилось все громче и громче, и вот, как это ни покажется странным,
мимо окна пролетел толстый человечек. Это и был Карлсон, который живет на
крыше. Но ведь в то время Малыш еще не знал его.
Карлсон окинул Малыша внимательным, долгим взглядом и полетел дальше.
Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и
повернул назад, к окну. Затем он прибавил скорость и пронесся мимо Малыша,
как настоящий маленький самолет. Потом сделал второй круг. Потом третий.
Малыш стоял не шелохнувшись и ждал, что будет дальше. У него просто
дух захватило от волнения и по спине побежали мурашки - ведь не каждый
день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки.
А человечек за окном тем временем замедлил ход и, поравнявшись с
подоконником, сказал:
- Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться?
- Да, да, пожалуйста, - поспешно ответил Малыш и добавил: - А что,
трудно вот так летать?
- Мне - ни капельки, - важно произнес Карлсон, - потому что я лучший
в мире летун! Но я не советовал бы увальню, похожему на мешок с сеном,
подражать мне.
Малыш подумал, что на "мешок с сеном" обижаться не стоит, но решил
никогда не пробовать летать.
- Как тебя зовут? - спросил Карлсон.
- Малыш. Хотя по-настоящему меня зовут Сванте Свантесон.
- А меня, как это ни странно, зовут Карлсон. Просто Карлсон, и все.
Привет, Малыш!
- Привет, Карлсон! - сказал Малыш.
- Сколько тебе лет? - спросил Карлсон.
- Семь, - ответил Малыш.
- Отлично. Продолжим разговор, - сказал сон.
Затем он быстро перекинул через подоконник одну за другой свои
маленькие толстенькие ножки и очутился в комнате.
- А тебе сколько лет? - спросил Малыш, решив, что Карлсон ведет себя
уж слишком ребячливо для взрослого дяди.
- Сколько мне лет? - переспросил Карлсон. - Я мужчина в самом
расцвете сил, больше я тебе ничего не могу сказать.
Малыш в точности не понимал, что значит быть мужчиной в самом
расцвете сил. Может быть, он тоже мужчина в самом расцвете сил, но только
еще не знает об этом? Поэтому он осторожно спросил:
- А в каком возрасте бывает расцвет сил?
- В любом! - ответил Карлсон с довольной улыбкой. - В любом, во
всяком случае, когда речь идет обо мне. Я красивый, умный и в меру
упитанный мужчина в самом расцвете сил!
Он подошел к книжной полке Малыша и вытащил стоявшую там игрушечную
паровую машину.
- Давай запустим ее, - предложил Карлсон.
- Без папы нельзя, - сказал Малыш. - Машину можно запускать только
вместе с папой или Боссе.
- С папой, с Боссе или с Карлсоном, который живет на крыше. Лучший в
мире специалист по паровым машинам - это Карлсон, который живет на крыше.
Так и передай своему папе! - сказал Карлсон.
Он быстро схватил бутылку с денатуратом, которая стояла рядом с
машиной, наполнил маленькую спиртовку и зажег фитиль.
Хотя Карлсон и был лучшим в мире специалистом по паровым машинам,
денатурат он наливал весьма неуклюже и даже пролил его, так что на полке
образовалось целое денатуратное озеро. Оно тут же загорелось, и на
полированной поверхности заплясали веселые голубые язычки пламени. Малыш
испуганно вскрикнул и отскочил.
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон и предостерегающе
поднял свою пухлую ручку.
Но Малыш не мог стоять спокойно, когда видел огонь. Он быстро схватил
тряпку и прибил пламя. На полированной поверхности полки осталось
несколько больших безобразных пятен.
- Погляди, как испортилась полка! - озабоченно произнес Малыш. - Что
теперь скажет мама?
- Пустяки, дело житейское! Несколько крошечных пятнышек на книжной
полке - это дело житейское. Так и передай своей маме.
Карлсон опустился на колени возле паровой машины, и глаза его
заблестели.
- Сейчас она начнет работать.
И действительно, не прошло и секунды, как паровая машина заработала.
Фут, фут, фут... - пыхтела она. О, это была самая прекрасная из всех
паровых машин, какие только можно себе вообразить, и Карлсон выглядел
таким гордым и счастливым, будто сам ее изобрел.
- Я должен проверить предохранительный клапан, - вдруг произнес
Карлсон и принялся крутить какую-то маленькую ручку. - Если не проверить
предохранительные клапаны, случаются аварии.
Фут-фут-фут... - пыхтела машина все быстрее и быстрее. -
Фут-фут-фут!.. Под конец она стала задыхаться, точно мчалась галопом.
Глаза у Карлсона сияли.
А Малыш уже перестал горевать по поводу пятен на полке. Он был
счастлив, что у него есть такая чудесная паровая машина и что он
познакомился с Карлсоном, лучшим в мире специалистом по паровым машинам,
который так искусно проверил ее предохранительный клапан.
- Ну, Малыш, - сказал Карлсон, - вот это действительно "фут-фут-фут"!
Вот это я понимаю! Лучший в мире спе...
Но закончить Карлсон не успел, потому что в этот момент раздался
громкий взрыв и паровой машины не стало, а обломки ее разлетелись по всей
комнате.
- Она взорвалась! - в восторге закричал Карлсон, словно ему удалось
проделать с паровой машиной самый интересный фокус. - Честное слово, она
взорвалась! Какой грохот! Вот здорово!
Но Малыш не мог разделить радость Карлсона. Он стоял растерянный, с
глазами, полными слез.
- Моя паровая машина... - всхлипывал он. - Моя паровая машина
развалилась на куски!
- Пустяки, дело житейское! - И Карлсон беспечно махнул своей
маленькой пухлой рукой. - Я тебе дам еще лучшую машину, - успокаивал он
Малыша.
- Ты? - удивился Малыш.
- Конечно. У меня там, наверху, несколько тысяч паровых машин.
- Где это у тебя там, наверху?
- Наверху, в моем домике на крыше.
- У тебя есть домик на крыше? - переспросил Малыш. - И несколько
тысяч паровых машин?
- Ну да. Уж сотни две наверняка.
- Как бы мне хотелось побывать в твоем домике! - воскликнул Малыш.
В это было трудно поверить: маленький домик на крыше, и в нем живет
Карлсон...
- Подумать только, дом, набитый паровыми машинами! - воскликнул
Малыш. - Две сотни машин!
- Ну, я в точности не считал, сколько их там осталось, - уточнил
Карлсон, - но уж никак не меньше нескольких дюжин.
- И ты мне дашь одну машину?
- Ну конечно!
- Прямо сейчас!
- Нет, сначала мне надо их немножко осмотреть, проверить
предохранительные клапаны... ну, и тому подобное. Спокойствие, только
спокойствие! Ты получишь машину на днях.
Малыш принялся собирать с пола куски того, что раньше было его
паровой машиной.
- Представляю, как рассердится папа, - озабоченно пробормотал он.
Карлсон удивленно поднял брови:
- Из-за паровой машины? Да ведь это же пустяки, дело житейское. Стоит
ли волноваться по такому поводу! Так и передай своему папе. Я бы ему это
сам сказал, но спешу и поэтому не могу здесь задерживаться... Мне не
удастся сегодня встретиться с твоим папой. Я должен слетать домой,
поглядеть, что там делается.
- Это очень хорошо, что ты попал ко мне, - сказал Малыш. - Хотя,
конечно, паровая машина... Ты еще когда-нибудь залетишь сюда?
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон и нажал кнопку на
своем животе.
Мотор загудел, но Карлсон все стоял неподвижно и ждал, пока пропеллер
раскрутится во всю мощь. Но вот Карлсон оторвался от пола и сделал
несколько кругов.
- Мотор что-то барахлит. Надо будет залететь в мастерскую, чтобы его
там смазали. Конечно, я и сам мог бы это сделать, да, беда, нет времени...
Думаю, что я все-таки загляну в мастерскую. Малыш тоже подумал, что так
будет разумнее. Карлсон вылетел в открытое окно; его маленькая толстенькая
фигурка четко вырисовывалась на весеннем, усыпанном звездами небе.
- Привет, Малыш! - крикнул Карлсон, помахал своей пухлое ручкой и
скрылся.
КАРЛСОН СТРОИТ БАШНЮ
- Я ведь вам уже говорил, что его зовут Карлсон и что он живет там,
наверху, на крыше, - сказал Малыш. - Что же здесь особенного? Разве люди
не могут жить, где им хочется?..
- Не упрямься, Малыш, - сказала мама. - Если бы ты знал, как ты нас
напугал! Настоящий взрыв. Ведь тебя могло убить! Неужели ты не понимаешь?
- Понимаю, но все равно Карлсон - лучший в мире специалист по паровым
машинам, - ответил Малыш и серьезно посмотрел на свою маму.
Ну как она не понимает, что невозможно сказать "нет", когда лучший в
мире специалист по паровым машинам предлагает проверить предохранительный
клапан!
- Надо отвечать за свои поступки, - строго сказал папа, - а не
сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не
существует.
- Нет, - сказал Малыш, - существует!
- Да еще и летать умеет! - насмешливо подхватил Боссе.
- Представь себе, умеет, - отрезал Малыш. - Я надеюсь, что он залетит
к нам, и ты сам увидишь.
- Хорошо бы он залетел завтра, - сказала Бетан. - Я дам тебе крону,
Малыш, если увижу своими глазами Карлсона, который живет на крыше.
- Нет, завтра ты его не увидишь - завтра он должен слетать в
мастерскую смазать мотор.
- Ну, хватит рассказывать сказки, - сказала мама. - Ты лучше погляди,
на что похожа твоя книжная полка.
- Карлсон говорит, что это пустяки, дело житейское! - И Малыш махнул
рукой, точь-в-точь как махал Карлсон, давая понять, что вовсе не стоит
расстраиваться из-за каких-то там пятен на полке.
Но ни слова Малыша, ни этот жест не произвели на маму никакого
впечатления.
- Вот, значит, как говорит Карлсон? - строго сказала она. - Тогда
передай ему, что, если он еще раз сунет сюда свой нос, я его так отшлепаю
- век будет помнить.
Малыш ничего не ответил. Ему показалось ужасным, что мама собирается
отшлепать лучшего в мире специалиста по паровым машинам. Да, ничего
хорошего нельзя было ожидать в такой неудачный день, когда буквально все
шло шиворот-навыворот.
И вдруг Малыш почувствовал, что он очень соскучился по Карлсону -
бодрому, веселому человечку, который так потешно махал своей маленькой
рукой, приговаривая: "Неприятности - это пустяки, дело житейское, и
расстраиваться тут нечего". "Неужели Карлсон больше никогда не прилетит?"
- с тревогой подумал Малыш.
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал себе Малыш, подражая
Карлсону. - Карлсон ведь обещал, а он такой, что ему можно верить, это
сразу видно. Через денек-другой он прилетит, наверняка прилетит.
...Малыш лежал на полу в своей комнате и читал книгу, когда снова
услышал за окном какое-то жужжание, и, словно гигантский шмель, в комнату
влетел Карлсон. Он сделал несколько кругов под потолком, напевая
вполголоса какую-то веселую песенку. Пролетая мимо висящих на стенах
картин, он всякий раз сбавлял скорость, чтобы лучше их рассмотреть. При
этом он склонял набок голову и прищуривал глазки.
- Красивые картины, - сказал он наконец. - Необычайно красивые
картины! Хотя, конечно, не такие красивые, как мои.
Малыш вскочил на ноги и стоял, не помня себя от восторга: так он был
рад, что Карлсон вернулся.
- А у тебя там на крыше много картин? - спросил он.
- Несколько тысяч. Ведь я сам рисую в свободное время. Я рисую
маленьких петухов и птиц и другие красивые вещи. Я лучший в мире
рисовальщик петухов, - сказал Карлсон и, сделав изящный разворот,
приземлился на пол рядом с Малышом.
- Что ты говоришь! - удивился Малыш. - А нельзя ли мне подняться с
тобой на крышу? Мне так хочется увидеть твой дом, твои паровые машины и
твои картины!..
- Конечно, можно, - ответил Карлсон, - само собой разумеется. Ты
будешь дорогим гостем... как- нибудь в другой раз.
- Поскорей бы! - воскликнул Малыш.
- Спокойствие, только спокойствие! - сказал Карлсон. - Я должен
сначала прибрать у себя в доме. Но на это не уйдет много времени. Ты ведь
догадываешься, кто лучший в мире мастер скоростной уборки комнат?
- Наверно, ты, - робко сказал Малыш.
- "Наверно"! - возмутился Карлсон. - Ты еще говоришь "наверно"! Как
ты можешь сомневаться! Карлсон, который живет на крыше, - лучший в мире
мастер скоростной уборки комнат. Это всем известно.
Малыш не сомневался, что Карлсон во всем "лучший в мире". И уж
наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом Малыш убедился
на собственном опыте... Правда, Кристер, и Гунилла тоже хорошие товарищи,
но им далеко до Карлсона, который живет на крыше! Кристер только и делает,
что хвалится своей собакой Еффой, и Малыш ему давнозавидует.
"Если он завтра опять будет хвастаться Еффой, я ему расскажу про
Карлсона. Что стоит его Еффа по сравнению с Карлсоном, который живет на
крыше! Так я ему и скажу".
И все же ничего на свете Малыш так страстно не желал иметь, как
собаку... Карлсон прервал размышления Малыща.
- Я бы не прочь сейчас слегка поразвлечься, - сказал он и с
любопытством огляделся вокруг. - Тебе не купили новой паровой машины?
Малыш покачал головой. Он вспомнил о своей паровой машине и подумал:
"Вот сейчас, когда Карлсон здесь, мама и папа смогут убедиться, что он в
самом деле существует". А если Боссе и Бетан дома, то им он тоже покажет
Карлсона.
- Хочешь пойти познакомиться с моими мамой и папой? - спросил Малыш.
- Конечно! С восторгом! - ответил Карлсон. - Им будет очень приятно
меня увидеть - ведь я такой красивый и умный... - Карлсон с довольным
видом прошелся по комнате. - И в меру упитанный, - добавил он. - Короче,
мужчина в самом расцвете сил. Да, твоим родителям будет очень приятно со
мной познакомиться.
По доносившемуся из кухни запаху жарящихся мясных тефтелей Малыш
понял, что скоро будут обедать. Подумав, он решил свести Карлсона
познакомиться со своими родными после обеда. Во-первых, никогда ничего
хорошего не получается, когда маме мешают жарить тефтели. А кроме того,
вдруг папа или мама вздумают завести с Карлсоном разговор о паровой машине
или о пятнах на книжной полке... А такого разговора ни в коем случае
нельзя допускать. Во время обеда Малыш постарается втолковать и папе и
маме, как надо относиться к лучшему в мире специалисту по паровым машинам.
Вот когда они пообедают и все поймут, Малыш пригласит всю семью к себе в
комнату.
"Будьте добры, - скажет Малыш, - пойдемте ко мне. У меня в гостях
Карлсон, который живет на крыше".
Как они изумятся! Как будет забавно глядеть на их лица!
Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. Он замер на месте и
стал принюхиваться, словно ищейка.
- Мясные тефтели, - сказал он. - Обожаю сочные вкусные тефтели!
Малыш смутился. Собственно говоря, на эти слова Карлсона надо было бы
ответить только одно: "Если хочешь, останься и пообедай с нами". Но Малыш
не решился произнести такую фразу. Невозможно привести Карлсона к обеду
без предварительного объяснения с родителями. Вот Кристера и Гуниллу - это
другое дело. С ними Малыш может примчаться в последнюю минуту, когда все
остальные уже сидят за столом, и сказать: "Милая мама, дай, пожалуйста,
Кристеру и Гунилле горохового супа и блинов". Но привести к обеду
совершенно незнакомого маленького толстого человечка, который к тому же
взорвал паровую машину и прожег книжную полку, - нет, этого так просто
сделать нельзя!
Но ведь Карлсон только что заявил, что обожает сочные вкусные мясные
тефтели, - значит, надо во чтобы то ни стало угостить его тефтелями, а то
он еще обидится на Малыша и больше не захочет с ним играть... Ах, как
много теперь зависело от этих, вкусных мясных тефтелей!
- Подожди минутку, - сказал Малыш. - Я сбега на кухню за тефтелями.
Карлсон одобряюще кивнул головой.
- Неси скорей! - крикнул он вслед Малышу. - Одними картинами сыт не
будешь!
Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике стояла у плиты и
жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую
сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и
переворачивались на другую сторону.
- А, это ты, Малыш? - сказала мама. - Скоро будем обедать.
- Мамочка, - произнес Малыш самым вкрадчивым голосом, на который был
только способен, - мамочка, положи, пожалуйста, несколько тефтелек на
блюдце, и я отнесу их в свою комнату.
- Сейчас, сынок, мы сядем за стол, - ответил; мама.
- Я знаю, но все равно мне очень нужно... После обеда я тебе объясню,
в чем дело.
- Ну ладно, ладно, - сказала мама и положила на маленькую тарелочку
шесть тефтелей. - На, возьми.
О, чудесные маленькие тефтели! Они пахли так восхитительно и были
такие поджаристые, румяные - словом, такие, какими и должны быть хорошие
мясные тефтели!
Малыш взял тарелку обеими руками и осторожно понес ее в свою комнату.
- Вот и я, Карлсон! - крикнул Малыш, отворяя дверь.
Но Карлсон исчез. Малыш стоял с тарелкой посреди комнаты и
оглядывался по сторонам. Никакого Карлсона не было. Это было так грустно,
что у Малыша сразу же испортилось настроение.
- Он ушел, - сказал вслух Малыш. - Он ушел. Но вдруг...
- Пип! - донесся до Малыша какой-то странный писк.
Малыш повернул голову. На кровати, рядом с подушкой, под одеялом,
шевелился какой-то маленький комок и пищал:
- Пип! Пип!
А затем из-под одеяла выглянуло лукавое лицо Карлсона.
- Хи-хи! Ты сказал: "он ушел", "он ушел"... Хи-хи! А "он" вовсе не
ушел - "он" только спрятался!.. - пропищал Карлсон.
Но тут он увидел в руках Малыша тарелочку и мигом нажал кнопку на
животе. Мотор загудел, Карлсон стремительно спикировал с кровати прямо к
тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвился к потолку
и, сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принялся жевать.
- Восхитительные тефтельки! - воскликнул Карлсон. - На редкость
вкусные тефтельки! Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист
по тефтелям!.. Но ты, конечно, знаешь, что это не так, - добавил он.
Карлсон снова спикировал к тарелке и взял еще одну тефтельку.
В этот момент из кухни послышался мамин голос:
- Малыш, мы садимся обедать, быстро мой руки!
- Мне надо идти, - сказал Малыш Карлсону и поставил тарелочку на пол.
- Но я очень скоро вернусь. Обещай, что ты меня дождешься.
- Хорошо, дождусь, - сказал Карлсон. - Но что мне здесь делать без
тебя? - Карлсон спланировал на пол и приземлился возле Малыша. - Пока тебя
не будет, я хочу заняться чем-нибудь интересным. У тебя правда нет больше
паровых машин?
- Нет, - ответил Малыш. - .Машин нет, но есть кубики.
- Покажи, - сказал Карлсон. Малыш достал из шкафа, где лежали
игрушки, ящик со строительным набором. Это был и в самом деле великолепный
строительный материал - разноцветные детали различной формы.
Ирина Богатова,
29-12-2011 11:17
(ссылка)
Белое счастье.
Снег падает огромными белоснежными хлопьями. Как мягкие пушинки хлопья тихо приземляются на деревья, на дома и землю. Мимо бегут люди, забывая в суете обыденности взглянуть вокруг. На нос им падают разнообразные узоры зимней красоты. А они только бегут, и бегут, смахивая белый пух, как ненужный забытый хлам.
Открыв настежь окно, я вздохнула полной грудью. Ветерок принёс на мои ресницы мягкий островок счастья. Одна снежинка упала мне на ладошку. Как она была прекрасна! Чёткие, ровные линии перекрещивались между собой в этих кристалликах замёрзшей воды, будто сам Господь лепил их каждую вручную.
Пока я любовалась прелестью снега, моя снежинка растаяла. Она испарилась, будто её и не было. Исчезла, словно ей не хватило внимания, стекла одинокой слезой по руке. Пушинка снега подарила миг счастья для того, чтобы оставить след в душе, но пропала на совсем, без остатка. Она принесла себя в жертву для того, чтобы стало всё просто и понятно, для того, чтобы сердце наполнилось радостью и захотелось кричать от увиденной красоты, для того, чтобы человек стал ближе к таинственной чистоте природы.
А снег всё падал и падал, придавая городу, видневшемуся из окна, сказочный вид. Деревья принимали замысловатые очертания, будто фигуры троллей и невиданных существ. Казалось, что даже машины ехали медленнее, отдавая дань природе в её тихой, ангельской задумчивости.
Мне захотелось непременно поделиться своим радостным настроением. Я вышла на улицу. Завидев первого попавшегося прохожего, я стала приближаться к нему. Это был человек лет 30, одетый в чёрное пальто, мужчина. Его лицо не выражало никаких эмоций.
- Посмотрите, какая красота!- сказала я, протягивая варежку встречному, на которой мирно расположилась большая снежинка.
Человек, почему – то, посмотрел на меня с негодованием, будто я нарушила ход его рассуждений.
- Я не даю милостыню, - ответил он, видимо, не расслышав, что ему сказали. Он зашагал дальше, оставив меня стоять в ниспадающем счастье света.
Странное чувство охватило меня. Милостыня. К чему, зачем так? Неужели, он не увидел, что за воздушное создание природы у меня на рукавичке? Или я была похожа на того, кому непременно нужна была милостыня? Я, всего лишь, хотела поделиться счастьем увиденного.
Люди сновали взад и вперёд. Ища в их взгляде причастность ко всему происходящему вокруг, я начала отходить от оцепенения. Никто не обращал внимания на белое чудо. Уткнув бороду в ворот курток и шуб, люди пробегали мимо, будто пугаясь, что снег нарушит их покой. Закрываясь от падающих облачков, человечество пробегало в будничность дел.
Ноги сами зашагали от места, где я стояла. Так захотелось пробежаться по высоким сугробам, как в детстве. Чтобы потом плюхнуться в это огромное белое счастье. Чтобы забыть обо всём на свете, насладиться тишиной природы, слиться с ней в единый поток. Подумав, что со стороны это будет смотреться нелепо, я шагала дальше, не видя дороги.
Мои мысли занимали вопросы: неужели люди так и пройдут мимо, не насладившись прекрасным моментом? Неужели рутина жизни, жажда заработать больше денег оттеснит эту потребность восхищаться миром природы? Ведь она дарит нам такие чудеса! Она дарит чувства, чувства любви, созерцания, осмысления своего предназначения. Неужели эта пропавшая бесследно снежинка так сгинет навсегда, не оставив каплю жизни в сердцах людей?
Отойдя от своих размышлений, я заметила, что снегопад закончился. Причём, так же внезапно, как и начался. Не единой снежинки больше не упало с неба. И это, казалось, очень обрадовало проходивших мимо людей. Они начали вылезать из – под заснеженных капюшонов, озираться вокруг…
Идут года. Снова наступает зима. Я так же, как и много лет назад восхищаюсь увиденной красотой зимы. Будто в первый раз. Потому что каждая зима своя, особенная. В каждой есть свои загадки, новые снегопады, новые картины, со своими сказочными персонажами. В каждой новой снежинке своя тайна. У неё своя история, свой узор. И чем становится мир людей отрешённей от наслаждения природной красотой, тем усиливается снегопад. Будто хочет обратить на себя внимание, хочет остановить привычный ход событий, дать почувствовать людям, что они живут, а не просто существуют…
Не бойтесь быть нелепыми, не бойтесь смотреть на природу восторженными глазами первопроходцев! Ведь люди – часть природы.
Если Вы когда – нибудь увидите большие ниспадающие белые хлопья, задумайтесь, вдруг, природа хочет что – то сказать.
2011г.
Открыв настежь окно, я вздохнула полной грудью. Ветерок принёс на мои ресницы мягкий островок счастья. Одна снежинка упала мне на ладошку. Как она была прекрасна! Чёткие, ровные линии перекрещивались между собой в этих кристалликах замёрзшей воды, будто сам Господь лепил их каждую вручную.
Пока я любовалась прелестью снега, моя снежинка растаяла. Она испарилась, будто её и не было. Исчезла, словно ей не хватило внимания, стекла одинокой слезой по руке. Пушинка снега подарила миг счастья для того, чтобы оставить след в душе, но пропала на совсем, без остатка. Она принесла себя в жертву для того, чтобы стало всё просто и понятно, для того, чтобы сердце наполнилось радостью и захотелось кричать от увиденной красоты, для того, чтобы человек стал ближе к таинственной чистоте природы.
А снег всё падал и падал, придавая городу, видневшемуся из окна, сказочный вид. Деревья принимали замысловатые очертания, будто фигуры троллей и невиданных существ. Казалось, что даже машины ехали медленнее, отдавая дань природе в её тихой, ангельской задумчивости.
Мне захотелось непременно поделиться своим радостным настроением. Я вышла на улицу. Завидев первого попавшегося прохожего, я стала приближаться к нему. Это был человек лет 30, одетый в чёрное пальто, мужчина. Его лицо не выражало никаких эмоций.
- Посмотрите, какая красота!- сказала я, протягивая варежку встречному, на которой мирно расположилась большая снежинка.
Человек, почему – то, посмотрел на меня с негодованием, будто я нарушила ход его рассуждений.
- Я не даю милостыню, - ответил он, видимо, не расслышав, что ему сказали. Он зашагал дальше, оставив меня стоять в ниспадающем счастье света.
Странное чувство охватило меня. Милостыня. К чему, зачем так? Неужели, он не увидел, что за воздушное создание природы у меня на рукавичке? Или я была похожа на того, кому непременно нужна была милостыня? Я, всего лишь, хотела поделиться счастьем увиденного.
Люди сновали взад и вперёд. Ища в их взгляде причастность ко всему происходящему вокруг, я начала отходить от оцепенения. Никто не обращал внимания на белое чудо. Уткнув бороду в ворот курток и шуб, люди пробегали мимо, будто пугаясь, что снег нарушит их покой. Закрываясь от падающих облачков, человечество пробегало в будничность дел.
Ноги сами зашагали от места, где я стояла. Так захотелось пробежаться по высоким сугробам, как в детстве. Чтобы потом плюхнуться в это огромное белое счастье. Чтобы забыть обо всём на свете, насладиться тишиной природы, слиться с ней в единый поток. Подумав, что со стороны это будет смотреться нелепо, я шагала дальше, не видя дороги.
Мои мысли занимали вопросы: неужели люди так и пройдут мимо, не насладившись прекрасным моментом? Неужели рутина жизни, жажда заработать больше денег оттеснит эту потребность восхищаться миром природы? Ведь она дарит нам такие чудеса! Она дарит чувства, чувства любви, созерцания, осмысления своего предназначения. Неужели эта пропавшая бесследно снежинка так сгинет навсегда, не оставив каплю жизни в сердцах людей?
Отойдя от своих размышлений, я заметила, что снегопад закончился. Причём, так же внезапно, как и начался. Не единой снежинки больше не упало с неба. И это, казалось, очень обрадовало проходивших мимо людей. Они начали вылезать из – под заснеженных капюшонов, озираться вокруг…
Идут года. Снова наступает зима. Я так же, как и много лет назад восхищаюсь увиденной красотой зимы. Будто в первый раз. Потому что каждая зима своя, особенная. В каждой есть свои загадки, новые снегопады, новые картины, со своими сказочными персонажами. В каждой новой снежинке своя тайна. У неё своя история, свой узор. И чем становится мир людей отрешённей от наслаждения природной красотой, тем усиливается снегопад. Будто хочет обратить на себя внимание, хочет остановить привычный ход событий, дать почувствовать людям, что они живут, а не просто существуют…
Не бойтесь быть нелепыми, не бойтесь смотреть на природу восторженными глазами первопроходцев! Ведь люди – часть природы.
Если Вы когда – нибудь увидите большие ниспадающие белые хлопья, задумайтесь, вдруг, природа хочет что – то сказать.
2011г.

Метки: проза
алекс грин,
14-12-2011 19:02
(ссылка)
Сергей Ковякин Дьявольская субмарина
Закат за широким панорамным окном мастерской угасал, когда художник закончил полотно. Леонид Лано́й снял картину с трёхногой подставки и огляделся — куда бы её пристроить, чтобы посмотреть издали, как бы посторонним взглядом? В кабинет нести не хотелось, там стены занимала «продажка», а здесь, он чувствовал, получилось стоящее. Торопливо составил рядом два стула а ля Людовик и прислонил к их капризно выгнутым спинкам узкое полотно.
Закатное солнце готово было утонуть в водах бухты Тихой.
Прощальный луч осветил верхний этаж дома-башни, что стоял на каменистой сопке и обвевался всеми ветрами. Заглянул он и в мастерскую. Леонид сделал три шага назад, поднял глаза на картину и вздрогнул.
Произошло колдовство. Море на полотне ожило, плеснуло свинцовой рябью. Акулий корпус подводной лодки, шедшей прямо на зрителя, стремительно рассекал волны.
Вот тогда-то хриплым варварским проклятием азиатских побережий срединного моря прозвучали слова коренастого и рыжего, судорожно вцепившегося клешнями рук в ограждение рубки:
— Шанхар, тарс им манехем!
Высокий спутник коренастого, обезьяноликого, стоявший справа, сбросил кожаный капюшон альпака, непромокаемой униформы подводников, и злобно уставился на своего создателя красноватыми, тлеющими зрачками змеи. Пожалуй, вряд ли он был рад произошедшему чуду.
Ланой тоже не обрадовался метаморфозам Белой Субмарины. Его поразило выражение лица этого типа в альпаке, доселе скрытое капюшоном, — в мороси брызг, с широко расставленными глазницами и выпуклыми, словно от базедовой болезни, глазами с вертикальными зрачками. И коренастый не отрываясь смотрел на своего повелителя — Адмирала Тьмы, льстиво, по-шакальи угодливо.
Море продолжало бушевать, слабый шум волн долетал до широкой комнаты, залитой светом, отражаемым хитроумными зеркалами за окном. Леонид прилип к стене, словно эти двое могли спрыгнуть с мостика к нему в мастерскую, и с нескрываемым изумлением продолжал рассматривать живой окоём картины, будто не он сам несколько минут назад нанёс свинцовыми белилами последний мазок на кильватерный след дьявольского корабля Глубин.
Подводная лодка стремглав неслась в бушующих просторах, шла уверенно, с каждым мигом приближаясь к Владивостоку, разводя буруны острым форштевнем. Два исчадия ада с нескрываемой ненавистью внимательно изучали художника. Волны облизывали горбатую палубу белого цвета в грязно-ржавых потёках и, шипя, скатывались обратно.
«Пятнадцать узлов в час», — машинально определил Леонид.
Пронзительно выл над лодкой ветер, лёгким сквозняком властвовал в комнате, шевелил сдвинутой шторой окна. Ему было дано прорваться сквозь плоскость картины вслед выкрику коренастого моряка, ему да ещё мельчайшим солёным брызгам.
Но вот луч солнца погас, и волшебство кончилось. За окном дремотно укладывалась на покой дальневосточная ночь, вдали, на рейде, всё ярче светились огни кораблей.
Леонид, освобождаясь от кошмара ожившего видения, оттолкнулся от стенки и двинулся на кухню. Там, не зажигая света, открыл холодильник, налил себе полстакана можжевёловой водки с запахом дымка и залпом выпил. Тяжело опустился на табурет.
Следовало приготовить наскоро ужин — холостяцкую глазунью, весь день всухомятку, но он всё сидел, бросив руки меж колен, и жернова-мысли с каменным стуком ворочались в голове. И в мастерскую не хотелось возвращаться, хотя нужно было бы взглянуть на работу при свете люминесцентных ламп. Он часто писал флюоресцирующими западногерманскими красками, те давали потрясающий эффект в темноте. Леонид неожиданно почувствовал, что боится ещё раз взглянуть на собственную работу.
«Пора кончать, — мелькнула здравая мысль. — Сопьюсь…» И тут же резко нырнул вперёд, зло шваркнул дверцей дорогого шведского «розенлева» и снова хватил можжевёловой, зацепив на закуску солидный ломоть солёной сёмги.
«Сопьюсь…» Придавленная алкогольными градусами мысль эта уже не казалась ему такой отчаянной, и Леонид принялся азартно жевать сёмгу вместе с крепкой шкурой.
«А если и так, кому я больно-то нужен, то ли гений, то ли сумасшедший? Кому?..»
2Свежий след когтей на ильме уже не удивил Аркадия. Тигр кружил вокруг него второй час. Обходил справа, крался слева, пересекал песчаную тропу, чётко отпечатывая гигантские следы могучих лап. Полосатая кошка забавлялась. Она была сыта и благодушна. Её раздражал запах металла и человеческого пота, промокшей одежды. Единственное, чего не было — запаха страха. Упрямый человек бесстрашно пробивался по заросшей лианами тропе.
Дальневосточная тайга с неохотой пропускала одинокого путника к берегу реки. Четверо его товарищей изрядно отстали, то и дело останавливаясь для краткой описи растительного ареала. У них были японские карабины, и с ними остались три лайки. У него тоже карабин, станковый рюкзак, массивная фотопушка на груди и длинный нож-балан, что с размаха опускался на сплетения лиан. Он знал: через неделю от его тропы не останется и следа, всё перевьют, сцепившись намертво, молодые побеги.
Примерно три часа назад он почувствовал пристальный взгляд в спину. Но пятнистый подлесок, испещрённый пятнами солнца и глубокой тени, мог спрятать добрую сотню хищников. Непроходимые уссурийские дебри, где соседствовали маньчжурский орех и корейский дуб, дикий виноград и лимонник, сплошные заросли заманихи, кусты рододендрона по сопкам да колючие стены элеутерококка, тигра скрывали надёжно. Хищнику было интересно следить за человеком, в молодом звере играла сила, а то, что странник знал: его выслеживают, придавало игре интерес.
На галечной отмели у старых валежин, обглоданных бурной водой до костяного блеска, Аркадий сбросил рюкзак, прислонил было к коряге и карабин, но тут же вновь закинул его за плечо — опасность была разлита повсюду. Сегодня он запечатлел добрую сотню пейзажей, в том числе и Хойхан-Со, и три кадра истратил на тигриный след, затекающий водой. Высокочувствительную плёнку он убрал в переносной холодильник-термостат.
Он аккуратно положил карабин слева от себя, а фотокамеру справа и, опустившись на четвереньки, напился из реки. Затем раз-другой окунул разгорячённое лицо в воду, а когда выпрямился, испуганно замер, глядя на противоположный берег мелководной, бурливой реки.
Тигр стоял напротив и смотрел на человека, нервно подёргивая хвостом из стороны в сторону. Хищник зевнул, оскалив пасть, и Аркадий прижал приклад фотопушки к плечу, ловя его громоздкую башку в перекрестие прицела.
— Сумасшедший амба, — судорожно выдохнул он, так и не поднявшись с колен. Перескочить через мелководье тигру ничего не стоило, но тот всё стоял и смотрел, как человек сдвигал предохранитель и переводил затвор аппарата на очередь.
— Была не была, — пробормотал Аркадий, увидев, что тигр принялся лениво лакать воду, и мягко нажал на спуск.
Фотопушка защёлкала в автоматическом режиме — четыре снимка в секунду. Теперь его волновало другое — хватит ли плёнки, не порвётся ли?..
Тонкий слух зверя уловил резкие щелчки и сквозь шум воды. Он одним прыжком скрылся в зарослях чозении, реликтовой ивы, и уже оттуда донёсся его приглушённый рык: «Ээ-ооун…»
И наступила тишина, великая тишина леса. Она вобрала в себя и плеск воды, и шорох листвы, и была долгой-долгой, обвораживающей. Аркадий блаженно и бессмысленно улыбался. Он положил фотопушку и потянул к себе карабин. Осторожно поставил оружие на предохранитель, извлёк засланный в ствол патрон и, подкинув его на ладони, спрятал в карман штормовки. Будет вечером время у костра — выцарапает на гильзе ножом дату и название реки.
— Сумасшедший амба, — ещё раз вслух повторил он, глядя на то место, где только что стоял зверь.
3Они вышли, вернее вытекли, из узкой трещины в старой каменной стене, поросшей клочьями синего мха. Старый алкоголик, коротавший тёплую ночь в обнимку с бутылкой, вытаращил глаза и хмыкнул от удовольствия, увидев, из какой грязной дыры вынырнули эти два прилично одетых субъекта. Он даже не подозревал, чем обернётся вскоре для него их появление.
— Кха-кхе-кхи, — злобно прокашлял он, и этот надсадный кашель-лай больной, проспиртованной припортовой собаки осквернил зыбкую тишину прекрасного, золотистого утра. Тени вышедших из стены внезапно хитрым колдовским крестом упали на влажную от росы скамейку с литыми чугунными ножками, нависли над стариком.
Алкаша затрясло от адского, пронзительного холода, исходящего от теней, словно те взлетели с вечных льдов Коциума, трущоб преисподней, коим уже не один миллион лет. Беспричинный ужас сводил лопатки, и старик, обмирая от страха, услышал, как заговорила тень обезьяноподобного карлика.
— А-а, сухопутная помойная крыса…
Теперь старик разглядел, что у карлика обозначилось лицо — нос, глаза и рот, и всё это как бы приплясывало и менялось местами. Рот кривился в издевательской усмешке, а глаза сочились скорбными слезами. Затем тень опустилась — стекла на землю и быстро, с сухим шелестом приросла к кривым обезьяньим ногам, поросшим тёмным курчавым волосом и обутым в глянцево сверкавшие лакированные калоши.
Его спутник, высокий костлявый человек в чёрном плаще, в остроотглаженных брюках, болтающихся на бестелесных ногах над странными, напоминающими козлиные копыта ботинками, продолжал двоиться. Он стоял вроде бы у скамейки и в то же время поодаль от неё. Дальний двойник о чём-то разговаривал с карликом, а ближний продолжал изучать с брезгливым любопытством пьянчужку, скрючившегося на лавке. Взгляд пустых бесцветных глаз стал осязаемо острым. Раздвоенный словно невидимым скальпелем вспорол пропитанную алкоголем плоть, дублённую морскими ветрами и житейскими невзгодами шкуру, и вот верещавшая от ужаса душа бедолаги уже выдернута за шкирман вон из грешного тела!
Голенькая, довольно невзрачная на вид душа едва не отдала Богу причальный конец, но той же неведомой силой брошена на прежнее место, правда, вверх ногами. Скуля и чертыхаясь, устроилась как положено. Затихла…
Алкоголик очнулся с трудом. Долго и бессмысленно таращился в предрассветный сумрак. В отдалении скользили крохотные, словно шахматные, фигурки. И тут же старику почудилось, что это призрачные, высоченные, под небеса, исполины. Они сильно раскачивались при ходьбе. Казалось, эти двое так и не научились толком, по-человечески ходить. Следы их слабо отдавали запахом тухлых яиц…
Потрясённому увиденным и пережитым алкашу было неведомо, что начиналась новая шахматная партия между двумя одинаково враждебными человеку силами: Господом Богом и господином Дьяволом. Позвольте же автору записать первый ход этой игры…
Когда старик пришёл в себя и попробовал встать, по-прежнему прижимая заветную бутылку к животу, некто третий в ангельски-белом одеянии замахал на него пальмовой ветвью. Перебирая босыми ногами в воздухе, он говорил участливо о раскаянии и покаянии, о смирении гордыни…
Старик злобно обматерил серафима и заковылял прочь.
— Дура ты! — кричал он шестикрылому. — Я в вас не верю, потому что атеист!
Трещина в стене давно сомкнулась, осталась только ломаная чёрная линия. Мир за ней, приоткрывшийся пьяному человеку на мгновение, был ему, конечно, чужд, но видение, его посетившее, ослепительно-радужное, многоцветное, всё ещё стояло перед слезящимися глазами. Всё ещё тупо глядя па стену, он приложился к откупоренной бутылке с розовым портвейном и с отвращением выплюнул, морская горько-солёная вода плескалась в ней!
Старик взвыл от подлой шуточки исчадий ада, запустил никчёмной бутылкой в чудака с пурпурными крыльями за спиной и припустил мелким скоком к знакомой перекупщице спиртного.
Ангел разочарованно смотрел ему вслед.
4Внезапно испортилась погода. В неурочное время прилетел буйный ветер, встормошил, взбудоражил и море и залив, чайки жалобно закричали, бросаясь на крутую волну и тут же взмывая вверх. Они визгливо ссорились из-за мусора, поднятого волнами, и то и дело отважно кидались в круговерть воды. Ветер, забавляясь, играл волнами, высокие яростные валы бушевали, догоняя друг друга и лишь на берегу распрямляя свои горбатые спины. Белёсая пена хлопала в острогранных глыбах камней, у наклонного монолита мола, уходящего косо в глубину.
Странные гости из неведомого стояли в конце волнореза, отсекающего бухту от ярости океанских волн. Смотрели, как из-под беснующейся воды медленно всплывала продолговатая белая тень. Карлик тоненько и вежливо хихикнул, почтительно снизу вверх заглянул в лицо высокому господину.
— Осмеливаюсь выразить своё искреннее отношение к шутке вашей Темности. Я думаю — это бесподобно! Но… Но, ваше Великолепие, зачем так утончённо? Ослиной мочи бы ему, а не морской водицы. На веки вечные!
— Всё-таки ты на редкость туп и вульгарен, мой верный идиот Глюм…
Слова, что молча, не разжимая рта, произнёс высокий, как бы проявились в воздухе подобно рекламной строке, затем мириады льдинок, их составлявших, осыпались с лёгким шорохом изморози, тут же тая.
— Все эти семь тысяч лет, что я знаю тебя по твоей верной шакальей службе, мой преданный дурак, — позвякивали льдинки, — ты неизменно действуешь по старинке. Хватаешь в первую очередь за глотку тело, а надо хватать душу…
— Душу за глотку? — Глюм пожал плечами. — Не обучен, ваша Темность! Дубинкой по затылку, иголки под ногти, факелом в морду… Дёшево и сердито!
— Дуботолк! Возьми его за струночку в душе и тихонечко — дзинь…
«Дзинь-нь-нь», — задребезжало последнее слово, осыпаясь поверх подтаявшего сугробика.
От всплывшей субмарины, мелко вздрагивая на зыби утихавших волн, отвалила шлюпка. Вёсла дружно ударили о воду. Загребной стал что-то громко и ритмично выкрикивать на древнеарамейском. Сумрачные бритоголовые матросы, напряжённо и безрадостно скалясь, мерно сгибались и разгибались.
«Мы зря сюда заявились, — невольно подумал Глюм, забыв о невозможности своих мыслей быть потаёнными. Он недоверчиво озирал спящий город, вольно и красиво раскинувшийся на сопках. — Он по-ангельски чужд нам…»
— Клянусь льдами Коциума, ты опять забываешься, скотина! Чьё имя ты произносишь? Забыл пословицу — «Помяни ангела, и он тут как тут»?
На этот раз слова высокого господина затанцевали в воздухе разгневанными языками пламени.
— Я должен посмотреть на этого парня.
— На какого, ваша Темность? Это тот, что…
— Этот пачкун посмел нарисовать мой корабль и тем самым поставил Белую Субмарину на мёртвый якорь в этой бухте. Навечно! И она будет стоять здесь, пока…
— Пока не осыплется краска и не сгинет холст! Но разве он солгал?
— Да лучше бы солгал! Но забери его Бог, кто ему дал право изображать меня, князя Тьмы, Адмирала Преисподней, Величайшего и Ужаснейшего Морского Демона? Я клянусь, этот маляр приползёт ко мне на коленях! А картину повесим в кают-компании над моей коллекцией черепов, пробитых выстрелами в висок, в затылок, гильотинированных в прошлые века… Белая Субмарина снимется с якоря! Мазила ещё походит с нами по морям, клянусь Астаретом, Велиалом, Вельзевулом, Бегемотом, Люцифером и его братом-близнецом Люцефиром. Лично ты, Глюм, займёшься им. Знаешь, что над сушей я не так властен, как над морем. Сделай из него вначале самоубийцу, такие частенько попадают прямо к нам, в Дуггур. Детали на твоё усмотрение, мерзавец. Пошевели своей единственной извилиной, хотя она у тебя, кажется, тоже прямая.
И вот любезная парочка уселась в шлюпку. Гребцы ударили вёслами и устремили её бег к ослепительно-белому кораблю, который казался таким лишь издали. Поблёскивают, качаются в такт бритые головы, помеченные одинаковой татуировкой над правым ухом: краб размером с металлический доллар, раскрашенный китайской тушью в три цвета.
Той долей мозгов, что была видима командору, предусмотрительный Глюм привычно думал о всей «драконьей» мелочи: сурике и белилах, о пасте «гойя», о чистке меди грубым сукном, о том, что давно бы пора переплести свою девятихвостую плётку, свитую из кожи нераскаявшихся грешников. От долгого употребления изрядно поистерлись бронзовые гайки, что отлили по рисунку весёлого бородатого грека в далёких Сиракузах. Как бишь его? Арти, Арши… Архи… Он ещё бегал голым по улицам и орал какое-то дурацкое слово. Ох и потешался же над ним Глюм!
А невидимые взору командира извилины уже выродили осторожную мыслишку: чем лично для него обернётся предстоящее дело? Он даже бросил пёстрые гадательные бобы из рога чёрной коровы, и раз выпала буква «фита» и дважды подряд «геенна». Хе-хе-хе!.. Чужой город, а двуногие истинно опасны. Ведь эта, чтоб её, техника всегда поперёк дороги нам, верным и простодушным слугам Тьмы!
Вспомнив последнюю шуточку Чёрного Мсье, Глюм издал горловой звук. До конца дней не пить, когда без алкоголя не жизнь, когда клетки печени уже сгорают от неуёмной жажды. Но вместо вина, водки, спирта, «бормотухи», марганцовки — что бы ни взял в руки старый алкарь — всё обернётся морской водой. Это «монтана», как говорят косноязычные завербованные портовые люмпены. Но лично Глюм подобных деликатных выражений не признавал. Он был суровым практиком. И питал слабость к сильным словечкам.
5Неожиданно он подумал о том, что может и не скрывать свои мысли. К чему? Можно думать какими угодно мозгами, правыми, левыми, верхними, нижними, поскольку того древнего наречия, которым он владел, никто уже не знал на белом свете. Вымерли его соплеменники, растворились в сонме иных племён и народов, да туда им и дорога, всей этой сволоте, что, право же, почище ламихуз!
На родном языке он думал по привычке, а семь тысяч лет назад разговаривал со своими землячками, чтоб им всем…
Вот времечко-то летит! Глюм с содроганием вспомнил, чем закончился тот последний разговор на родном языке. Колодцем! Сидя в сухой глубокой дыре, Глюм (а его и в прежней, благодетельной жизни так звали) ни о чём и не думал. Просто сидел и от нечего делать ковырял глину толстым грязным ногтем. Ветер пустыни сыпал ему на голову мелкий песок, а жизни оставалось ровно столько, сколько он выдержит без воды. Пить, конечно, хотелось дьявольски, но ещё больше — жить…
А начнись песчаная буря, и смерть придёт гораздо быстрее. На крышку колодца эти ублюдки навалили груду камней, стаскав их со всей округи. Песок сквозь щели быстро засыпет могилу-ловушку. Скуки ради Глюм проклял всех богов. По слухам, так вызывали Сатану. Но никто не появился. Тогда Глюм проклял всех будущих богов. Никого…
Тихо шелестел по стенкам песок. И как песок тёк долгий вечер, затем ночь, утро, день… Это звучала вкрадчиво смерть, обещая мучительный конец.
Глюм нащупал в углу мешок сухой солёной рыбы и взвыл. Он выл долго и громко, силы можно было не экономить. А в обед после второй рыбины, которую он сожрал всё-таки с удовольствием, завыл снова, и уже через час, потеряв от жажды рассудок, грыз запястье, пытаясь утолить её своей кровью.
И тут он услышал откуда-то издалека стон-звон колокольчиков. Он решил, что это очередная галлюцинация, и прохрипел страшное проклятие всему роду человеческому, выплёвывая ошмётки кожи и мяса, не чувствуя больше ни боли, ни желания жить.
Но Глюм не ослышался. К колодцу подошёл караван некоего Аштарешта, халдейского мага и кудесника, злого чародея. Его прислужники с зыбкими, постоянно меняющимися лицами вытащили оттуда вместо воды дурно пахнувшего пирата Глюма. Раздосадованные, они решили отправить его обратно в песчаную могилу и отправили бы, но тут у них разгорелся спор. Одни утверждали, что эту человеческую мразь следует спустить вниз головой, чтоб разом и покончить, другие возражали — нет, ногами, пусть ещё помучается.
Глюм обессилено сидел на песке и без всякого интереса смотрел, как кочевники в пёстрых бурнусах, разъяряясь всё более и более, уже хватают друг друга за грудки.
На шум и ругань из войлочного шатра выглянул хозяин каравана, добродушный толстяк Ашгарешт. Увидев дравшихся слуг, растянул узкую щель рта в улыбке. Казалось, его розовое лоснящееся лицо вот-вот лопнет от жира.
По знаку хозяина Глюма подтащили ближе. Толстяк заговорил на одном из срединных наречий побережья. Глюм с трудом, но всё-таки понимал его.
— Кого я вижу! Пират и душегуб Глюм собственной персоной…
Глюм ничему не удивлялся. Колодец, песок и солёная рыба лишили способности осмыслить происходившее. Он тупо пялился на Аштарешта, соображая, откуда тот его знает.
— Не хочешь ли сказать, что, предавая людей смерти, хотел лишь избавить их от страстей земных и помочь им обрести загробную жизнь в Эдеме? Но ведь попутно ты избавлял не только от долгих мучений, но и от золотишка? Ты любил золото, Глюм…
Глюм молчал, всё ещё мучимый неразрешимым, для него вопросом: где они встречались с этим жирным караванщиком?..
— Но твои неблагодарные сородичи, такие же разбойники, как и ты, решили, что твои подвиги даже превзошли их свирепость и подлость. Они ограбили тебя самого и немного проучили на прощанье. Впрочем, три сломанных ребра, раздроблённая челюсть, пробитая голова не в счёт. Всё это мелочи по сравнению с той казнью, которую они тебе придумали. Бросили тебя в колодец! Да ещё и щедро снабдили продовольствием, чтобы не сразу окочурился. Ты уже пил собственную мочу? Нет? Значит, немного поскучав в одиночестве, уже взываешь к Кабалле о помощи?
— Аха ахага ахагин, — прошамкал наконец Глюм, придерживая рукой сломанную челюсть.
— «Тебя ли я звал, господин?» — повторил вслух невнятную фразу пирата Аштарешт. — Ты это хотел сказать?
В его пухлых пальцах вдруг очутилась сосулька, и караванщик сунул её в рот. Глюм видел такие длинные прозрачные сосульки у Оловянных островов, Касперид, во время одного из дальних плаваний. Правда, там они были чуть побольше. Там же он впервые увидел и снег — закоченевший дождь, падающий с неба.
Купец стал блаженно чмокать, талая вода текла по его руке, падала на песок. Глюм судорожно сглотнул, испытывая адские муки.
— Да уж ясно, не меня! — сказал Аштарешт. — Ты ведь, кажется, звал Самого… Неужели ты думаешь, что он придёт? Да на кой ты ему? И мне ты не особо нужен.
Тут маг отшвырнул сосульку, озабоченно пощупал горло:
— Гланды… Может быть ангина. Гланды — штука капризная…
Глюк проводил взглядом льдинку, от которой через секунду не осталось и мокрого места. Он бы променял на неё сейчас целое море воды, огромный океан холодной и пресной воды.
Купец замотал горло неизвестно откуда появившимся мохеровым шарфом, поясняя:
— Стрептоцид ещё не изобретён, да и насчёт пенициллина никто из наших не подсказал Флемингу… Да и нет, его, Флеминга, не родился ещё! Мучайся теперь с гландами, как вшивый ассирийский раб!
На сей раз Аштарешт — и снопа из воздуха — извлёк аппетитный шашлык на витом бронзовом шампуре, и теперь Глюму зверски захотелось есть.
— Итак, мы остановились на том, что ты мне не нужен, — сказал чародей с набитым ртом. — Но мой стародавний приятель, морской демон, просил подыскать для неделикатных поручений какого-нибудь подонка. Думаю, ты вполне подходишь… Эй! Чёртовы слуги! — Он, хлопнул в ладоши. — Мне холодного фалернского. Ему чашу поднесите…
Тотчас один из прислужников принёс запотевший рог с фалернским вином, а другой бережно подал чёрную фарфоровую пиалу, наполненную багрово-жёлтым мерцанием жидкого пламени. Золотом отливала и надпись по краю пиалы, выполненная арабскими летящими буквами.
Аштарешт замахнулся на прислугу пустым шампуром.
— Из какого века вы достали её, сыны вероотступницы Лилит, предавшей демонов и согрешившей с Адамом?! Печать проклятия лежит на ваших делах, словах и лицах!
— Из вьюка на белоснежном верблюде, господин наш.
— Ну что с них взять? Опять перепутали время и место, ослы. Этого времени ещё нет! Нет арабов, нет арабского алфавита! Нет фарфора, Корана, Аллаха, Христа и Будды… Нет даже философа, который скажет недурную фразу: «И песок однажды утоляет жажду». Нет влюблённых, коим предстоит испить из Чаши напиток любви и смерти… Мне нужна обыкновенная глиняная чашка из Хараппы, ясно? Ведь Чашей её делает колдовское зелье. Можно даже ту, что гончар сделает завтра утром. Только не забудьте кинуть ему пару медяков. Знаю я вас, жульё!
Поднялась суматоха. Кого-то будили, громко колотя в дверь, и заспанный голос обещал испытать крепость своей дубинки на боках ночных бездельников. Неудивительно, в Хараппе была глубочайшая ночь, ведь это селение лежало от колодца на тысячу дневных переходов к востоку. Затем стали торговать чашку. Заспанный гончар предлагал неожиданным покупателям совсем дёшево кувшины для вина, расписные жертвенные блюда для храма, кувшины для омовения, но, получив отказ, заломил за требуемую чашку такую цену, что прислужники тут же упали на колени перед хозяином:
— Как быть, наш господин? Два быка, арба и молодая жена — такую цену определил упрямый гончар.
Аштарешт веселился, икал от смеха, видя, как страдает Глюм от жажды и как набавляет и набавляет цену гончар. Эх, его бы в руки Глюму, отыгрался бы пират за свои мучения на жадном мастере. Он бы содрал с него шкуру. Он бы подвесил его за…
— Фигу тебе, Глюм! — произнёс Аштарешт, вытирая слёзы пёстрым бухарским платком. — У меня таких денег нет! Пару-другую медяков куда ни шло, но такую сумму… Три меры золота! Впрочем… У тебя ведь остался клад, там… Ну, ты помнишь где. Решай свою судьбу сам.
Глюм подумал и согласно кивнул. Остаться бы только жить, а там он вернётся к прежнему ремеслу и когда-нибудь обязательно навестит Хараппу. Берегись, гончар…
Ударили по рукам, принесли невзрачную и кособокую чашку, обожжённую по случайности вместе с хорошей посудой. Глюм понял — над ним издеваются, но не показал виду. Однако купец мог заглянуть на самое дно души.
— Что ты так косо смотришь на неё, Глюм? Кабалла предлагает тебе избавление от жажды, мучений, глупости… В этом пережжённом куске глины масса ингредиентов, в том числе и твоё любимое золото. Но есть и неизвестные тебе палладий и уран. Их так много, что ты успеешь десять раз сдохнуть, прежде чем я расскажу подробно о каждом. Единственное, о чём я должен тебя предупредить, — напиток холоднее жидкого гелия. Впрочем, можешь немного подумать. Кабалла играет в свои игры честно. Тебя покоробил торг с мастером, но ведь он продавал свой труд! Ты понимаешь, что такое заработанное и что такое нахапанное? Нет конечно. Но тебе ещё предстоит познакомиться с удивительной страной, где одни будут зарабатывать свой горький хлеб, а другие — воровать, прикрываясь высокими словами о всеобщем равенстве, братстве и будущем счастье…
Глюм медлил. От напитка демонов и впрямь несло лютым холодом, хотя в кособокой чаше бушевал огонь. Нет, всё-таки только мастер мог вылепить и обжечь такой сосуд, который выдерживал бы чёрное колдовство Козлоногого.
— Как хочешь, — пожал плечами Аштарешт. — Я верну тебя в колодец. Послезавтра ты в нём и сдохнешь!
И Глюм с содроганием выпил содержимое чаши… В ней действительно оказался напиток вечности, но не бессмертия. Нескончаемость бытия следовало ещё заработать своей шкурой.
Так он попал на деревянный скрипучий корабль-призрак, судно Морского Страха, из флотилии морского демона. Демон за шесть тысяч лет дослужился до Адмирала Тьмы. Глюм — ему вечно мешало тупоумие и поспешность — от юнги до боцмана, «дракона», на Белой Субмарине.
Каждому своё, как некогда говорили ушедшие в пучину атлантийцы… Да, Аштарешт, ныне прозываемый Астаретом, был прав. С тех пор все эти долгие сотни и тысячи лет он ничего не пил. Никогда. Нигде. И жажды никогда не испытывал.
Глюм здорово просчитался. Пасть сухого колодца и мучительная смерть от жажды были ничем перед тысячелетним унизительным рабством.
Впрочем, Чёрный Мсье как-то обронил: прежнее вернётся. Шутничок!
6Паром на мыс Чуркина неспешно шлёпал через бухту Золотой Рог. Четверо случайных попутчиков давили «клопомор» — пили дешёвое вино цвета марганцовки. Старик, оказавшийся по соседству, лишь громко сглатывал слюну при виде стакана, лихо гулявшего по рукам. Изредка и ему предлагали — самый чуток, на донышке, но всякий раз он с некоторым усилием отказывался.
Длинный Коля, более известный в рыбном порту под кличкой Христопродавец, привычно и вдохновенно врал. Изредка он дёргал подбородком, показывая свежий багровый шрам на горле. Двое ему усердно поддакивали. Они «упали на хвост», то есть присоседились, и выпивка им перепадала задарма. Четвёртый же всё время страдальчески морщился, «Клопомор» раздобыл Длинный, но деньги-то дал он, Леонид Ланой, так что делать вид, будто ему интересна эта гопкомпания, он не обязан. Он вообще чувствовал себя на редкость унизительно и думал, что зря уехал из Разлаповки. Бегал бы себе на лыжах да гонял бы с кабыздохами зайцев по заснеженным деревенским полям от Чертогрива до Мостушей…
Ему почему-то вспомнился дикий берег таёжной реки и могучий выворотень, по-местному — ланой. Кедр упал совсем недавно, но грозовые дожди уже омыли его толстые узловатые корни и, хотя исполин ещё зеленел густой кроной, дерево было обречено. Огромные камни, судорожно сжатые корневищами, бывшие их прочной опорой, теперь, вздетые высоко в воздух, издали напоминали странные плоды. Его убил ураган, повалил наземь, и никакие силы не могли вернуть ему прежнюю опору.
Ланой… Выворотень… И ведь он тоже — Ланой. И он теряет (или уже потерял?) свою опору…
Из омута у самого обрыва, где прежде рос красавец кедр, взметнулся в воздух хариус. Его полёт был серебристым слепком секунды бытия. Казалось, он хотел напомнить отчаявшемуся человеку — жизнь, несмотря ни на что, продолжается!..
А сегодня ему стало совсем тоскливо. Он опять разрывался меж берегом обыденности и своими мыслями, своими картинами, среди которых было много пакостных, но не лживых, нет, И ему страшно захотелось выпить, на ночь глядя, хотя знал — все кабаки и шалманы в центре закрыты, а на краю города одинокого прохожего могут не просто раздеть, но и пырнуть заточкой. Портовый город…
Вот случай и свёл его со сведущим, едва знакомым ему портовым забулдыгой.
— …И рванул я тогда с «Хи-хи, ха-ха» к Белому, а от него — к Цыгану с бараков. И он, стерва, пустой! А у «Трёх поросенков» встретил нюрок с «Шалвы Надибаидзе», они уже отоварились, и пошли мы пивом от Юры разговляться…
Коля Длинный увлечённо трепался, не забывая прикладываться к стакашку, и ему заворожённо внимали собутыльники. Они оккупировали тупиковый коридорчик у туалета. Пятый, дедок, ошивался тут же.
Ланой тоскливо курил штатовские сигареты и смотрел, как по середине бухты, сопровождая паром, скользит под водой видимая ему одному продолговатая белая тень.
— Вот так и живём, — разомлевший дружок хлопал Христопродавца по костлявой спине изо всех докерских сил, так что внутри у того что-то жалобно ёкало. — Пашем, пашем, пашем… На благо Родины, значит. А если «на шару» полсмены раз-другой, значит, дома неделю не ночуешь…
Ланой знал, что после смены докеры выходили ещё и на внеурочную работу, её-то и называли «шара» — ряд.
— А домой идтить, с «шаровых» как загудишь… Вторую неделю дома не ночевал, а тут ты нарисовался…
Звяканье стекла, и мощный глоток — стакан за раз.
— Давай дедку нальём, — в очередной раз пожалел старикашку второй кореш, Васек, занюхивая «чернила» рукавом: пили хоть и «по-культурному», из стакана, но без закуски.
— Да пошёл он в… трах-табидох-тах-тах! — возмутился Христопродавец. — Ему портвешок-крепляк, а он, сучий потрох, кричит: «Не может быть, вода морская». Сдвинулся от своего застарелого алкоголизма. Лей лучше художнику, а то он чего-то заскучал…
— А Косарев-то на бухте Тихой, у старых гаражей, потонул. Так и не добрался до своей речки Медянки, — сказал Вася и рванул продранные мехи тальянки, выбил на палубе заковыристую дробь. — Ну, братва, дым коромыслом… Гуди-им!
Христопродавец стал хлопать в ладоши, дёргая скособоченной шеей.
Когда паром, взбуровив винтами воду, опустил тоскливо визжащую аппарель на выщербленный край пирса, Ланой спрыгнул первым и побежал к стальному виадуку над железнодорожной веткой из рыбпорта, подальше от бухты, парома и померещившейся ему тени.
7Телевизор самостоятельно высветлился за полночь. Вася оторопело поднял голову от комковатой подушки и недоумевающе уставился щёлочками заплывших глаз на донельзя знакомую весёлую физиономию. По телеку выступал один из его дружков, совсем недавно зарытый в щебенистую почву приморского кладбища.
— Давай вставай, ядрёна лапоть, — сказал корефан. — Хватит дрыхнуть. Пляши давай!
Вася и дал, аж половицы прогнулись. Дружок решил поддержать и выдал «камаринскую».
Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!
Ты куда, куда по улице бежишь? —
зло и решительно подхватил Вася.
Грянул невидимый хор. Из-за кулис первыми вышли мужчины во фраках, но почему-то босиком, затем выплыли лебёдушки в розовых платьях, дебелые женщины с голыми жирными спинами. Они выстроились полукругом на огромной сцене и припев тянули мощно и грозно.
— Пляши, Васек, — орал корефан. — Наяривай! Что ж нам боле остаётся, как не плясать под их музыку…
— Ва-ся, пля-ши, — стал дружно скандировать хор, оглушающе ритмично хлопая в ладоши.
Васина супруга, возвращаясь с вечерней смены, ещё во дворе услышала истошные выкрики и дикий топот. На лестнице к ней бросился сосед, живший под ними.
— Люстра упала! — грозил он трясущимся пальцем. — И за люстру уплатите, и за сервант с фарфором. А за хрусталь вообще не рассчитаетесь… За всё заплатите!
— Люстра! Господи, Васенька, — кинулась бедная женщина к мужу. — Совесть-то поимей!
Вася наконец остановился, смахнул пот с лица. Глянул ошалелыми глазами, не узнавая никого вокруг. Потом решительно отстранил супругу и вновь пошёл но кругу вприсядку:
Жарь, дружок, шире кружок!
Разойдись, честной народ,
нынче Вася в круг идёт…
Сосед, а затем и Васина супруга в недоумении уставились на тёмный экран телевизора, с которым, тяжело дыша, разговаривал Василий.
— Во, этак-то лучше, чем пень пнём стоять, — одобрил корефан, снова высветившись в «ящике». — Нашёл, кого слушать! Ты народ слушай, народ… — и дружок кивнул на улыбчиво доброжелательный хор.
Когда приехали дюжие санитары, дружок наскоро попрощался с Васей и потихоньку превратился на его глазах в скелет. Жутко оскалясь, скелет заверил Васю, что свободное местечко рядом с ним на кладбищенской сопочке он попридержит.
— Главное, в гости ходить друг к другу будем, один день я, другой — ты… А как луна в полный свет встанет, вылезем из могилок «кладбищенку» пить. Не пробовал? Ну, Васек, тебе понравится!
Вася, с ужасом глядя на изъеденный червями череп, дико заорал, стал вырываться из рук. Его быстро успокоили, упаковав в новенькую смирительную рубашку, вкатили сквозь неё укол в плечо, чтобы не брыкался, затем тщательно пристегнули ремнями к носилкам. Сноровисто снесли во двор, ловко задвинули в фургон.
— Ну и дела, — вздохнул удручённо один из санитаров, доставая мятую пачку дешёвой «Примы». — Ночь психов.
— За два часа уже третий с «делириум тременс», — пояснил его напарник Васиной супруге, удручённо застывшей у машины. — Один голышом по Светланке бегал, изображал трамвай. Хорошо, настоящие до пяти утра не ходят, а то ведь прямо по путям шпарил. Другой, дедок, набрал в бутыль морской воды и давай скакать вокруг неё. Ежели я вино всегда в морскую воду обращаю, орёт, то почему она, мол, обратно в вино не превращается… И скачет на набережной, пассы руками делает вроде фокусника. Народу собрал — ого! И «самураи» тут же со смеху укатываются, из толпы монетки ему бросают. А он всё скачет, и всё дьяволов каких-то поминает. Один, мол, в калошах ходит, а другой — длинный, худой и страшный. Всё ему чудилось, что они где-то поблизости. Я до того на них, пьянчуг, насмотрелся, что после водки пиво пить боюсь… Голова трещит с похмелья, а я себя уговариваю: «Терпи, Кеша, терпи… Не то сам „неотложку“ вызовешь и самого себя вязать будешь!»
— Будь спок, я те помогу, — заржал другой медбрат. — Глядишь, вдвоём и справимся!
Санитары глянули на затихшего Васю, видно, начал действовать укол. Захлопнули створки металлической раковины с жёлтым крестом на них. Машина, фыркнув сладковатым этаноловым дымком, укатила в ночь. Васина жена, прижимая платок к глазам и оступаясь, словно слепая, побрела к тускло освещённому подъезду…
Город давно спал под убаюкивающий шум прибоя. Но, как и несчастная женщина, бодрствовал в это время художник Ланой. Он стоял у окна, смотрел на тёмные, без единого огонька, громады зданий, на бухту, где сонно двигался оранжевый номерной спасатель, на лениво шевелившиеся стрелы кранов у пирса № 193.
Ему было смутно и тоскливо. Упакованное в крафт полотно с Дьявольской Субмариной пылилось под тахтой, стоявшей в углу мастерской, и с тех пор он спал в кабинете. Там отовсюду на него таращились с полотен в роскошных рамах с позолотой жаболюди, псоголовые монстры, вурдалаки, зомби, скелеты в бане… С этой нечистью художнику было гораздо спокойнее, чем с последним его творением.
Штормистое море. Подводная лодка яростно пенит кильватерную струю и режет волны, а с рубки две фигуры в кожаных альпаках внимательно смотрят на него, и злобно тлеющими угольками блестят в тени низко надвинутых капюшонов их дьявольские глаза…
8Поезд изрядно запаздывал. Ангел ходил взад-вперёд по перрону и нетерпеливо поглядывал на вокзальные часы, пока не убедился, что и они изрядно отстают. Потом ему надоело постоянно задирать голову. Он шевельнул бровями, и левое запястье перехватил браслет с электронными часами, а у фарцовщиков с артемовской толкучки стало одной «сейкой» меньше.
Наконец подошёл состав, втянулся под расписной терем вокзала. Замаячили на перроне люди, на которых ангел поглядывал с безмерным удивлением. С рюкзаками были очень и очень многие, с русыми бородами — добрая половина. Причём многие из них не пили, а треть к тому же и не курила. Где же он найдёт искомое в суеверти добродетельного народа, хотя среди некурящих бородачей иногда попадались и отъявленные мерзавцы. Калькулятор, вделанный в часы, выдал с точностью до сотой доли процента, сколько именно.
Тут ангела невзначай толкнули в плечо мощным станковым рюкзаком, и ангел облегчённо улыбнулся. Вот он!
— Извините, ради Бога, — попросил толкнувший прощения.
— Что вы, что вы, это я замешкался, — отозвался ангел, внутренне ликуя.
«И найди ему его друга потерянного, но искреннего, дабы друг его спас! И обереги друга истинного, ибо пока есть святая дружба, нет смерти, нет пороков, нет ада…»
Друг художника задержался у автоматов, ни одного исправного телефона не было. Ангел рассердился — ведь только что все телефоны были целёхоньки, опять происки нечистой силы! Он решительно вмешался в события и, хлопнув себя по карману, извлёк оттуда радиотелефон с антенной. Протянул бородачу.
— Испытываем японскую модель в условиях сопок, — пояснил ангел. — Горсвязь. Попробуйте. Вы, кажется, собирались звонить?
Аркадий Лежень взял трубку, быстро потыкал указательным пальцем по клавишам. Тонко зазвучал зуммер.
— Ланой у телефона, — прозвучал хриплый, заспанный голос. — Кому это удалось позвонить мне по отключённому аппарату? Или у меня опять глики-глюки пошли?
— Лёня? Это я, Аркадий!
— Лежень? Здорово, чалдон чёртов! Каким ветром?
Ангел поморщился при упоминаний нечистого и деликатно отошёл в сторону.
— У меня кризис, слышишь? — кричал художник. — Я всегда телефон отключаю, когда хреново… Приезжай скорее, Ленька!
9Глюм с отвращением взирал на людскую толпу. Запланированное на утро посещение художника сорвалось: к Ланою неожиданно заявился друг. Мало того, что этот Аркадий-дружок не пил, не курил, не якшался с портовыми шлюхами… Если бы только это! Стоило Глюму только раз глянуть ему в глаза, как он сразу почуял угрозу для себя. То был взгляд добродушного сытого тигра. Тигра! Всё в нём замерло от страха. Ну и глаза! Вроде бы обычные, серые, но пара беспощадных тигров сидела в них и скалила клыки. Такого не ухватишь, гляди, как бы он тебя сам не ухватил. А кулачищи-то! Гири пудовые! Накостылять может запросто. Будет очень больно. И хотя в последний раз Глюма били в Лиссабоне, в год так называемого открытия Америки, давняя экзекуция помнилась и по сей день. Били отчаянно, насмерть, ногами. И в общем-то за дело. Шлюхе не уплатил. Поскаредничал.
Словом, едва Глюм посмотрел на здоровенного Леженя, у него пропала охота вставать у того поперёк дороги. Вот он и ретировался, как последний домовой по мусоропроводу.
Сейчас он сидел в бетонной «ракушке» у кинотеатра «Приморье» на деревянной скамье, отполированной сотнями мускулистых седалищ, и время от времени нервно зевал. Иногда рыжий боцман лениво вставал и вразвалочку подходил к автомату с газированной водой. Ловко стукнув кулаком в определённое место, быстро подставлял стакан. Автомат фырчал водой без сиропа. Глюм мигом проглатывал стакан и, хмелея от ломившей зубы водички, возвращался в «ракушку». До чего же было приятное ощущение от самого процесса поглощения воды, когда перенасыщенный углекислотой холодный водопад прокатывается по твоему пересохшему за тысячелетия горлу! К нему, слава дьяволу, вернулась наконец вечная неутолимая жажда. Вот он и стремился наверстать упущенное и пил, пил, пил. Благодать!
Глюм развлекался, пакостя по мелочам. Один под его добрым взглядом напрочь забывал о свидании, другой терял кошелёк, третий отрывал подошву у новеньких кроссовок. Это было уж совсем ерундовым делом: плюнул вслед — и подмётки как не бывало.
Глюму было чертовски скучно. Он даже позавидовал всем этим кратко живущим, им-то скучать некогда: всё дела, дела… И тут ему захотелось сотворить мерзость помасштабнее. Рыжий боцман не стал откладывать задуманное в долгий ящик.
По глазам полоснула перламутровым блеском изящная «Глория». «Тойота», — нисколько не сомневаясь, определил марку Глюм, легонько щёлкнул пальцами. Демоны холода, сидевшие в пачках с мороженым, появились перед ним и, отдав честь, внимательно выслушали приказание. Когда мимо них проехала «Глория», демоны на полном ходу облепили машину, разбойно засвистели.
В это время грянула сигнальная двенадцатичасовая пушка. Глюм, «ангеляясь» с вывертами, извлёк шариковую ручку с двумя обнажёнными лесбиянками и стал переводить пластиковые электронные часы с музычкой на вариации Глюковского «Ада». Боцман вечно путал часовые пояса, марки машин, имена и отчества, а особенно жаргоны разных эпох.
Через два дня ловкие ребята из краевого ОБХСС, не получив положенной мзды в обычном почтовом конверте, объявили розыск крупного подпольного дельца-перекупщика. Но если бы они заглянули в его гараж, то увидели бы голову бедолаги, торчащую из мерзопакостного мороженого второй холодильной фабрики, спрессованного старательными демонами хлада и града в сплошную ледяную глыбу.
Глюм наконец поднял голову от чёрных часов, краешком глаза заглянул в будущее и с сожалением констатировал: «Промахнулся»! Делать пакости сразу расхотелось, загубил ни в чём не повинную чёрную душу спекулянта вместо светлой. «Нет, есть всё-таки нечто дьявольское в игре случая», — подумал Глюм огорчённо.
И он стал «клеить», причём довольно неуклюже, трёх девочек из торгового техникума. Уж больно ему понравились их загорелые круглые коленки под короткими красно-бело-синими юбочками. Они привычно отмахнулись от, как им показалось, подвыпившего, хамоватого, «нефирмово» одетого субъекта и пошли в кино. Обиженный до пяток, где по древним халдейским представлениям и находилась душа, Глюм извлёк из кармана кусочек шкуры бородавчатого бронтозавра и бросил его вслед трём отвергшим его красавицам.
Девушки вышли из кинотеатра после сеанса, оторопело глянули друг на друга. Ноги сами понесли их к кассе, руки отсчитали мелочь, губы шевельнулись, называя время. Влекомые нечистой силой, целый день вращались они по чёртову кругу: кино, синий зал, красный зал, снова синий… Ночью всем троим снилась кинохроника, индийский фильм, выученный наизусть, а под утро и его продолжение: рыжий кривоногий субъект в новеньких калошах танцует танго с обнажённой задастой и грудастой кинодивой.
Глюм мерзко похихикал: шутка была на редкость удачной, он ещё запрограммировал им и, так сказать, эротический вариант.
— Чужой город, чужое время…
Боцман представил себе уютную пустыню, милый его сердцу песчаный колодец, откуда старого, доброго дядюшку пирата извлекли против его воли, и ностальгически пожелал увидеть, что там творится сейчас. Тут же в «ракушку» забрёл симпатичный молодой человек с немного ошарашенным видом, включил переносной, только что купленный цветной телевизор. Это был актёр и режиссёр местного кукольного театра Юрий Табачников.
Шла передача «Клуба путешественников», и ведущий Сенкевич поведал всему Дальнему Востоку, что на древнем египетском берегу Красного моря, в местности, хорошо известной по интереснейшим археологическим находкам, американская компания «Шелл петролеум» открыла крупное месторождение нефти и газа.
Глюм увидел знакомые, мало изменившиеся за тысячи лет холмы, буровую, разлаписто стоявшую на том самом месте, где когда-то был колодец.
— Спалить её, что ли, к ангеловой бабушке? — Глюм вздохнул.
С прошлым всё ясно, в будущее лезть не хотелось, не то невзначай можно таких дров наломать… Так что оставалось одно настоящее. Из увольнительной на берег ничего не вытанцовывалось! Хоть возвращайся несолоно хлебавши на корабль. И тут он вспомнил о Трофиме, списанном за отбытие срока наказания из экипажа. Как-никак вместе триста годков по морям ходили! Ныне Трофим работал грузчиком в винном магазине, но не пил, проповедовал трезвость. Зато зело потреблял ядрёный квас, с него и хмелел изрядно, характером был тих и рассудителен. Боя стеклотары никогда не допускал. От положенных за аккуратную разгрузку двух бутылок водки не отказывался, продавал их после закрытия, а деньги прятал в холодильник.
— Пить нехорошо, пить вредно, — говорил Трофим своим постоянным клиентам. — Надо вести трезвый образ жизни.
А водку всё же продавал, считая себя если не святым, то причастным к добрым делам.
Если бы не краб над левым ухом, прикрытый от постороннего глаза выцветшим беретом, Глюм и не узнал бы Трофима. Столько лет, столько зим прошло! По-философски мудро грузчик взирал на жадную толкотню вокруг винного отдела.
— Потерянное поколение алкарей, выпестованное нашей мудрой партией. Рабы социализма!
Он с чувством пожал протянутую боцманом руку.
— Кваску? — малохольно, а может, меланхолично предложил квадратный Трофим, ничуть не удивившийся появлению старинного приятеля. По-хозяйски уселся на железной трубе, ограждавшей пешеходную часть Светланки от проезжей, и одним глотком втянул в себя пенный напиток. Глюм пристроился рядом, спросил участливо:
— Ну как, не скучно?
Мимо них текла людская нескончаемая река. Шумные толпы осаждали магазины, испытывая неукротимое желание потратить деньги, и этим ублажить алчущие всё новых и новых приобретений души. Озверело звенел, пробиваясь меж беспечных пешеходов, трамвай. На его отчаянные звонки привычно не обращали внимания. Шли милые девушки в японской косметике, похожие друг на дружку, как фальшивые пятаки, на них таращили глаза завербованные по оргнабору, которых всяк звал по-своему — вербота, бичи, шаромыжникн, богодулы… Всех их заманил во «Владик» длиннющий рубль. Степенно прогуливались под руку со своими ветреными подругами «мариманы» с торгового и рыболовецкого флотов. Уверенно лавировали в толпе фарцовщики-утюги. На Светланку шли людей посмотреть и себя показать. Здесь рассказывали на ходу забористые анекдоты, лаяли начальство, ссорились и мирились, слушали плееры с отрешёнными, как у монахов-буддистов, лицами… И шли, шли, шли… У Глюма уже шумело в голове от бесконечного мелькания лиц, как от забористой газированной водички.
— Тут разве заскучаешь? — ответил вопросом на вопрос Трофим.
— Хорошо живёшь! — позавидовал боцман.
— Да лучше, пожалуй, чем в вашем железном гробу. Ты мне вот чего объясни, «дракоша». На берегу я отсутствовал всего четыре года, а в морях отходил ого-го… Триста лет! Как это?
— А ты к нам на борт сам заявился! Кто тебя звал? Мертвецки пьяным, в лодочке, в обнимку с четвертью самогона… Мы всплыли провентилироваться, а ты тут как тут. Скажи спасибо, что всего-то триста…
— Камбалу я тогда ловил, вот и прихватил для сугрева…
— Чёрный Мсье поначалу и хотел тебя в ней засамогонить, да у меня, скажи спасибо, гальюны чистить некому было. Днём ты вкалывал зубной щёткой, а по ночам в своей бутыли сидел.
— Теперь понятно, почему мне двести лет такой дурацкий сон каждую ночь подряд снился!
— Каждую… Ты бы в ней все три сотни лет сидел, философ, да Мсье невзначай бутыль грохнул на сто семьдесят восьмом году твоей отсидки… В сортире остальное время отсиживал! Впрочем, бутыль тебе вернули целёхонькой, когда ты на берег списывался.
Трофим вспомнил, как очухался от кошмарного наваждения в утлой шлюпочке посреди моря спустя четыре года после своего исчезновения, как шандарахнул со всего маха стальным багориком по бутыли, вскричав: «Господи мой Боже, никогда больше! Только квас…»
— А зачем ты «торпеду» под лопатку вшил? — поинтересовался Глюм.
— А на всякий случай… Бережёного Бог бережёт.
— В раю кваса нет, — на полном серьёзе предупредил боцман. — Там амброзия, нектар… Да ещё этот, как его… Напиток Эдема. Гадость страшная, даже на самогон не перегнать.
Помолчали. О чём ещё говорить? Жизнь течёт мимо, они сидят на её обочине. Хорошо!
— С кваса кайф не тот, — нарушил паузу Трофим, — но если ящика два заглотишь — балдёж!
— Я больше пресную водичку уважаю. — И Глюм вразвалочку подошёл к автомату. Земля здорово штормила у него под ногами, но боцман, татуированный с головы до ног древними мастерами а ля похабель, держался уверенно.
— В морях я свой страшный срок отстрадал от звонка до звонка, — сказал грузчик, когда Глюм вернулся. — Теперь я полноправный магазин своей горячо любимой страны…
Трофим вместо магазина хотел сказать «гражданин», да язык с кваса ляпнул не совсем то.
— И этим я горжусь, — поставил точку грузчик.
— Понимаешь, тут какое дело… — оживился от новой порции хмелящей водички Глюм, — есть в вашем городе один художник…
— Знаешь, «дракоша», о чём я мечтал? — спросил Трофим, внимательно выслушав приятеля. — Отхожу, думал, я свой срок, спишусь на берег и буду жить тихо-мирно, мирно-тихо…
— Ну?
— Придёшь однажды ко мне ты…
— Уже пришёл, — кивнул Глюм.
— …А я возьму и дам тебе в глаз!
Глюм не успел спросить, за что, но Трофим его понял и увесистую зуботычину сопроводил словами:
— За всё хорошее!
Этого дракоша уже не расслышал, мгновенно вырубившись. Нет, недаром ему с самого утра вспоминался Лиссабон…
Убедившись, что оба трезвы, как стёклышко, дежуривший у винного милиционер отпустил их. Правда, пришлось уплатить штраф. Это сделал Трофим, у Глюма рублей не оказалось, а сертификатами и чеками, а также серебряными мексиканскими песо платить было бессмысленно. Наконец они вышли из пропахшего кошками учреждения на вольный морской воздух.
— Берём для тебя ящик «ессентучков», и айда ко мне, — предложил Трофим. — У меня ещё литров двадцать кваса в холодильнике есть.
— Хватит с меня на сегодня твоего угощения, — сердито отмахнулся Глюм. — Будь покедова…
Нос у него съехал набок, а левый глаз заплыл от фингала. Рука у Трофима тяжёлая. Грузчик.
10Гадкое какое-то увольнение, непруха ангельская! Может, и впрямь какой-нибудь белокрылый воду мутит? Но, поразмыслив, Глюм здраво рассудил: просто полоса белая пошла, самая дрянная…
Как говорится, помяни ангела, он тут как тут. О встрече с ним и рассказал Глюм капитан-командору, вернувшись на Белую Субмарину.
— Иду я траверзом Окатовой и вижу по правому борту знакомую калошу. На флаге — лавровая ветвь, порт приписки — Рай. А одет! Джинсы «суперральф», Италия. Кроссовки из ФРГ. Плюшевая греческая кофта, из тех, что так любят носить юнцы. Полный прикид!
— Быть того не может, — искренне удивился дьявол. Он щёлкнул пальцами над опрокинутой чашечкой с кофе, вгляделся в лакированную чёрную лужицу. Глюм ещё раз увидел «райскую калошу» и себя самого посреди суетной улицы.
— Ваша Непорочность! — заорал он, обрадовавшись встрече. — Братец шестикрылый, ты ли это?! Глазам своим не верю! Почём боны брал? По номиналу? Или кого-нибудь «кинул»? Знаешь, ты здорово щас похож на «кидалу»!
Ангел, напротив, встрече не обрадовался.
— Где это тебя изволили пометить, мой милый? — скривился он, намекая на скособоченный нос боцмана. — Даже здесь ты не изменил своим дешёвым пиратским привычкам.
— Фирмово прикинулся, райское отродье, — гнул своё Глюм. — Поди, весь магазин «Альбатрос» наизнанку вывернул? И не стыдно моряков грабить? В море не ходишь, а заработанным пользуешься…
— Не разгуливать же по городу в хитоне с арфой, меня не так поймут.
— Всё верно, сразу упекут в психушку. К тому старикану, которого ты пожалел, а он тебя за это трахнул бутылкой по голове!
— Я исполнял свой долг, — сухо ответствовал снизошедший до тряпок ангел. — Каждый обязан исполнять свой долг.
— Эдак ты скоро к себе и девочек будешь водить, по десять рублей чеками. Докатишься, дорогой серафимчик…
Сие ангел пропустил мимо ушей. Перевёл разговор на другое.
— Ваши методы вербовки в последнее время никуда не годятся! Душа — вещь деликатнейшая, а вы ей — морской воды! Вместо любимого напитка, именуемого «креплёный портвейн розовый, из столового винограда». Ужасно!
— На веки вечные, — Глюм злорадствовал. — Ему, его внукам и правнукам. До седьмого колена. Хаммэн!
— А каковы будут ваши успехи в дальнейшем? На стезе совращения и искушения? — поинтересовался ангел и криво ухмыльнулся.
— Так это ты мне дружка художника подсунул? — прозрел Глюм и злобно ощерился. — Ты на меня Трофима, дубину магазинную, натравил? Ах ты тля райская!..
Ангел злорадно развёл руками, а боцман поспешил унести ноги подальше от белокрылого прохиндея. Он ведь чувствовал, кто воду мутит!
11Глюм осмотрелся. Где они нынче? Капитан любил менять места стоянок Белой Субмарины. Глюм не удивлялся, сходя на берег в душных тропиках, а возвращаясь на борт уже где-нибудь за Полярным кругом. Чёрный Мсье обожал эдакие демонические места, где некогда бушевал Плутон или хулиганил Нептун. Где вечно неуютно сквозило, где о скалы неумолчно бились ледяные волны.
И ныне такое же местечко — вздыбленные после гигантского взрыва, застывшие лавы. Некогда море поглотило здесь жерло вулкана.
— Шарахнуло почище Кракатау. — Глюм вертел головой, вспоминая, как рвануло тогда в Индонезии. Натянул капюшон альпака: с берега, усеянного пятнами снега и клочьями серого, остекленевшего от мороза лишайника несло адским холодом.
Семь новичков стояли по колено в прибое, и льдинки били их по замёрзшим ногам. Чёрный Мсье внимательно оглядел матросов, затем любезно предложил Глюму чашечку горячего кофе. Боцман бережно принял нежный, тонкий, как лепесток, фарфор, искоса тоже глянул на закоченевших. Он предчувствовал — сейчас грянет разнос. И не ошибся. При первых же звуках громового голоса проглотил, обжигаясь, кофе. С запоздалым раскаянием подумал о своём проступке. И угораздило же его так нажраться с великой радости. Жажда вернулась! Да лучше бы она вовек не возвращалась, глядишь, и пронесло бы!
— А ведь он прав! — гремел яростно Чёрный Мсье. — Когда ты наконец перестанешь носить эти идиотские калоши, придурок? Эту майку с надписью «Монтана»? Эти рваные брезентовые штаны чернорабочего негра?!
Глюм виновато оглядел себя. Калоши были очень удобны, из них он не вылезал вторую сотню лет. Главное, не жали и вообще всегда выглядели, как новенькие. Да и маечка хороша, с непонятной и звучной надписью по латыни «Монтана».
Как звучит-то: «Мон-та-на»!
Штаны, конечно, подкачали. С дырой на коленке. Всё как-то недосуг за иголку взяться, вот уже тринадцатый год прорехе. Ничего, в ближайшую пятилетку он этот недочёт обязательно исправит. Зато альпак совсем как новенький… «Нулевой», как говорят «утюги». Давали пять «стольников» без штанов, поскольку штанцы он продал у касс рыбпорта на Берёзовой. У него и куртку торговали, но он уступил лишь штанцы. Давали, конечно, «стольниками» с вождём в кепке, самыми что ни на есть настоящими, но видно было невооружённым глазом, что это «кукла».
Вообще-то холодно тут без меховых, в дыру здорово задувает. Глюм пошевелил пальцами, изображая шелест денежных купюр, и вмиг на нём очутились его меховые штаны, а «утюг», подсунувший фальшивые деньги, — в его брезентухе.
Капитан в раздражении выплеснул остатки кофе за борт, а Глюм вытер физиономию. Следом была отправлена и дорогая чашечка. Рядом с подводной лодкой, плеснув хрящеватым хвостом, вынырнула незнакомая рыбина и хрупнула фарфором ещё в воздухе, показав три ряда страшных зубов. Расторопный Глюм подал командору поднос с сервизом эпохи Тайра ручной выделки. В воздух взвились уже три хищницы. Они прыгали, как сумасшедшие! Когда самая сильная жадно смяла серебро кофейника с горячим напитком и, обжёгшись, судорожно замотала башкой, они долго злорадно хохотали.
А у берега меж тем осталось всего два матросика. Пятеро рухнули на берег.
Глюм деликатно опустил свою чашечку с молчаливого разрешения Темнейшего, и ему едва не отхватили пальцы. Теперь хохотал один капитан, а Глюм икал с перепугу. Вот скачут, сволочи, совсем как оголодавшие пираньи!
В прибое остался стоять лишь один рыженький матросик. Стоял и качался, стоял и качался…
— Да он же в льдину вмёрз! — Глюм издал горловой звук, что выражало предельное восхищение. — Ну и поплавок!..
— Виктор Косарев, двадцати шести лет, утопленник на почве алкоголизма, — зачитал строку из судовой роли командор.
— Успехи наши ни к ангелу, — задумчиво сказал он, помолчав. — Как ни прискорбно признавать это, он прав. Ангел вынужден маскироваться под пижона, а мы отстаиваемся в этой дурацкой бухте в давно прошедшие времена. Всплыви мы тут же в наступившее время, что бы от нас осталось?
Шесть обледеневших мертвецов под ударами волн с тупым звуком ударялись друг о друга. Седьмой торчал, по колено вмороженный в льдину, и его тоже качала волна…
— Ни рожек бы, ни ножек, — констатировал Глюм-палач и привычно заныл: — Зря мы сюда заявились, ваша Темность…
— Цыц! Не дребезжи и не верти головой. — Пожухлые листья умерших слов разноцветным ворохом осыпались на столик и на воду. — Мы в конце малого оледенения, в протерозое. Это гладкое время… Впрочем, нет. Рыбу мы уже видели. Скорее всего, это девон. Так вот, будущая гадкая цивилизация ещё плещется в морях тёплых поясов. Пейзаж не осквернён ни волновыми и энергетическими структурами атлантийцев, ни тем более тотальной химией. Даже тебя, мой верный пёс Глюм, нет в эскизах рибонуклеиновых кислот, как и не существует ещё той глупой обезьяны, лохамо-лемура, твоего дальнего лохматого и хвостатого предки. Ведь твой предок, знай это, был лемур, а одна из твоих прапрапрабабушек согрешила с ним!
— А кто был ваш предок? — неосмотрительно спросил Глюм и тут же спохватился: совсем поглупел, акулья башка!
— Несмотря на свою вопиющую невежественность, — отозвался дьявол после недолгого раздумья, — Ты задал на редкость умный вопрос. Можешь не гордиться, у идиотов это бывает сплошь и рядом… Да, как-то и я задумался, откуда произошёл весь наш Род? Все иерархии ада, круги страданий Преисподней, Легион Имён Тьмы и Сонм Низвергнутых Коциума?.. К печальному выводу пришёл я, мой верный дурак. Нас создало само человечество! Мы его вековые страхи, тени и ночной вой. Мы его поганая харя, отражённая в речной воде или в зеркале. Его потаённые нечистые желания. Его чёрная зависть, распущенность, звериная злоба, жадность, подлость…
Людям не хочется отвечать за свои грехи. Сделают кому-нибудь пакость и говорят: нечистый-де попутал. Как всё просто — чёрт виноват! Как сказал один умный человек, нечего пенять на зерцало, коли рожа… Впрочем, я отвлёкся. Ты спросил о моих предках, но что ты знаешь обо мне? Ведь я когда-то был всего-навсего скромным демоном, беззаботным морским малым страхом! Плескался потихоньку у берегов, хватал купальщиц за разные места…
Глюм осторожно улыбнулся: шеф, кажется, изволил шутить. Его слова вспыхивали северным сиянием над кратером-бухтой, мертвецами, вмёрзшими в береговой лёд, льдинками шуршали по стальному корпусу Белой Субмарины.
— Неужели ты всерьёз думаешь, что мне нравится кочевать во Времени? Абсурд! Когда в «Обитаемом острове» братьев-фантастов появились всего три строчки обо мне, я сразу понял, чем всё обернётся. У тысяч наивных читателей возникло смутное представление об адском подводном корабле. Хырргрывак! Абсолций эт вуссара!..
Теперь я попал в этот жалкий опус. Ведь это самое настоящее литературное пиратство! Его автор бесцеремонно залезает в чужую книгу, абордажем захватывает сюжет, а её создателей, кстати, безмерно уважаемых мною, отправляет за борт. Чтоб его побрал ангел! Трижды в Эдем, в тошнотворные райские кущи с кисельными берегами и молочными реками! Да приди он со своей писаниной ко мне, я бы заплатил ему в тысячу раз больше, чем он рассчитывает. Но ведь он не пожелал, как ему ни намекали! Вот кого бы я с наслаждением пропустил через торпедный аппарат. Но он не пьёт, не курит! К тому же ещё придумал художника, который нарисовал картину «Белая Субмарина»! Представляешь? Художник ожил — задвигался, зашагал, стал думать. А от размышлений и поддавать. И в конце концов вместо того, чтобы ловить автора, чтобы тихонько свернуть ему шею, нам теперь придётся искать Леонида Ланоя. А иначе не выйдешь в море! «Пока не осыпется краска и не сгниёт холст». Проклятье!..
Глюм помнил, как однажды стариком-наркоманом из экипажа зарядили торпедный аппарат. Тот беззвучно вопил, от ужаса пропал голос, хватался костлявыми руками за крышку, обламывая в кровь ногти. Но вот крышку задраили, повернулся винт. Сжатый воздух выкинул жалкий окровавленный комок, бывший некогда человеческой плотью, со страшной глубины.
Дьявол шёл мимо стоявшего оцепенело экипажа, состоявшего из разноязыкого сволочного сброда, каждому матросу заглянул в глаза, пронизывая насквозь своими острыми игольчатыми зрачками. Пропускать через торпедный аппарат с тех нор называлось на корабле «пройти дезинтоксикацию».
— А впрочем, мазилка от нас не уйдёт. Лично ты будешь им заниматься. И пошевеливайся, пока не отведал после кофе на десерт своей же плети!..
Глюм засвистал в серебряную боцманскую дудочку, вызывая команду на палубу. Приказал убрать всех мертвецов и забросить в нижние отсеки. Там, на балласте из самого проклятого из благородных металлов — золота, они отойдут, оживут, в долгих мучениях будут содрогаться среди мрака, чтобы вечером вновь встать в ледяной прибой босыми ногами. И это будет повторяться и повторяться много лет, покуда капитан-командору не взбредёт в голову придумать какое-нибудь новое, ещё более изуверское развлечение. Ведь им стоять на мёртвом якоре до тех пор, пока не осыпется краска с картины и не сгниёт холст. Пока художник Леонид Ланой сам не приползёт на корабль, покончив с собой в пьяном бреду.
Эй вы, пьющие! Весёленькая жизнь ждёт вас на том свете, если он есть. Пейте же всё, от дихлофоса до тормозной жидкости, торопитесь! Подневольный экипаж Белой Субмарины рад пополнить свои ряды…
12От неосторожного движения хозяина пустые бутылки со звоном раскатились по захламлённой прихожей. Ланой долго и мучительно всматривался в гостя, а узнав, пьяненько хихикнул и полез обниматься.
— Аркаша, чёрт старый! Сколько лет, сколько зим! Я уж думал, глюки пошли, звонишь по неподключенному аппарату.
— Да там какую-то японскую технику испытывали. Я и позвонил.
— Ну, японцы всё могут. Только такие картонки, как я, сделают вряд ли… Сколько ж ты не показывался? С самой Разлаповки. Я тебе такой подарок приготовил! Назвал «Десять тысяч нагих негритянок».
— Ты все десять тысяч изобразил?
— Что ты! С перспективой не более трёхсот. Да ты проходи, проходи, чего мы тут торчим…
Аркадий сбросил свой тяжеленный рюкзак на пол, жалобно взвизгнули бутылки. Перед своим приездом в Уссурийск он получил письмо от знакомых из Владивостока. Писали, что Леонид опять запил, что у него всё чаще появляются случайные собутыльники. Кто-то из них спёр богатую коллекцию гонконгских безделушек из бронзы…
А ещё писали, что его имя гремит по Приморью.
— Я слышал, Аркаша, ты по тропе Арсеньева с ребятами ходил?
— Пробежечка была что надо! Дожди, наводнения, поголодали малость. В одном месте долинка заколдованная встретилась. В середине абсолютно круглая. Представляешь? Стреляй, кричи, за её пределами — ни звука! Ночевать в ней и врагу не пожелаю…
— А что так?
— Глюки, как ты говоришь, замучают. Всю ночь голоса: шепчут что-то, шепчут. Ребята говорят — вихревые электромагнитные колебания большой мощности, приборы зашкаливает, а радиационный фон в десять раз ниже естественного… Мы потом три дня еле ползли. Ни сил, ни желания двигаться.
Вид просторной и светлой квартиры в великолепном доме-башне над бухтой Тихой был жуток. Сотни бутылок загромождали её. Лежень продолжал рассказывать, с тревогой вглядываясь в опухшее, заросшее щетиной лицо друга.
— Раза два амба подходил, только фальшфойерами и отпугнули. До чего же любопытная кошка! Костра не боится совсем, ляжет в кустах и смотрит, что мы делаем. За водой надо — все шестеро идём. С факелами. Брякаем в котелки, орём… По нужде приспичит — тоже иллюминация с к
Закатное солнце готово было утонуть в водах бухты Тихой.
Прощальный луч осветил верхний этаж дома-башни, что стоял на каменистой сопке и обвевался всеми ветрами. Заглянул он и в мастерскую. Леонид сделал три шага назад, поднял глаза на картину и вздрогнул.
Произошло колдовство. Море на полотне ожило, плеснуло свинцовой рябью. Акулий корпус подводной лодки, шедшей прямо на зрителя, стремительно рассекал волны.
Вот тогда-то хриплым варварским проклятием азиатских побережий срединного моря прозвучали слова коренастого и рыжего, судорожно вцепившегося клешнями рук в ограждение рубки:
— Шанхар, тарс им манехем!
Высокий спутник коренастого, обезьяноликого, стоявший справа, сбросил кожаный капюшон альпака, непромокаемой униформы подводников, и злобно уставился на своего создателя красноватыми, тлеющими зрачками змеи. Пожалуй, вряд ли он был рад произошедшему чуду.
Ланой тоже не обрадовался метаморфозам Белой Субмарины. Его поразило выражение лица этого типа в альпаке, доселе скрытое капюшоном, — в мороси брызг, с широко расставленными глазницами и выпуклыми, словно от базедовой болезни, глазами с вертикальными зрачками. И коренастый не отрываясь смотрел на своего повелителя — Адмирала Тьмы, льстиво, по-шакальи угодливо.
Море продолжало бушевать, слабый шум волн долетал до широкой комнаты, залитой светом, отражаемым хитроумными зеркалами за окном. Леонид прилип к стене, словно эти двое могли спрыгнуть с мостика к нему в мастерскую, и с нескрываемым изумлением продолжал рассматривать живой окоём картины, будто не он сам несколько минут назад нанёс свинцовыми белилами последний мазок на кильватерный след дьявольского корабля Глубин.
Подводная лодка стремглав неслась в бушующих просторах, шла уверенно, с каждым мигом приближаясь к Владивостоку, разводя буруны острым форштевнем. Два исчадия ада с нескрываемой ненавистью внимательно изучали художника. Волны облизывали горбатую палубу белого цвета в грязно-ржавых потёках и, шипя, скатывались обратно.
«Пятнадцать узлов в час», — машинально определил Леонид.
Пронзительно выл над лодкой ветер, лёгким сквозняком властвовал в комнате, шевелил сдвинутой шторой окна. Ему было дано прорваться сквозь плоскость картины вслед выкрику коренастого моряка, ему да ещё мельчайшим солёным брызгам.
Но вот луч солнца погас, и волшебство кончилось. За окном дремотно укладывалась на покой дальневосточная ночь, вдали, на рейде, всё ярче светились огни кораблей.
Леонид, освобождаясь от кошмара ожившего видения, оттолкнулся от стенки и двинулся на кухню. Там, не зажигая света, открыл холодильник, налил себе полстакана можжевёловой водки с запахом дымка и залпом выпил. Тяжело опустился на табурет.
Следовало приготовить наскоро ужин — холостяцкую глазунью, весь день всухомятку, но он всё сидел, бросив руки меж колен, и жернова-мысли с каменным стуком ворочались в голове. И в мастерскую не хотелось возвращаться, хотя нужно было бы взглянуть на работу при свете люминесцентных ламп. Он часто писал флюоресцирующими западногерманскими красками, те давали потрясающий эффект в темноте. Леонид неожиданно почувствовал, что боится ещё раз взглянуть на собственную работу.
«Пора кончать, — мелькнула здравая мысль. — Сопьюсь…» И тут же резко нырнул вперёд, зло шваркнул дверцей дорогого шведского «розенлева» и снова хватил можжевёловой, зацепив на закуску солидный ломоть солёной сёмги.
«Сопьюсь…» Придавленная алкогольными градусами мысль эта уже не казалась ему такой отчаянной, и Леонид принялся азартно жевать сёмгу вместе с крепкой шкурой.
«А если и так, кому я больно-то нужен, то ли гений, то ли сумасшедший? Кому?..»
2Свежий след когтей на ильме уже не удивил Аркадия. Тигр кружил вокруг него второй час. Обходил справа, крался слева, пересекал песчаную тропу, чётко отпечатывая гигантские следы могучих лап. Полосатая кошка забавлялась. Она была сыта и благодушна. Её раздражал запах металла и человеческого пота, промокшей одежды. Единственное, чего не было — запаха страха. Упрямый человек бесстрашно пробивался по заросшей лианами тропе.
Дальневосточная тайга с неохотой пропускала одинокого путника к берегу реки. Четверо его товарищей изрядно отстали, то и дело останавливаясь для краткой описи растительного ареала. У них были японские карабины, и с ними остались три лайки. У него тоже карабин, станковый рюкзак, массивная фотопушка на груди и длинный нож-балан, что с размаха опускался на сплетения лиан. Он знал: через неделю от его тропы не останется и следа, всё перевьют, сцепившись намертво, молодые побеги.
Примерно три часа назад он почувствовал пристальный взгляд в спину. Но пятнистый подлесок, испещрённый пятнами солнца и глубокой тени, мог спрятать добрую сотню хищников. Непроходимые уссурийские дебри, где соседствовали маньчжурский орех и корейский дуб, дикий виноград и лимонник, сплошные заросли заманихи, кусты рододендрона по сопкам да колючие стены элеутерококка, тигра скрывали надёжно. Хищнику было интересно следить за человеком, в молодом звере играла сила, а то, что странник знал: его выслеживают, придавало игре интерес.
На галечной отмели у старых валежин, обглоданных бурной водой до костяного блеска, Аркадий сбросил рюкзак, прислонил было к коряге и карабин, но тут же вновь закинул его за плечо — опасность была разлита повсюду. Сегодня он запечатлел добрую сотню пейзажей, в том числе и Хойхан-Со, и три кадра истратил на тигриный след, затекающий водой. Высокочувствительную плёнку он убрал в переносной холодильник-термостат.
Он аккуратно положил карабин слева от себя, а фотокамеру справа и, опустившись на четвереньки, напился из реки. Затем раз-другой окунул разгорячённое лицо в воду, а когда выпрямился, испуганно замер, глядя на противоположный берег мелководной, бурливой реки.
Тигр стоял напротив и смотрел на человека, нервно подёргивая хвостом из стороны в сторону. Хищник зевнул, оскалив пасть, и Аркадий прижал приклад фотопушки к плечу, ловя его громоздкую башку в перекрестие прицела.
— Сумасшедший амба, — судорожно выдохнул он, так и не поднявшись с колен. Перескочить через мелководье тигру ничего не стоило, но тот всё стоял и смотрел, как человек сдвигал предохранитель и переводил затвор аппарата на очередь.
— Была не была, — пробормотал Аркадий, увидев, что тигр принялся лениво лакать воду, и мягко нажал на спуск.
Фотопушка защёлкала в автоматическом режиме — четыре снимка в секунду. Теперь его волновало другое — хватит ли плёнки, не порвётся ли?..
Тонкий слух зверя уловил резкие щелчки и сквозь шум воды. Он одним прыжком скрылся в зарослях чозении, реликтовой ивы, и уже оттуда донёсся его приглушённый рык: «Ээ-ооун…»
И наступила тишина, великая тишина леса. Она вобрала в себя и плеск воды, и шорох листвы, и была долгой-долгой, обвораживающей. Аркадий блаженно и бессмысленно улыбался. Он положил фотопушку и потянул к себе карабин. Осторожно поставил оружие на предохранитель, извлёк засланный в ствол патрон и, подкинув его на ладони, спрятал в карман штормовки. Будет вечером время у костра — выцарапает на гильзе ножом дату и название реки.
— Сумасшедший амба, — ещё раз вслух повторил он, глядя на то место, где только что стоял зверь.
3Они вышли, вернее вытекли, из узкой трещины в старой каменной стене, поросшей клочьями синего мха. Старый алкоголик, коротавший тёплую ночь в обнимку с бутылкой, вытаращил глаза и хмыкнул от удовольствия, увидев, из какой грязной дыры вынырнули эти два прилично одетых субъекта. Он даже не подозревал, чем обернётся вскоре для него их появление.
— Кха-кхе-кхи, — злобно прокашлял он, и этот надсадный кашель-лай больной, проспиртованной припортовой собаки осквернил зыбкую тишину прекрасного, золотистого утра. Тени вышедших из стены внезапно хитрым колдовским крестом упали на влажную от росы скамейку с литыми чугунными ножками, нависли над стариком.
Алкаша затрясло от адского, пронзительного холода, исходящего от теней, словно те взлетели с вечных льдов Коциума, трущоб преисподней, коим уже не один миллион лет. Беспричинный ужас сводил лопатки, и старик, обмирая от страха, услышал, как заговорила тень обезьяноподобного карлика.
— А-а, сухопутная помойная крыса…
Теперь старик разглядел, что у карлика обозначилось лицо — нос, глаза и рот, и всё это как бы приплясывало и менялось местами. Рот кривился в издевательской усмешке, а глаза сочились скорбными слезами. Затем тень опустилась — стекла на землю и быстро, с сухим шелестом приросла к кривым обезьяньим ногам, поросшим тёмным курчавым волосом и обутым в глянцево сверкавшие лакированные калоши.
Его спутник, высокий костлявый человек в чёрном плаще, в остроотглаженных брюках, болтающихся на бестелесных ногах над странными, напоминающими козлиные копыта ботинками, продолжал двоиться. Он стоял вроде бы у скамейки и в то же время поодаль от неё. Дальний двойник о чём-то разговаривал с карликом, а ближний продолжал изучать с брезгливым любопытством пьянчужку, скрючившегося на лавке. Взгляд пустых бесцветных глаз стал осязаемо острым. Раздвоенный словно невидимым скальпелем вспорол пропитанную алкоголем плоть, дублённую морскими ветрами и житейскими невзгодами шкуру, и вот верещавшая от ужаса душа бедолаги уже выдернута за шкирман вон из грешного тела!
Голенькая, довольно невзрачная на вид душа едва не отдала Богу причальный конец, но той же неведомой силой брошена на прежнее место, правда, вверх ногами. Скуля и чертыхаясь, устроилась как положено. Затихла…
Алкоголик очнулся с трудом. Долго и бессмысленно таращился в предрассветный сумрак. В отдалении скользили крохотные, словно шахматные, фигурки. И тут же старику почудилось, что это призрачные, высоченные, под небеса, исполины. Они сильно раскачивались при ходьбе. Казалось, эти двое так и не научились толком, по-человечески ходить. Следы их слабо отдавали запахом тухлых яиц…
Потрясённому увиденным и пережитым алкашу было неведомо, что начиналась новая шахматная партия между двумя одинаково враждебными человеку силами: Господом Богом и господином Дьяволом. Позвольте же автору записать первый ход этой игры…
Когда старик пришёл в себя и попробовал встать, по-прежнему прижимая заветную бутылку к животу, некто третий в ангельски-белом одеянии замахал на него пальмовой ветвью. Перебирая босыми ногами в воздухе, он говорил участливо о раскаянии и покаянии, о смирении гордыни…
Старик злобно обматерил серафима и заковылял прочь.
— Дура ты! — кричал он шестикрылому. — Я в вас не верю, потому что атеист!
Трещина в стене давно сомкнулась, осталась только ломаная чёрная линия. Мир за ней, приоткрывшийся пьяному человеку на мгновение, был ему, конечно, чужд, но видение, его посетившее, ослепительно-радужное, многоцветное, всё ещё стояло перед слезящимися глазами. Всё ещё тупо глядя па стену, он приложился к откупоренной бутылке с розовым портвейном и с отвращением выплюнул, морская горько-солёная вода плескалась в ней!
Старик взвыл от подлой шуточки исчадий ада, запустил никчёмной бутылкой в чудака с пурпурными крыльями за спиной и припустил мелким скоком к знакомой перекупщице спиртного.
Ангел разочарованно смотрел ему вслед.
4Внезапно испортилась погода. В неурочное время прилетел буйный ветер, встормошил, взбудоражил и море и залив, чайки жалобно закричали, бросаясь на крутую волну и тут же взмывая вверх. Они визгливо ссорились из-за мусора, поднятого волнами, и то и дело отважно кидались в круговерть воды. Ветер, забавляясь, играл волнами, высокие яростные валы бушевали, догоняя друг друга и лишь на берегу распрямляя свои горбатые спины. Белёсая пена хлопала в острогранных глыбах камней, у наклонного монолита мола, уходящего косо в глубину.
Странные гости из неведомого стояли в конце волнореза, отсекающего бухту от ярости океанских волн. Смотрели, как из-под беснующейся воды медленно всплывала продолговатая белая тень. Карлик тоненько и вежливо хихикнул, почтительно снизу вверх заглянул в лицо высокому господину.
— Осмеливаюсь выразить своё искреннее отношение к шутке вашей Темности. Я думаю — это бесподобно! Но… Но, ваше Великолепие, зачем так утончённо? Ослиной мочи бы ему, а не морской водицы. На веки вечные!
— Всё-таки ты на редкость туп и вульгарен, мой верный идиот Глюм…
Слова, что молча, не разжимая рта, произнёс высокий, как бы проявились в воздухе подобно рекламной строке, затем мириады льдинок, их составлявших, осыпались с лёгким шорохом изморози, тут же тая.
— Все эти семь тысяч лет, что я знаю тебя по твоей верной шакальей службе, мой преданный дурак, — позвякивали льдинки, — ты неизменно действуешь по старинке. Хватаешь в первую очередь за глотку тело, а надо хватать душу…
— Душу за глотку? — Глюм пожал плечами. — Не обучен, ваша Темность! Дубинкой по затылку, иголки под ногти, факелом в морду… Дёшево и сердито!
— Дуботолк! Возьми его за струночку в душе и тихонечко — дзинь…
«Дзинь-нь-нь», — задребезжало последнее слово, осыпаясь поверх подтаявшего сугробика.
От всплывшей субмарины, мелко вздрагивая на зыби утихавших волн, отвалила шлюпка. Вёсла дружно ударили о воду. Загребной стал что-то громко и ритмично выкрикивать на древнеарамейском. Сумрачные бритоголовые матросы, напряжённо и безрадостно скалясь, мерно сгибались и разгибались.
«Мы зря сюда заявились, — невольно подумал Глюм, забыв о невозможности своих мыслей быть потаёнными. Он недоверчиво озирал спящий город, вольно и красиво раскинувшийся на сопках. — Он по-ангельски чужд нам…»
— Клянусь льдами Коциума, ты опять забываешься, скотина! Чьё имя ты произносишь? Забыл пословицу — «Помяни ангела, и он тут как тут»?
На этот раз слова высокого господина затанцевали в воздухе разгневанными языками пламени.
— Я должен посмотреть на этого парня.
— На какого, ваша Темность? Это тот, что…
— Этот пачкун посмел нарисовать мой корабль и тем самым поставил Белую Субмарину на мёртвый якорь в этой бухте. Навечно! И она будет стоять здесь, пока…
— Пока не осыплется краска и не сгинет холст! Но разве он солгал?
— Да лучше бы солгал! Но забери его Бог, кто ему дал право изображать меня, князя Тьмы, Адмирала Преисподней, Величайшего и Ужаснейшего Морского Демона? Я клянусь, этот маляр приползёт ко мне на коленях! А картину повесим в кают-компании над моей коллекцией черепов, пробитых выстрелами в висок, в затылок, гильотинированных в прошлые века… Белая Субмарина снимется с якоря! Мазила ещё походит с нами по морям, клянусь Астаретом, Велиалом, Вельзевулом, Бегемотом, Люцифером и его братом-близнецом Люцефиром. Лично ты, Глюм, займёшься им. Знаешь, что над сушей я не так властен, как над морем. Сделай из него вначале самоубийцу, такие частенько попадают прямо к нам, в Дуггур. Детали на твоё усмотрение, мерзавец. Пошевели своей единственной извилиной, хотя она у тебя, кажется, тоже прямая.
И вот любезная парочка уселась в шлюпку. Гребцы ударили вёслами и устремили её бег к ослепительно-белому кораблю, который казался таким лишь издали. Поблёскивают, качаются в такт бритые головы, помеченные одинаковой татуировкой над правым ухом: краб размером с металлический доллар, раскрашенный китайской тушью в три цвета.
Той долей мозгов, что была видима командору, предусмотрительный Глюм привычно думал о всей «драконьей» мелочи: сурике и белилах, о пасте «гойя», о чистке меди грубым сукном, о том, что давно бы пора переплести свою девятихвостую плётку, свитую из кожи нераскаявшихся грешников. От долгого употребления изрядно поистерлись бронзовые гайки, что отлили по рисунку весёлого бородатого грека в далёких Сиракузах. Как бишь его? Арти, Арши… Архи… Он ещё бегал голым по улицам и орал какое-то дурацкое слово. Ох и потешался же над ним Глюм!
А невидимые взору командира извилины уже выродили осторожную мыслишку: чем лично для него обернётся предстоящее дело? Он даже бросил пёстрые гадательные бобы из рога чёрной коровы, и раз выпала буква «фита» и дважды подряд «геенна». Хе-хе-хе!.. Чужой город, а двуногие истинно опасны. Ведь эта, чтоб её, техника всегда поперёк дороги нам, верным и простодушным слугам Тьмы!
Вспомнив последнюю шуточку Чёрного Мсье, Глюм издал горловой звук. До конца дней не пить, когда без алкоголя не жизнь, когда клетки печени уже сгорают от неуёмной жажды. Но вместо вина, водки, спирта, «бормотухи», марганцовки — что бы ни взял в руки старый алкарь — всё обернётся морской водой. Это «монтана», как говорят косноязычные завербованные портовые люмпены. Но лично Глюм подобных деликатных выражений не признавал. Он был суровым практиком. И питал слабость к сильным словечкам.
5Неожиданно он подумал о том, что может и не скрывать свои мысли. К чему? Можно думать какими угодно мозгами, правыми, левыми, верхними, нижними, поскольку того древнего наречия, которым он владел, никто уже не знал на белом свете. Вымерли его соплеменники, растворились в сонме иных племён и народов, да туда им и дорога, всей этой сволоте, что, право же, почище ламихуз!
На родном языке он думал по привычке, а семь тысяч лет назад разговаривал со своими землячками, чтоб им всем…
Вот времечко-то летит! Глюм с содроганием вспомнил, чем закончился тот последний разговор на родном языке. Колодцем! Сидя в сухой глубокой дыре, Глюм (а его и в прежней, благодетельной жизни так звали) ни о чём и не думал. Просто сидел и от нечего делать ковырял глину толстым грязным ногтем. Ветер пустыни сыпал ему на голову мелкий песок, а жизни оставалось ровно столько, сколько он выдержит без воды. Пить, конечно, хотелось дьявольски, но ещё больше — жить…
А начнись песчаная буря, и смерть придёт гораздо быстрее. На крышку колодца эти ублюдки навалили груду камней, стаскав их со всей округи. Песок сквозь щели быстро засыпет могилу-ловушку. Скуки ради Глюм проклял всех богов. По слухам, так вызывали Сатану. Но никто не появился. Тогда Глюм проклял всех будущих богов. Никого…
Тихо шелестел по стенкам песок. И как песок тёк долгий вечер, затем ночь, утро, день… Это звучала вкрадчиво смерть, обещая мучительный конец.
Глюм нащупал в углу мешок сухой солёной рыбы и взвыл. Он выл долго и громко, силы можно было не экономить. А в обед после второй рыбины, которую он сожрал всё-таки с удовольствием, завыл снова, и уже через час, потеряв от жажды рассудок, грыз запястье, пытаясь утолить её своей кровью.
И тут он услышал откуда-то издалека стон-звон колокольчиков. Он решил, что это очередная галлюцинация, и прохрипел страшное проклятие всему роду человеческому, выплёвывая ошмётки кожи и мяса, не чувствуя больше ни боли, ни желания жить.
Но Глюм не ослышался. К колодцу подошёл караван некоего Аштарешта, халдейского мага и кудесника, злого чародея. Его прислужники с зыбкими, постоянно меняющимися лицами вытащили оттуда вместо воды дурно пахнувшего пирата Глюма. Раздосадованные, они решили отправить его обратно в песчаную могилу и отправили бы, но тут у них разгорелся спор. Одни утверждали, что эту человеческую мразь следует спустить вниз головой, чтоб разом и покончить, другие возражали — нет, ногами, пусть ещё помучается.
Глюм обессилено сидел на песке и без всякого интереса смотрел, как кочевники в пёстрых бурнусах, разъяряясь всё более и более, уже хватают друг друга за грудки.
На шум и ругань из войлочного шатра выглянул хозяин каравана, добродушный толстяк Ашгарешт. Увидев дравшихся слуг, растянул узкую щель рта в улыбке. Казалось, его розовое лоснящееся лицо вот-вот лопнет от жира.
По знаку хозяина Глюма подтащили ближе. Толстяк заговорил на одном из срединных наречий побережья. Глюм с трудом, но всё-таки понимал его.
— Кого я вижу! Пират и душегуб Глюм собственной персоной…
Глюм ничему не удивлялся. Колодец, песок и солёная рыба лишили способности осмыслить происходившее. Он тупо пялился на Аштарешта, соображая, откуда тот его знает.
— Не хочешь ли сказать, что, предавая людей смерти, хотел лишь избавить их от страстей земных и помочь им обрести загробную жизнь в Эдеме? Но ведь попутно ты избавлял не только от долгих мучений, но и от золотишка? Ты любил золото, Глюм…
Глюм молчал, всё ещё мучимый неразрешимым, для него вопросом: где они встречались с этим жирным караванщиком?..
— Но твои неблагодарные сородичи, такие же разбойники, как и ты, решили, что твои подвиги даже превзошли их свирепость и подлость. Они ограбили тебя самого и немного проучили на прощанье. Впрочем, три сломанных ребра, раздроблённая челюсть, пробитая голова не в счёт. Всё это мелочи по сравнению с той казнью, которую они тебе придумали. Бросили тебя в колодец! Да ещё и щедро снабдили продовольствием, чтобы не сразу окочурился. Ты уже пил собственную мочу? Нет? Значит, немного поскучав в одиночестве, уже взываешь к Кабалле о помощи?
— Аха ахага ахагин, — прошамкал наконец Глюм, придерживая рукой сломанную челюсть.
— «Тебя ли я звал, господин?» — повторил вслух невнятную фразу пирата Аштарешт. — Ты это хотел сказать?
В его пухлых пальцах вдруг очутилась сосулька, и караванщик сунул её в рот. Глюм видел такие длинные прозрачные сосульки у Оловянных островов, Касперид, во время одного из дальних плаваний. Правда, там они были чуть побольше. Там же он впервые увидел и снег — закоченевший дождь, падающий с неба.
Купец стал блаженно чмокать, талая вода текла по его руке, падала на песок. Глюм судорожно сглотнул, испытывая адские муки.
— Да уж ясно, не меня! — сказал Аштарешт. — Ты ведь, кажется, звал Самого… Неужели ты думаешь, что он придёт? Да на кой ты ему? И мне ты не особо нужен.
Тут маг отшвырнул сосульку, озабоченно пощупал горло:
— Гланды… Может быть ангина. Гланды — штука капризная…
Глюк проводил взглядом льдинку, от которой через секунду не осталось и мокрого места. Он бы променял на неё сейчас целое море воды, огромный океан холодной и пресной воды.
Купец замотал горло неизвестно откуда появившимся мохеровым шарфом, поясняя:
— Стрептоцид ещё не изобретён, да и насчёт пенициллина никто из наших не подсказал Флемингу… Да и нет, его, Флеминга, не родился ещё! Мучайся теперь с гландами, как вшивый ассирийский раб!
На сей раз Аштарешт — и снопа из воздуха — извлёк аппетитный шашлык на витом бронзовом шампуре, и теперь Глюму зверски захотелось есть.
— Итак, мы остановились на том, что ты мне не нужен, — сказал чародей с набитым ртом. — Но мой стародавний приятель, морской демон, просил подыскать для неделикатных поручений какого-нибудь подонка. Думаю, ты вполне подходишь… Эй! Чёртовы слуги! — Он, хлопнул в ладоши. — Мне холодного фалернского. Ему чашу поднесите…
Тотчас один из прислужников принёс запотевший рог с фалернским вином, а другой бережно подал чёрную фарфоровую пиалу, наполненную багрово-жёлтым мерцанием жидкого пламени. Золотом отливала и надпись по краю пиалы, выполненная арабскими летящими буквами.
Аштарешт замахнулся на прислугу пустым шампуром.
— Из какого века вы достали её, сыны вероотступницы Лилит, предавшей демонов и согрешившей с Адамом?! Печать проклятия лежит на ваших делах, словах и лицах!
— Из вьюка на белоснежном верблюде, господин наш.
— Ну что с них взять? Опять перепутали время и место, ослы. Этого времени ещё нет! Нет арабов, нет арабского алфавита! Нет фарфора, Корана, Аллаха, Христа и Будды… Нет даже философа, который скажет недурную фразу: «И песок однажды утоляет жажду». Нет влюблённых, коим предстоит испить из Чаши напиток любви и смерти… Мне нужна обыкновенная глиняная чашка из Хараппы, ясно? Ведь Чашей её делает колдовское зелье. Можно даже ту, что гончар сделает завтра утром. Только не забудьте кинуть ему пару медяков. Знаю я вас, жульё!
Поднялась суматоха. Кого-то будили, громко колотя в дверь, и заспанный голос обещал испытать крепость своей дубинки на боках ночных бездельников. Неудивительно, в Хараппе была глубочайшая ночь, ведь это селение лежало от колодца на тысячу дневных переходов к востоку. Затем стали торговать чашку. Заспанный гончар предлагал неожиданным покупателям совсем дёшево кувшины для вина, расписные жертвенные блюда для храма, кувшины для омовения, но, получив отказ, заломил за требуемую чашку такую цену, что прислужники тут же упали на колени перед хозяином:
— Как быть, наш господин? Два быка, арба и молодая жена — такую цену определил упрямый гончар.
Аштарешт веселился, икал от смеха, видя, как страдает Глюм от жажды и как набавляет и набавляет цену гончар. Эх, его бы в руки Глюму, отыгрался бы пират за свои мучения на жадном мастере. Он бы содрал с него шкуру. Он бы подвесил его за…
— Фигу тебе, Глюм! — произнёс Аштарешт, вытирая слёзы пёстрым бухарским платком. — У меня таких денег нет! Пару-другую медяков куда ни шло, но такую сумму… Три меры золота! Впрочем… У тебя ведь остался клад, там… Ну, ты помнишь где. Решай свою судьбу сам.
Глюм подумал и согласно кивнул. Остаться бы только жить, а там он вернётся к прежнему ремеслу и когда-нибудь обязательно навестит Хараппу. Берегись, гончар…
Ударили по рукам, принесли невзрачную и кособокую чашку, обожжённую по случайности вместе с хорошей посудой. Глюм понял — над ним издеваются, но не показал виду. Однако купец мог заглянуть на самое дно души.
— Что ты так косо смотришь на неё, Глюм? Кабалла предлагает тебе избавление от жажды, мучений, глупости… В этом пережжённом куске глины масса ингредиентов, в том числе и твоё любимое золото. Но есть и неизвестные тебе палладий и уран. Их так много, что ты успеешь десять раз сдохнуть, прежде чем я расскажу подробно о каждом. Единственное, о чём я должен тебя предупредить, — напиток холоднее жидкого гелия. Впрочем, можешь немного подумать. Кабалла играет в свои игры честно. Тебя покоробил торг с мастером, но ведь он продавал свой труд! Ты понимаешь, что такое заработанное и что такое нахапанное? Нет конечно. Но тебе ещё предстоит познакомиться с удивительной страной, где одни будут зарабатывать свой горький хлеб, а другие — воровать, прикрываясь высокими словами о всеобщем равенстве, братстве и будущем счастье…
Глюм медлил. От напитка демонов и впрямь несло лютым холодом, хотя в кособокой чаше бушевал огонь. Нет, всё-таки только мастер мог вылепить и обжечь такой сосуд, который выдерживал бы чёрное колдовство Козлоногого.
— Как хочешь, — пожал плечами Аштарешт. — Я верну тебя в колодец. Послезавтра ты в нём и сдохнешь!
И Глюм с содроганием выпил содержимое чаши… В ней действительно оказался напиток вечности, но не бессмертия. Нескончаемость бытия следовало ещё заработать своей шкурой.
Так он попал на деревянный скрипучий корабль-призрак, судно Морского Страха, из флотилии морского демона. Демон за шесть тысяч лет дослужился до Адмирала Тьмы. Глюм — ему вечно мешало тупоумие и поспешность — от юнги до боцмана, «дракона», на Белой Субмарине.
Каждому своё, как некогда говорили ушедшие в пучину атлантийцы… Да, Аштарешт, ныне прозываемый Астаретом, был прав. С тех пор все эти долгие сотни и тысячи лет он ничего не пил. Никогда. Нигде. И жажды никогда не испытывал.
Глюм здорово просчитался. Пасть сухого колодца и мучительная смерть от жажды были ничем перед тысячелетним унизительным рабством.
Впрочем, Чёрный Мсье как-то обронил: прежнее вернётся. Шутничок!
6Паром на мыс Чуркина неспешно шлёпал через бухту Золотой Рог. Четверо случайных попутчиков давили «клопомор» — пили дешёвое вино цвета марганцовки. Старик, оказавшийся по соседству, лишь громко сглатывал слюну при виде стакана, лихо гулявшего по рукам. Изредка и ему предлагали — самый чуток, на донышке, но всякий раз он с некоторым усилием отказывался.
Длинный Коля, более известный в рыбном порту под кличкой Христопродавец, привычно и вдохновенно врал. Изредка он дёргал подбородком, показывая свежий багровый шрам на горле. Двое ему усердно поддакивали. Они «упали на хвост», то есть присоседились, и выпивка им перепадала задарма. Четвёртый же всё время страдальчески морщился, «Клопомор» раздобыл Длинный, но деньги-то дал он, Леонид Ланой, так что делать вид, будто ему интересна эта гопкомпания, он не обязан. Он вообще чувствовал себя на редкость унизительно и думал, что зря уехал из Разлаповки. Бегал бы себе на лыжах да гонял бы с кабыздохами зайцев по заснеженным деревенским полям от Чертогрива до Мостушей…
Ему почему-то вспомнился дикий берег таёжной реки и могучий выворотень, по-местному — ланой. Кедр упал совсем недавно, но грозовые дожди уже омыли его толстые узловатые корни и, хотя исполин ещё зеленел густой кроной, дерево было обречено. Огромные камни, судорожно сжатые корневищами, бывшие их прочной опорой, теперь, вздетые высоко в воздух, издали напоминали странные плоды. Его убил ураган, повалил наземь, и никакие силы не могли вернуть ему прежнюю опору.
Ланой… Выворотень… И ведь он тоже — Ланой. И он теряет (или уже потерял?) свою опору…
Из омута у самого обрыва, где прежде рос красавец кедр, взметнулся в воздух хариус. Его полёт был серебристым слепком секунды бытия. Казалось, он хотел напомнить отчаявшемуся человеку — жизнь, несмотря ни на что, продолжается!..
А сегодня ему стало совсем тоскливо. Он опять разрывался меж берегом обыденности и своими мыслями, своими картинами, среди которых было много пакостных, но не лживых, нет, И ему страшно захотелось выпить, на ночь глядя, хотя знал — все кабаки и шалманы в центре закрыты, а на краю города одинокого прохожего могут не просто раздеть, но и пырнуть заточкой. Портовый город…
Вот случай и свёл его со сведущим, едва знакомым ему портовым забулдыгой.
— …И рванул я тогда с «Хи-хи, ха-ха» к Белому, а от него — к Цыгану с бараков. И он, стерва, пустой! А у «Трёх поросенков» встретил нюрок с «Шалвы Надибаидзе», они уже отоварились, и пошли мы пивом от Юры разговляться…
Коля Длинный увлечённо трепался, не забывая прикладываться к стакашку, и ему заворожённо внимали собутыльники. Они оккупировали тупиковый коридорчик у туалета. Пятый, дедок, ошивался тут же.
Ланой тоскливо курил штатовские сигареты и смотрел, как по середине бухты, сопровождая паром, скользит под водой видимая ему одному продолговатая белая тень.
— Вот так и живём, — разомлевший дружок хлопал Христопродавца по костлявой спине изо всех докерских сил, так что внутри у того что-то жалобно ёкало. — Пашем, пашем, пашем… На благо Родины, значит. А если «на шару» полсмены раз-другой, значит, дома неделю не ночуешь…
Ланой знал, что после смены докеры выходили ещё и на внеурочную работу, её-то и называли «шара» — ряд.
— А домой идтить, с «шаровых» как загудишь… Вторую неделю дома не ночевал, а тут ты нарисовался…
Звяканье стекла, и мощный глоток — стакан за раз.
— Давай дедку нальём, — в очередной раз пожалел старикашку второй кореш, Васек, занюхивая «чернила» рукавом: пили хоть и «по-культурному», из стакана, но без закуски.
— Да пошёл он в… трах-табидох-тах-тах! — возмутился Христопродавец. — Ему портвешок-крепляк, а он, сучий потрох, кричит: «Не может быть, вода морская». Сдвинулся от своего застарелого алкоголизма. Лей лучше художнику, а то он чего-то заскучал…
— А Косарев-то на бухте Тихой, у старых гаражей, потонул. Так и не добрался до своей речки Медянки, — сказал Вася и рванул продранные мехи тальянки, выбил на палубе заковыристую дробь. — Ну, братва, дым коромыслом… Гуди-им!
Христопродавец стал хлопать в ладоши, дёргая скособоченной шеей.
Когда паром, взбуровив винтами воду, опустил тоскливо визжащую аппарель на выщербленный край пирса, Ланой спрыгнул первым и побежал к стальному виадуку над железнодорожной веткой из рыбпорта, подальше от бухты, парома и померещившейся ему тени.
7Телевизор самостоятельно высветлился за полночь. Вася оторопело поднял голову от комковатой подушки и недоумевающе уставился щёлочками заплывших глаз на донельзя знакомую весёлую физиономию. По телеку выступал один из его дружков, совсем недавно зарытый в щебенистую почву приморского кладбища.
— Давай вставай, ядрёна лапоть, — сказал корефан. — Хватит дрыхнуть. Пляши давай!
Вася и дал, аж половицы прогнулись. Дружок решил поддержать и выдал «камаринскую».
Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!
Ты куда, куда по улице бежишь? —
зло и решительно подхватил Вася.
Грянул невидимый хор. Из-за кулис первыми вышли мужчины во фраках, но почему-то босиком, затем выплыли лебёдушки в розовых платьях, дебелые женщины с голыми жирными спинами. Они выстроились полукругом на огромной сцене и припев тянули мощно и грозно.
— Пляши, Васек, — орал корефан. — Наяривай! Что ж нам боле остаётся, как не плясать под их музыку…
— Ва-ся, пля-ши, — стал дружно скандировать хор, оглушающе ритмично хлопая в ладоши.
Васина супруга, возвращаясь с вечерней смены, ещё во дворе услышала истошные выкрики и дикий топот. На лестнице к ней бросился сосед, живший под ними.
— Люстра упала! — грозил он трясущимся пальцем. — И за люстру уплатите, и за сервант с фарфором. А за хрусталь вообще не рассчитаетесь… За всё заплатите!
— Люстра! Господи, Васенька, — кинулась бедная женщина к мужу. — Совесть-то поимей!
Вася наконец остановился, смахнул пот с лица. Глянул ошалелыми глазами, не узнавая никого вокруг. Потом решительно отстранил супругу и вновь пошёл но кругу вприсядку:
Жарь, дружок, шире кружок!
Разойдись, честной народ,
нынче Вася в круг идёт…
Сосед, а затем и Васина супруга в недоумении уставились на тёмный экран телевизора, с которым, тяжело дыша, разговаривал Василий.
— Во, этак-то лучше, чем пень пнём стоять, — одобрил корефан, снова высветившись в «ящике». — Нашёл, кого слушать! Ты народ слушай, народ… — и дружок кивнул на улыбчиво доброжелательный хор.
Когда приехали дюжие санитары, дружок наскоро попрощался с Васей и потихоньку превратился на его глазах в скелет. Жутко оскалясь, скелет заверил Васю, что свободное местечко рядом с ним на кладбищенской сопочке он попридержит.
— Главное, в гости ходить друг к другу будем, один день я, другой — ты… А как луна в полный свет встанет, вылезем из могилок «кладбищенку» пить. Не пробовал? Ну, Васек, тебе понравится!
Вася, с ужасом глядя на изъеденный червями череп, дико заорал, стал вырываться из рук. Его быстро успокоили, упаковав в новенькую смирительную рубашку, вкатили сквозь неё укол в плечо, чтобы не брыкался, затем тщательно пристегнули ремнями к носилкам. Сноровисто снесли во двор, ловко задвинули в фургон.
— Ну и дела, — вздохнул удручённо один из санитаров, доставая мятую пачку дешёвой «Примы». — Ночь психов.
— За два часа уже третий с «делириум тременс», — пояснил его напарник Васиной супруге, удручённо застывшей у машины. — Один голышом по Светланке бегал, изображал трамвай. Хорошо, настоящие до пяти утра не ходят, а то ведь прямо по путям шпарил. Другой, дедок, набрал в бутыль морской воды и давай скакать вокруг неё. Ежели я вино всегда в морскую воду обращаю, орёт, то почему она, мол, обратно в вино не превращается… И скачет на набережной, пассы руками делает вроде фокусника. Народу собрал — ого! И «самураи» тут же со смеху укатываются, из толпы монетки ему бросают. А он всё скачет, и всё дьяволов каких-то поминает. Один, мол, в калошах ходит, а другой — длинный, худой и страшный. Всё ему чудилось, что они где-то поблизости. Я до того на них, пьянчуг, насмотрелся, что после водки пиво пить боюсь… Голова трещит с похмелья, а я себя уговариваю: «Терпи, Кеша, терпи… Не то сам „неотложку“ вызовешь и самого себя вязать будешь!»
— Будь спок, я те помогу, — заржал другой медбрат. — Глядишь, вдвоём и справимся!
Санитары глянули на затихшего Васю, видно, начал действовать укол. Захлопнули створки металлической раковины с жёлтым крестом на них. Машина, фыркнув сладковатым этаноловым дымком, укатила в ночь. Васина жена, прижимая платок к глазам и оступаясь, словно слепая, побрела к тускло освещённому подъезду…
Город давно спал под убаюкивающий шум прибоя. Но, как и несчастная женщина, бодрствовал в это время художник Ланой. Он стоял у окна, смотрел на тёмные, без единого огонька, громады зданий, на бухту, где сонно двигался оранжевый номерной спасатель, на лениво шевелившиеся стрелы кранов у пирса № 193.
Ему было смутно и тоскливо. Упакованное в крафт полотно с Дьявольской Субмариной пылилось под тахтой, стоявшей в углу мастерской, и с тех пор он спал в кабинете. Там отовсюду на него таращились с полотен в роскошных рамах с позолотой жаболюди, псоголовые монстры, вурдалаки, зомби, скелеты в бане… С этой нечистью художнику было гораздо спокойнее, чем с последним его творением.
Штормистое море. Подводная лодка яростно пенит кильватерную струю и режет волны, а с рубки две фигуры в кожаных альпаках внимательно смотрят на него, и злобно тлеющими угольками блестят в тени низко надвинутых капюшонов их дьявольские глаза…
8Поезд изрядно запаздывал. Ангел ходил взад-вперёд по перрону и нетерпеливо поглядывал на вокзальные часы, пока не убедился, что и они изрядно отстают. Потом ему надоело постоянно задирать голову. Он шевельнул бровями, и левое запястье перехватил браслет с электронными часами, а у фарцовщиков с артемовской толкучки стало одной «сейкой» меньше.
Наконец подошёл состав, втянулся под расписной терем вокзала. Замаячили на перроне люди, на которых ангел поглядывал с безмерным удивлением. С рюкзаками были очень и очень многие, с русыми бородами — добрая половина. Причём многие из них не пили, а треть к тому же и не курила. Где же он найдёт искомое в суеверти добродетельного народа, хотя среди некурящих бородачей иногда попадались и отъявленные мерзавцы. Калькулятор, вделанный в часы, выдал с точностью до сотой доли процента, сколько именно.
Тут ангела невзначай толкнули в плечо мощным станковым рюкзаком, и ангел облегчённо улыбнулся. Вот он!
— Извините, ради Бога, — попросил толкнувший прощения.
— Что вы, что вы, это я замешкался, — отозвался ангел, внутренне ликуя.
«И найди ему его друга потерянного, но искреннего, дабы друг его спас! И обереги друга истинного, ибо пока есть святая дружба, нет смерти, нет пороков, нет ада…»
Друг художника задержался у автоматов, ни одного исправного телефона не было. Ангел рассердился — ведь только что все телефоны были целёхоньки, опять происки нечистой силы! Он решительно вмешался в события и, хлопнув себя по карману, извлёк оттуда радиотелефон с антенной. Протянул бородачу.
— Испытываем японскую модель в условиях сопок, — пояснил ангел. — Горсвязь. Попробуйте. Вы, кажется, собирались звонить?
Аркадий Лежень взял трубку, быстро потыкал указательным пальцем по клавишам. Тонко зазвучал зуммер.
— Ланой у телефона, — прозвучал хриплый, заспанный голос. — Кому это удалось позвонить мне по отключённому аппарату? Или у меня опять глики-глюки пошли?
— Лёня? Это я, Аркадий!
— Лежень? Здорово, чалдон чёртов! Каким ветром?
Ангел поморщился при упоминаний нечистого и деликатно отошёл в сторону.
— У меня кризис, слышишь? — кричал художник. — Я всегда телефон отключаю, когда хреново… Приезжай скорее, Ленька!
9Глюм с отвращением взирал на людскую толпу. Запланированное на утро посещение художника сорвалось: к Ланою неожиданно заявился друг. Мало того, что этот Аркадий-дружок не пил, не курил, не якшался с портовыми шлюхами… Если бы только это! Стоило Глюму только раз глянуть ему в глаза, как он сразу почуял угрозу для себя. То был взгляд добродушного сытого тигра. Тигра! Всё в нём замерло от страха. Ну и глаза! Вроде бы обычные, серые, но пара беспощадных тигров сидела в них и скалила клыки. Такого не ухватишь, гляди, как бы он тебя сам не ухватил. А кулачищи-то! Гири пудовые! Накостылять может запросто. Будет очень больно. И хотя в последний раз Глюма били в Лиссабоне, в год так называемого открытия Америки, давняя экзекуция помнилась и по сей день. Били отчаянно, насмерть, ногами. И в общем-то за дело. Шлюхе не уплатил. Поскаредничал.
Словом, едва Глюм посмотрел на здоровенного Леженя, у него пропала охота вставать у того поперёк дороги. Вот он и ретировался, как последний домовой по мусоропроводу.
Сейчас он сидел в бетонной «ракушке» у кинотеатра «Приморье» на деревянной скамье, отполированной сотнями мускулистых седалищ, и время от времени нервно зевал. Иногда рыжий боцман лениво вставал и вразвалочку подходил к автомату с газированной водой. Ловко стукнув кулаком в определённое место, быстро подставлял стакан. Автомат фырчал водой без сиропа. Глюм мигом проглатывал стакан и, хмелея от ломившей зубы водички, возвращался в «ракушку». До чего же было приятное ощущение от самого процесса поглощения воды, когда перенасыщенный углекислотой холодный водопад прокатывается по твоему пересохшему за тысячелетия горлу! К нему, слава дьяволу, вернулась наконец вечная неутолимая жажда. Вот он и стремился наверстать упущенное и пил, пил, пил. Благодать!
Глюм развлекался, пакостя по мелочам. Один под его добрым взглядом напрочь забывал о свидании, другой терял кошелёк, третий отрывал подошву у новеньких кроссовок. Это было уж совсем ерундовым делом: плюнул вслед — и подмётки как не бывало.
Глюму было чертовски скучно. Он даже позавидовал всем этим кратко живущим, им-то скучать некогда: всё дела, дела… И тут ему захотелось сотворить мерзость помасштабнее. Рыжий боцман не стал откладывать задуманное в долгий ящик.
По глазам полоснула перламутровым блеском изящная «Глория». «Тойота», — нисколько не сомневаясь, определил марку Глюм, легонько щёлкнул пальцами. Демоны холода, сидевшие в пачках с мороженым, появились перед ним и, отдав честь, внимательно выслушали приказание. Когда мимо них проехала «Глория», демоны на полном ходу облепили машину, разбойно засвистели.
В это время грянула сигнальная двенадцатичасовая пушка. Глюм, «ангеляясь» с вывертами, извлёк шариковую ручку с двумя обнажёнными лесбиянками и стал переводить пластиковые электронные часы с музычкой на вариации Глюковского «Ада». Боцман вечно путал часовые пояса, марки машин, имена и отчества, а особенно жаргоны разных эпох.
Через два дня ловкие ребята из краевого ОБХСС, не получив положенной мзды в обычном почтовом конверте, объявили розыск крупного подпольного дельца-перекупщика. Но если бы они заглянули в его гараж, то увидели бы голову бедолаги, торчащую из мерзопакостного мороженого второй холодильной фабрики, спрессованного старательными демонами хлада и града в сплошную ледяную глыбу.
Глюм наконец поднял голову от чёрных часов, краешком глаза заглянул в будущее и с сожалением констатировал: «Промахнулся»! Делать пакости сразу расхотелось, загубил ни в чём не повинную чёрную душу спекулянта вместо светлой. «Нет, есть всё-таки нечто дьявольское в игре случая», — подумал Глюм огорчённо.
И он стал «клеить», причём довольно неуклюже, трёх девочек из торгового техникума. Уж больно ему понравились их загорелые круглые коленки под короткими красно-бело-синими юбочками. Они привычно отмахнулись от, как им показалось, подвыпившего, хамоватого, «нефирмово» одетого субъекта и пошли в кино. Обиженный до пяток, где по древним халдейским представлениям и находилась душа, Глюм извлёк из кармана кусочек шкуры бородавчатого бронтозавра и бросил его вслед трём отвергшим его красавицам.
Девушки вышли из кинотеатра после сеанса, оторопело глянули друг на друга. Ноги сами понесли их к кассе, руки отсчитали мелочь, губы шевельнулись, называя время. Влекомые нечистой силой, целый день вращались они по чёртову кругу: кино, синий зал, красный зал, снова синий… Ночью всем троим снилась кинохроника, индийский фильм, выученный наизусть, а под утро и его продолжение: рыжий кривоногий субъект в новеньких калошах танцует танго с обнажённой задастой и грудастой кинодивой.
Глюм мерзко похихикал: шутка была на редкость удачной, он ещё запрограммировал им и, так сказать, эротический вариант.
— Чужой город, чужое время…
Боцман представил себе уютную пустыню, милый его сердцу песчаный колодец, откуда старого, доброго дядюшку пирата извлекли против его воли, и ностальгически пожелал увидеть, что там творится сейчас. Тут же в «ракушку» забрёл симпатичный молодой человек с немного ошарашенным видом, включил переносной, только что купленный цветной телевизор. Это был актёр и режиссёр местного кукольного театра Юрий Табачников.
Шла передача «Клуба путешественников», и ведущий Сенкевич поведал всему Дальнему Востоку, что на древнем египетском берегу Красного моря, в местности, хорошо известной по интереснейшим археологическим находкам, американская компания «Шелл петролеум» открыла крупное месторождение нефти и газа.
Глюм увидел знакомые, мало изменившиеся за тысячи лет холмы, буровую, разлаписто стоявшую на том самом месте, где когда-то был колодец.
— Спалить её, что ли, к ангеловой бабушке? — Глюм вздохнул.
С прошлым всё ясно, в будущее лезть не хотелось, не то невзначай можно таких дров наломать… Так что оставалось одно настоящее. Из увольнительной на берег ничего не вытанцовывалось! Хоть возвращайся несолоно хлебавши на корабль. И тут он вспомнил о Трофиме, списанном за отбытие срока наказания из экипажа. Как-никак вместе триста годков по морям ходили! Ныне Трофим работал грузчиком в винном магазине, но не пил, проповедовал трезвость. Зато зело потреблял ядрёный квас, с него и хмелел изрядно, характером был тих и рассудителен. Боя стеклотары никогда не допускал. От положенных за аккуратную разгрузку двух бутылок водки не отказывался, продавал их после закрытия, а деньги прятал в холодильник.
— Пить нехорошо, пить вредно, — говорил Трофим своим постоянным клиентам. — Надо вести трезвый образ жизни.
А водку всё же продавал, считая себя если не святым, то причастным к добрым делам.
Если бы не краб над левым ухом, прикрытый от постороннего глаза выцветшим беретом, Глюм и не узнал бы Трофима. Столько лет, столько зим прошло! По-философски мудро грузчик взирал на жадную толкотню вокруг винного отдела.
— Потерянное поколение алкарей, выпестованное нашей мудрой партией. Рабы социализма!
Он с чувством пожал протянутую боцманом руку.
— Кваску? — малохольно, а может, меланхолично предложил квадратный Трофим, ничуть не удивившийся появлению старинного приятеля. По-хозяйски уселся на железной трубе, ограждавшей пешеходную часть Светланки от проезжей, и одним глотком втянул в себя пенный напиток. Глюм пристроился рядом, спросил участливо:
— Ну как, не скучно?
Мимо них текла людская нескончаемая река. Шумные толпы осаждали магазины, испытывая неукротимое желание потратить деньги, и этим ублажить алчущие всё новых и новых приобретений души. Озверело звенел, пробиваясь меж беспечных пешеходов, трамвай. На его отчаянные звонки привычно не обращали внимания. Шли милые девушки в японской косметике, похожие друг на дружку, как фальшивые пятаки, на них таращили глаза завербованные по оргнабору, которых всяк звал по-своему — вербота, бичи, шаромыжникн, богодулы… Всех их заманил во «Владик» длиннющий рубль. Степенно прогуливались под руку со своими ветреными подругами «мариманы» с торгового и рыболовецкого флотов. Уверенно лавировали в толпе фарцовщики-утюги. На Светланку шли людей посмотреть и себя показать. Здесь рассказывали на ходу забористые анекдоты, лаяли начальство, ссорились и мирились, слушали плееры с отрешёнными, как у монахов-буддистов, лицами… И шли, шли, шли… У Глюма уже шумело в голове от бесконечного мелькания лиц, как от забористой газированной водички.
— Тут разве заскучаешь? — ответил вопросом на вопрос Трофим.
— Хорошо живёшь! — позавидовал боцман.
— Да лучше, пожалуй, чем в вашем железном гробу. Ты мне вот чего объясни, «дракоша». На берегу я отсутствовал всего четыре года, а в морях отходил ого-го… Триста лет! Как это?
— А ты к нам на борт сам заявился! Кто тебя звал? Мертвецки пьяным, в лодочке, в обнимку с четвертью самогона… Мы всплыли провентилироваться, а ты тут как тут. Скажи спасибо, что всего-то триста…
— Камбалу я тогда ловил, вот и прихватил для сугрева…
— Чёрный Мсье поначалу и хотел тебя в ней засамогонить, да у меня, скажи спасибо, гальюны чистить некому было. Днём ты вкалывал зубной щёткой, а по ночам в своей бутыли сидел.
— Теперь понятно, почему мне двести лет такой дурацкий сон каждую ночь подряд снился!
— Каждую… Ты бы в ней все три сотни лет сидел, философ, да Мсье невзначай бутыль грохнул на сто семьдесят восьмом году твоей отсидки… В сортире остальное время отсиживал! Впрочем, бутыль тебе вернули целёхонькой, когда ты на берег списывался.
Трофим вспомнил, как очухался от кошмарного наваждения в утлой шлюпочке посреди моря спустя четыре года после своего исчезновения, как шандарахнул со всего маха стальным багориком по бутыли, вскричав: «Господи мой Боже, никогда больше! Только квас…»
— А зачем ты «торпеду» под лопатку вшил? — поинтересовался Глюм.
— А на всякий случай… Бережёного Бог бережёт.
— В раю кваса нет, — на полном серьёзе предупредил боцман. — Там амброзия, нектар… Да ещё этот, как его… Напиток Эдема. Гадость страшная, даже на самогон не перегнать.
Помолчали. О чём ещё говорить? Жизнь течёт мимо, они сидят на её обочине. Хорошо!
— С кваса кайф не тот, — нарушил паузу Трофим, — но если ящика два заглотишь — балдёж!
— Я больше пресную водичку уважаю. — И Глюм вразвалочку подошёл к автомату. Земля здорово штормила у него под ногами, но боцман, татуированный с головы до ног древними мастерами а ля похабель, держался уверенно.
— В морях я свой страшный срок отстрадал от звонка до звонка, — сказал грузчик, когда Глюм вернулся. — Теперь я полноправный магазин своей горячо любимой страны…
Трофим вместо магазина хотел сказать «гражданин», да язык с кваса ляпнул не совсем то.
— И этим я горжусь, — поставил точку грузчик.
— Понимаешь, тут какое дело… — оживился от новой порции хмелящей водички Глюм, — есть в вашем городе один художник…
— Знаешь, «дракоша», о чём я мечтал? — спросил Трофим, внимательно выслушав приятеля. — Отхожу, думал, я свой срок, спишусь на берег и буду жить тихо-мирно, мирно-тихо…
— Ну?
— Придёшь однажды ко мне ты…
— Уже пришёл, — кивнул Глюм.
— …А я возьму и дам тебе в глаз!
Глюм не успел спросить, за что, но Трофим его понял и увесистую зуботычину сопроводил словами:
— За всё хорошее!
Этого дракоша уже не расслышал, мгновенно вырубившись. Нет, недаром ему с самого утра вспоминался Лиссабон…
Убедившись, что оба трезвы, как стёклышко, дежуривший у винного милиционер отпустил их. Правда, пришлось уплатить штраф. Это сделал Трофим, у Глюма рублей не оказалось, а сертификатами и чеками, а также серебряными мексиканскими песо платить было бессмысленно. Наконец они вышли из пропахшего кошками учреждения на вольный морской воздух.
— Берём для тебя ящик «ессентучков», и айда ко мне, — предложил Трофим. — У меня ещё литров двадцать кваса в холодильнике есть.
— Хватит с меня на сегодня твоего угощения, — сердито отмахнулся Глюм. — Будь покедова…
Нос у него съехал набок, а левый глаз заплыл от фингала. Рука у Трофима тяжёлая. Грузчик.
10Гадкое какое-то увольнение, непруха ангельская! Может, и впрямь какой-нибудь белокрылый воду мутит? Но, поразмыслив, Глюм здраво рассудил: просто полоса белая пошла, самая дрянная…
Как говорится, помяни ангела, он тут как тут. О встрече с ним и рассказал Глюм капитан-командору, вернувшись на Белую Субмарину.
— Иду я траверзом Окатовой и вижу по правому борту знакомую калошу. На флаге — лавровая ветвь, порт приписки — Рай. А одет! Джинсы «суперральф», Италия. Кроссовки из ФРГ. Плюшевая греческая кофта, из тех, что так любят носить юнцы. Полный прикид!
— Быть того не может, — искренне удивился дьявол. Он щёлкнул пальцами над опрокинутой чашечкой с кофе, вгляделся в лакированную чёрную лужицу. Глюм ещё раз увидел «райскую калошу» и себя самого посреди суетной улицы.
— Ваша Непорочность! — заорал он, обрадовавшись встрече. — Братец шестикрылый, ты ли это?! Глазам своим не верю! Почём боны брал? По номиналу? Или кого-нибудь «кинул»? Знаешь, ты здорово щас похож на «кидалу»!
Ангел, напротив, встрече не обрадовался.
— Где это тебя изволили пометить, мой милый? — скривился он, намекая на скособоченный нос боцмана. — Даже здесь ты не изменил своим дешёвым пиратским привычкам.
— Фирмово прикинулся, райское отродье, — гнул своё Глюм. — Поди, весь магазин «Альбатрос» наизнанку вывернул? И не стыдно моряков грабить? В море не ходишь, а заработанным пользуешься…
— Не разгуливать же по городу в хитоне с арфой, меня не так поймут.
— Всё верно, сразу упекут в психушку. К тому старикану, которого ты пожалел, а он тебя за это трахнул бутылкой по голове!
— Я исполнял свой долг, — сухо ответствовал снизошедший до тряпок ангел. — Каждый обязан исполнять свой долг.
— Эдак ты скоро к себе и девочек будешь водить, по десять рублей чеками. Докатишься, дорогой серафимчик…
Сие ангел пропустил мимо ушей. Перевёл разговор на другое.
— Ваши методы вербовки в последнее время никуда не годятся! Душа — вещь деликатнейшая, а вы ей — морской воды! Вместо любимого напитка, именуемого «креплёный портвейн розовый, из столового винограда». Ужасно!
— На веки вечные, — Глюм злорадствовал. — Ему, его внукам и правнукам. До седьмого колена. Хаммэн!
— А каковы будут ваши успехи в дальнейшем? На стезе совращения и искушения? — поинтересовался ангел и криво ухмыльнулся.
— Так это ты мне дружка художника подсунул? — прозрел Глюм и злобно ощерился. — Ты на меня Трофима, дубину магазинную, натравил? Ах ты тля райская!..
Ангел злорадно развёл руками, а боцман поспешил унести ноги подальше от белокрылого прохиндея. Он ведь чувствовал, кто воду мутит!
11Глюм осмотрелся. Где они нынче? Капитан любил менять места стоянок Белой Субмарины. Глюм не удивлялся, сходя на берег в душных тропиках, а возвращаясь на борт уже где-нибудь за Полярным кругом. Чёрный Мсье обожал эдакие демонические места, где некогда бушевал Плутон или хулиганил Нептун. Где вечно неуютно сквозило, где о скалы неумолчно бились ледяные волны.
И ныне такое же местечко — вздыбленные после гигантского взрыва, застывшие лавы. Некогда море поглотило здесь жерло вулкана.
— Шарахнуло почище Кракатау. — Глюм вертел головой, вспоминая, как рвануло тогда в Индонезии. Натянул капюшон альпака: с берега, усеянного пятнами снега и клочьями серого, остекленевшего от мороза лишайника несло адским холодом.
Семь новичков стояли по колено в прибое, и льдинки били их по замёрзшим ногам. Чёрный Мсье внимательно оглядел матросов, затем любезно предложил Глюму чашечку горячего кофе. Боцман бережно принял нежный, тонкий, как лепесток, фарфор, искоса тоже глянул на закоченевших. Он предчувствовал — сейчас грянет разнос. И не ошибся. При первых же звуках громового голоса проглотил, обжигаясь, кофе. С запоздалым раскаянием подумал о своём проступке. И угораздило же его так нажраться с великой радости. Жажда вернулась! Да лучше бы она вовек не возвращалась, глядишь, и пронесло бы!
— А ведь он прав! — гремел яростно Чёрный Мсье. — Когда ты наконец перестанешь носить эти идиотские калоши, придурок? Эту майку с надписью «Монтана»? Эти рваные брезентовые штаны чернорабочего негра?!
Глюм виновато оглядел себя. Калоши были очень удобны, из них он не вылезал вторую сотню лет. Главное, не жали и вообще всегда выглядели, как новенькие. Да и маечка хороша, с непонятной и звучной надписью по латыни «Монтана».
Как звучит-то: «Мон-та-на»!
Штаны, конечно, подкачали. С дырой на коленке. Всё как-то недосуг за иголку взяться, вот уже тринадцатый год прорехе. Ничего, в ближайшую пятилетку он этот недочёт обязательно исправит. Зато альпак совсем как новенький… «Нулевой», как говорят «утюги». Давали пять «стольников» без штанов, поскольку штанцы он продал у касс рыбпорта на Берёзовой. У него и куртку торговали, но он уступил лишь штанцы. Давали, конечно, «стольниками» с вождём в кепке, самыми что ни на есть настоящими, но видно было невооружённым глазом, что это «кукла».
Вообще-то холодно тут без меховых, в дыру здорово задувает. Глюм пошевелил пальцами, изображая шелест денежных купюр, и вмиг на нём очутились его меховые штаны, а «утюг», подсунувший фальшивые деньги, — в его брезентухе.
Капитан в раздражении выплеснул остатки кофе за борт, а Глюм вытер физиономию. Следом была отправлена и дорогая чашечка. Рядом с подводной лодкой, плеснув хрящеватым хвостом, вынырнула незнакомая рыбина и хрупнула фарфором ещё в воздухе, показав три ряда страшных зубов. Расторопный Глюм подал командору поднос с сервизом эпохи Тайра ручной выделки. В воздух взвились уже три хищницы. Они прыгали, как сумасшедшие! Когда самая сильная жадно смяла серебро кофейника с горячим напитком и, обжёгшись, судорожно замотала башкой, они долго злорадно хохотали.
А у берега меж тем осталось всего два матросика. Пятеро рухнули на берег.
Глюм деликатно опустил свою чашечку с молчаливого разрешения Темнейшего, и ему едва не отхватили пальцы. Теперь хохотал один капитан, а Глюм икал с перепугу. Вот скачут, сволочи, совсем как оголодавшие пираньи!
В прибое остался стоять лишь один рыженький матросик. Стоял и качался, стоял и качался…
— Да он же в льдину вмёрз! — Глюм издал горловой звук, что выражало предельное восхищение. — Ну и поплавок!..
— Виктор Косарев, двадцати шести лет, утопленник на почве алкоголизма, — зачитал строку из судовой роли командор.
— Успехи наши ни к ангелу, — задумчиво сказал он, помолчав. — Как ни прискорбно признавать это, он прав. Ангел вынужден маскироваться под пижона, а мы отстаиваемся в этой дурацкой бухте в давно прошедшие времена. Всплыви мы тут же в наступившее время, что бы от нас осталось?
Шесть обледеневших мертвецов под ударами волн с тупым звуком ударялись друг о друга. Седьмой торчал, по колено вмороженный в льдину, и его тоже качала волна…
— Ни рожек бы, ни ножек, — констатировал Глюм-палач и привычно заныл: — Зря мы сюда заявились, ваша Темность…
— Цыц! Не дребезжи и не верти головой. — Пожухлые листья умерших слов разноцветным ворохом осыпались на столик и на воду. — Мы в конце малого оледенения, в протерозое. Это гладкое время… Впрочем, нет. Рыбу мы уже видели. Скорее всего, это девон. Так вот, будущая гадкая цивилизация ещё плещется в морях тёплых поясов. Пейзаж не осквернён ни волновыми и энергетическими структурами атлантийцев, ни тем более тотальной химией. Даже тебя, мой верный пёс Глюм, нет в эскизах рибонуклеиновых кислот, как и не существует ещё той глупой обезьяны, лохамо-лемура, твоего дальнего лохматого и хвостатого предки. Ведь твой предок, знай это, был лемур, а одна из твоих прапрапрабабушек согрешила с ним!
— А кто был ваш предок? — неосмотрительно спросил Глюм и тут же спохватился: совсем поглупел, акулья башка!
— Несмотря на свою вопиющую невежественность, — отозвался дьявол после недолгого раздумья, — Ты задал на редкость умный вопрос. Можешь не гордиться, у идиотов это бывает сплошь и рядом… Да, как-то и я задумался, откуда произошёл весь наш Род? Все иерархии ада, круги страданий Преисподней, Легион Имён Тьмы и Сонм Низвергнутых Коциума?.. К печальному выводу пришёл я, мой верный дурак. Нас создало само человечество! Мы его вековые страхи, тени и ночной вой. Мы его поганая харя, отражённая в речной воде или в зеркале. Его потаённые нечистые желания. Его чёрная зависть, распущенность, звериная злоба, жадность, подлость…
Людям не хочется отвечать за свои грехи. Сделают кому-нибудь пакость и говорят: нечистый-де попутал. Как всё просто — чёрт виноват! Как сказал один умный человек, нечего пенять на зерцало, коли рожа… Впрочем, я отвлёкся. Ты спросил о моих предках, но что ты знаешь обо мне? Ведь я когда-то был всего-навсего скромным демоном, беззаботным морским малым страхом! Плескался потихоньку у берегов, хватал купальщиц за разные места…
Глюм осторожно улыбнулся: шеф, кажется, изволил шутить. Его слова вспыхивали северным сиянием над кратером-бухтой, мертвецами, вмёрзшими в береговой лёд, льдинками шуршали по стальному корпусу Белой Субмарины.
— Неужели ты всерьёз думаешь, что мне нравится кочевать во Времени? Абсурд! Когда в «Обитаемом острове» братьев-фантастов появились всего три строчки обо мне, я сразу понял, чем всё обернётся. У тысяч наивных читателей возникло смутное представление об адском подводном корабле. Хырргрывак! Абсолций эт вуссара!..
Теперь я попал в этот жалкий опус. Ведь это самое настоящее литературное пиратство! Его автор бесцеремонно залезает в чужую книгу, абордажем захватывает сюжет, а её создателей, кстати, безмерно уважаемых мною, отправляет за борт. Чтоб его побрал ангел! Трижды в Эдем, в тошнотворные райские кущи с кисельными берегами и молочными реками! Да приди он со своей писаниной ко мне, я бы заплатил ему в тысячу раз больше, чем он рассчитывает. Но ведь он не пожелал, как ему ни намекали! Вот кого бы я с наслаждением пропустил через торпедный аппарат. Но он не пьёт, не курит! К тому же ещё придумал художника, который нарисовал картину «Белая Субмарина»! Представляешь? Художник ожил — задвигался, зашагал, стал думать. А от размышлений и поддавать. И в конце концов вместо того, чтобы ловить автора, чтобы тихонько свернуть ему шею, нам теперь придётся искать Леонида Ланоя. А иначе не выйдешь в море! «Пока не осыпется краска и не сгниёт холст». Проклятье!..
Глюм помнил, как однажды стариком-наркоманом из экипажа зарядили торпедный аппарат. Тот беззвучно вопил, от ужаса пропал голос, хватался костлявыми руками за крышку, обламывая в кровь ногти. Но вот крышку задраили, повернулся винт. Сжатый воздух выкинул жалкий окровавленный комок, бывший некогда человеческой плотью, со страшной глубины.
Дьявол шёл мимо стоявшего оцепенело экипажа, состоявшего из разноязыкого сволочного сброда, каждому матросу заглянул в глаза, пронизывая насквозь своими острыми игольчатыми зрачками. Пропускать через торпедный аппарат с тех нор называлось на корабле «пройти дезинтоксикацию».
— А впрочем, мазилка от нас не уйдёт. Лично ты будешь им заниматься. И пошевеливайся, пока не отведал после кофе на десерт своей же плети!..
Глюм засвистал в серебряную боцманскую дудочку, вызывая команду на палубу. Приказал убрать всех мертвецов и забросить в нижние отсеки. Там, на балласте из самого проклятого из благородных металлов — золота, они отойдут, оживут, в долгих мучениях будут содрогаться среди мрака, чтобы вечером вновь встать в ледяной прибой босыми ногами. И это будет повторяться и повторяться много лет, покуда капитан-командору не взбредёт в голову придумать какое-нибудь новое, ещё более изуверское развлечение. Ведь им стоять на мёртвом якоре до тех пор, пока не осыпется краска с картины и не сгниёт холст. Пока художник Леонид Ланой сам не приползёт на корабль, покончив с собой в пьяном бреду.
Эй вы, пьющие! Весёленькая жизнь ждёт вас на том свете, если он есть. Пейте же всё, от дихлофоса до тормозной жидкости, торопитесь! Подневольный экипаж Белой Субмарины рад пополнить свои ряды…
12От неосторожного движения хозяина пустые бутылки со звоном раскатились по захламлённой прихожей. Ланой долго и мучительно всматривался в гостя, а узнав, пьяненько хихикнул и полез обниматься.
— Аркаша, чёрт старый! Сколько лет, сколько зим! Я уж думал, глюки пошли, звонишь по неподключенному аппарату.
— Да там какую-то японскую технику испытывали. Я и позвонил.
— Ну, японцы всё могут. Только такие картонки, как я, сделают вряд ли… Сколько ж ты не показывался? С самой Разлаповки. Я тебе такой подарок приготовил! Назвал «Десять тысяч нагих негритянок».
— Ты все десять тысяч изобразил?
— Что ты! С перспективой не более трёхсот. Да ты проходи, проходи, чего мы тут торчим…
Аркадий сбросил свой тяжеленный рюкзак на пол, жалобно взвизгнули бутылки. Перед своим приездом в Уссурийск он получил письмо от знакомых из Владивостока. Писали, что Леонид опять запил, что у него всё чаще появляются случайные собутыльники. Кто-то из них спёр богатую коллекцию гонконгских безделушек из бронзы…
А ещё писали, что его имя гремит по Приморью.
— Я слышал, Аркаша, ты по тропе Арсеньева с ребятами ходил?
— Пробежечка была что надо! Дожди, наводнения, поголодали малость. В одном месте долинка заколдованная встретилась. В середине абсолютно круглая. Представляешь? Стреляй, кричи, за её пределами — ни звука! Ночевать в ней и врагу не пожелаю…
— А что так?
— Глюки, как ты говоришь, замучают. Всю ночь голоса: шепчут что-то, шепчут. Ребята говорят — вихревые электромагнитные колебания большой мощности, приборы зашкаливает, а радиационный фон в десять раз ниже естественного… Мы потом три дня еле ползли. Ни сил, ни желания двигаться.
Вид просторной и светлой квартиры в великолепном доме-башне над бухтой Тихой был жуток. Сотни бутылок загромождали её. Лежень продолжал рассказывать, с тревогой вглядываясь в опухшее, заросшее щетиной лицо друга.
— Раза два амба подходил, только фальшфойерами и отпугнули. До чего же любопытная кошка! Костра не боится совсем, ляжет в кустах и смотрит, что мы делаем. За водой надо — все шестеро идём. С факелами. Брякаем в котелки, орём… По нужде приспичит — тоже иллюминация с к
Леушина Людмила Петровна,
01-12-2011 16:39
(ссылка)
«Благое» - роман о любви Предисловие.
«Благое» - роман о любви
Предисловие.
Это повествование, конечно, прежде всего, о любви.
Хочу я вновь вернуться к теме,
Которая не сходит с многих уст.
А без нее наш мир потерян,
Печален, грозен, даже – пуст.
Любовь поныне правит миром!
Кого-то делает счастливым.
Порой бездумно убивает.
И жизнь кому-то отравляет.
Но в суете безумных дней
Вдруг забываем мы о ней.
Любовью жалость заменяем,
Простой привычкою считаем.
Любовь прославили поэты
За дерзость, пылкость её лета.
Талант любить не всем нам дан.
Любовь похожа на роман.
Его, прочтя, не все поймут
Кто из героев главный тут!
Благое — доброе. Оценка чего-то, как хорошего.
Благо — добро, счастье, благополучие.
Благо́й - приносящий, творящий добро, благо, направленный на свершение добрых дел.
Благо - является первой частью сложных слов со значением «хорошо»: благоволить, благодарить, благоразумный, благополучный, благодатный.
В диалектных вариантах русского языка иная картина: благой — реже хороший, добрый, чаще — глупый, взбалмошный, и плохой.
Как есть слова необычной судьбы, так есть и люди необычной судьбы, путь которых отмечает взлеты и падения.
Революция, гражданская война лишила родины миллионы людей. Особенно пострадало дворянство. Были сожжены и разорены их усадьбы. Они были вынуждены покинуть родину. Их потомки, и по сей день, рассеяны по миру. Многие из них передали своим детям любовь к России, к традициям русского народа.
События конца 20 го века в нашем обществе, где в основном все были равно бедны, но имели чувство собственного достоинства, привели к появлению нового класса богатых людей, которых в народе называют «олигархами». - Разрыв между бедными и богатыми настолько значителен, что это создает нестабильность в стране. Сможет ли Россия избежать в 21 веке повторения прошлых печальных и роковых событий? Автор этого произведения не знает ответа на этот вопрос, но надеется, что эпоха революций и бунтов в России уходит в прошлое.
В произведении ставится проблема восстановление дворянских усадеб, которые когда-то украшали нашу землю. «Благое» - это название деревни и одной из усадеб в центральной России. Восстановление взял на себя один из олигархов нового времени. Конечно, основное повествование - о любви двух людей, воспринимающих по-разному все происходящее в стране в начале 21-го века. В наше сложное время – вся надежда на Любовь!
Вы скажите, что это очередная сказка о Золушке?! Но Золушка здесь не становится принцессой! Мне же так хотелось, чтобы принц превратился в обычного парня! Но мои приятельницы, с которыми я обсуждала написанное настояли на “HAPPY END” .Быть женою богатого, пусть даже умного человека нелегко! Будет ли счастлива моя героиня?! ….
Честно признаюсь, что отношение к герою у меня первоначально было негативным. Но чем больше я знакомилась с мыслями и рассуждениями прототипа моего героя, тем больше проникалась к нему симпатией и уважением. Что касается героини, то эта молодая женщина, каких много среди моих коллег. Женщин умных, чистых в своих помыслах, мечтающих о настоящей любви. Хочу пожелать им удачи и счастья!
Все герои повести, конечно, выдуманы автором. Но в каждой выдумке есть доля правды! При написании романа использованы материалы из интернета в вольном прочтении автором.
Я писала эту историю как сюжет для теленовеллы в надежде на поддержку и понимание! Прошу не судить строго!
(продолжение следует!)
Метки: Людмила Леушина
Анна Марухненко,
01-12-2011 00:54
(ссылка)
Барон Олшеври
А кто что думает по поводу его "Вампиров"?????По моему, получилась бы одна из лучших экранизаций о вампирах!!!!!Голливуд, ау)))))
алекс грин,
30-11-2011 19:18
(ссылка)
отрывок мастер и маргарита
Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» — Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».
Не то что встать, — ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пят-па с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона.
Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно — что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» — а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»
Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца — Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степан наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал.
Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице.
Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому — с утраченной фамилией.
И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.
Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.
Набожная, а откровеннее сказать — суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить.
Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.
Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными!
Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!
Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!
Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки... И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.
Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились — покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно, в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице...
Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша... Миша...», как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.
Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило.
Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытою черной щетиною физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках.
Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.
Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.
Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:
— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!
Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил:
— Что вам угодно? — и сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» у него совсем не вышло.
Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал:
— Одиннадцать! И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!
Степа пощупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:
— Извините... — надел их и хрипло спросил: — Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?
Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.
— Как? Вы и фамилию мою забыли? — тут неизвестный улыбнулся.
— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.
Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.
— Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...
— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.
Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.
Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.
— А вы? — пискнул Стена.
— С удовольствием!
Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:
— А вы что же... закусить?
— Благодарствуйте, я не закусываю никогда, — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю — в ней оказались сосиски в томате.
И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был еще при этом какой-то актер не актер... с патефоном в чемоданчике. Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной... черт ее знает, кто она... кажется, в радио служит, а может быть, и нет.
Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить!
— Ну, что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?
Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.
— Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!
— Я хочу вас попросить, чтоб это осталось между нами, — заискивающе сказал Степа.
— О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.
— А вы разве знаете Хустова?
— Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он — сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.
«Совершенно верно!» — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.
Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.
— Профессор черной магии Воланд, — веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку.
Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...
— Позвольте с вами рассчитаться, — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.
— О, какой вздор! — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.
Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.
— Разрешите взглянуть на контракт, — тихо попросил Степа.
— Пожалуйста, пожалуйста...
Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Более того: тут же расписка Воланда о том, что он эти десять тысяч уже получил!
«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти?! Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:
— Груня!
Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! — рявкнул кто-то в голове у Степы. — Этого еще недоставало!» — И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом, — а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и печать на двери! То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, — не поверит, ей-ей, не поверит! Однако печать, вот она! Да-с...
И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая! И никчемная, и деньги-то маленькие...
Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, двадцать четвертого апреля вечером тут же, в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати...
«Ах, Берлиоз, Берлиоз! — вскипало в голове у Степы. — Ведь это в голову не лезет!»
Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на тридцать пять тысяч рублей?» Так спрашивать не годится!
— Да! — послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского.
— Здравствуйте, Григорий Данилович, — тихо заговорил Степа, — это Лиходеев. Вот какое дело... гм... гм... у меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..
— Ах, черный маг? — отозвался в трубке Римский. — Афиши сейчас будут.
— Ага, — слабым голосом сказал Степа, — ну, пока...
— А вы скоро придете? — спросил Римский.
— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?
Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе Варьете?
Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой Груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта — длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если б здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!). А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал.
У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся.
«Что же это такое, — подумал он, — уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти отражения?!» — Он заглянул в переднюю и испуганно закричал:
— Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним?!
— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался голос, но не Груни, а гостя из спальни, — кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я услал ее в Воронеж. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили.
Слова эти были настолько неожиданны и нелепы, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.
Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден: усы-перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно — жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.
Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Стены. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку.
— Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. — А между тем удивляться нечему. Это моя свита.
Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке вниз.
— И свита эта требует места, — продолжал Воланд, — так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний — именно вы!
— Они, они! — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. — Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!
— Машину зря гоняет казенную! — наябедничал кот, жуя гриб.
И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.
Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.
— Я, — вступил в разговор этот новый, — вообще не понимаю, как он попал в директора, — рыжий гнусавил все больше и больше, — он такой же директор, как я архиерей!
— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку.
— Я это и говорю, — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: — Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы!
— Брысь!!! — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.
И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю...»
Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море, и что, даже больше того, — волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади — белый город на горах.
Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.
На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать.
Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
— Умоляю, скажите, какой это город?
— Однако! — сказал бездушный курильщик.
— Я не пьян, — хрипло ответил Степа, — со мной что-то случилось, я болен... Где я? Какой это город?
— Ну, Ялта...
Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола. Сознание покинуло его.
Не то что встать, — ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пят-па с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона.
Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно — что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» — а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»
Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца — Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степан наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал.
Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице.
Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому — с утраченной фамилией.
И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.
Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.
Набожная, а откровеннее сказать — суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить.
Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.
Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными!
Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!
Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!
Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки... И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.
Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились — покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно, в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице...
Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша... Миша...», как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.
Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило.
Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытою черной щетиною физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках.
Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.
Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.
Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:
— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!
Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил:
— Что вам угодно? — и сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» у него совсем не вышло.
Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал:
— Одиннадцать! И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!
Степа пощупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:
— Извините... — надел их и хрипло спросил: — Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?
Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.
— Как? Вы и фамилию мою забыли? — тут неизвестный улыбнулся.
— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.
Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.
— Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...
— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.
Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.
Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.
— А вы? — пискнул Стена.
— С удовольствием!
Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:
— А вы что же... закусить?
— Благодарствуйте, я не закусываю никогда, — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю — в ней оказались сосиски в томате.
И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был еще при этом какой-то актер не актер... с патефоном в чемоданчике. Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной... черт ее знает, кто она... кажется, в радио служит, а может быть, и нет.
Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить!
— Ну, что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?
Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.
— Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!
— Я хочу вас попросить, чтоб это осталось между нами, — заискивающе сказал Степа.
— О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.
— А вы разве знаете Хустова?
— Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он — сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.
«Совершенно верно!» — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.
Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.
— Профессор черной магии Воланд, — веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку.
Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...
— Позвольте с вами рассчитаться, — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.
— О, какой вздор! — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.
Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.
— Разрешите взглянуть на контракт, — тихо попросил Степа.
— Пожалуйста, пожалуйста...
Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Более того: тут же расписка Воланда о том, что он эти десять тысяч уже получил!
«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти?! Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:
— Груня!
Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! — рявкнул кто-то в голове у Степы. — Этого еще недоставало!» — И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом, — а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и печать на двери! То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, — не поверит, ей-ей, не поверит! Однако печать, вот она! Да-с...
И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая! И никчемная, и деньги-то маленькие...
Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, двадцать четвертого апреля вечером тут же, в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати...
«Ах, Берлиоз, Берлиоз! — вскипало в голове у Степы. — Ведь это в голову не лезет!»
Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на тридцать пять тысяч рублей?» Так спрашивать не годится!
— Да! — послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского.
— Здравствуйте, Григорий Данилович, — тихо заговорил Степа, — это Лиходеев. Вот какое дело... гм... гм... у меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..
— Ах, черный маг? — отозвался в трубке Римский. — Афиши сейчас будут.
— Ага, — слабым голосом сказал Степа, — ну, пока...
— А вы скоро придете? — спросил Римский.
— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?
Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе Варьете?
Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой Груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта — длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если б здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!). А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал.
У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся.
«Что же это такое, — подумал он, — уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти отражения?!» — Он заглянул в переднюю и испуганно закричал:
— Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним?!
— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался голос, но не Груни, а гостя из спальни, — кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я услал ее в Воронеж. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили.
Слова эти были настолько неожиданны и нелепы, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.
Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден: усы-перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно — жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.
Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Стены. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку.
— Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. — А между тем удивляться нечему. Это моя свита.
Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке вниз.
— И свита эта требует места, — продолжал Воланд, — так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний — именно вы!
— Они, они! — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. — Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!
— Машину зря гоняет казенную! — наябедничал кот, жуя гриб.
И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.
Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.
— Я, — вступил в разговор этот новый, — вообще не понимаю, как он попал в директора, — рыжий гнусавил все больше и больше, — он такой же директор, как я архиерей!
— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку.
— Я это и говорю, — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: — Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы!
— Брысь!!! — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.
И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю...»
Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море, и что, даже больше того, — волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади — белый город на горах.
Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.
На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать.
Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
— Умоляю, скажите, какой это город?
— Однако! — сказал бездушный курильщик.
— Я не пьян, — хрипло ответил Степа, — со мной что-то случилось, я болен... Где я? Какой это город?
— Ну, Ялта...
Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола. Сознание покинуло его.
Анна Марухненко,
23-11-2011 21:20
(ссылка)
Алексей Атеев
А кто знает и уважает творчество Алексея Атеева?????http://ru.wikipedia.org/wik...
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу