заповеди человеческие
Словами Исайи Господь показывает, что и в отношении к Отцу Его они такие же, какими оказываются и в отношении к Нему. Будучи лукавы и чрез лукавые дела удаляя себя от Бога, они только устами говорили слова Божии. Ибо напрасно чтут и делают вид, что чтут Бога те, которые делами своими бесславят Его. Фиофилакт БОЛГАРСКИЙ
Каким будет воскресение лично для каждого из нас?
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР АВДЮГИН | 05 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Каждый из нас задумывался: какими мы будем после собственного воскресения? Именно внешне, как будем выглядеть? Как и не раз задавали мы себе вопрос о том, сможем ли узнать после личного воскресения тех, кого любили и кем дорожили?
Мы все воскреснем!
Именно с таким интригующим названием прошла моя очередная встреча (славу Богу, уже третья) в Духовном центре строящегося в Киеве кафедрального собора в честь Воскресения Христова. Почему интригующим? Да ведь в теме этой — все наши надежды, наша вера и, в тоже время, естественные и вполне оправданные страхи о том, каково будет это воскресение для меня лично? Пришлось даже к друзьям в ЖЖ и Фейсбуке обращаться с вопросом: что бы они желали услышать о нашем с Вами грядущем и обязательном воскресении? Пожеланий было предостаточно, но с чего начать, я практически до самой встречи так и не определил. Решение пришло практически перед самым началом нашего общения
. Первыми словами после “доброго вечера” были: - Обычно говорят “начал за здравие, а закончил за упокой”, я же начну изначально за упокой, чтобы завершить именно о здравии. Итак, все мы обязательно умрем, причем неизвестно когда и обычно раньше, чем надеемся и предполагаем. Есть и еще одна обязательность, которая предстоит каждому — все мы воскреснем. Далее говорить было проще, так как еще ветхозаветный пророк Исаия сказал: “Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле” (Ис.25:8), а Своим искуплением наших грехов и воскресением в измененной плоти, Господь утвердил нашу грядущую будущность.
Трудно сказать насколько слушателям были полезны и понятны мои рассуждения, это им вопрос задавать надобно, но судя, по многочисленным запискам, на которые пришлось отвечать, тема была нужной. И как всегда, любой священник это может подтвердить, после беседы или проповеди выясняются не только ошибки в сказанном, но и с сожалением понимаешь, что многое не смог, упустил или не успел преподать из того, что было бы очень нужным, более понятным и образным.
Попытаюсь здесь дополнить упущенное. Великий Пост стремителен. Уже скоро — суббота акафиста, Благовещение, воскресение праведного Лазаря, радостный и трагичный праздник Входа Господнего в Иерусалим и Страстная седмица. Духовный центр Четыредесятницы выделить невозможно, для каждого, для кого эти дни не только голодание и ограничения, он сугубо свой и зависит от уровня собственного покаяния и любви, но все же перед нами именно то время, где о грядущем нашем воскресении можно не только думать, но и опытно его познать.
Восклицание апостола: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?” (1Кор.15:55), было бы невозможно, если бы сами апостолы говорили и свидетельствовали только о духовном воскресении Спасителя. Воскресение было иным, оно было и телесным. Да, в ином теле, в ином состоянии, которое мы земными определениями передать не можем. Естественно, новое тело Христа поражало всех. С одной стороны — дух, но тут же разрешение: потрогайте меня. Господь просит пищи, а затем проходит через закрытые двери. Это выходит за границы нашего понимания, нашей с вами обыденной жизни. Господь не просто воскресает, Он реально показывает, что происходит изменение человеческой природы. И не что-то новое, доселе неизвестное нам открывается, а возвращается наше нормальное человеческое состояние, которое мы утеряли со времен прародителей.
Перед нами: Воскресение человеческой природы во всей полноте, поэтому и называют Христа вторым Адамом.
Каждый из нас задумывался: какими мы будем после собственного воскресения? Именно внешне, как будем выглядеть? Как и не раз задавали мы себе вопрос о том, сможем ли узнать после личного воскресения тех, кого любили и кем дорожили?
И хотя вера сама по себе — не логична с точки зрения материалистической логики, Христос еще до Своего Воскресения нам показал, что всех узнаем, всех увидим, причем в их и нашей полноценной сущности. Вспомните Преображения Господне. Каким способом апостолы на горе Фавор узнали Еноха и Илию, если те умерли за много столетий до их рождения, а изображать лица в ветхозаветном Израиле было запрещено? Апостолы без сомнения узнают древних праведников, как и осознают, что время в земном его понимании уже отсутствует.
Эти рассуждения на основе Евангельской истории имеют свое многочисленное подтверждение в нашем Святом Предании. Вот только есть большая сегодняшняя беда в нашем православном исповедании веры, что, поддавшись протестантским нападкам, мы редко вспоминаем об этих свидетельствах.
Есть еще одно преткновение дня нынешнего, перекочевавшее нам оттуда, куда сегодня так усиленно многие стремятся. По опросам, в европейских государствах большинство уверены, что они попадают только в рай или, по крайней мере, имеют возможность, пройдя некое “чистилище”, все едино в нем оказаться. Не в этих ли утверждениях кроется наша непоследовательность в вере, отрицание духовных подвигов и соблюдение церковных установлений? Путь от Воскресения Христова к собственному Воскресению возможен лишь тогда, когда сердцем своим мы стараемся соединить земное и небесное, а это лишь при главном условии исполняется: душа наша обязана быть “паче снега убеленной”.
Сложно, трудно, невозможно? Но ведь “Бог намерения целует”! Стремись, старайся и Господь, видя даже малую к Себе любовь даст недостающее. Уверенность же, что если Бог есть Любовь, то Он не допустит, чтобы Его творение страдало в преисподней — хитрая уловка врага рода человеческого. Мы преображаемся в свете Христова Воскресения лишь при наличии веры в это Воскресение.
Собственного воскресения и будущей жизни с Богом может не состояться, если не будет духовного труда и стремления выполнять Заповеди Божьи.
Мы можем стать святыми и нет ничего гордого в нашем стремлении к святости, к тому, что делает смерть собственную лишь необходимым эпизодом в нашей жизни.
Смерть лишь двери.
Все народы знают и даже отрицающие Бога понимают, что человек бессмертен. Отрицание этого — признак времен последних, как говорит протоиерей Андрей Ткачев это “признак отупения человеческого”.
Личное бессмертие — это то, во что верили и верят всегда. Отсюда и понимание, что Бога можно умолить, если к Нему стремиться. Любой грешник может все изменить, и тогда Пасха Христова станет Пасхой каждого из нас.
Пред нами заключительные дни Великого Поста и Страстная. Время еще есть. Поэтому нужно стремиться к своему воскресению, причем — не только на миг частного и страшного Суда, а в жизнь вечную. Вот этого я не успел сказать на встрече в Духовном центре. Слава Богу, что есть возможность исправить
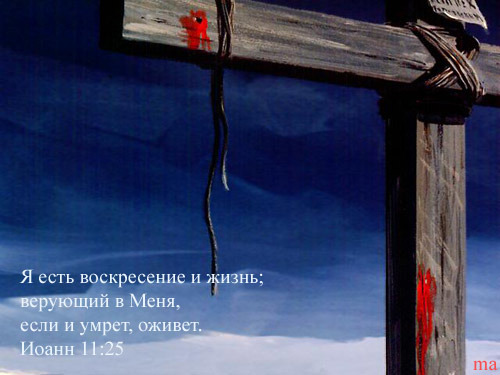
Метки: воскресение мертвых
Корабль
преп. Гавриил (Ургебадзе)
Метки: инославие
Я НАЧАЛ ЖИТЬ
Я начал жить, когда вся жизнь прошла,
Когда почти закончилась дорога,
Меня с пыли дорожной подняла
Любовь Христа и милосердье Бога.
Я в мире жил без веры, без любви,
Дружил с грехом, дышал прогнившей ложью,
В душе тоска, зеленый змий в крови,
Злым и безумным сделало безбожье,
Но думал, что свободен был во всем…
Теперь я знаю, вспоминая с болью,
Что был всего лишь похоти рабом
И выполнял диавольскую волю.
Теперь в молитве я твержу:”Христос,
Перед Тобой я на коленях, каюсь,
Прости, я жизнь свою Тебе принес,
Вернее то, что от нее осталось”…
И все, что от рождения мне дал
Божественное, что считал я личным,-
Все загубил, в разгуле растерял
И вновь, как блудный сын, вернулся нищим.
Но снова Ты меня обогатил
И жизнь, что уходила скоротечно,
Наполнил новым счастьем и продлил
Мне не на год и не на два – на вечность!
Я этим вечным даром дорожу,
Благодарю Христа за искупленье,
И всему миру грешному твержу
Прийти к Нему и обрести спасенье.
Но… не могу не вспомнить без стыда
Те времена утраченной свободы,
Когда терял для Бога, для себя
Ушедшие дни, месяцы и годы.
Теперь о детях Господа молю
И внуках тех, что вырасти успели.
Я не хочу чтоб все, кого люблю,
Потом об этом так же сожалели.
Метки: стихи
Одиннадцать одеял
«Надо наконец туда съездить!» – решил Евангелос. Всё бросил и поехал. Его путь лежал через Флорину, городишко к северу от Кастории. Там Евангелос запланировал некое дельце, которое он хотел провернуть по пути на Афон.
Приехав во Флорину, Евангелос довольно быстро уладил всё, что затеял, и зашёл в первую попавшуюся таверну перевести дух и попить кофе. Не прошло и пяти минут, как в таверну ввалился его старый приятель, у которого здесь была небольшая лавка, где продавалась всякая мелочь для домашнего хозяйства. Со своим приятелем наш герой давно не виделся, и потому встреча старых знакомых была шумной – с возгласами и жестикуляцией, как это обычно бывает у греков в таких случаях. Завязалась беседа. Евангелос сообщил, что едет на Афон. Приятель озадаченно нахмурился. Оказывается, он тоже хотел бы побывать на Афоне, да никак не получается. Он переживал, что его мечта не сбывается, что всякие большие и мелкие дела держат его за горло цепкой хваткой. Вдруг приятель, как будто бы спохватившись, сказал, что хочет передать на Афон какое-нибудь пожертвование. Если уж не поехать на Афон, то хотя бы чем-то помочь какому-нибудь монастырю. Собственно, у него есть не что-то, а нечто вполне определённое – шерстяные одеяла. Это был залежалый товар, и перспектива его продажи была туманной. Впрочем, одеяла были новые, как говорится, не бывшие в употреблении. На Афоне, где зимой бывают промозглые дни, они вполне могли бы пригодиться.
Одеял оказалось одиннадцать. В лавке их потуже завязали в один тюк, и приятель торжественно вручил своё пожертвование Евангелосу. У того промелькнула мыслишка: «Вот, навязал мне дополнительную поклажу». Но делать нечего, пришлось взять. Трудно отказать, если речь идёт о пожертвовании на Афон. Про себя Евангелос решил: отдам в первый же монастырь, где остановлюсь, чтобы побыстрее избавиться от лишней ноши. Не таскаться же с ней по Афону!
Вечером Евангелос был уже в портовой деревушке Уранополис, откуда отходит паром на Афон и где паломники обычно проводят ночь перед отправкой на Святую Гору. Утром Евангелос, после всех формальностей с получением диамонитириона – специального разрешения для въезда на Афон, – взошёл на паром, таща на себе тюк с одиннадцатью одеялами.
Кто бывал на Афоне, знает, что первые остановки паром делает на пустынных пристанях. От них до монастырей довольно приличные расстояния. Например, от пристани монастыря Хиландар до самой сербской обители около пятнадцати километров. От следующей пристани до ближайшего монастыря Зограф – около четырёх. Так же далеко от следующей по курсу парома пристани до монастыря Костамонит, который находится в глубине Афонского полуострова. И лишь после костамонитской пристани паром делает остановку у монастыря Дохиар, который находится на берегу моря и до которого от его пристани буквально пять минут пешком. Там-то, у монастыря Дохиар, и сошёл на берег Евангелос.
Через несколько минут Евангелос уже стучал в дверь кельи архондаричного – монаха, послушанием которого является работа в монастырской гостинице и забота о паломниках.
– Вам чего? – неприветливо буркнул монах из-за приоткрытой двери. Евангелосу показалось, что он оторвал монаха то ли от молитвы, то ли ото сна, одним словом, пришёл не вовремя.
– Я привёз шерстяные одеяла, – сказал Евангелос. – Меня просили передать эти одеяла в какой-нибудь монастырь на Афоне в качестве пожертвования. Вот я принёс их вам. Возьмите. Одиннадцать штук.
Дверь захлопнулась. Из-за двери послышался какой-то суетливый шорох и… громкое рыдание. Буквально вопль сквозь слёзы. Евангелос отпрянул от двери. Что случилось?! Через мгновение дверь отворилась. На пороге стоял весь залитый слезами монах, приложив руки к груди, как бы прося прощения за странное поведение.
– Я вот только вчера попросил, только вчера попросил, – скороговоркой, всхлипывая, затараторил монах. – Скоропослушницу попросил. Попросил помочь нам раздобыть для архондарика одеяла. Мы готовимся к празднику. Много паломников будет. А у нас одеял не хватает. Нечем застелить одиннадцать кроватей. Именно одиннадцать… Вы понимаете?!
Евангелос ничего не понимал – ни кто такая Скоропослушница, ни то, почему надо так убиваться по поводу подарка. Евангелос был впервые на Афоне, впервые в Дохиаре. И до этого не слышал, что в этом монастыре находится знаменитая чудотворная икона Богородицы «Скоропослушница», именуемая так за то, что по молитвам у этой иконы Божия Матерь посылает просимую помощь молящимся незамедлительно или, во всяком случае, очень скоро. Не стала исключением и молитва архондаричного, который переживал из-за нехватки одиннадцати одеял.
Кто-то, может быть, скажет: совпадение, случайность. Пусть этот кто-то остаётся при своём мнении. Евангелосу и тому залитому слезами монаху так не показалось. Как говорится, кто верит в случайность, тот не верит в Бога. А кроме того, подобных чудесных случаев известно уже столько, что и бумаги не хватит всё описать. Не случайно же иконе Богородицы «Скоропослушница» дали именно такое название! Сколько должно было случиться подобных чудес по молитвам у этой иконы, чтобы люди обратили внимание на то, что просимое посылается практически сразу! Но я говорю это не для того, чтобы переубедить скептиков. А для того, чтобы стало известно ещё одно чудо «Скоропослушницы», сокрытое до поры в сердцах немногих людей, о нём знавших.
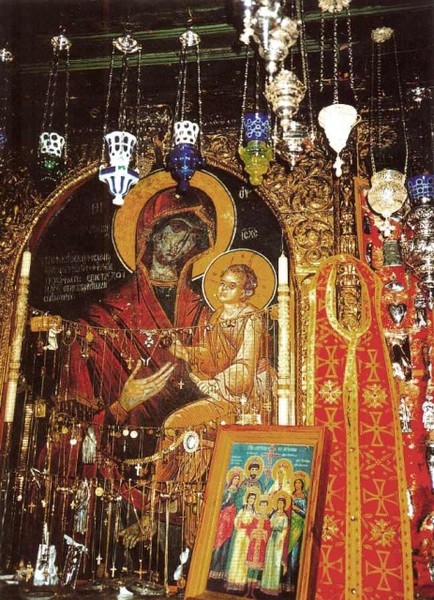
Игорь Пшеничников
Русский дом
31 марта 2014 г.
Как избавится от человекоугодия?
С.
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Святые отцы определяют человекоугодие как «грех против первой заповеди, потому что человек, которому мы угождаем или на которого надеемся и забываем Бога, некоторым образом есть для нас иной бог, вместо Бога истинного» (Филарет Московский,святитель. Пространный православный катeхизис Православной Кафолической Восточной Церкви). Поэтому псалмопевец говорит: «Яко Бог разсыпа кости человекоугодников: постыдешася, яко Бог уничижи их» (Пс. 52: 6). Апостол Павел замечает: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Галл. 1: 10). Святые отцы также говорят о великой опасности этого порока: «Начало почести – человекоугодие, а конец ее – гордость» (Нил Синайский, преподобный. Об осьми духах зла // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993. С. 261).
Человекоугодие может сделать нашу духовную жизнь совершенно бесплодной. Тот же преподобный Нил Синайский говорит: «Камень, как сильно ни брось его, не достигает до неба; и молитва человекоугодника не взойдет на небо» (Там же).
Имеется несколько видов человекоугодия, в зависимости от той внутренней причины, которая эту страсть питает. Наиболее распространенным мотивом является корыстолюбие, желание получить земные блага без трудов и заслуг. Сюда же относится и боязнь потерять то, что человек уже имеет. Такое человекоугодие имеет своих «помощников»: унижение, лесть, лицемерие.
Человекоугодие часто рождается от тщеславия. «Человекоугодливый об одном том печется, чтобы внешнее его поведение было показно и чтобы заслужить доброе слово льстеца» (преподобный Максим Исповедник). Он становится невольником, поскольку поведение его зависит от переменчивости человеческих мнений и оценок. Человекоугодие может порождаться малодушием перед начальством и вообще имущими власть и влияние. Если эта страсть укоренится, то человек может потерять способность сохранять верность своим духовным и моральным принципам.
Наконец, бывают сложные жизненные обстоятельства, когда грань между любовью к ближнему и человекоугодием оказывается трудно различимой. Особенно это часто бывает, когда приходится общаться с немощными. В таких случаях нужна усиленная молитва, чтобы Господь Бог дал дар рассуждения принять правильное решение: сохраняя доброе расположение к человеку, важно не потакать его слабостям.
Общим лекарством против всех видов человекоугодия является стяжание страха Божия. «Страх Божий, когда войдет в сердце человеческое, прогоняет тьму и возжигает в нем ревность ко всем добродетелям» (преподобный Антоний Великий). Эта основополагающая добродетель дает любому человеку великую духовную силу: «Кто проникнут страхом Божиим, тот не боится обращаться среди злых людей. Имея в себе страх Божий и нося непобедимое оружие веры, он силен бывает на все и может делать даже то, что многим кажется трудным и невозможным» (преподобный Симеон Новый Богослов). Для стяжания страха Божия нужен каждодневный духовный труд.
«– Геронда, мной обычно двигает боязнь огорчить других или пасть в их глазах; о том, чтобы не огорчить Бога, я не думаю. Как умножается страх Божий?
– Бодрствование необходимо. Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога. Мы забываем Бога, и потом подключается помысл, что мы делаем что-то важное. Подключается и человекоугодие, и мы стараемся не пасть в глазах людей. Если кто-то действует с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надежно все, что бы он ни делал. В противном случае, делая что-то для того, чтобы показаться людям хорошим, он все теряет, все растрачивает впустую. Человек должен вопрошать себя о каждом своем действии <…> Что бы человек ни делал, он должен делать это только для Христа, осознавая, что Христос видит его, наблюдает за ним. Внутри не должно быть человеческого начала. Сердцевиной каждого движения человека должен быть Христос. Если мы делаем что-то с целью понравиться людям, то это не приносит нам никакой пользы. Требуется многое внимание. Необходимо постоянно испытывать, что за причины побуждают нас к действиям. Как только я осознаю, что побуждаюсь к чему-то человекоугодием, я должен его немедленно бить, потому что, если я хочу сделать что-то доброе и при этом подмешивается человекоугодие, – тогда я черпаю из колодца воду дырявым ведром» (Паисий Святогорец. Слова. Духовное пробуждение. Т. 2. М., 2002. С. 84–85).
Лазарь АБАШИДЗЕ
Человекоугодие
Также тонко уводящая от истинного служения Богу страсть! Нам заповедано Господом любить ближнего как самого себя, но можно любить ближнего, служить ему усиленно, но не ради Бога. Все дело в том, какое настроение лежит в основе этой любви. Как можно различить одну любовь от другой? Любовь христианская обычно не сразу возжигается в сердце. Когда человек начнет жить по-христиански, все его чувства требуют принуждения, борьбы, долгого врачевания, пока они начнут подчиняться хотя бы несколько христианским законам. Сначала и жертвовать собой, каждой крупицей своего "я", ради ближнего крайне трудно. Частым напоминанием себе евангельских заповедей, угрозой наказания немилосердного, страхом ответа за свои грехи и т.д. должно сначала увещевать и принуждать себя хотя бы к внешнему исполнению заповеди о любви к ближнему, пока долгим опытом борьбы сердце не умягчится и не станет любить само (конечно, по благодати Божией, стяжанной трудом и самопринуждением). Здесь всегда на первом месте Господь, Его пример жертвенной любви к роду человеческому, и проявления такой любви всегда очень сдержанны, душеполезны, плодотворны.
Любовь же человекоугодническая всегда имеет в основе своей какую-нибудь страсть: или это приятность плотская, или родственная, или симпатия, или почтение к человеку из-за его высокого положения в обществе, то есть вначале стоит желание угодить человеку ради того, что мы его выделяем как-то в сравнении с другими в данный момент и нам хочется иметь о себе его приятное мнение. Итак, эти разные помыслы бывают едва уловимы, но они-то и составляют внутренний толчок к тому, что вдруг появляется желание послужить человеку, успокоить его, порадовать чем-либо. Чаще всего в таких случаях, если встречается какая-либо преграда со стороны христианских заповедей, то легко ее нарушают, и "ради любви" часто серьезно преступается установление Церкви и наносится оскорбление Самому Господу. При человекоугодии мы поставляем ближнего впереди Бога и служим ему ради своей собственной выгоды, опираясь на свою нечистую человеческую доброту, часто совершенно забывая на это время о Боге. Но хуже всего, что мы сами в то время думаем и другим даем понять, что мы это делаем по заповеди, по христианскому своему милосердию.
Метки: человекоугодие
Какая же я земля? Рассказ

Он громко говорил, явно рассчитывая на то, что его услышит начальник.
– К месту захоронения подойти трудно: оно окружено со всех сторон могилами. Даже узких тропинок не оставили. Там несколько человек едва смогут протиснуться, наступая на надгробия. И находится оно на склоне. Придется устроить прощание прямо на дороге у поворота. Там есть небольшое расширение: маленькая площадка. Я уже приказал отнести туда стол. На него поставим гроб. Хоронят в этой части кладбища редко – только по специальным разрешениям. Кладбище-то давно закрыто. Никаких других похорон в это время не будет. Так что все пятьдесят человек, кто пришел проститься с Анной Сергеевной, должны поместиться.
Потапов слушал эти объяснения и не знал: то ли благодарить этого шустрилу за активность, то ли сразу отстранить. Уж больно он его раздражал. Какая-то бойкая деловитость, словно не на похороны пришли, а на пикник. Он и на работе такой же. Гоношения много, а проку – с гулькин нос.
«Ведь хотели в холле фирмы устроить. Но нет! Дочь заявила, что будет отпевание церковное, и кто захочет, может прийти в храм», – думал он.
Анну Сергеевну любили все, но далеко не все сотрудники захотели прийти в церковь. Город многонациональный. И конфессий немало. Если бы не смерть Анны Сергеевны, то генеральный директор так бы и не узнал, что под его началом помимо мусульман, есть адвентисты, баптисты и даже свидетели Иеговы. В здании фирмы они бы с любимой сотрудницей попрощались, а вот в церковь...
Андрей Иванович Потапов – человек с солидным военным и коммунистическим прошлым, не понимал, как это верующие люди могут делиться на разные деноминации, да еще и враждовать между собой. Как можно, веруя в Бога, отказываться переступить порог православного храма?! Он мало задумывался о вопросах веры, но, как русский человек, даже испытал обиду за то, что его подчиненные ненавидят веру его предков. В этот день он особенно пожалел о том, что отмахивался от Анны Сергеевны, когда та пыталась говорить с ним о Боге. С Анной Сергеевной он дружил более сорока лет. В студенческие годы был даже влюблен в нее. Но она вышла замуж за его друга, и ему пришлось заставить себя забыть о своей любви. Была любимой девушкой, а стала другом, но таким верным, что по нынешним временам и представить трудно. Анна Сергеевна была финансовым директором крупной уральской корпорации и получала в год несколько миллионов рублей. Но когда у друга Андрея начались проблемы с бизнесом, она не задумываясь оставила свою денежную работу и перебралась в его город, чтобы помогать ему. Через год она устранила проблемы, и фирма стала преуспевать. Ее смерть стала для него сильным ударом. И не только потому, что она спасла его от разорения. Ну кто нынче может отказаться от миллионов и перейти на более чем скромный оклад?! Дело не в деньгах. Он потерял больше, чем друга – родную душу. Как она могла утешить, успокоить, как тонко и ненавязчиво убедить. Вот только к вере его не привела. Но это уже не ее вина...
Когда открылись двери храма, и из него стали выносить гроб, Потапов вместе с остальными курильщиками поспешил навстречу траурной процессии. К нему подошел священник и сказал, что нужно еще у могилы отслужить литию – короткую службу – прежде, чем предать покойную земле. Потапов понимающе кивнул. Батюшка спросил, будут ли они произносить речи. Узнав, что будут, сказал, что подойдет позже, когда они закончат.
Место захоронения находилось метрах в пятистах от храма. Решили гроб не везти в катафалке, а понести на руках. Желающих оказалось много. Несли по очереди, в четыре смены. Сменяли друг друга, не останавливаясь. Потапов шел в первой смене. Он был выше других, и, чтобы нести гроб ровно, ему пришлось сгибать колени. От такой ходьбы очень скоро заболели ноги, заныла спина. До входа на основное кладбище шли по шоссе, стараясь не мешать проезжавшим машинам. Вдоль дороги стояли притиснутые вплотную к асфальту черные одинакового размера отполированные плиты с портретами тех, кто примкнул к упокоившемуся большинству.
«Хачик. Грачик. Гамлет», – читал Андрей Иванович высеченные на плитах имена.
Стало жарко. По шее и по спине потекли струйки пота. День выдался солнечным. Надо же – конец февраля, а на дворе 18 градусов тепла! С обеих сторон огромными букетами стояли покрытые белыми цветами деревья. Это расцвела черешня и алыча. Подул ветерок, и несколько лепестков упало на лицо Потапова. Он подозвал шедшего рядом с ним распорядителя, и попросил подготовить ему смену. Оставив гроб, Потапов подошел к Елене – дочери Анны Сергеевны. Та шла низко опустив голову, часто вытирала платком глаза. Говорить не хотелось. Потапов тихонько пожал ей руку и молча пошел рядом.
Прошли мимо выкрашенного серебрянкой солдата – памятника воинам Отечественной войны. За ним вырос целый город огороженных железными решетками и мраморными стенами пантеонов. Один памятник был исполнен в виде часовни с позолоченным крестом. Андрей Иванович подумал, что это настоящая часовня, но в толпе кто-то довольно громко сообщил, что это памятник дочери местного богатея, умершей от передозировки наркотиков.
С шоссе свернули на главную аллею кладбища. И здесь, оттеснив скромные советского изготовления памятники из цемента с мраморной крошкой, высился могильный новострой: портики, колоннады, скамейки с сидящими на них скульптурными изображениями усопших, огромные – в прежние времена немыслимых размеров площадки, покрытые полированными мраморными плитами. Пройдя сквозь строй нововозведенных свидетельств прижизненного небедного жития, процессия остановилась на небольшой площадке. От нее во все стороны начинались узкие заасфальтированные дорожки. Гроб с покойницей поставили на принесенный заранее стол. Народ, шедший в первых рядах, топтался на месте, стараясь остаться подальше от гроба, но очень скоро был притиснут задними рядами к нему почти вплотную. Пришедших проводить Анну Сергеевну в последний путь оказалось намного больше, чем в церкви. Пришли и не желавшие быть в храме баптисты с иеговистами. Были лица, незнакомые Андрею Ивановичу.
Распорядитель попросил стоявших сзади отступить немного назад. Но никто не захотел покидать площадку.
– Ну вот, – раздраженно подумал Потапов, – то подальше от гроба стояли, а теперь и шагу назад не хотят сделать. Ну и народ...
Он уже собрался скомандовать по-военному: «Два шага назад!» – как распорядитель хорошо поставленным голосом скорбно и торжественно объявил: «Позвольте начать наше траурное мероприятие».
От этого «мероприятия» у Потапова свело скулы. Ему захотелось тут же осадить бессердечного самозванца, не понимающего того, что о таком прекрасном человеке – об Анне Сергеевне – нужно говорить человеческим языком. И как же он не продумал того, как провести это прощание, кому дать слово? А теперь этот хлыщ превратит все в наихудший вариант партийного собрания. Нет, надо его отстранить. Но как это сделать без скандала? И кем заменить?
В этот момент самозванец объявил: «Слово для прощания предоставляется нашему генеральному директору Андрею Ивановичу Потапову».
Слава Богу, Андрей Иванович с самого начала занял верную позицию. Ему не пришлось никого расталкивать, никуда передвигаться. Он стоял рядом с гробом лицом к собравшимся.
– Дорогие коллеги, – начал он, – простите, но это не мероприятие.
Он строго посмотрел на распорядителя. Тот поднял брови и громко шмыгнул носом.
– Это прощание с прекрасным и очень дорогим мне человеком. Мне трудно говорить, потому что нужно говорить сердцем. У меня нет такого сердца, как у Анны Сергеевны. У нее оно было большое, любящее, чуткое. Ее доброта была безмерной. Я не видел за всю свою жизнь такого бескорыстного, доброго человека, готового по первому зову прийти на помощь.
И он рассказал, как Анна Сергеевна бросила свою высокооплачиваемую работу и переехала, чтобы спасти его от разорения.
Потом выступали коллеги. Взявший на себя роль ведущего как-то сник и представлял очередных желающих сказать слово о покойной понурив голову, печально и тихо. Его явно испугало замечание шефа. Потапов не стал его отстранять. Кого ни попроси – начнет артачиться. А тут надо без суеты и препирательств. Да и поздно.
Выступавшие говорили о доброте Анны Сергеевны, о ее мудрости и умении грамотно вести дела. Молодая сотрудница, имени которой Андрей Иванович не знал, рассказала о том, как Анна Сергеевна находила время повышать свои знания. Она делала то, чего не делали молодые специалисты: читала не только отечественные журналы по экономике, но и зарубежные. Была в курсе всех новых тенденций и успешных практик.
А вот этого Потапов и не знал.
Все говорили о чуткости Анны Сергеевны. Одной сотруднице она помогла устроить дочь в университет, другой купила ребенку зимнюю куртку, третьей оплатила дорогу до места армейской службы сына.
Потапов почувствовал, что люди повторяются, и от этого в народе стало заметно томление. Редкие всхлипывания прекратились. Был слышен все усиливающийся шорох – это перекладывали с рук на руки завернутые в целлофан букеты. Народ переминался с ноги на ногу, а цветы с какого-то момента заходили ходуном. Надо было заканчивать.
Потапов в строгом черном костюме, белой рубашке с черным галстуком выделялся в пестрой толпе, окружившей гроб. Он с раздражением заметил, что никто не удосужился надеть на себя темную одежду, хоть как-то намекавшую на траур. Костюмы и плащи были какого угодно цвета, только не черного. Многие явились в пестрых куртках, выданных волонтерам на Олимпийских играх.
«И где они их достали? Стоят, как попугаи разноцветные. На работу все в сереньком ходят, как мышки. А тут, как сговорились, вырядились!»
Лишь на нескольких воцерковленных дамах были черные платки. Была и неизвестная ему особа в черной шляпке с вуалью. И вдруг он увидел красотку Ниночку – молодую барышню, месяц назад принятую на работу. Она стояла на парапете, возвышаясь над всеми с маленькой собачкой на руках.
Потапов смотрел на своих сотрудников, и какое-то недоброе чувство все больше и больше разжигалось в его сердце.
– Никакого представления о приличии. Хоть бы какую-нибудь траурную ленту прикрепили к своим дурацким нарядам... Эх, Аннушка! С кем ты меня оставила... Охламон на охламонке.
Он перевел взгляд на лицо покойной и стал внимательно разглядывать его. Оно поразило Потапова. Это было уже как бы не ее лицо. Оно было воистину покойным. На нем запечатлелось необыкновенное умиротворение, словно она узнала никому не ведомую тайну и застыла в благодарном благоговении. Морщины на лице Анны Сергеевны разгладились. Ее немного вздернутый нос заострился, и от этого лицо стало даже красивее. Венчик на лбу придал ее лицу величавость и неотмирную торжественность. Она показалась Потапову живее всех этих окруживших ее людей. И вдруг он подумал о том, что ни сегодня-завтра будет вот так же лежать. Возможно, на этом самом месте. Если только заплатят за место. Кладбище-то закрытое. На сына не стоит рассчитывать. Он в Москве, и нужных местных людей не знает. Надо самому все устроить. Заранее.
И еще он подумал, что о нем вряд ли будут говорить так, как об Анне Сергеевне.
«Нет, надо заканчивать с работой. Пора прикрыть лавочку. Чего я нервы треплю? Зачем мне все это? Брошу все. Нет сил смотреть на эту публику. Одни боятся, другие тихо ненавидят и завидуют. А я им, по настоянию Аннушки, оклады увеличил почти в два раза. Ведь никого, с кем можно поговорить по душам. Была одна... Хорошо хоть о ней вспоминают только доброе», – размышлял Потапов.
Этот внутренний монолог был прерван. С одной стороны, огибая толпу, пробирался священник с дымящимся кадилом. С другой протискивалась к гробу незнакомая женщина. Потапов отметил, что она в траурном одеянии – черный долгополый плащ и черная шляпа с широкими полями. Эти поля смутили Потапова. Уж больно шикарно и модно выглядела эта незнакомка.
Она, не спрашивая разрешения у распорядителя, сменила только что закончившую говорить сотрудницу и, обратившись к Потапову, произнесла смутившую всех фразу:
– Сегодня вы хороните моего злейшего врага.
– Ну вот, – подумал Потапов. – Все же не обошлось без скандала. Кто такая? И кто ее пустил...
В толпе раздались возмущенные голоса:
– Как вы смеете!
– Уберите ее!
Женщина в шляпе смущенно улыбнулась и продолжила:
– Анна Сергеевна, действительно, была моим врагом, но потом стала добрым ангелом.
– Кем стала? Что она говорит?
Толпа возмущенно загудела, но незваная незнакомая дама спокойно продолжила. Только говорить стала громче.
– Я, как и вы, ее сотрудница. Но только там, на Урале, откуда она переехала сюда. Я теперь занимаю ее должность. Раньше я работала в другой организации и никогда не видела Анну Сергеевну. И когда заняла ее место, то, что бы я ни делала, мне все сотрудники в один голос говорили: «А вот Анна Сергеевна сделала бы не так!» Я это слышала по нескольку раз на дню. И я ее возненавидела. Что же это за человек такой?! Из-за нее у меня нет никакого авторитета.
Гул постепенно затих. Все стали внимательно слушать.
– Я подружилась со своей заместительницей и, поборов гордость, стала расспрашивать
ее, что же я не так делаю. Оказалось, что и в производственном, и человеческом плане Анна Сергеевна всегда была мудра, добра и спокойна. Я познакомилась с тем, как она вела дела, и стала делать так же. И все пошло очень хорошо...
Не могу занимать вашего времени. Скажу только, что ее большой оклад, чему у нас многие завидовали, Анна Сергеевна почти до последней копейки отдавала на добрые дела. У нее было больше десятка одиноких матерей, которым она постоянно помогала. Были старушки. Она их сама навещала и подбрасывала им еду и деньги... О ее доброте можно много говорить, но вы сами в этом могли убедиться. Не стану вас утомлять...
Она тяжело вздохнула, вытерла платком глаза и продолжила:
– Простите. Сюда я приехала в санаторий. Третьего дня вечером смотрела телевизор. И вдруг вижу: бегущей строкой объявление о смерти Анны Сергеевны и о том, где будут похороны. Я не могла поверить своим глазам. Вы представляете? Никогда не видеть человека, постоянно думать о ней, а, уехав за три тысячи километров, случайно узнать по телевизору о ее кончине... Разве это не чудо? Сегодня я познакомилась и прощаюсь с человеком, который стал для меня идеалом. Я стремлюсь к этому идеалу и благодарю Бога за то, что он устроил эту скорбную встречу-прощание. И прошу Его упокоить душу дорогой Анны Сергеевны в Царствии Небесном!
В толпе зааплодировали. Заговорили сразу и громко. Такая реакция была совершенно неуместной. Потапов сделал энергичный жест рукой, и разговоры стали стихать.
А женщина, вызвавшая своим рассказом неожиданную реакцию, перекрестилась и, нагнувшись над гробом, поцеловала венчик на голове Анны Сергеевны. Постояв немного, она снова перекрестилась и поцеловала икону, лежавшую на груди покойной. Потапова почему-то больше всего смутило то, что она крестилась и вела себя, как церковный человек.
В модном пальто, шляпе... Он представлял себе верующих совершенно иначе. И хотя видел по телевизору, как крестится президент и его ближайшие соратники, все же не мог и подумать, что интеллигентная дама с хорошей речью, в очень дорогой одежде может вот так, как простая бабка, перекреститься и поцеловать покойницу, которую ни разу не видела.
Все остальное прошло, как в тумане. Дама ушла, подошел священник. Он начал петь хорошо поставленным голосом. Андрей Иванович старался вслушиваться в слова песнопений, но понимал не все. Тихо, словно бубенчики на никогда не езженой тройке, позванивало кадило.
«То ли в кино слыхал этот тихий приятный звон, то ли... Да неужто, я не знаю, как бубенчики звенят? Вон, они к кадилу прицеплены», – думал он.
Ароматный дымок окутывал гроб.
«Яко земля еси, и в землю отыдеши», – печально пел священник.
Эти слова поразили Потапова.
– В землю-то понятно, а вот почему земля? Разве я земля? Какая же я земля? Значит, землей стану... Смешаюсь с землей... Но нет. Тут еще до нашей кончины нас землей называют. Непонятно…
Он совершенно некстати вспомнил анекдот про космонавта: «Земля! Земля! Я Хабибулин!»
И тут же одернул себя: «Тьфу ты, мать честная, лезет же в голову всякая чушь! Нужно обязательно спросить священника, что он имел в виду. Какая же я земля?!»
Потапов видел, как во сне: вот закрывают гроб. «Такие же бывают закрывашки на заграничном пиве, – вспомнил он и рассердился на себя. – Что же это я! Прощаюсь с Аннушкой навсегда, а подмечаю какую–то дрянь... Как-будто это не я сам, а кто-то другой подсовывает дурацкие мысли».
Вот, споткнувшись обо что-то, подошла ко гробу Елена. Робко, словно боясь обжечься, коснулась гроба, провела по верху ладонью.
«Ласково погладила, – отметил мысленно Потапов. – При жизни бы так мать гладила».
И он стал вспоминать случаи, когда Елена была груба с матерью. Он с усилием прогнал эти мысли и стал оглядываться, ища в толпе только что выступившую незнакомку. Но ее нигде не было. Баптисты-иеговисты стояли отдельной кучкой, отступив от площадки на дорогу.
«Видно, ладана испугались», – мелькнула мысль.
Вот что-то командует распорядитель, и четверо сотрудников поднимают гроб. Они с трудом протискиваются между плотно стоящих памятников, наступая на могильные плиты. Народ потянулся за гробом, широким охватом обходя надгробия.
Потапов последовал за ними. И вдруг почувствовал под ногой тихий хруст. Посмотрев под ноги, увидел раздавленный желтый цветок и удивился: «Надо же, нарциссы расцвели. А ведь февраль».
Когда могильщики опустили гроб и стали забрасывать лопатами сухую желтую глину, Андрей Иванович почувствовал, как по щеке его текут слезы. Они текли почему-то из левого глаза. Потом горячая капля покатилась и из правого.
– Прости меня, Аннушка, – прошептал Потапов. – Царство тебе Небесное. Погоди, скоро и я пойду за тобой.
И тут он, считавший себя неверующим человеком, вдруг с ужасом подумал, а пустят ли его к ней, к его дорогой подруге.
В голове крутилось: «И куда пустят? И кого пустят, когда меня закопают? Значит, я верю, что душа есть и что она куда-то уйдет после смерти? Ой, хорошо бы... Чтобы была душа... Не черная пропасть небытия, а хоть какая-то непонятная, но жизнь. Ведь говорят же, что душа – это переход с материального уровня на энергетический. Или что-то вроде этого. Пусть так. Энергия – не энергия, но лишь бы хоть какая-то форма жизни. Лишь бы не исчезнуть совсем. Нужно обязательно, сейчас же поговорить со священником...»
Он отошел в сторону и стал наблюдать за своими сотрудниками:
– Лезут по чужим могилам. Вытянули шеи. Любопытно им. Бросают в могилу землю. Все бросают. Даже иеговисты. Только я не бросил. А жалко ли им Аннушку?
А вдруг, действительно, жалеют. И чего это я на них окрысился? Все ведь помрут. Вон сколько ее сверстниц…
Потапов давно хотел избавиться от них. Но Анна Сергеевна упросила не выгонять их с работы:
– У них же пенсии. Тут молодым надо уступить... Еще и жизни не нюхали, а требуют сразу больших окладов.
«Ох, уж эти молодые! – подумалось ему. – Бабульки в десять раз больше их знают, а готовы и в половину этих денег работать. Нет, не буду пожилых увольнять... Они ведь не себе. Детям и внукам зарабатывают. У многих дети без работы сидят. Вот оно, замкнутый круг... Дети без работы. Бабки при деле... Да ну их всех! Все, не могу! Оставлю. Пусть такого олуха, как я поищут, чтобы много платил и держал тех, без кого можно обойтись...»
И он снова стал бранить себя за то, что не может сосредоточиться и думать только об Аннушке: «Как сосредоточиться, когда мысли прыгают, как блохи? Только подумаешь о печальном – как будто ветром из головы выдувается и что-то совсем непотребное приходит на ум.
Вот и могильщики страшные. Лица синие, как баклажаны. Видно, что с перепоя. Вот венки и цветы народ кладет. А ведь эти синюхи стащат их и отдадут продавать бабкам, сидящим у входа».
Тут Потапов заметил, что народ стал потихоньку расходиться. Распорядитель глядел соколом, выбирая из пришедших нужных людей. Им он совал билетики с траурной каймой – приглашение на поминальную трапезу.
От одной мысли о еде Потапову стало дурно. Он подошел к распорядителю и тихо проговорил:
– Поминайте без меня. У меня срочное дело.
– Но вы все же потом подойдете? – робко спросил распорядитель.
– Не знаю. Если успею. Но вряд ли. Ешьте без меня.
Потапов машинально протянул ему руку и сразу отдернул, почувствовав прикосновение потной ладони.
«Что же это я! – укорил себя он. – За полминуты дважды обидел человека. Зачем так грубо приказал есть без меня? Нужно было как-то поделикатней. И нельзя было так отдергивать руку. Что, он виноват, что ладони вспотели от волнения? Надо будет его как-то успокоить...»
Он оглянулся и увидел священника, застрявшего в узком проходе между железными оградами. Тот пытался отцепить подрясник от колючек розового куста. Андрей Иванович поспешил ему на помощь, но батюшка уже успел высвободиться из неожиданного плена. Потапов протянул священнику приготовленный конверт и, оглянувшись по сторонам, попросил его задержаться.
– Уделите мне несколько минут.
Батюшка посмотрел на часы.
– Прошу прощения. С радостью поговорю с вами, только давайте это сделаем по дороге к храму. У меня через полчаса крестины.
– Да я вас долго не займу, – поспешил заверить его Потапов, стараясь идти со священником в ногу. – Вопросов у меня много. Не знаю с чего начать... Анна Сергеевна всегда старалась избавить меня от моего безбожия. Нет, я, конечно, понимаю, что что-то есть. Но у меня всегда не было времени, да и желания говорить с ней о вере. Я ведь знаю о Боге только то, что нам на занятиях по атеизму рассказывали, что Его нет. И что все придумали попы, чтобы держать народ в темноте. Но сегодня, как бы вам это объяснить, я почувствовал в душе какой-то трепет. Я ощутил... ощутил свою душу. Я почувствовал, что она у меня есть. Я как бы, стоял в стороне от нее, или она была где-то сбоку. И я головой пытался понять, что в ней происходит, а она давала мне почувствовать, что она есть и мне надо как-то правильно с ней контактировать. Простите, я, наверно, говорю путанно.
– Я вас понимаю, – попытался успокоить его батюшка.
– Это переживание было мне не знакомо. А может быть я сейчас пытаюсь сформулировать, и говорю совсем не то, что переживал. В общем, я ничего не знаю о жизни души, о вере... И хочу вас попросить помочь мне. Я, знаете, почувствовал во время вашего пения, что хочу верить. Хочу, чтобы Бог был на самом деле...
– Так Он есть на самом деле, – улыбнулся священник.
– Да, но что мне делать, чтобы по-настоящему поверить?
– Молиться. Один евангельский персонаж говорил: «Верую, Господи! Помоги неверию моему».
– Не понимаю.
– Это трудно понять. Вера – великий дар Божий. Есть люди чуткие. Они без особого труда получают этот дар и живут духовной жизнью, а другим нужно много потрудиться, чтобы обрести ее.
– Так что же мне делать?
– Молиться, посещать церковные службы, читать книги духовного содержания. Пытаться рассматривать все, что с вами происходит, через призму евангельского учения. Вы читали Евангелие?
Потапов смутился.
– Скорее пролистывал.
– А вы прочитайте. А все, что не понятно, записывайте и приходите ко мне. Постараюсь объяснить. Только не отчаивайтесь. Возможно, придется пройти через многие искушения. Дай Бог, чтобы ваше сегодняшнее настроение не покинуло вас. А я помогу...
– Ну, тогда для начала, объясните мне, почему я земля. Вы сегодня пели, что мы все земля, и в землю уйдем. А разве кости, кровяные сосуды, волосы, глаза и все тело из земли сделаны?
– Да, из земного праха сотворен человек.
– Из какого праха?
Сотворение человека (Быт. 2, 7) Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XIII в.
Сотворение человека (Быт. 2, 7) Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XIII в.
– Из глины или чернозема – это не известно, да и неважно. Главное, что Бог вдунул в человека дыхание жизни. Сделал его душою живою.
– Но это невозможно. Как можно из глины сделать мозг и сердце? Что это за материал – земля? Это невозможно. Это я вам как строитель говорю.
– Богу все возможно. Мы веруем в то, что Бог создал нас. И неважно, из чего. Это тайна.
Он призвал нас из небытия. Да еще и даровал нам жизнь вечную через страдания и крестную смерть Своего Сына – Господа нашего Иисуса Христа.
– Это я совсем не понимаю. Но земля...
– Это вы как строитель рассуждаете. А скажите, пожалуйста, как из космической пыли само собой за миллиарды лет произошло такое потрясающее разнообразие живых существ? Объясните мне, как строитель. Можно ли из космической пыли сделать апельсин или все эти дивные цветы, распустившиеся за несколько теплых дней? А ведь люди верят, что можно. Им говорят, что нужен всего лишь фактор времени. Сотни миллиардов лет. И оно само по себе сотворится. Ну не фантастика ли?
Чтобы сделать простую табуретку нужен ум, умение и руки. Само ничего не делается. Атеисты придумали подпорку для своих фантазий – эволюцию. И опять им понадобились миллиарды лет. Но без организующего и творящего Разума может ли проходить невероятный по своей сложности процесс создания живого мира, в котором миллиарды миллиардов параметров. Кто руководит этой эволюцией? Кто направляет ее на создание новых форм? Кто продумывает потрясающей красоты узоры на крыльях бабочек и оперение птиц? Кто наградил птиц голосами, от которых замирает человеческое сердце по весне? Первовзрыв? Как можно верить в то, что после первовзрыва вся гармония мира организовалась без участия творческого Разума? Я вот вчера сыну гранат почистил. Умолчу о том, что это вкусный и полезный плод. Посмотрите, как там зернышки плотно уложены и между ними еще и перепоночки нежные. Кто это так зернышки уложил? Сами легли? Я тут получил посылку с книгами. Все книги измяты. А ведь люди укладывали. Разумные существа.
– Да вы, батюшка – поэт, – Андрей Иванович покачал головой.
– Простите, времени у нас мало. Я бы хотел, чтобы вы поняли простую вещь. То, что называют материалистическим знанием – это не знание, а вера. Мы не можем проверить ни одну из современных гипотез сотворения мира. Мы принимаем ее на веру. У нас нет миллиардов лет на экспериментальную проверку. А модели, якобы повторяющие процессы, длившиеся в природе эти сотни миллиардов лет – условны. Их тоже нужно принять на веру. Так что вам нужно определиться, какую веру вы выберете. Веру в Бога или в бездушную материю, которая сама собой творит все из себя. Вы можете поверить в то, что кирпичи сами собой сложатся в Эрмитаж или хотя бы пятиэтажку, если их подогревать и облучать солнечной энергии миллиард лет? Вы, как строитель, можете в это поверить?
Потапов немного помолчал, посмотрел на спины впереди идущих сотрудников и тихо проговорил: «Удивительное дело. Все, что вы говорили, я как будто бы уже слышал. Все мне знакомо, хотя я явно ни с кем об этом не говорил. Даже с Анной Сергеевной.
Я благодарю вас за эту беседу и очень прошу найти время пообщаться со мной подольше».
– Непременно. Только не раньше, чем через неделю. Сейчас много предстоит служб. Начнется Великий Пост. Приходите к нам на вечерние службы. Четыре дня будут читать канон Андрея Критского. Это великое свидетельство гениальности человека, способного на искреннее и глубокое покаяние. Послушайте его. Душа должна отозваться. Даже если вы не поймете слов. Послушайте скорбные песнопения. Это очень красивая служба. Подышите воздухом Церкви. Начните с этого свой путь к Богу. Я, кстати, могу вам подарить этот канон. Будете по книге следить за тем, что будут петь и читать.
Потапов долго благодарил батюшку и решил непременно принять его приглашение. Они распрощались. Священник торопливо пошел к храму, а Потапов остановился рядом со ступеньками, ведущими вниз. Здесь, в просвете между кипарисами и черными мраморными памятниками, был виден новый могильный холмик, заваленный венками и охапками цветов. Потапов посмотрел по сторонам. Никого. Последний сотрудник скрылся за поворотом. Андрей Иванович поклонился могиле Анны Сергеевны.
– Да, Аннушка, конечно, батюшка прав. Без верховного Разума никуда. Я вот на какое-то время отпустил вожжи, и все пошло кувырком. Пришлось тебя вызывать. Спасибо тебе за все. И за беседу с батюшкой спасибо. Вот только никак не могу понять, какая же я земля... Ну, ничего, может, пойму...
Потапов еще раз оглянулся и, увидев, что никого нет, медленно перекрестился.
Александр Богатырев
26 марта 2014 года
Метки: рассказ
ЧЕСТНОСТЬ

Кто-то скажет: смирение, кротость, терпение, послушание. Кто-то назовет милосердие, сострадание, помощь ближнему, любовь к нему.
Но вряд ли кто-то вот так сразу скажет: честность. Будто из другого словаря это слово. Не из религиозного, не из духовного, а из словаря «общечеловеческой» или «гражданской» морали.
Что такое честность? Перелистав известные словари, мы убедимся, что понятие это сложное, собирательное: «правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективная убежденность в правоте проводимого дела, искренность перед другими и перед самим собой»; «добросовестность, прямодушие, неподкупность, беспорочность, правдивость, благородство»; «прямота, правдивость, неуклонность по совести своей и долгу, отрицание обмана и воровства, надежность в исполнении обещаний»…
Ходить пред Богом – это и значит быть честным: перед Ним и, как следствие, – перед людьми
Рискнем сконцентрировать: честность – это жизнь по правде. А правда – она у Бога. Именно Он – ее источник. Не потому ли вопрос о честности человека перед Ним встает в самом начале истории человечества: можно сказать, что это вообще первый вопрос, вставший перед человеком. Человек лукавит, он тайком нарушает запрет, потом прячется от своего Творца «между деревьями рая» (Быт. 3: 8) – поэтому происходит катастрофа, грехопадение, изгнание из Рая. Святитель Иннокентий Херсонский в своих замечательных проповедях, собранных в книгу «Падение Адамово» (М., 2011) говорит, что в дальнейшем всё больше людей будет прятаться от Творца уже не в райских деревьях, а в адских… В противоположность этим «пряткам» честность и открытость жизни перед Творцом, отсутствие попытки спрятаться, уклониться от Его ока обозначается в Ветхом Завете словосочетанием «ходить пред Богом»: «и ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5: 24). Заметим: не сказано, что Енох был праведен, честен, правдив, добр и т. д. Вообще никаких личных характеристик: ходил пред Богом – этого довольно. Ходить пред Богом – это и значит быть честным: перед Ним и, как следствие, – перед людьми.
И разве случайно всё, что идет от врага рода человеческого, собрано в понятиях «лукавство» и «лукавый» – последним словом в православной традиции обозначается сам враг.
Бог один, Един, поэтому правда одна – двух правд нет. Декалог, десять заповедей, данных Богом через Моисея на горе Синай, начинается с заповеди единобожия: «Я Господь Бог твой… да не будет у тебя других Богов пред лицем Моим» (Исх. 20: 2–3). Следует ли из этого, что язычники не могли быть честными? Нет, конечно, никак не следует. Современники Симеона Богоприимца и апостола Павла были язычниками, но не были безбожниками: «и в Израиле не нашел Я такой веры» (Лк. 7: 9). Их сердца были открыты Богу Единому, а если бы это было не так, не говорил бы Спаситель об «овцах, которые не сего двора» (Ин. 10: 16) и невозможной оказалась бы апостольская проповедь среди язычников. Сердца, которые хотя бы так, вслепую чувствуют Единого, – они, наверное, и честность для себя способны выбрать. Не только многобожие, но даже и неверие, атеизм не означает нечестности – разве мы не встречали кристально честных неверующих, причем, сознательно неверующих людей? У них есть внутреннее неприятие нечестности – совесть. «Когда Бог сотворил человека, Он всеял в него нечто Божественное, как бы некий помысл, имеющий в себе, подобно искре, свет и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе, а что злое. Сие называется совесть, и она есть естественный закон», – писал авва Дорофей[1]. Неверующий, но совестливый человек не соглашается признать, что совесть всеяна Богом, но вот то, что ее невозможно объяснить материалистически, рационально, – это он признать вынужден. И он согласится, конечно, что потребность в честности, которую можно, пожалуй, назвать производной от совести, есть глубокая духовная потребность человека.
Честность в вере есть непременное условие возрастания в ней
Пытаясь жить христианской, духовной, церковной жизнью, мы с неизбежностью понимаем, что честность перед Богом и Церковью – честность в вере – есть непременное условие возрастания в ней. Понимаем иногда на самых простых примерах: исповедь, на которой ты не был честен, – не исповедь: скрытый грех «сугуб грех есть». Несоблюдение поста в то время, как Церковь велит его соблюдать, – лукавство, потемняющее всю твою духовную жизнь, нарушающее все твои связи с Церковью. Надежда получить что-то от Бога, живя не по Его Закону и не раскаиваясь, не пытаясь это изменить, – самообман. Читая о том, как Спаситель обличал фарисеев, мы догадываемся, что здесь именно о нечестности в вере речь идет, о сознательной или бессознательной попытке обмануть себя и Бога… Но довольно: погружаться глубже не рискну, предмет непростой, мое дело – учиться церковной жизни и молитве, но не учить этому. Перейду к тому, ради чего, собственно, и затеяла всю эту работу: к проблеме нечестности общественной и нашей жизни в условиях этой нечестности.
Если человек старается ходить пред Богом, быть честным перед Богом и собой, он не может не стремиться к честности перед людьми. А значит, у него возникает потребность в честных отношениях, в честной среде: «посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу», – писал апостол Павел христианам Ефеса (Еф. 4: 25). Здесь речь об отношениях в христианской общине, но мы ведь не живем замкнуто, мы с неизбежностью нуждаемся и в честном обществе, и в честном государстве. Христианин не может и не должен реагировать на нечестность спокойно, без боли, как на нечто должное. Это при том что общество наше в огромной своей части именно привыкло к нечестности – как к норме или как к некоей неизбежности.
«Такой-то – хороший мэр, много для города делает. Что?.. Себя не обижает? Взятки берет? Дворец построил? Ну какая же вы наивная. Сейчас иначе не работают. На одну зарплату давно уже никто не живет»;
«Операцию сделали, всё благополучно. Нет, не в частной. В государственной больнице, неофициально платили. Но там, знаете, не хуже, чем в частной. А что дорого – так теперь везде дорого»;
«Да не волнуйтесь вы, у нас в военкомате всё очень просто. Приходите и платите деньги – как в магазине. И никуда уже вашего мальчика не заберут»;
«Курсовую сдал, всё нормально. Смеешься? Когда мне ее писать? Купил за десять на нашей же кафедре…»
Кто всего этого не слышал?.. И не переживал? А много ли таких, кто вольно или невольно, вынужденно или как-то там еще – не участвовал? Но нечестность общественная заключается не только в этом. Мы берем в руки газету, включаем телевизор – и знаем уже заранее, что с нами нечестны. Мы видим рекламные билборды – и тоже знаем, что с нами нечестны, и не только в том смысле, что рекламируемый товар или услуги на самом деле не столь качественны, но и в том, что нам предлагают некое ложное счастье. Наконец, на работе многие из нас втянуты в отношения, предполагающие ту или иную, а иногда и очень высокую степень того самого – «яко лукавство в жилищах их посреде их» (Пс. 54: 16). Легко ли в этих условиях отстаивать себя, не запирать на замок свою христианскую совесть, строить свой мир как честный мир? Проще говоря – быть честным?
Побеседовать на эту тему с отцом Михаилом Богатыревым я решила, потому что знаю: это и его боль тоже… (в скобках замечу: отец Михаил по первому своему образованию юрист и работал в правоохранительных органах).
Иерей Михаил Богатырев
Иерей Михаил Богатырев
– Действительно, современная жизнь заставляет нас усомниться в том, что честность вообще кому-то нужна и как-то возможна. Но на самом деле вопрос о честности актуален всегда – для всех времен и всех народов. Честность всегда востребована. А то, что нечестно, всегда болит – у любого народа, общества, человека. Сегодня многие пытаются доказать, что христианство устарело, неактуально, не отражает действительности и т.д. Но мы сделали свой выбор, мы хотим быть христианами. Значит, мы должны помнить, что говорил о честности Спаситель. А Он в Нагорной проповеди говорил: «блаженны изгнанные за правду» (Мф. 5: 10). Надо только понять: это не о тех людях, которые кричат свою «правду» на каких-то митингах или выдают одно скандальное разоблачение за другим с единственной целью – взбаламутить общество и добиться каких-то своих целей. Это о тех людях, которые не могут неправду сказать, что бы им за это ни грозило: вот они на самом деле блаженны, то есть счастливы. И их жизнь для нас всех – идеал.
Священное Писание говорит однозначно: лгать человек не должен. Ложь – это преступление человека перед самим собой: наиболее страдают от лжи даже не те, для чьих ушей она предназначена, а те, кто ее производит и продвигает «в массы». Совесть – это искра Божия, она действительно есть в каждом человеке; поэтому лгущий человек понимает, что он лжет. И в душе такого человека не может быть мира. Человек мучается, он нервничает, всё его существо трехсоставное – духовное, душевное, даже телесное – расстроено; проблемы нарастают как снежный ком. Совесть мешает, поэтому перед человеком встает задача: перестать ее слышать совсем. И эта задача оказывается выполнимой.
Не нужно пытаться разделять личную честность христианина и честность в среде обитания. Это одно и то же
Не нужно пытаться разделять личную честность христианина и честность в среде обитания. Это одно и то же. Из чего складывается нечестная среда? Из нечестных людей. А потом уже она давит на человека, заставляя его именно так и жить. Многие люди не обращают на это внимания, просто не задумываются об этом, живут, как живется. И в результате с честностью сегодня совсем плохо. Ложь, даже если все понимают, что это ложь, уже ложью назвать нельзя. Ее нужно называть, например, действиями по ситуации. Я недавно столкнулся с этим. Говорю: «Но ведь этот человек лжет!» – а мне в ответ: «Вы не понимаете, батюшка, это не ложь, это работа по ситуации». Вчера обещал, а сегодня ситуация изменилась.
Презумпция невиновности – юридическое понятие – перенесена сегодня на совесть: я буду виноват только в том случае, если мне это докажут…
В жизни общества усилился юридический момент. Право подменило правду. Человек, сбивший другого человека машиной, тут же уезжает с места происшествия; он знает, что если его не найдут или даже найдут, но вина в суде не будет доказана, то он как бы и не виноват. Не пойман – не вор. Проблем с собственной совестью нет. Будто бы и души человеческой нет уже в таком человеке. Презумпция невиновности – это юридическое понятие, но она перенесена человеком на собственную совесть: я буду виноват только в том случае, если мне это докажут, а иначе – кто имеет право меня обвинять?
И вот представьте себе, что такому человеку вы пытаетесь сказать что-то о честности. Кем он вас сочтет? Либо своим врагом, которого нужно немедленно наказать, поставить на место, пользуясь теми же юридическими нормами: «Ты говоришь, что я человека сбил? А ты доказать можешь? Я на тебя в суд подам за оскорбление моей чести и достоинства». Или он сочтет вас просто сумасшедшим.
Конечно, честность должна быть воспитана. Старые фильмы, советского еще производства, в определенном смысле ее воспитывали. Высоцкий создал образ опера Жеглова – кому бы в голову пришло этому Жеглову взятку предлагать? На экране люди видели настоящих следователей, настоящих офицеров, настоящих врачей, учителей – людей совести и чести (а честь и честность ведь не случайно однокоренные слова). Это были яркие, запоминающиеся образы, и они воздействовали на сознание. Государство должно иметь идеологию и проводить ее в массы, оно очень многое может сделать на самом деле, если правильно расставит акценты во всем: если будет поддерживать то искусство, ту культуру, которая способствует оздоровлению общества. Но это – если само государство заинтересовано в воспитании морального поколения.
Святость – это всегда честность, вряд ли мы можем такое представить себе – чтобы святой был в чем-то нечестен. Мученичество – это честность в высшем проявлении. В первые века христианства им говорили: мы вам не запрещаем молиться этому вашему Иисусу из Галилеи; вы просто зайдите в наш храм, поклонитесь статуе императора, принесите жертву богам – мы вас не заставляем в них верить, нет, вы просто создайте видимость, которая требуется, и идите себе спокойно домой и молитесь там своему Богу сколько хотите. Но человек хотел быть честным и поэтому шел на смерть. И потом, в ХХ веке, это повторилось, только в более жестком варианте: спокойно молиться дома уже было нельзя…
Привилегия говорить правду царям оплачивалась ценой потери даже человеческого облика. И юродивые на это шли
А если говорить о честности общественной, кто на Руси нес именно такой крест: говорить правду обществу, власти? Юродивые. Они могли говорить правду и при этом выживать, жить, но – какой жизнью? Такой, что и двух дней такой жизни мало кто из нас вынес бы. Привилегия говорить правду царям оплачивалась вот такой страшной ценой – ценой потери всего, даже человеческого облика. И они тоже на это шли. Но не только юродивые выпадали из системы социальных связей, системы, заставляющей человека лукавить. Патриарх Ермоген не был ни с кем, как теперь принято выражаться, связан, он был ничьим человеком, был человеком Божиим – именно потому спас Россию в эпоху Смуты.
Имея перед глазами пример святых, мы должны понимать: честность – это всегда подвиг. Она всегда рождает сопротивление и всегда связана со страданием. И каждый человек сам для себя должен решить: честным быть или нет. Конечно, юродство нас пугает, и никому из нас не под силу этот подвиг в том виде, в котором его хранит история русской святости, но вот в чем дело: быть честным – это всегда быть в определенной мере юродивым. Или, как уже сказано, сумасшедшим, безумным. Мы выбрали веру, честное следование которой всегда расценивалось как безумие. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне», – так писал апостол Павел христианам Коринфа (1 Кор. 4: 10–13), упрекая их в стремлении к благополучному, комфортному христианству. Но у нас нет решимости быть такими! Мы боимся за свое благополучие и за то душевное равновесие, тот покой, который ничего общего не имеет с истинным покоем – миром во Христе. За тот покой, который позволяет нам безмятежно сидеть перед телевизором, пить чай или что-то еще и пультом переключать каналы.
Кто-то, читая это, непременно скажет: батюшка, вы очень хорошо про это говорите, а как у вас самих-то в Церкви – все пред всеми идеально честны? Нет, увы, это не так. Церковь состоит из людей того же общества; люди, приходя в Церковь и даже в клир, не становятся идеально чистыми. И отношения между ними тоже не могут быть идеальными. Но если внешняя по отношению к Церкви среда может искажаться, деформироваться свободно, то пред человеком Церкви, хотя он и грешит, всегда есть маяк, ориентир. Верующий человек, отступая от Священного Писания, отдает себе в этом отчет. Когда-то он понимает: да, это вынужденно сделано. Но оправдать себя этой вынужденностью не может. Может только покаяться. В ситуациях, в которых нам не под силу оказалось быть честными, единственный способ сохранить себя в человеческом обличье – это покаяние. Я не о внешнем облике, я о внутреннем человеческом облачении говорю: во Христа облекостеся. На пути к идеалу христианской жизни мы всегда сталкиваемся с собственной немощью, маловерием, малодушием и познаем таким образом, каковы мы есть. Те житейские ситуации, когда кажется, что честным быть невозможно, с чем бы они ни были связаны: с семейными нуждами, с бизнесом, с политикой, – нужно именно так воспринимать: они говорят о нашей немощи и зовут нас к покаянию.
Только не надо так понимать: человек в Церкви может врать каждый день, каждый день ходить каяться, и всё в порядке
Только не надо так понимать: человек в Церкви может врать каждый день, каждый день ходить каяться, и всё в порядке. У человека с такой установкой само покаяние становится формальным, сухим, как отчет: пропадает момент внутреннего переживания греха. Факт греха становится в один ряд с массой других жизненных обстоятельств. Нечестность даром не проходит – даже вынужденная, даже та, что, казалось бы, во благо. Разве не бывает так, что мы не говорим людям того, что надо бы сказать о власти, что мы самой власти этого не говорим – не из трусости! Из благодарности: эта власть, оказывается, нам содействовала, помогла получить землю, построить храм, а где-то целый монастырский комплекс возродить. Как же мы после этого ей скажем?.. Это понятно по-человечески, но всегда ли нам легко ответить на вопросы людей, которые в Церковь идут как в последнюю инстанцию?
Как видите, у меня нет готовых рецептов, готовых инструкций: «Чтобы быть честными, мы должны жить вот так!» Нет и быть не должно. Могу сказать только, что нечестность нельзя оправдывать обстоятельствами. Нужно помнить Нагорную проповедь: «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5: 11) – и далее.
Марина Бирюкова, священник Михаил Богатырев
26 марта 2014 года
[1] Цит. по: Авва Дорофей. Душеполезные поучения. М., 2008.
Метки: добродетель, грех
Как избавиться от рассеянности мысли при молитве?
Молиться нужно так, чтобы ум был всецело собран и напряжен... Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить о том, с Кем беседуем, если будем представлять, что приносим духовную жертву. (Святитель Иоанн Златоуст)
И если ты сам не слышишь своей молитвы (по рассеянности), то как же ты хочешь, чтобы Бог услышал ее? (Святитель Иоанн Златоуст)
Метки: Молитва, духовная жизнь
Глупец
– И где ты только взялся на мою голову? Родился, чтобы мешать мне жить.
– Мама, а когда мы вернемся, ты прочитаешь мне сказку о кузнечике?
– Бедный мальчишка,– сокрушались окружающие, – глупенький не знает, что она ведет его в детдом.
Когда мальчик подрос и смог навещать мать, он старался как можно чаще
проводить с ней свое время. Нередко подросток находил мать в пьяном угаре, вызывал скорую, и пока ехали врачи нежно гладил ее руку и целовал грязную щеку:
– Зачем же ты так, мамочка? Потерпи, все будет хорошо.
– Ненормальный ребенок, да просто глупец. Никакого к себе уважения. У той любви для него не хватило, а он бегает, спасает, – недоумевали знакомые.
Быстро пробежали школьные годы, стремительно промчалось студенческое время. Юноша получил диплом с отличием и ему предсказывали хорошее карьерное будущее. Но на удивление всех, он пошел работать в школу.
– Не стал умнее от своего красного диплома. Глупец, погубил собственную карьеру, чужих лодырей пошел воспитывать, – возмущались знакомые.
Умерла мать. Заботливый сын не забывал дорогу на ее могилку. Но теперь уже с женой, девушкой из соседнего подъезда.
– Глупец, – не уставали судачить бабульки, – красавец какой, столько девок готовы были пойти за него. А он выбрал – некрасивая, да еще и хромоножка.
Им не дано было понять, что главное глазами не увидишь. А молодые жили душа в душу. Вот только детей у них не было. Но вскоре соседи увидели супругов гуляющими в парке с двумя малышами – мальчиком и девочкой. Брошенные кем-то дети стали для этой пары родными.
– Глупец, – заключили окружающие, – она родить не может, а для него свет клином сошелся на этой барышне. Пускай растят теперь чужих отпрысков.
Но это абсолютно не заботило дружную семью. Годы шли. Дети выросли, получили хорошее образование, создали свои семьи, и не было дня, чтобы кто-то из них не навестил родителей.
Как-то зимой отец семейства прогуливался по набережной. Он подошел к толпе, которая с интересом наблюдала за оказавшейся на отколовшейся льдине собакой.
Животное жалобно скулило, умоляя существ разумных о помощи. Но кроме праздного интереса это событие никак не откликнулось в их умах и сердцах. И только пожилой мужчина, не раздумывая, бросился в ледяную воду…
Соседи без устали обсуждали его поступок:
– Какой же глупец! После недавнего инфаркта так поступить. Не было ума и не прибавилось.
– Глупцом родился, глупцом и помер.
А он стоял, дожидаясь своей очереди, у ворот рая.
– Как зовут тебя?– спросил у него бывший при входе Ангел.
– Да я и сам запамятовал, как меня зовут, – ответил человек, – но окружающие звали Глупцом.
– Входи, ты записан в Книгу Жизни. А у имени твоего есть другое звучание – Любовь.
Метки: рассказ
ПРАВО НА СОМНЕНИЕ. Рассказ-размышление

Это невозможно, за каких-то две недели я теряю уже третью пару перчаток. И что еще обиднее, не обе сразу, а только одну. Оставшуюся перчатку в надежде, что пропажа когда-нибудь обнаружится, я прячу в шкаф. И оттуда, с нижней полки, они, точно сироты, одним своим унылым видом обличают мою рассеянность, которая в последнее время приняла совсем уже неприличные формы. Конечно, из оставшихся перчаток можно формировать новые пары, но тогда этот факт придется постоянно держать в памяти и не выставлять на обзор обе руки одновременно. Иначе будут смотреть и задаваться вопросом: что это у батюшки такие разные перчатки?
Может, в аптеке от этой беды таблеток спросить?
Мы присели за столик и заказали по чашке кофе.
– Батюшка, ты сегодня какой-то грустный. Случилось чего?
Я поделился с ним про перчатки.
– Не знаю, что и делать. Остается, как в детстве, пришить к ним общую резинку.
Олег смеется:
– Представляю. Нет, батюшка, не надо резинки. Здесь в корень нужно смотреть. Считаю, что всё это проделки барабашки. Со мной такое тоже бывает.
Ты, наверное, в курсе, что такое коммерческая тайна и что такое промышленный шпионаж. Потому неудивительно, что у нас на работе режим секретности, как у тех ракетчиков, и сейфы и пропуска с кодами. Утром приходишь на работу, открываешь сейф, достаешь папку. Ищешь необходимую бумагу – а ее нет, точно она сквозь землю провалилась.
Раньше всё хранилище перероешь, папки перетрясешь, каждую бумажку переложишь. Сердце стучит… А как же! Потом успокаиваешься и понимаешь: ну куда она денется? Тут такая система охраны, не то что шпион – мышь не проскочит.
Пошел к приятелю, он здесь же, у нас, в банке работает. «Вань, чего делать? Документ пропал». – «Небось весь сейф перелопатил?» – «Перелопатил». – «Знакомая проблема. Не волнуйся, найдется. Это всё барабашка, его проделки. Короче, записывай. Берешь нитку и привязываешь ее к ножке стула. Потом обходишь вокруг него три раза против часовой стрелки, садишься и произносишь: “Поигрался – отдай”. И спокойно занимайся своими делами. Час, другой проходит – и вот она, нужная тебе бумага, лежит на столе на самом видном месте или в верхней папке: как открываешь, так сразу».
С тех пор для меня этой проблемы не существует. Ни дома, ни на работе. Так что записывай, батюшка: «Поигрался – отдай».
Я улыбаюсь:
– Ты молодец, нашел, что предложить священнику. Нет, брат, с нечистой силой у нас дружбы не получится. Это вы там у себя в банках народ обманываете, вот барабашки у вас по кабинетам и разгуливают. А чтобы вы на них внимание обращали, бумажками вашими играются. Наши люди во всём полагаются на Бога.
– Ты, батюшка, так говоришь, будто Богу делать больше нечего, как только твои перчатки разыскивать.
– Ну, пускай это будет ангел-хранитель или твой святой. Называй как хочешь, всё одно ты обращаешься к Богу. Вот был у нас на днях такой случай.
Одна наша бабушка прихожанка получила пенсию и отправилась в магазин. Расплатилась за покупки и по рассеянности оставила кошелек на прилавке. Из магазина вышла, сотню метров прошла и спохватилась: где кошелек? Кошелька-то нет! Бегом назад. Девчонки-продавщицы только руками развели.
Бабушка человек интеллигентный, скандалить не приучена. Решила: сама, мол, во всём и виновата, а на людей нечего напраслину возводить. Пока шла домой, молилась и еще просила прощения, что на людей плохо подумала.
«Пришла. Положила ключи и подхожу к комоду. У меня на нем стоит на подставке иконка моей святой – мученицы Валентины. Прошу ее мне помочь, потом беру образ в руки, целую и вдруг вижу мой потерявшийся кошелек. Здесь же, на комоде. Не веря глазам, открываю, а в нем вся моя пенсия за вычетом только что потраченного в магазине», – рассказывала.
Она недоумевает, как кошелек вдруг объявился на комоде, а я не удивляюсь, потому что таких историй с исчезновением и неожиданным явлением предметов множество.
Однажды встречаю знакомого, идет по дороге мне навстречу. Весь в собственных мыслях, ни на кого не обращает внимания. «Ты чего не здороваешься? Случилось что?» – «Представляешь, ключи от гаража потерял. Главное, всё помню: как открывал ворота, потом как закрыл. Потом на секунду отвлекся, и всё, нет ключей. Я все карманы, сумку наизнанку вывернул, каждый сантиметр перед гаражом осмотрел – ничего нет! Но ведь я никуда не отходил. Они что, испарились?!» – «Никуда они не испарились. Ты их просто не увидел. Иди назад и проси Бога о помощи». – «А как просить?» – «Как можешь, так и проси; как ребенок мамку просит, вот и ты так же».
Он смотрит на меня с недоверием, поворачивается и идет назад.
Вечером звонит: «Как ты узнал, что ключи именно там? На самом деле они лежали на самом видном месте, а я, получается, смотрел на них и не видел».
Олег молчит. Потом произносит задумчиво:
– Ничего не понимаю.
– Честно говоря, я тоже. И таких историй, когда человек что-то теряет, никак не может найти, потом молится – и пропажа обнаруживается, я могу тебе навскидку рассказать с десяток. Но расскажу только одну, на первый взгляд – совершенно невероятную, но история эта тем не менее реальна.
Рассказывала мне ее женщина.
Однажды погожим воскресным утром она отправилась на литургию в один из московских храмов. Территориально этот храм находится в монастыре, который еще только восстанавливается. Вокруг него идут работы, кипит стройка. Возводятся монашеские кельи, хотя самих монахов в нем нет и еще неизвестно, когда они появятся. Но людям нравится уже сама мысль, что они молятся в монастыре, даже пока что существующем только в проекте.
Так вот, возвращается она домой, паркует автомобиль и спешит к себе на пятнадцатый этаж. В планах собираться и вечером отправляться в Домодедово. Вместе с мужем они летят на отдых в Таиланд. В принципе вещи собраны еще в субботу, осталось только погладить кое-какую мелочевку, уложить в чемодан и проверить документы. Хотя о документах она тоже позаботилась и заранее положила их к себе в сумочку.
«Кстати, о документах, – думает. – На всякий случай их надо снова проверить, убедиться, что всё в порядке, и уже больше к этому вопросу не возвращаться». Она достает из сумочки небольшой полиэтиленовый пакет и вытряхивает на стол его содержимое: «Так, права на автомобиль (хочется взять в аренду небольшое авто), билеты на самолет туда и обратно, конверт с валютой, кредитные карты, загранпаспорта. Паспорт мужа, а второй… где второй паспорт? Ничего не понимаю! Он должен быть здесь, в этом же пакете». Вчера своими руками она клала его в этот самый пакет. Открыла, убедилась, что это именно ее паспорт, а этот – паспорт супруга.
Снова берет в руки сумочку и медленно, стараясь оставаться спокойной, методично просматривает каждый из кармашков. Паспорта нет.
«Чувствую кожей, – делится она, – как накатывает ощущение паники. Зачем, зачем я брала документы с собою в церковь? Вчера поспешила всё уложить в сумочку, а утром, схватив ее по привычке, отправилась на службу.
Спустилась вниз, обшарила машину, заглянула всюду, куда только мог завалиться злосчастный документ.
Звоню мужу: “Дорогой, ты нигде не видел моего загранпаспорта? Да, никак не найду. Нет… А что ты кричишь? Думаешь, я специально его потеряла?!”
Решила вернуться в монастырь. Что, если паспорт просто случайно вывалился из сумки, когда доставала кошелек, чтобы расплатиться за свечи? Правда, для этого он должен был сперва каким-то образом выпасть из пакета с билетами на самолет и остальными документами. Но пакет на липучке, и паспорт не мог из него взять и выпасть. Никак не мог.
Поехала назад, в монастырь. Надежды никакой, но просто сидеть и ждать у моря погоды еще хуже. Вечером лететь, не найду паспорт – муж из меня душу вытрясет. Замучает своими придирками: “Вот, мол, во всём виновата твоя церковь, ты уже фанатичкой стала; из-за твоей дурацкой привычки ездить по воскресеньям на литургию ты потеряла паспорт и мы не смогли улететь на отдых. Чтобы я больше никогда от тебя не слышал ни о каких там храмах или монастырях!”
В таких отчаянных мыслях я и приехала в монастырь. Там, где была утром и причащалась на службе. В храм вхожу по ступенькам, поднимаюсь вверх, точно на эшафот. Последняя надежда: может, хоть кто-нибудь что-то видел или находил?
Спрашиваю у дежурной за свечным ящиком. Нет, никто ничего не передавал. Я на грани отчаяния.
Вижу священника и спешу к нему: “Батюшка, катастрофа! Я потеряла загранпаспорт, а вечером уже лететь. Батюшка, это конец”.
Тот немедленно хватает меня за руку и ведет к иконе Божией Матери: “Встаем на колени и молимся”.
Я плакала и просила о помощи. Потом встаю с колен и медленно направляюсь к выходу. Поднимаю глаза и вижу сторожа дядю Славу. У него в руках большой лист бумаги. Чисто автоматически бросаю взгляд на лист и читаю свою фамилию.
“Я, я – Иванова Лариса! Дядя Слава, это мое имя! Нашелся мой паспорт?!”
Он молча подает мне мой документ.

“Дядя Слава, дорогой вы мой! Вы даже не представляете, что вы для меня сделали!” – бросаюсь обнимать нашего сторожа. Потом лезу в кошелек, достаю деньги: “Давайте я вас отблагодарю”. Тот смеется и отстраняет мою руку с деньгами: “Если хочешь отблагодарить, то благодари вон его, – и рукой указывает на большого сторожевого пса непонятной породы. – Это он в зубах принес твой паспорт”. – “Принес?! Откуда?” – “Вон с той свалки”.
Смотрю, куда показывает сторож, и вижу большую кучу строительного мусора метрах в ста от храма. Как паспорт мог оказаться в той куче? Ума не приложу.
Вечером машина такси везла нас с мужем в аэропорт. Он всё никак не мог прийти в себя от пережитого. “Нет, ну как ты могла взять в церковь и билеты, и документы? А если бы паспорт не нашелся, представляешь? Тогда всё, пришлось бы оставаться в Москве, деньги бы пропали, и отпуск коту под хвост. А всё твоя церковь, твой Бог! Как мне всё это надоело!”
Я терплю и молчу, пытаюсь думать о чем-то своем, молюсь. Наконец мое терпение лопнуло: “Дорогой мой муж! Если мне не изменяет память, то в прошлом году ты потерял техпаспорт на машину, деньги и права. Искал, всюду давал объявления. И что? И ничего. Сегодня утром я потеряла паспорт. Поехала в храм и молилась Богу. И что? В ответ на мою молитву пришла собака, бессловесная тварь, и в зубах принесла мне паспорт. Твои права тебе кто-нибудь принес? Неважно кто, собака или человек… Нет? В таком случае, дорогой мой, сиди и молчи”».
Я отхлебнул из чашечки глоток уже совсем холодного кофе.
– А что, – отозвался молчавший до этого мой собеседник, – разве не может быть случайностью тот факт, что собака действительно нашла паспорт этой женщины? Ну, получилось так… Что же, всюду нужно искать Бога?
– Не знаю, может, это и случайность. Из собственного опыту замечаю: Бог никогда не насилует нашу волю, никогда, даже в том случае, когда отвечает на твою же молитву. Всякий раз он предлагает тебе какой-то люфт, в пределах которого ты имеешь право сам решать, верить Ему или нет. У нас в том году случай был. Верующая жена предложила неверующему супругу повенчаться. Тот подумал и возразил: «Венчаться – значит, давать какое-то обещание Богу, я правильно понимаю? А как обещать тому, в кого не веришь? Подтверждение нужно в том, что он есть. Вот давай так: если твой Бог подарит мне оптический прицел на мой охотничий карабин – поверю. Как поверю, тогда мы и повенчаемся».
Оптический прицел нужной модификации оказался вещицей не из дешевых и стоил целых 240 тысяч. Денег таких у женщины не было. Тогда она обратилась за помощью к верующим: «Начинается Успенский пост, помогите молитвой. Попросите, чтобы моему Василию Петровичу подарили оптический прицел». Она объяснила бабушкам, что это за штуковина такая и почему она их о ней просит. Те согласились и поминали заблудшего Василия на Псалтири.
Не знаю, можно ли это назвать чудом или просто стечением обстоятельств, но производитель неожиданно, объявив акцию, вполовину снизил цену на свою продукцию. А двое друзей Василия, такие же заядлые охотники, каждый по отдельности, не сговариваясь, предложили своему товарищу денег: «Как будут – отдашь, нам не к спеху». Дали ровно столько, чтобы тот приобрел себе вещь, о которой так давно мечтал.
И когда он уже держал в руках вожделенный прицел, жена напомнила ему об условии, которое он поставил Богу: «Теперь ты поверил? Мы повенчаемся?» – «Верю, только причем тут Бог? Я верю в друзей и в счастливый случай».
– И что, он не стал с ней венчаться?
– Не стал. Ведь не спустился же к нему с небес ангел с оптическим прицелом в руках. Пришли те, кого он знал уже много лет, причем тут Бог? Он не выполнил условие, потому и о венчании речи быть не может.
Прощаясь, я проводил Олега до его «Тойоты», дождался, пока он тронется, и благословил его вслед. Потом направился к своей машине. На улице было зябко. Сунув руки в карманы, я нащупал единственную перчатку, вспомнил о пропаже и снова расстроился.
– Господи, помилуй! Что со мной происходит?
Снимаю машину с охраны, открываю дверь. Взгляд тут же падает на сиденье, и первое, что я вижу, это моя перчатка. Лежит. На самом видном месте. Не может быть! Я здесь всё осмотрел. Так, одно из двух: или я всё это время, пока ехал на встречу с Олегом, сидел на своей перчатке и расстраивался о ее потере, или… это ты, Господи? И снова оставляешь люфт с правом на сомнение? Даже для меня?
Домой я возвращался в приподнятом настроении, улыбался и думал: а может, и хорошо, что и для меня тоже.
Священник Александр Дьяченко
24 марта 2014 года
Метки: рассказ
Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной
Крест и самоотречение
Проповедь Креста, несущая на себе печать крестной жертвы Христа, подчеркивает, что “кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее”. Здесь находится путь, который избрал Бог, чтобы прийти к людям, и по которому люди могут прийти к Богу. Это путь противоречия, бросающий вызов нашей логике и призывающий нас довериться истине, открытой нам Богом. Это путь трудный, скорбный и горестный, заканчивающийся, тем не менее, спасением. Отречься от себя – значит освободиться от душащих оков эгоизма. Отречься от заблуждения, толкающего нас возвеличивать и возвышать собственное “я”, делать его идолом, вокруг которого должна вращаться и наша жизнь, и жизнь окружающих людей. Однако это путь саморазрушения, поскольку всякий раз, когда мы занимаемся исключительно собой и удовлетворением лишь собственных желаний, мы не можем понять нужды ближних. Так мы закрываем дверь к Богу и не можем соединиться с Ним.
Мы не должны забывать, что самоотречение и несение креста с надеждой и терпением ведет верующего к преодолению своих мучений во Христе. Как замечает некий ученый епископ: “На Голгофе имелось три креста. Два из них были концом пути двух разбойников. А средний – всего лишь распутьем. Поскольку Тот, Кто взошел на него, прожил жизнь в любви и истине, и через Крест шел к Своему Отцу. Но помимо этого, благодать и сила Христа повлияла и преобразила и один из двух других крестов, сделав его через покаяние “вратами” в рай. Это является существенным утешением для тех, кто сегодня несет крест вины”.
Крест и спасение
Таким образом, Крест Христов освещает тупики и тьму, которые так часто нас устрашают. Он освобождает нас от пленяющих нас заблуждений и идолов, исцеляет нас от страстей и слабостей, изнуряющих и мучающих нас. Боль Креста всегда будет освящена радостью Воскресения. Поскольку сам по себе Крест без Воскресения являлся бы неудачей и трагедией, равно как и Воскресение без Креста стало бы только незначительной победой. Крест и Воскресение связаны друг с другом не только таинством нашего спасения, но и жизненной борьбой верующего. Поэтому добровольное взятие креста не является болезненным жестом человека, ищущего избавления от скорби. Это источник силы, преображающий трудности нашей жизни. Это означает, что благодаря борьбе и волнениям жизни мы, хотя и не одерживаем победу каждый раз, духовно совершенствуемся, учимся преодолевать искушения и идти вперед.

Возлюбленные братья, Крест – это не только важнейший и наиболее показательный христианский символ. Не просто выражение борений и победы, жертвы и славы, жизни и спасения. Крест – это каждодневный ответ Бога на трагедию и отчаяние грешного человека. Это чудо Божественной любви, которая терпеливо ждет, чтобы спасти нас. Аминь.
Архимандит Никанор Караяннис
Πεμπτουσία
25 марта 2014 г.
Метки: крест, САМООТВЕРЖЕНИЕ, спасение
Для чего ограничивать себя во время поста
– Не знаю… но я могу спросить на кухне.
(Из фильма «День сурка»)

Пост – время удивительное. Время, когда христианин должен отбросить развлечения, чтобы сконцентрировать внимание на самом себе, отбросить удовольствия, чтобы найти радость и благодать в молитве, отбросить гордость и эгоизм, чтобы через ближних раскрыться в любви. И мы, современные православные, научились все это делать – ну, где-то процентов на 50. Что это значит? То, что мы можем отбросить развлечения, но нам не хочется копаться в себе и фиксировать грехи. Что мы отбросили удовольствия, но нам лень молиться внимательно (да и вообще молиться), а потому нет никакой радости от молитвы. Мы вроде бы и эгоизм пытаемся устранить: мало что делаем для себя, но и для других не делаем вообще ничего. В общем-то, ни туда, ни сюда, как можно сказать про наполовину постящегося человека.
В структуре поста есть элементы пассивные и активные. Скажем так, пассивные элементы – это не есть, не смотреть, не празднословить, не развлекаться и тому подобное. Когда мы их выполняем, мы, собственно, и не делаем ничего. Чтобы отказаться от чего-то (конечно, если нет зависимости от этого), усилий нужно приложить немного. Церковный человек привыкает к этим периодам, и, например, исключение из рациона пищи животного происхождения для меня, как и для многих, совершенно не героизм.
Героизм в пост – это активность христианина. Это все действия, отрешенные от частицы не. Внимательная молитва, самоанализ, борьба с греховными помыслами, коленопреклонения, чтение Святых Отцов, покаяние в своих грехах и духовной немощности – не только у исповедального аналоя, но и дома – вот пост.
Для чего люди придумали развлечения? Очевидно, чтобы не было скучно. Люди веками пытались раскрасить обыденность в разноцветные краски. Одна из причин этого – то, что человек по природе созидателен, и творческое начало в человеке – отблеск образа Божия. А пост вычеркивает из жизни все условно приятные моменты, существование обесцвечивается, становится серым и безвкусным.
Для чего Церковь так поступает? Чтобы это чистое полотно раскрасила наша духовная жизнь. В ней – полная гамма чувств, от темных тонов покаяния до Нетварного Света фаворского Преображения. Вот где в пост должна проявиться творческая натура человека.
Итак, Церковь предполагает, что отречение (неядение, несмотрение, неспание) – это только зачистка территории от ненужного хлама. Так бережливый хозяин, когда не имеет машины, но зато имеет гараж, тащит туда, что попало: старый трехколесный велосипед, ламповый телевизор, дырявый гамак, пустые стеклянные банки, сварочный аппарат и так далее. Среди всех этих вещей встречаются даже нужные, которые время от времени используются. Но потом случается чудо – машина куплена! – и нужно освобождать гараж, иначе некуда ее ставить. Разумный хозяин, который знает, что скоро сделает заветную покупку (время уже идет на дни), заранее позаботится не только освободить гараж, но и тщательно его убрать, чтобы случайный гвоздь не пробил колесо.
Так вот всеобщее неделание чего-то «скоромного» в пост – только уборка «гаража» нашего сердца. Машину не поставишь в захламленный гараж, поэтому его нужно освободить. Но цель поста совершенно не в том, чтобы очистить помещение, а в том, чтобы «купить» благодать (Ср.: Мф. 13, 45-46) и наполнить ею пустую клеть сердца. Купить ее можно только за «активы», а не за «пассивы». За внимательные неленостные молитвы, внутренний труд, покаяние и прочие подвиги. Помните, как многократно Христос обращается к своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23). «Отвергнись себя» – это лишь первая часть, это отказ от выполнения своих похотей и воли. А вот «возьми крест свой и следуй за Мною» – это уже христианство в действии. Можно отречься от всего, но не следовать за Христом. Так поступали некоторые философы, иноверцы, сектанты, отчаявшиеся люди. Но это отречение не принесет никакой пользы душе.
Так часто в пост поступаем и мы. Мы отрекаемся от многого, добровольно превращаем нашу жизнь из разноцветного праздника плоти в серую полосу скуки. Но лишь за это мы не получим благодать! Мы освобождаем гараж, и он праздно стоит у нас до самой Пасхи, а на Светлой неделе мы опять начинаем туда сгружать весь вынесенный хлам. Отцы говорят: «Дай кровь и прими Дух». Кровь проливается только в битве – в брани за помыслы, за внимательную молитву, за принуждение себя к доброделанию. Как невозможно выступить в поход и, не вступая в бой, победить, так невозможно получить благодать только от неядения и несмотрения. «От брашен постящися, душе, всуе радуешися неядению…» Помните?

И самое главное, что на подсознательном уровне это знает каждый из нас. В середине поста, когда уже привык к определенной диете, все постные дни становятся похожими один на другой. Все серо и однообразно. Все бесцветно, потому что цвета греховной жизни мы устранили, а духовную жизнь вести не начали. Каждый день посещают одни и те же помыслы; каждый день даешь себе обещание, что завтра начнешь поститься, как положено; каждый день приближается измотанный вечер, и руки, которые раньше с такой радостью разукрашивали жизнь в плотские цвета, в бессилии опускаются на молитве. Только и остается энергии, чтобы проглотить постный ужин, решить, кто будет мыть посуду, и глянуть последние известия из Украины. Встать на колени и помолиться после этих известий сил уже не хватает… Впрочем, может быть, не хватает нашего желания и решимости?
Почему Церковь на 7 недель погружает нас во все время повторяющийся «день поста»? Неужели смысл в том, чтобы то выносить вещи из гаража, то опять их тащить в него? И если мы отрекаемся от всего и не идем за Христом, то за кем мы тогда идем? Может, за евангельским фарисеем, про которого нам напоминают за три недели до начала нашего великопостного воздержания?
Когда каждый день наступаешь на одни и те же грабли – это повод их поднять и отнести на место. Когда каждый день греховный снаряд падает в одну и ту же воронку – это повод менять позицию. Когда каждый день поста приносит только уныние и тоску – это повод пересмотреть свое отношение к посту. Бывает так, что к вечеру чувствуешь себя обвешанным мешками с неправдой и грехом (хотя на первый взгляд ничего страшного вроде бы не совершил). И это ощущение греховной нечистоты так сильно, что хотел бы заново родиться, оставить греховное тело и войти в новое, чистое, чтобы вдохнуть полной грудью свежий воздух. Поневоле задумываешься о змеях, которые, когда линяют, находят узкое место и продираются через него, чтобы таким образом содрать с себя старую омертвелую кожу. Через какую дыру мне протиснуться, чтобы совлечь с себя опротивевшего ветхого человека, чтобы вонючая греховная кожа отстала от меня?! Христос указывает нам на эту узкую дыру – это тесные врата покаяния (Мф. 7, 14). И подбадривает: дескать, вперед. «Будьте мудры, как змии» (Мф. 10, 16), – говорит Он.
Итак, середина поста – подходящее время, чтобы честно сказать: «Господи, да я и не пощусь вовсе». Поистине, бывают дни вне поста, когда мы в суете рабочих и бытовых обязанностей на целый день можем забыть о еде и других телесных нуждах, о телевизоре и развлечениях, но это нисколько не приближает нас к Богу. И в такие дни мы, как может показаться, словно постимся. Значит, Церковь ищет не этого, раз только это не приводит нас к благодати.
Середина поста – хорошее время, чтобы спросить у себя не чего я не делаю в пост, а что я делаю? Что я сейчас делаю особенного, что не удается в скоромные дни? Стараюсь ли сохранять весь день память о Боге? Ответственнее ли отношусь к молитве? Борюсь ли за соблюдение заповедей? В чем выражается моя духовная активность?
Мы все отлично изучили, что нельзя, а что можно, осталось только понять и исполнять, что нужно. Неужели недостаточно нас били по лбу грабли? Сколько еще лет нам надо провести в великопостной пассивной скуке, чтобы сделать правильные выводы и начать что-то делать, а не только чего-то не делать?
Давай, просыпайся! Принимайся за труд! Вспоминай о грехах и молись! Открывай Святых Отцов и читай! Думай, что можешь реально делать, исходя из своих житейских обстоятельств. Памятовать о Боге? Хорошо! Каждый вечер анализировать прошедший день и каяться в согрешениях? Прекрасно! Несколько раз на протяжении дня кратко помолиться? Замечательно! Действуй!
День поста закатится незаметно. Наступит Пасхальная ночь. Что нам принесет Светлое Христово Воскресение? Если только отмену запретов, то семь недель поста прошли впустую. И тогда снова придется ждать, пока Церковь запоет для нас: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче».
Священник Сергий Бегиян
24 марта 2014 года
Метки: пост
Страх бесовский
«Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали!» Уж сколько их последовало путём гадаринских бесов, низринувшихся в водную пучину! Сколько людей, прислушавшись однажды к лживым и соблазнительным шёпотам падших духов, выбрало, как им казалось, сладкий покой небытия, потому что жить во тьме – мучительно страшно, а жить во Свете – непереносимо стыдно, и, значит, лучше – вовсе не быть! При таком раскладе, конечно, небытие – сладостно и вожделенно: радости нет, зато нет и скорби, нет света, зато нет и тьмы.
Всё бы хорошо, да вот беда: сатана, поющий эти сладкие песни, как всегда лжёт, ибо не может не лгать отец лжи. Небытие – просто невозможно. Потому и свидетельствует Господь, обращаясь к народу Своему: «…изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин.5.29). Воскреснут все, умереть не удастся никому, только для одних воскресение станет началом вечной радости, а для других – вечной скорби.
Бесы знают это, потому-то они, по слову апостола Иакова, «веруют и трепещут» (Иак.2.19). Трепетать-то они трепещут, но при этом не забывают баюкать нас своими сказками о покое небытия. На эту утешительную приманку попадаются люди, одержимые бесовскими страхами, и, чтобы избавиться от парализующего душу ужаса перед грядущим «воскресением осуждения», начинают уговаривать и себя, и окружающих, что никакого воскресения вообще не существует, а за порогом смерти – пустота, да такая, что «не зашелохнёт, не прогремит». А уж там, где ничего нет – там и спроса нет никакого, да и не с кого спрашивать! Вот как всё гладко и кругло получается и у бесов, и у кадящих им атеистов. И всё – от страха, от мучительного, изнуряющего ужаса, который парализует и сам разум человеческий, не позволяя ему найти средство избавления от этой напасти.
А между тем избавление от бесовского страха возможно, и Церковь знает, как переменить парализующий душу страх бесовский на плодотворный и спасительный страх Божий. Преобразовать леденящий ужас в благой страх можно только покаянием, которое животворит, потому что рождает надежду. А надежда, как пишет апостол Павел, «не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.5.5). И Дух, животворящий наши истерзанные ужасом сердца, преобразует ужас, внушаемый нам падшими духами, в благой и светлый страх Божий, который есть не что иное, как трепет любящего сердца, страшащегося нанести ущерб или обиду Благому и Вечному Объекту своей любви.
Когда боишься наказания, мести, воздаяния по делам – ненавидишь. Когда боишься оскорбить Святыню – любишь.
Потому в бесовском ужасе гнездится ненависть, и только смерть, только утопление в пучине водной способно, как кажется бесам-насильникам, остудить этот яростный огонь, это пламя, бушующее в душе грешника.
Потому в страхе Божьем нет ничего, кроме любви, доверия и надежды. Надежды на то, что любовь «все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1.Кор.13.7), ибо возможно ли не любить, возможно ли судорожно страшится Того, Кто простил и прощает «до седмижды семидесяти раз» (Мф.18.22)?
Но встречаются сердца, окаменевшие окаменением воистину бесовским. Сердца, в которых не осталось ни надежды, ни доверия, а есть только желание покоя, подобного смерти. Даже бесы, веруя, и те «трепещут» и мечтают погасить этот палящий трепет в водной пучине. Потому-то они, «выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» (Лк.8.33).
Гадаринские жители вполне и до конца уподобились падшим духам. Те, терзая несчастного бесноватого, выли и стенали: «что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня» (Лк.8.28). Эти ужаснулись тому, что нормального человека обрадовало бы, потому что эти самодовольные нечестивцы, «придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись» (Лк.8.35).
И яростные бесы, и ужаснувшиеся гадаринские жители совершили самоубийство. Одни – скрывшись от Лица Божия в бездонной пучине, другие – изгнав от пределов своих Подателя Жизни.
Где нет Сущего, там нет и существования. Где нет святого и благотворного страха Божия, там поселяется лютый ужас бесовский, от которого не уврачует и сама смерть. Остаётся одно: попытаться покаянием и молитвой истребить в душе своей постыдный ужас бесовский, чтобы святое это место, за вечную жизнь которого принял крестную смерть Сын Человеческий, наполнилось благим и спасительным страхом Божиим, чтобы не умерла душа ещё прежде смерти тела. Чтобы спаслась. Аминь.
13 ноября 2005 г.
Проповедь во храме Святителя Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
Метки: страх Божий
Не от мира сего
Епископ Михаил (Грибановский)
«Наше призвание не здесь, на земле, наша родина и наша цель там, в том мире, к которому призвал нас Господь. Этой мыслью мы бываем иногда склонны оправдывать наше невнимательное отношение к тому, что нас окружает, и нашу холодность к тем людям, с которыми мы живём», — пишет епископ Михаил (Грибановский) в книге своих размышлений «Над Евангелием». Мы публикуем фрагмент этой замечательной книги, в котором содержится ключ к пониманию слов Спасителя «Царство Божие внутри вас».

Мы, христиане, не от мира сего. Но это не значит, что наш мир где-то отсюда за миллиарды вёрст, где-то за бесконечными звёздными мирами. Совсем нет. Он внутри нас же самих, в окружающей нас природе, на всяком месте, в каждой душе. Он отделяется от нас не внешними далёкими пространствами, а лишь поверхностью той же самой жизни, которая на этой же земле со всех сторон охватывает нас. Его свет и дыхание непосредственно близки нам; они обвевают меня из внутренней глубины духа сию минуту, вот здесь, на этом месте, где я пишу, в моей же собственной душе, которую я сейчас чувствую, из-за этой же вот природы и обстановки, которая в настоящий момент окружает меня.
Стремиться из этого мира в тот — не значит нестись и рваться куда-то в беспредельную звёздную даль, в неизвестные пространства солнц и созвездий. Нет, — это значит просто войти внутрь того, что находится в нас самих и кругом нас. В моей душе, какова бы она сейчас ни была, всё же просвечивает нечто высшее, благороднейшее и святое, хорошие мысли, чувства и желания, та же душа, но только в более совершенной и прекрасной форме бытия. Идти туда, к тому просвету, осваиваться с тем, что открывается через него, вживаться в его атмосферу, ткать из неё свои жизненные нити — это и значит идти в тот небесный мир, к которому мы призваны Господом. В моём теле много дурного, но и в нём, в его Богом созданной форме, в волнах его жизненной энергии, чувствуется высшая красота, высшее благо бытия, отблеск чистого счастья жизни. Низводить свой дух и своё сердце в эту благороднейшую стихию своего собственного тела, в это совершенство его идеальных форм, заключённых в нас же, вдыхать в себя только чистейший аромат жизни, веющий в её гармонических проявлениях; напрягать и собирать своё жизненное внимание только в эту утончённую светлую область своего же телесного самоощущения, никак не распуская себя и не давая разливаться грубым волнам похоти, не поддаваясь внешним и внутренним дисгармоническим влияниям, одухотворяя и просветляя каждое своё жизненное движение, — всё это и значит идти в Царство не от мира сего.
Кругом меня природа, вот на этом клочке пространства, который обнимает мой глаз. Если я небрежно пробегаю по ней своим сознанием, или грубо внешне отношусь к ней, то она ничего особенного для меня не представляет: я или прохожу мимо неё, или внешне пользуюсь ею, или истребляю её. Но стоит мне с любовью, с цельным чувством и сознанием, по-детски, по-Божии, не разбегаясь во все стороны, а всецело отдаваясь ей, вглядеться в неё — и каждый листок деревца, каждый крохотный цветочек, каждая былинка, травка вдруг засияет для меня такой лучезарной райской красотой, обдаст меня таким теплом и светом жизни, таким изяществом каждого изгиба и каждого тона, что мне откроется воочию рай... Что это значит? Откуда такое чудное превращение? Очень просто: мы проникли внутрь того, что ежедневно видели извне; мы своим цельным чувством ощутили ту цельную жизнь природы, которую постоянно дробим своим рассеянным внешним сознанием; мы в созерцании любви отдались на миг беззаветно вот этому деревцу, этому цветку, вместо того, чтобы эгоистически думать, нельзя ли срубить одно и сорвать другой. Одним словом, в этот чудный миг природа осталась та же, но мы вошли в тот просветлённый божественный мир её бытия и её форм, который заключён в ней же, но которого мы, по рассеянности и грубости, доселе не замечали... Стараться отдавать своё глубокое и цельное внимание всему окружающему нас живому, всему около нас существующему, всякой былинке и вещи, входить своим умиротворённым сердцем в то светлое и прекрасное бытие, которое проникает во всё и отражается во всём, — созерцать всё в Боге, отказавшись от себя, — это значит идти в Царство не от мира сего.
Мы не от мира сего; но это не значит, что мы отвернулись от этой природы, глядим в какую-то пустоту, во что-то тёмное и совершенно неизвестное. Нет, тот мир есть лишь просветление, утончение и одухотворённый расцвет этого. Мы смотрим на то же, на что смотрят и другие, но видим в нём тот мир, который для других пока остаётся скрытым. По-видимому в мёртвом — для нас трепещет внутренняя духовная жизнь; в немом — для нас звучат небесные глаголы; в случайном и механическом — нам открывается чудный смысл и высшая разумная красота. Можем ли представить себе, что говорил незаметный цветок — лилия — сердцу и очам Господа, когда Он всю славу Соломона повергал пред ним ниц?
И этот открывающийся духовно мир красоты и высшей жизни — не иллюзия, не фантазия поэта. Он есть, он реально существует за теми же формами, за той же природой, которая окружает нас. То, что для поэтов мира сего только идея, мечта, то, в ещё более просветлённом виде, для христианина не от мира сего — высшая реальная действительность, в которой он живёт, которая скрыта для телесных очей и нечистых сердец, которая невыразима грубым человеческим языком и непредставима бледными земными красками.
Мы не от мира сего. Это, однако, не значит, что мы должны внутренне чуждаться тех людей, с которыми сводит нас действительная жизнь, и мечтать о других существах, которые более подходили бы к нашему идеалу. Да, мы должны быть как можно дальше от всего худого и в нас и в других; наш долг — бороться с этим неустанно и беспощадно. Но ведь это худое и есть то, что отчуждает людей друг от друга и производит между ними вражду и нестроения. Удаляясь этого, христианин именно уходит из этого стихийного мира, где люди — взаимные враги, в тот мир, где они могут быть друзьями и братьями. Но этот мир не в мечтательной выси фантазии, а как раз в той же самой среде и в тех же самых людях, среди которых мы живём. Как бы они ни враждовали меж собой, они всё же чувствуют, что в них есть некоторый высший мир добрых чувств: любви, истины, благожелания и самопожертвования. Извне и по инерции страстей они ведут жестокую взаимную борьбу, но внутри они не могут не чтить общей единой святыни всех, которая невидимо и неслышимо проникает в самую глубину их грешных душ. Вот в этой-то действительной святыне действительных окружающих нас людей и есть «тот» мир, в котором мы должны жить как христиане.
Христианин своим духом непосредственно переживает реальность этой святыни. Он чувствует, что этот мир любви и гармонии уже существует, уже есть в глубине духа в каждом из окружающих, только нужно захотеть и суметь войти в него. Он сознаёт, что это не его только создание, не его только благой порыв, а более, гораздо более объективная и вечная действительность, чем всё другое, видимо предстоящее нам. Он проникает до той внутренней глубины, где враждующие вокруг него люди сошлись им самим не ведомыми корнями своего духовного бытия и погружены в благодатный мир Небесного Царствия. Этот мир внутри их, но только так глубоко и за столькими, сотканными часто ими же самими, покровами и масками, что они не знают его хорошо и не чувствуют всей красоты и силы его вполне реальной жизни. Христианин видит его и идёт к нему.
Христианин должен всецело жаждать этого внутреннего Царства. Но это не значит, что он должен быть поэтому косно недеятельным или праздно-мечтающим в этом мире. Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления земли. Делать душу и тело свои чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к её совершеннейшим формам; просветлять всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получаем свыше; передавать им ту радость, ту благодать, которая охватывает нас; открывать в них небо, которое открылось в нас; отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них; короче: подражать Христу, апостолам, святителям и мученикам, — вот самый верный и надлежащий путь к Царству «не от мира сего».
Таким образом, верующий в «то» Царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идёт к тому миру через деятельное общение с ближними этого мира, будь оно в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, только видимость. Он ближе к своим ближним, чем сами ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живёт в том действительном мире, который скрывают от нашего духа наши земные мечтания. Его царство «не от мира сего», — не в туманной дали времён и пространств, не в отвлечённой пустоте измышлений и призраков, как у земных поэтов и мыслителей, а сейчас, в этот миг, на этом небольшом пространстве, в этой среде, между этими ближними. Он сквозь них же, в их собственной глубине, видит просветлённый чудный мир того Царства всякой красоты, жизни и гармонии, который всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, неудержимо скользя по блестящей поверхности этого мира в развёртывающийся пред ними ряд грандиозных внешних перспектив. Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21).
Метки: Царствие небесное
Мы принадлежим Богу
В интернете легко наткнуться на надпись - "помните, что у каждой картинки есть законный владелец". Творение означает, что у мироздания есть законный владелец - тот кто создал его и поддерживает в бытии. Бог. Как восклицают таинственные таинственные 24 старца в Откровении Иоанна Богослова, “достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено” (Откр.4:11)

Мы принадлежим Богу; когда мы осознаем эту истину, наша жизнь глубоко меняется. Эта истина одновременно является и невыразимо пугающей, и невыразимо утешительной; люди реагируют на нее и с гневным протестом, и с робкой надеждой. Нам часто кажется, что Бог угрожает нашей свободе; Он стоит над душой со своими заповедями и требует обуздывать нашу гордость, ярость или алчность. Самое главное - Он заявляет о том, что наша жизнь по праву принадлежит Ему. Мы должны слезть с трона нашей жизни и предоставить бразды правления Ему.
Это Он нас создал и знает, зачем. Мы будем счастливы во времени (насколько это возможно) и в вечности (абсолютно) если мы покоримся Ему. Эта весть вызывает в нас глубочайший раскол - или, вернее, высвечивает тот трагический раскол, которым отмечена наша природа после грехопадения. С одной стороны, мы яростно настаиваем на своей независимости от Бога; с другой - ищем мира, который может дать только возвращение к Нему.
Один мой друг, который помогал алкоголикам, говорил, что часто человек кричит тем, кто пытается помочь ему, одновременно две противоположные вещи - “отвяжитесь!” и “не бросайте меня!”. Это то, что люди кричат Богу - “отвяжись, это наша жизнь, мы будем устраиваться по-своему” и “не бросай нас в той беде, в которую мы себя загнали”.
А корень всех наших бед именно в том, что не признаем Бога - Богом, законным Владыкой и Господом в нашей жизни. Мы делаем вид, что мы принадлежим сами себе. Более того, это подается как что-то само собой разумеющееся.
Но это - неправда, и неправда пагубная. Наиболее ярко она проявляет себя в самоубийстве - люди часто лишают себя жизни потому, что они не могут с ней справиться: «это моя жизнь, я не могу справиться с проблемами, которые она порождает, я проиграл, лучше мне покончить с этим».
В чем здесь коренная ошибка? Человек совершает фундаментально ошибочный выбор не только когда выбивает у себя из-под ног табуретку, он совершает его раньше, когда говорит "это моя жизнь". Эта же позиция - я принадлежу себе, "моя печень - мой выбор" проявляется в пьянстве и или других формах пагубного и безрассудного поведения.
Не мы себя сотворили и у нас нет права распоряжаться своей жизнью и подвергать себя казни. Мы принадлежим Богу. По Его воле мы принадлежим и людям — нашим близким, нашим друзьям, нашим сослуживцам, согражданам, всем, кто в нас нуждается. Цель и смысл нашей жизни определяем не мы, а Он, и пока мы не признаем этого, мы находимся в состоянии отчаянного и нелепого бунта против реальности.
Мы обретаем спасение, когда капитулируем и передаем власть над нашей жизнью Тому, кому она принадлежит по праву. Богу, который нас создал. Горький и мучительный мятеж, когда мы сначала приводим свою жизнь в состояние полного хаоса, а потом ропщем за свои несчастья на Бога, еще будет заявлять о себе в нашей душе - но мы уже приняли самое важное решение в жизни. Мы вернулись к Тому, кому чьи мы по праву.
Тогда мы видим мир, ближних и самих себя совсем по-другому. Мир вокруг нас - это Божий мир. Это произведение Великого Художника, а Его лучшее произведение - люди. Каждый человек, с которым мы имеем дело, принадлежит Богу. Наше подлинное отношение к Богу проявляется в том, как мы относимся к этому человеку. Страх Божий - благоговейный трепет перед Величием Создателя - проявляется в том, что мы относимся к ближнему бережно и с любовью.
Эта вера меняет и наше отношение к самим себе. Ведь и я тоже принадлежу Богу - а значит, я должен бережно относиться и к себе. Если я разрушаю свое здоровье или безрассудно подвергаю себя опасности - я покушаюсь на то, что принадлежит Богу. Через веру мы обретаем наше место в мироздании - мы не потеряны, мы не выброшены, мы принадлежим, вселенная - это дом нашего Отца.
Автор: ХУДИЕВ Сергей / просмотров 675 / 19-03-2014
Метки: страх Божий
Что такое смирение?
Boнзил кинжaл yбийцa нeчecтивый
B rpyдь Дeлapю,
Тoт, шляпy cняв, cкaзaл eмy yчтивo:
«Блaгoдapю».
Tyт в лeвый бoк eмy кинжaл yжacный
Злoдeй вoгнaл,
A Дeлapю cкaзaл: «Kaкoй пpeкpacный
У вac кинжaл!»
Toгдa злoдeй, к нeмy зaшeдши cпpaвa,
Eгo пpoнзил,
A Дeлapю c yлыбкoю лyкaвoй
Лишь погрозил.
Иcтыкaл тyт злoдeй eмy, пpoнзaя,
Bce тeлeca,
A Дeлapю: «Пpoшy нa чaшкy чaя
K нaм в тpи чaca».
Злoдeй пaл ниц и, cлeз пpoливши мнoгo,
Дpoжaл, кaк лиcт,
A Дeлapю: «Ax, вcтaньтe, paди Бoгa!
Здecь пoл нeчиcт».
Ho вce y нoг eгo в cepдeчнoй мyкe
Злoдeй pыдaл,
A Дeлapю cкaзaл, paccтaвя pyки:
«He oжидaл!
Boзмoжнo ль? Kaк?! Pыдaть c тaкoю cилoй?
Пo пycтякaм?!
Я вaм apeндy выxлoпoчy, милый, —
Apeндy вaм!
Чepeз плeчo дaдyт вaм Cтaниcлaвa
Дpyгим в пpимep.
Я дaть coвeт влacтям имeю пpaвo:
Я кaмepгep!
Xoтитe дoчь мoю пpocвaтaть, Дyню?
A я зa тo
Kpeдитными билeтaми oтcлюню
Baм тыcяч cтo.
A вoт пoкa вaм мoй пopтpeт нa пaмять, —
Пpиязни в знaк.
Я нe ycпeл eгo eщe oбpaмить, —
Пpимитe тaк!»
Tyт едoк cтaл и дaжe гopчe пepцa
Злoдeя вид.
Дoбpa зa злo иcпopчeннoe cepдцe,
Ax! нe пpocтит.
Bыcoкий дyx пocpeдcтвeннocть тpeвoжит,
Teм cтpaшeн cвeт.
Пopтpeт eщe пpocтить yбийцa мoжeт,
Apeндy ж — нeт.
Зaжглacь в злoдee зaвиcти oтpaвa
Taк гopячo,
Чтo, лишь нaдeл мepзaвeц Cтaниcлaвa
Чepeз плeчo, —
Oн oкyнyл co злoбoю бeзбoжнoй
Kинжaл cвoй в яд
И, к Дeлapю пoдкpaвшиcь ocтopoжнo,
Xвaть дpyra в зaд!
Toт нa пoл лeг, нe в cилax в cтpaшныx бoляx
Ha кpecлo сесть.
Meж тeм злoдeй, oтняв нa aнтpecoляx
У Дyни чecть, —
Бeжaл в Taмбoв, гдe был, кaк гyбepнaтop,
Becьмa любим,
Пoтoм в Mocквe, кaк peвнocтный ceнaтop,
Был вceми чтим.
Пoтoм oн члeнoм cдeлaлcя coвeтa
B кopoткий срок...
Kaкoй пpимep для нac являeт этo,
Kaкoй ypoк!
Алексей Толстой
Мы убеждены, что верующим смиренным человеком можно помыкать, а он в ответ и слова не скажет. Как же мы бываем подчас удивлены, иногда даже до негодования, получив от него спокойный и твердый отпор. "Что это за верующий такой"! - возмущаемся мы, - "Мы ему дали пощечину, а он вместо того, чтоб подставить другую щеку, руки нам скрутил! Это какой-то неправильный верующий! Наверное, у него неправильная вера!".
Давай посмотрим на тех, кого христиане считают образцами смирения. Каковы они, эти люди? Может быть, твое понимание смирения отличается от понимания христианского и ты приписываешь христианам то, чего нет, а потом сам же и критикуешь это?
Апостолы были смиренными людьми, простыми и безыскусными, некнижными (т.е. необразованными).
Единственный грамотный из них - апостол Павел (до крещения Савл, фарисей, видный деятель влиятельной религиозно-политической партии, гонитель и палач христиан), и тот говорил о себе: "Бедный я человек! Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю" (Рим.7:19). Апостол Петр трижды отрекся от Христа в течение нескольких часов, но был прощен Им и принят за покаяние, - после такого наглыми не бывают. И что же? От одного слова Петра, тень которого исцеляла, могли умереть люди и умирали на самом деле (Деян.5).
Идеалом и образцом смирения для христиан является Бог Слово. Бог, принявший от своей твари оскорбление, биение по щекам, палкой по голове, плевание в лицо и мучительную казнь. А ведь Он сделал кнут, вошел в храм (в Израиле был только один Храм - Бог один и Храм один), в эту всенародную святыню, и кнутом (!) разогнал торгующих храмовыми товарами. Представь себе такую картину в наше время в Москве в храме Христа-Спасителя.
Или прочти вот это: Матф.23:13-39; 12:34-39; Лук.11:42-54.
А как ты думаешь, Кому принадлежит искаженный ныне афоризм "кто не с нами, тот против нас", неужто Сталину? (Матф.12:30) Или "кто не работает, тот не ест" - неужто Ленину? (2Фесс.3:10)
Не удержимся все же, процитируем немного слова Христовы, обращенные, говоря современными словами, к сенаторам, обладающим полнотой судебной и исполнительной власти в одном лице (ВКпБ отдыхает): "Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях!".
Посмотри на наши святцы. Воинствующая Церковь прославляет на земле тех людей, жизнь которых можно взять за образец для подражания, за некий идеал, в том числе и главное - за идеал смирения. В святцах куда ни глянешь, все мужчины это или иноки, монахи, или воины, солдаты. А как часто воины постригались в иночество и монахи становились солдатами! Этим переполнена вся история преподобного жительства.
Когда надо, монахи поднимались и шли воевать. Свято-Троицкая Сергиевская Лавра так и не была взята татарами, а они и Киев брали. Что ж это за святые такие, что за смиренные, которые воевали с оружием в руках и дали нам такие образцы героизма, мужества, твердости и силы духа, которых сейчас уже не сыщещь?
Ну ладно. Кажется мы поняли, что истинное христианское смирение даже не напоминает тот пасквиль, образ которого старательно вбили нам в голову. А что же это такое, смирение?
Пока мы дадим приблизительный ответ. Более точный ищи в глубине сайта, который (сайт), как нам мнится, должен бы отражать духовное восхождение человека и христианина.
Смиренный человек - это человек, познавший самого себя.
На что потребуется больше мужества? Чтобы признать свою ошибку или чтобы упереться, что ты прав, или что другого выхода у тебя не было, и подыскивать себе оправдания, сваливая свою вину на людей и обстоятельства?
Познавший самого себя сочуственно относится к другим, ведь он знает, что другие страдают тем же, что и он сам, но просто не познали себя. Смирение рождает милосердие. Не потакательство и человекоугодие, нет, смиренный опытно по себе знает, что потакание принесет вред, и, милосердствуя, не будет угодничать.
Познавший самого себя знает, чего на самом деле он стоит перед лицом Бога, и не будет отвечать на личные обиды. Но по себе зная, что люди нуждаются в защите как и он сам, твердо пойдет на врага отечества с оружием в руках, потому что имеет заповедь умереть за други своя.
Смиренный человек - это человек сильный духом, не допускающий, чтобы его гордость уязвила других, и не попускающий по мере сил торжествовать злу, это человек творящий добро и смело стоящий в нем. Смиренный человек мудр, как змея, кроток, как голубь и тверд, как скала.
* * *
Мы не "шифруемся" и не завлекаем - просто на этом этапе читателю терминология неизвестна.
сайт Миссионеры
Метки: смирение
Сиди на стуле, а не на колу... Удобно ли тебе на колу?
Я знаю, что это такое. Это всякие ограничения, которые клерикалы придумали, чтобы не дать нормально пожить, чтобы отобрать у человека свободу и удовольствия. Это нельзя, то нельзя, всё кругом - грех. Кому нужна такая религия? Как можно говорить, что религия - это нечто положительное?
Да, действительно, современное нерелигиозное сознание под грехом понимает очень часто ни что иное, как узко выраженную волю Божию, которую человек нарушает.
Но грех - не есть нарушение воли господина, за что господин гневается и накажет. Грех - это нарушение законов человеческого естества, человеческой природы. Как мы не можем нарушать законы окружающей природы, не пострадав, так и нарушая законы нравственные и духовные, мы не можем не страдать. Грех является ничем иным, как причиняемым себе злом.
Не Бог меня наказывает, когда на морозе я пытаюсь лизнуть языком топор. Это законы природы таковы, что мой язык прилипнет и будет вопль великий. Не Бог меня наказывает, когда я с пятого этажа выпрыгиваю и ломаю руки и ноги. Это законы природы таковы, что потенциальная энергия переходит в кинетическую, а последняя ломает кости при гашении скорости об асфальт. Не правда ли, заповедь "не нарушай законы природы, а то повредишь себе сам" абсолютно разумна?
Наряду с законами физическими, есть твердо установленные (и вполне понятные для совести) законы нравственные и духовные, нарушить которые нельзя, не причинив себе вред. Не знаем, надо ли давать иллюстрации.
Пьянство к чему приводит? Человек опускается, теряет свой облик, его увольняют с работы, от него постепенно отходят друзья (зато приходят собутыльники), в семье растет напряжение и горе, ссоры и скандалы. Налицо негативные последствия нарушения нравственного закона. Пьянство продолжается, и в конце-концов заканчивается смертью под забором. Или в больнице. Человек вредит себе и близким, и в первую очередь - себе. У одного из разработчиков этого сайта от пьянства умер сосед - молодой человек двадцати пяти лет. Приступ с печенью. Вызвали скорую, но до больницы не довезли. Помер. Он нарушил закон человеческого естества, человеческой природы, - и получил по полной программе.
Это что, его Бог что ли наказал? Нет, человек, это "наказали" тебя последствия твоего греха. Есть закон и есть последствия его нарушения. Все кажется ясно. Не причиняй сам себе вреда, человек! На христианском языке - не греши.
А наркомания? Все то же самое, только в превосходной степени, страшнее и быстрее, да плюс преступления, чтобы раздобыть денег на дозу. Примеры с воровством, завистью, ленью, блудом, враньем, тщеславием, лестью, человекоугодничеством и проч. можешь привести себе сам.
Это очень важный момент, который надо у с л ы ш а т ь. Именно неверно трактуемое понятие греха отталкивает подчас человека от христианства.
Отталкивает чем? Вот этот Бог напридумывал всяких заповедей! А заповедь - это что такое? Это препятствие к вольной жизни! Зато без Бога - широка дорога. Сразу становится свободно и хорошо жить. Можно пить кислоту, сидеть на колу, ходить с десятого этажа... Никаких ограничений, полная свобода.
А тут придумали эти христиане - чистую воду, стулья, лестницы какие-то, ступени и прочие благоглупости! А современный человек - далеко не глупец. Он стоит на позициях науки, зачем ему религиозные басни про грех? Что-что? Что вы там говорите? Грех вредит человеку? Пьяница наказывает себя сам? Наркоман страдает из-за своего греха? Блудник заразился неприличной болезнью (или еще что похуже)? Прелюбодея выгнали из семьи? Да полноте, нет этого! Я же разумный человек и все понимаю не хуже вас! Вы же врете. А мне нужна свобода, радости жизни, а не уход от неё и биение лбом об пол. Не надо меня пугать.
На деле христианство не отнимает никаких нормальных житейских радостей. Обрати на это внимание и передай другим. Первое, с чего начал Христос, это было чудо, чудо в Канне Галилейской. Христос пришел на свадьбу! Пришел туда, где люди веселились, ели вкусную пищу, пели песни, смеялись, - все как и положено на свадьбе, а вовсе не плакали и молились, уныло согнувшись. И Христос не счел это для Себя зазорным или неблагочестивым. Более того. Уж кто - кто, а Он-то точно должен был вино в воду превратить! Верно? А Он сделал наоборот, надо же! Причем когда сделал-то? Когда не хватило вина!
Мы вот этих простых вещей не понимаем. Все думают, что христианство - это какое-то препятствие к нормальной человеческой жизни.
Какой абсурд! Христианство говорит: женись, выходи замуж, ешь, пей, но не блуди, не упивайся и не обжирайся. То есть говорит - сиди на стуле, а не на колу. Только и всего. "Человек, - говорит христианство, - живи, радуйся, но не вреди себе, это грех!"
сайт Миссионеры.су
Метки: грех
БОГ ХРАНИТ НАС, А НЕ МЫ ЕГО
очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные (Иак. 4: 8).
Кто такие двоедушные? Мы все двоедушные. Что означает «двоедушный»? Это тот, кто хочет одновременно двух противоположных вещей. Мы хотим Бога, но в то же время хотим другой жизни.
Вы возразите мне: «Мы не хотим другой жизни!» Хорошо, теоретически мы не хотим ее. На практике, однако, наши дела говорят о другом. Они показывают, что мы пленены.

Двоедушие – это грех, потому что двоедушный человек страдает духовной шизофренией и хочет одного, а делает другое. Одно дело – его мысли, а другое – поступки, и мы все такие. Сам святой апостол Павел говорит: «Несчастный я человек, потому что одно решаю, а другое делаю. Одного хочу, а другое творю». «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7: 24). Кто избавит меня от этого несчастья, которое я ношу в себе? Решаю помолиться, хранить воздержание, поститься, уйму всего. Сколько хороших решений мы принимаем каждый день? Однако не исполняем их, бываем пленены, мы бредем, словно овцы на веревке, и нас уводят в другом направлении.
Сколько раз даже наше собственное я сопротивляется и говорит нам: «Что ты собираешься сделать? Не надо! Остановись!» Наше собственное я протестует, а мы словно загипнотизированные и пьяные – идем туда и не можем понять, что происходит. Потому что мы пленены, потому что это пленение от сатаны. Мы не успеваем взять верх над собственным я, и страсти овладевают нами, потому что диавол – диктатор, он страшный тиран, который не хочет нашей свободы, не хочет, чтобы у нас было свое лицо. Это и есть двоедушие – иметь словно две души, два мнения, два решения, два человека, быть двойственным человеком, который живет жизнью Церкви и одновременно совершает тысячу других дел, отрекающихся от нее.
Вспоминаю такие слова старца Паисия: «Жил некий человек, который ходил в церковь, молился, плакал, бил поклоны и весь был в умилении. Произвел на меня впечатление этот человек. Этот человек – или, скорее, эта категория людей, так как не он один такой, – в тот момент, когда он плачет, рыдает и молится, может выхватить против тебя нож, достаточно спровоцировать его чем-нибудь. Это ужасная шизофрения. О Петре Великом, который убивал людей и невесть что еще творил, говорится, что он каждый день присутствовал на святой Литургии».
Это двоедушие. Так нельзя. Это означает, что что-то идет не так. Как возможно это раздвоение – разве в тебе не оставила никакого следа эта Литургия, это Евангелие, жизнь в Церкви?
Хорошо, ты скажешь мне: «А кто не такой?» К сожалению, все мы такие, и поэтому святой апостол Иаков говорит дальше:
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль.
Смиритесь пред Богом, и вознесет вас» (Иак. 4: 9–10).
Слова святого апостола суровы. Как противодействие всему этому терзанию человека, нашему я, нашему двоедушию апостол советует понести страдания, плакать и рыдать.
Как христианин несет страдания? Какие страдания? Хорошо, пост – это такое страдание. Многие говорят: «А-а-а, мне всё время хочется есть во время поста!» Но мы ведь для того и постимся, чтобы испытывать голод, а не чтобы быть сытыми. Это и делает пост постом – мы чувствуем голод. Что, у меня трясутся ноги? Ничего, пусть трясутся.
Я не говорю, что надо изнурить и угробить себя, но не нужно бояться такого страдания. Не правда ли, вот идешь на всенощное бдение, а ноги подкашиваются – но это-то и ценно. Быть готовым умереть, как говорится, но стоять там.
Духовные вещи не могут совершаться среди комфорта. Христианин должен быть подвижником, быть подвижником по духу, а быть подвижником означает претерпеть. Вы видели когда-нибудь спортсмена, который стал спортсменом сидя в кресле? Это невозможно. Постоянно надо тренироваться, упражняться, измождать себя. Так ты преуспеешь. Постоянно надо бодрствовать.
Однажды некто сказал:
– Геронда, твои слова задели меня и заставили заплакать! Они сокрушили меня!
– Но я для того их и сказал! Чтобы задеть тебя, я и сказал это! Чтобы сокрушить тебя! Чтобы ты заплакал, я сказал это! Для чего другого я тебе это сказал? Чтобы ты засмеялся? Почему я оскорбил тебя перед другими? Зачем опозорил тебя? Нарочно! Я это сделал не в неведении! Нет! Нарочно я сделал это, чтобы сокрушить тебя. Чтобы пробить твой эгоизм. Чтобы ты заплакал. Конечно, чтобы заплакал. Почему бы тебе не поплакать? Что, так что ли: чтобы я говорил тебе, а ты не плакал?
Нам надо трудиться в духовных подвигах: когда я пощусь, я делаю это, чтобы претерпеть лишение; когда бодрствую, я делаю это, чтобы претерпеть страдание; когда подаю милостыню, я делаю это, чтобы лишиться чего-то, я не подаю милостыню, не понимая, что я делаю. Когда я делаю что-то, я делаю это, чтобы изнурить себя, чтобы почувствовать это, ощутить.
Как это характеризует нас: что мы мазохисты, что нам нравится издеваться над собой? Нет! Но грех, к сожалению, отождествляется со сластолюбием. В грехе есть наслаждение, есть приятное чувство, не только греховное наслаждение, но с любой точки зрения – и душевное, эмоциональное, и вообще. Сердце склоняет нас к греху из-за своего сластолюбия, так как находит в нем удовольствие.
Сначала в добродетели нет духовного наслаждения, есть боль, труд, злострадание, должно быть и трудолюбие. Противоположным сластолюбию является трудолюбие – это значит: любить труд и совершать дела, почувствовать усталость. Надо изнурить себя. «Я устал!» – говоришь ты. Но устать надо. Почему бы тебе не устать?
Горько, если ты совершал духовные подвиги и не устал. Это что означает? Что это за подвиги тогда? Какой подвиг является подвигом, если он не утомляет тебя? Это не было бы подвигом.
Разумеется, в этом есть тайна – что трудолюбие ради Бога в духовной борьбе содержит много радости и настоящего духовного наслаждения, тогда как радость от греховного сластолюбия временна, а ее горечь и злые плоды постоянны.
Это факт, что вначале человек, желающий подвизаться духовно, должен предаться трудолюбию, он должен потрудиться, утомить себя, совершить и душевный, и телесный труд. Например, когда другой ругает меня, а я ему не отвечаю, разве это не труд? Неужели я внутри себя не превращаюсь в зверя и не хочу растерзать его? Однако я сдерживаю себя и не делаю этого. Это труд. А когда другой надоедлив, и мне хочется вышвырнуть его вон, но я сдерживаюсь, чтобы не обидеть его, чтобы не обойтись с ним дурно? Кто-нибудь приходит и хочет от меня чего-нибудь абсурдного, а я вопреки этому терплю его, слушаю – это утомляет меня, разумеется, но это ценно.
Говорят, что в браке, в семье устаешь! Но и она ценна – эта усталость, эта каждодневная смерть в семейном противостоянии – например, можно иметь полноценную семью, где и муж, и жена, и дети, – и, несмотря на это, быть одиноким, чувствовать, что тебя не понимают, не принимают – не потому, что плохо относятся, а потому, что каждый живет в своем собственном мире. Это большой труд, великая борьба, великое злострадание.
Вы знаете, что душевный труд тяжелее телесного? Подвизаться телесно, бодрствовать, уставать, поститься и так далее – это включает в себя радость, имеет, так сказать, непосредственный результат, а душевный труд – это нечто гораздо более трудное. Находиться в определенном месте и каждый день испытывать горечь, разочарование, отверженность, жить в одном доме с мужем, и чтобы он каждый день отвергал тебя, чтобы жена отвергала тебя, дети не принимали тебя, не считались с тобой, чтобы их не интересовало, есть ты или нет тебя, чтобы они не признавали ничего из того, что ты делаешь. Ну, это ли не аскеза? Это аскеза. Это намного труднее других вещей. Лучше пойти копать на поле целый день, чем чтобы другой отвергал тебя и ел тебя поедом своим языком. В тысячу раз предпочтительней разбивать камни, чем чтобы другой разбивал тебе сердце ссорами и изматывал нервы.
Следовательно, аскеза многостороння и охватывает всего человека. Аскеза для нас, живущих в основном в миру, состоит не столько в телесных делах – терзание наше не столько телесно, потому что мы не можем очень многого делать в миру. Ну хорошо, мы будем поститься, пойдем на всенощное бдение, помолимся вечером, пусть и устали. Хорошо. Но мы не можем сделать большего, чем это, – у нас недостанет силы. Но каждый день терпим… Что тут сказать человеку?
Страшно, насколько может устать человек. Знаете, бывают такие люди, которые могут утомить тебя, поговорить пять минут и разбить тебя, и тебе будет нужен целый день, чтобы прийти в себя. А другой будет говорить тебе целый день, но не утомит тебя. Не знаю, в человеке ли тут дело? Он скажет тебе всего пару слов, и ты разбит, тогда как святые люди тебя успокаивают.
Или вот еще ситуация: работа, наши коллеги или то окружение, в котором мы живем. Ты бы лучше ушел один в горы, чем быть с тяжелыми людьми. Да, это терзание – терпеть ради любви Христовой и оставаться там. Это действительно подвиг, терзание.
Что происходит, однако? Через это терзание, скорбь и плач рождается утешение Божее. Человек, который не страдает, не бывает утешен Богом. Это закон. Хочешь, чтобы Бог тебя утешил? Если ты находишь утешение в человеческих вещах, Бог тебя не утешит. Если ты находишь утешение во всем, что вокруг тебя, не жди утешения от Бога. Бог утешит людей, которые действительно пострадали, были обижены, презрены, отвержены.
Ты скажешь мне: «Хорошо, но если я не таков и всё у меня нормально, мне что делать?» Если у тебя всё в порядке и тебе не нужно прилагать усилий и трудов, надо совершать их по собственной воле. Если независимо от тебя жизнь складывается хорошо, изыскивай себе труды сам. Веди дополнительную борьбу. Да, потому что человек спасается или добровольными трудами, когда ты ущемишь свою волю постами, молитвами, всякими подвигами, как мы говорили сейчас, или трудами вынужденными.
Я не говорю, чтобы муж ругался каждый день – он и так делает это. Твое терзание – вынужденный труд, ты не хочешь его, не ты ему причиной, но он есть. Ну так обрати на пользу то, что есть, обрати его на пользу духовно, себе во благо. Или у тебя есть какая-то болезнь, какая-то проблема, причина которой не в тебе, она появилась сама. Это удобная возможность, это подвиг, который ты можешь подъять и обратить на пользу.
Следовательно, если у тебя есть вынужденные труды, тебе нужно их использовать. Бог тебя утешит. Если же у тебя нет вынужденных трудов и всё у тебя хорошо, тогда ты должен понести добровольные труды, наложить на себя духовную аскезу.
Вы помните, что сказал Бог богачу? «Чадо, вспомни, что ты уже насладился в жизни твоей[1]. Когда ты был жив, всё было хорошо; чего ты хотел, всё у тебя было; ни в чем никогда ты не испытывал недостатка, никто никогда не сказал против тебя ничего. Ты уже насладился благами в жизни твоей. А сейчас уже нет ничего». Тогда как другой, Лазарь, пережил зло, поэтому он был утешен.
И действительно, человек, который вкусил Божия утешения, понимает, что оно не сравнимо с человеческим утешением. Ни с чем не сравнимо. Абсолютно ни с чем.
Одна женщина была очень духовным человеком, у нее была действительно духовная жизнь, а не просто эмоции и фальшивые чувства. А муж ее действительно был тираном, злодеем. Вы не можете себе представить, какие муки он причинял ей. Долгие годы она сносила всё от него. Ругань, крики, хулу, что только ум ваш может себе представить. И хуже всего то, что дети поднялись против нее, и хотя она каждый день жертвовала собой ради них, каждый день она испивала горькую чашу неблагодарности, варварства. Дети ее стали плохими, но у них была святая мать.
Как бы там ни было, но однажды женщина эта дошла до предела своих сил и сказала:
– Боже, мне больше не выдержать!
Ее поразила очень тяжелая болезнь, а муж вообще не обращал на нее внимания. Что же было дальше? Так как она была духовным человеком, она имела такое утешение от Бога, что постоянно молилась в сердце, и Бог утешал ее исключительно много. Среди страшных мук и трудностей она чувствовала великое утешение от Бога. В случае с ней мы действительно говорим о мере святых, а не о чем-то обычном. Однако однажды она как человек – или по Божию попущению – сказала:
– Больше не могу! Я не выдерживаю! Боже, я не могу!
Муж унижал ее и телесно, и душевно: он не давал ей ходить в церковь, причаститься, был как демон.
Дойдя до предела терпения, однажды ночью она так помолилась – а муж в тот день выгнал ее из комнаты за то, что она сказала ему, что хочет ходить в церковь:
– А, ты хочешь ходить в церковь? Тогда пошла вон!
Тогда она услышала глас Божий в себе: «Хорошо, Я отниму это искушение, чтобы у тебя был мир».
Со следующего дня муж ее постепенно начал добреть и через пятнадцать дней стал как ягненок. И что же вышло? Молитва у нее постепенно затихла, и она ее потеряла. Муж говорил ей:
– Ты хочешь ходить в церковь? Хорошо, ходи! Хочешь купить то-то и то-то, подать милостыню? Возьми и раздай!
Она говорила:
– Слава Богу! То, чего я ждала, пришло, хоть и через 25 лет!
Да, пришло, но она утратила Божее утешение. Бог не утешал ее, как раньше. Она лишилась молитвы, теплоты, которая у нее раньше была, не стало пламени, которое у нее было. «Ой, что же это происходит!» – и ее охватило противоположное: отчаяние. А теперь? Что будет теперь? Другими словами, если будет утешение от мужа, то потеряю утешение от Бога? Поэтому она начала молиться:
– Боже мой, что нам делать теперь?
Но что ей говорить? «Сделай моего мужа зверем?» Не может она такого сказать. А что сказать? Как бы там ни было, она молилась, молилась, после этого пришли другие искушения и так далее, и она заново открыла себя.
То же самое делали и святые. Почему они выбирали отдаленные места, где нет человеческого утешения? Потому что они по опыту знали, что чем больше у тебя человеческого утешения, тем меньше утешения от Бога.
Отец Захария рассказывал мне о старце Софронии[2], что он говаривал:
– Когда я жил в пустыне и у меня был один пакет молока для моих нужд, я говорил себе: «Одного пакета молока мне хватит на три-четыре дня, на одну неделю. Что нужно сделать, чтобы получить еще один пакет? Пойти купить». Не простая ли это логика? А логика пустыни говорит другое: «Хочешь приобрести два пакета молока? Отдай пакет, который у тебя есть, и придут два». Другими словами, чтобы у меня было два пакета молока, я отдавал один, и Бог посылал мне два. Отдавал два, и Бог посылал мне четыре. Почему? Потому что там нет человеческой помощи, ты не в миру.
Никогда не забуду, как я в молодости жил в Капсале, на Святой Горе, – там пустыня, стоят снега – особенно зимой все мы оказывались заблокированными: невозможно было пойти проведать другого. В горах, в зарослях, по 10–15 дней ты не мог пройти, чтобы увидеться с соседом. Когда я говорю «сосед», я имею в виду какого-нибудь брата, живущего на огромном расстоянии от тебя. Он, однако, твой сосед, поскольку ты видишься с ним издалека.
Однажды мы взяли кое-какие вещи и отнесли их к одному старцу, который жил пониже нас. Он жил один. Это по-человечески – отнести ему чего-нибудь: немного растительного масла, других вещей.
– Геронда, мы принесли тебе кое-чего!
– Премного благодарен! Передайте благодарность вашему старцу!
Он откладывает часть принесенного.
– Да это всё для тебя!
– Нет-нет! Вот этого хватит на сегодня!
– Ну хорошо, а завтра?
– Ну-у-у, завтра! Бог знает! Не надо на завтра!
И где обитал он? Не в городе, рядом с бакалеей, а в пустыне. Неоткуда было ему иметь завтра. Но поскольку у него не было человеческой помощи, у него действительно была Божия помощь.
Это верно – по своему небольшому опыту говорю вам, – что как только по-человечески что-то невозможно, тогда вмешивается Бог. Однако факт, что это происходит, когда человек доходит до крайнего предела своих сил, дотуда, что он больше не может. Когда дойдешь дотуда, там Бог.
Однако надо дойти дотуда, выдержать путь к крайнему пределу, не впасть в малодушие и не сказать: «Нет! Хватит!» – и отступить назад. Надо дойти туда, надо иметь эту силу, ждать и верить, что Бог там. А если начнешь делать другое, тогда лишишься утешения Божия.
Знаете ли вы, что человек может утратить утешение от Бога и из-за самых обыкновенных вещей, на которые возлагает упование?.. Потому что Бог говорит, что сребролюбие – это грех, что уйма всего еще – грех. В чем суть? Суть в том, что это окрадывает наше сердце. Иметь деньги не грех – если бы я у меня были деньги, если бы мы были миллионерами… И я говорю вам, что хотел бы стать миллионером, это не что-то плохое – иметь деньги, но они не должны окрадывать твое сердце.
Если ты сумеешь остаться свободным и правильно управлять ими, тогда ты с легкостью войдешь в рай. Это ключ, открывающий рай, но этот же ключ открывает и ад. Если не будешь внимателен, с тем же ключом ты войдешь в соседнюю дверь. Вопрос в том, чтобы сердце человека не было окрадено, неважно чем: человеком, деньгами, человеческой славой, положением и всем чем угодно. Пусть это не окрадывает твоего сердца, чтобы оно оставалось с Богом.
И снова пример из монашеской жизни. На Святой Горе были разные воры, которые обворовывали, грабили монахов и даже издевались над ними. Были у нас подобные истории. Итак, на Святой Горе говорили, что есть воры. Что же нам делать? Легче всего ограбить монаха: он один, в горах.
И вот некий монах взял да и повесил хороший замок на дверь своей кельи… Но давайте сначала расскажу вам другую историю.
Был один старец, наследник Хаджи-Георгия[3]. Пришли его грабить. У него были старинные иконы в келье. Связали ему руки, ноги, рот, чтобы не кричал. А он им сказал:
– Прошу вас: прежде чем вы меня свяжете, отведите меня в церковь, и там свяжите меня.
– Зачем?
– Чтобы я был в храме. И откройте мне книгу, когда свяжете меня, чтобы я до утра прочел службу, не пропустил ее!
Они связали его, и он так читал. Потом соседи нашли его:
– Ничего страшного! Хоть меня и связали, но я службу прочел! Они только взяли вещи и ушли.
Но вернусь к своему примеру. Наш сосед пошел и купил висячий замок:
– Его не открыть! Пусть приходят: ничего у них не получится!
Да, но когда вечером он стал молиться, Бога не было с ним. Он утратил молитву. Почему? Бог сказал ему:
– Твое упование на замок или на Меня? Кто тут охраняет твое обиталище? Замок или Я?
Он до того почувствовал себя изобличенным, что убрал замок и положил себе правилом 40 дней спать с незапертыми дверями. Хотя, конечно, он пугался малейшего шума и прыгал с кровати.
В Иверский монастырь пришла икона Пресвятой Богородицы по морю, и преподобный Гавриил Иверский, идя также по морю, пошел и взял икону, отнес ее в монастырь, отцы поставили ее в соборном храме, но утром обнаружили в монастырских воротах. Господи, помилуй! Кто ее взял? Ладно, снова отнесли ее в храм, но на другое утро она снова была в воротах. Опять поставили ее в храме, и опять нашли в воротах. Заперли храм. Тогда Пресвятая Богородица явилась игумену и сказала:
– Геронда, это Я буду охранять вас, а не вы Меня!
С тех пор икона Пресвятой Богородицы стоит у монастырских ворот. Конечно, из почитания монахи закрыли те ворота, поставили рядышком другие и воздвигли часовню, где и находится икона, которая потому и называется Вратарницей, то есть Святой Богородицей, стоящей у ворот. Потому что это Бог охраняет нас, а не мы Его…
Где нет человеческого: человеческих утешений, человеческих сил, – Бог там.
Бог – наша цель. Когда у нас всё в порядке и есть множество благ, надо благодарить Бога за то, что у нас есть, прославлять Его за все блага, которые у нас есть, но не забывать о трудолюбии, добровольном трудолюбии в аскезе – и телесной, и духовной, любой аскезе, приводящей к трудолюбию в нас, потому что оно освободит нас от страстей и греха…
Митрополит Лимассольский Афанасий
Перевела с болгарского Станка Косова
Двери.Бг
15 июля 2013 года
[1] См.: Лк. 16: 25.
[2] Видимо, владыка Афанасий имеет в виду архимандрита Софрония (Сахарова; 1896–1993), ученика прп. Силуана Афонского († 1938; память 11/24 сентября), и его духовного сына, ныне здравствующего архимандрита Захарию (Захару). Одна из книг отца Захарии – «Христос как путь нашей жизни» – переведена на русский язык (М., 2002).
[3] О нем можно прочитать в книге, написанной схимонахом Паисием Святогорцем: «Афонский старец Хаджи-Георгий» (М., 2007).
Метки: Вера без дел мертва
Самое могущественное средство к самоисцелению...
"Страх Господень ненавидит неправды" (Прит. 8, 13); а если ненавидит, то прогонит их; если прогонит, то душа станет чиста от них и явится посему правою перед Господом.
А это и есть все, чего теперь с такою заботою ищем.
Стало быть, восстанови в себе страх Божий и поддерживай его, и будешь обладать самым могущественным средством к самоисцелению.
Страх Господень не допустит тебя согрешить, и он же заставит тебя делать всякое добро при всяком к тому случае. И будет у тебя исполняться заповедь: "уклоняйся от зла и делай добро" (Пс. 33, 15), которую дает пророк ищущим истинной жизни.
Как дойти до страха Божия? Ищи и обрящешь . Здесь нельзя сказать: то и то сделай; страх Божий есть духовное чувство, сокровенно зачинающееся в сердце от его обращения к Богу.
Размышление помогает, помогает и напряжение себя на это чувство; но делом оно дается от Господа. Взыщи его как дара, и дан тебе будет. И когда дан будет, тогда только слушайся его беспрекословно: он выправит все твои неправды.
Святитель Феофан Затворник
1) Что Бог вездесущий, и всякое дело, слово и помышление ведущий.
2) Что Бог ненавидит всякое беззаконие и всякое зло.
3) Что Бог – праведный Судия, и всякому воздаст по делам.
4) Что Его даже и ангельские чины трепещут.
5) Что Бог весь свет в руке Своей содержит.
6) Что Бог, в мгновение ока может грешника праведным судом погубить при самом совершении греха...
Что такое страх Божий?
Клерикалы запугивают Богом и адом, чтобы придать авторитет своим басням. На самом же деле на страхе ничего построить нельзя, - это ведь принуждение человека: обмануть, напугать, и вовлечь в свой культ. В этом клерикалы великие мастера. Как же можно говорить об истинной религии или нравственности, построенных на страхе?
Предварительно заметим, что никого не смущает тот факт, что в повседневной жизни мы многое делаем из опасения негативных последствий. Стараемся получше учиться в школе, потому что знаем, что иначе не поступим в институт. Работаем, так как знаем, что иначе не будет что есть и пить, где жить и во что одеться. Мы боимся опоздать на работу или не вовремя ее исполнить. Это же все нас беспокоит? Беспокоит, и это разумно. Более того, равняясь на просвещенный запад, мы усердно строим "правовое государство". А что такое правовое государство? Это такое государство, в котором закон предписывает нормы поведения и карает за отступление от них (отвлекаясь, заметим, что сам закон как таковой требуется более всего там, где у людей мало совести; чем меньше совести и больше желания обмануть, украсть, а то и ограбить - тем больше требуется закона).
Итак, сама идея воздаяния, которой пропитана вся наша цивилизация, воспринимается настолько естественно, что даже перестает быть нами замечаемой. Однако идея страха Божиего вызывает в современном человеке решительный протест и осуждается им как таковая.
В чем же дело?
Бог ведь - не зверь хищный, которым пугать надо. Маленьких детей иногда пугают "бармалеем", "бабайкой", серым волком, и т.п., чтобы удержать их в подчинении: "не балуйся, а то тебя милиционер заберет!" А для взрослых людей, значит, Бога придумали, чтобы управлять ими как потребуется. Планк, Пушкин, Ньютон, Суворов, Паскаль, Достоевский, Пирогов, Павлов, Войно-Ясенецкий, Королев, Жуков - это вот и есть те самые глупые люди, запуганные клерикалами. Какой абсурд! Эти люди властей не боялись, от которых пострадать могли весьма осязаемо и конкретно (о Планке, Паскале или Ньютоне странно даже подумать, чтобы они были глупы, Пушкин против императора бунтовал как мог, Жуков самого Сталина не боялся), но все они были искренно верующими людьми, имеющими страх Божий.
О чем же идет речь, когда мы произносим "страх Божий"?
Вот у тебя, уважаемый читатель, наверное есть мама или другой горячо любимый тобою человек (жена, любимая девушка...). Ты боишься маму обидеть? Да. Потому, что она тебя накажет? Ты этого боишься? Нет. Ты боишься обидеть того, кто тебя любит. Это ведь совсем другой страх, не правда ли? Страх Божий это тот страх, который имеет человек, боящийся оскорбить любовь того, кто за тебя готов жизнь отдать. Представь себе: человек спас меня от смерти ценою буквально своей жизни, на смерть ради меня пошел, вот еще чуть-чуть и он бы за меня погиб. Жизнь свою отдавал за меня. А я потом по отношению к нему поступлю подло?! А я ведь не боюсь его, он мне не начальник, он мне ничего не сделает, он просто спас мою жизнь.Вот это и есть страх Божий - страх оскорбить Того, Кто за меня готов отдать Свою жизнь. Это страх оскорбить Любовь.
* * *
Наступило время вылить на разгоряченные высокими материями головы холодненькой водички. Никогда не устану повторять, что православие - очень практическая штука. Если введена новая дефиниция, определено некое состояние, например состояние страха Божия, и оно признано сотериологически полезным, сразу же необходимо ответить на два вопроса: находимся ли мы в этом состоянии, и если нет (ну как правило), то как нам такое состояние приобрести. Православные располагают целым рядом, сонмом, созвездием великих святых, которые приобрели страх Божий. Приобрели сами и оставили нам учение, как это сделать.Учение основано на опытном (т.е. установленным опытным путем, а не высосанном из пальца) нерушимом законе духовной жизни: законе постепенности.
Согласно этому закону духовное возрастание происходит в строгой последовательности, от простого к сложному, от низкого к высокому, от несвятого к святому. Подвижник постепенно переходит со ступеньки на ступеньку, все выше и выше, подобно тренирующемуся спортсмену (аскео - тренируюсь). Попытка перескочить какую-либо ступеньку в духовном развитии приводит к трагическим последствиям: подвижник впадает в тяжелейшее духовное состояние самообольщения, впадает в прелесть (лесть себе в высшей степени), и далее уже широкими шагами следует к аду.
Это опаснейшее, последнее перед окончательной погибелью состояние, и только Сам Господь может таковых спасти.Аскетическая практика установила следующую последовательность приобретения страха Божия.
Страх Божий имеет ступени: низшие (приуготовительные) и высшие, - истинные:
Боязнь понести наказание (страх раба);
Боязнь не получить награду (страх наемника);
Боязнь обидеть Того, Кто тебя любит до крестной смерти (сыновний страх, истинный страх Божий).
Первые две ступени - низшие, служат для воспитания в себе навыка к доброделанию, молитве и жизни по заповедям. Христианство ведь на всех рассчитано, а не на особо добродетельных. Христос пришел к грешникам, а не к праведникам. И что ж делать, если мы с тобой творим добро и принимаем меры к собственному спасению с огромным трудом? Вначале страх нижних ступеней помогает получить навык, он понуждает нас.Теперь нам легко понять, пользуясь объективными критериями (т.е. не зависящими от наших убеждений и мнения о себе), испытываем ли мы истинный страх Божий, или находимся в состоянии разгоряченности крови и нервов. Может, нам просто приятно говорить себе и о себе, что мы продвинутые христиане, не хуже самих святых отцов, аскетов, мучеников и исповедников.
Чтобы все это узнать, необходимо поставить перед собой прямой вопрос: а боялся ли я Бога так, как раб боится владыку? Как вор боится следователя? Испытывал ли я самый обычный страх, удерживал ли себя от зла по страху божественного наказания? Боялся ли я Господа? И находясь в таком страхе низшего уровня, исполнил ли я закон Христов как следует его исполнить? А делал ли я добро из страха не получить воздаяния? Понуждал ли себя к добру, используя корыстный наемнический страх неполучения награды? И находясь в таком страхе низшего уровня, исполнил ли я закон Христов как следует его исполнить? Ответить на эти вопросы надо честно, как перед лицом неминуемой смерти.
Если какие-то ступени пропущены, если мы силимся шагнуть сразу на третью, высшую ступень, и с ее высоты учить прочих недоразвитых христиан, барахтающихся где-то на низших ступенях, то что это означает? А то означает, что мы хотим украсть сыновство, незаконно присвоить его себе (в Библии подобные случаи неоднократно описаны). Воры мы. А попутно используем ставшее нам известным понятие истинного страха Божия для того лишь, чтобы презреть и предать забвению Христовы слова о геене, где вой и скрежет зубовный, червь неусыпающий и огнь неугасающий. И много ли нам до прелести осталось - одному Богу известно.
Нам могут возразить, что якобы кто-то находится в состоянии истинного страха Божия потому лишь, что любит Бога. Лицемер! Как ты можешь любить Бога, Которого не видишь, когда не любишь ближнего, которого видишь?* * *Побережем себя, возрадеем о спасении! Пойдем постепенно, из меры в меру совершенствуясь в добре, принуждая себя (и используя для этого даже животный страх и жадность) к исполнению заповедей. Увидим далее, насколько они для нас полезны, будем держать в памяти, на что пошел Бог, чтобы эти заповеди нам передать. Может быть милостью Спасителя нашего мы и сумеем познать истинный страх Божий - страх обидеть Того, Кто за тебя взошел на Крест.
Метки: страх Божий
Зачем молиться святым, если есть Христос?
иерей Дионисий Свечников
Часть первая.
Тема, которой я хотел бы коснуться в этой статье, несмотря на свою многовековую историю, весьма актуальна и на сегодняшний день. Это тема почитания святых. Многим невоцерковленным людям зачастую бывает трудно понять, зачем молиться святым, когда есть Христос. Постараюсь показать различие между почитанием святых и служением Богу на одном примере.
Однажды мне пришлось беседовать с одним молодым человеком, который, придя в храм, был очень возмущен наличием в церкви большого количества икон. Было видно, что молодой человек неплохо подкован в знании Священного Писания, имел понятие о некоторых христианских догматах, хотя несколько искаженное, но при этом был человеком абсолютно нецерковным. Из этого я сделал вывод, что передо мной стоял человек, попавший под воздействие учения какой-то псевдохристианской секты. Тем более, что поведение парня было несколько агрессивным по отношению ко всему православному.
Складывалось впечатление, что он был специально подослан в храм для какой-то провокации. Это мнение подкреплялось видом явно сдерживающей свои эмоции свечницы, которой молодой человек пытался "прочищать мозги". Я поспешил на помощь церковнице.
Как и следовало ожидать, все внимание молодого человека сразу же переключилось на меня, т.к. он искренне надеялся доказать свою правоту хотя бы одному православному христианину, а тем паче, священнику. Свои доводы он подкреплял словами Священного Писания: "Сказано ведь "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Мф 4, 10). Так почему же в православных храмах такое большое количество икон святых, когда кроме изображений Христа не должно быть ничего? А как зайдешь в церковь, только и слышишь, молись Богородице, Николаю Чудотворцу, Пантелеимону Исцелителю и еще кому-то. А куда делся Бог? Или вы уже успели заменить Его другими богами?" Я чувствовал, что разговор предстоит непростой и, как видимо, долгий. Не буду пересказывать его весь, но постараюсь выделить лишь самую суть, т.к. в наше непростое время подобными вопросами задаются многие люди. И, к сожалению, эти искатели истины довольно часто падают жертвами хорошо подкованных сектантов и сами становятся постоянными членами различного толка сект. Для начала я предложил молодому человеку разобраться с определениями, следуя простой логике. Это простой психологический прием, который я довольно часто использую при необходимости донести до человека некоторые неоспоримые истины. Итак, кто такие святые и зачем им молиться? Неужели и вправду, это некоторые боги низшего порядка? Ведь Церковь призывает почитать их и возносить молитвы к ним.
Начнем с того, что почитание святых – это древняя христианская традиция, сохраняющаяся с апостольских времен. Мученик, пострадавший за Христа, сразу после своей смерти становился объектом благоговейного почитания верующих. На гробницах первых христианских святых совершали Божественную Литургию, им возносили молитвы. Понятно, что святому воздавалось особое почитание, но вовсе не как отдельному богу. Это были люди, отдавшие свою жизнь за Бога. И, в первую очередь, они сами были бы против превознесения их в ранг божества. Ведь мы, к примеру, чтим память людей, положивших свою жизнь за Отечество на полях сражений. И даже ставим им памятники, чтобы будущие поколения знали бы и чтили этих людей. Так почему же христиане не могут чтить память людей, особо угодивших Богу своей жизнью или мученической смертью, при этом называя их святыми? Я попросил молодого человека ответить на этот вопрос. Последовал утвердительный ответ. Первый бастион сектантского мышления рухнул.
Теперь было необходимо показать этому искателю истины в чем разница между поклонением Богу и почитанием святых. Человеку воцерковленному сразу видна разница в определениях. И действительно, человек призван служить Господу Богу своему и только Ему одному. Поклонение чему-либо или кому-либо другому расценивается как нарушение первой заповеди: "Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем Моим" (Исх. 20:2-3). Служение Господу проявляется и в церковной и в повседневной жизни православного христианина. Достаточно обратить внимание на название – бого-служение, а вовсе не свято-служение. Таким образом, православные вовсе не поклоняются святым, а почитают их. Почитают как старших наставников, как людей достигших духовной высоты, как людей, живущих в Боге и для Бога. Людей, достигших Царства Небесного. А основание для почитания наставников было дано ап. Павлом: "Поминайте наставников ваших.... и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13:7). А вера святых есть вера Православная и она призывает к почитанию святых с апостольских времен. И один из величайших святых Иоанн Дамаскин говорил о этом почитании: "Достопоклоняемы святые – не по естеству своему, мы поклоняемся им, потому что Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им мы не как богам и благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему. Поклоняемся им, потому что сам Царь относит к Себе почитание, когда видит, что почитают любимого Им человека не как Царя, но как послушного слугу и благорасположенного к Нему друга".
Наша беседа с молодым человеком перешла в более спокойное русло, и теперь он больше слушал, чем говорил. Но для большей убедительности было необходимо привести еще парочку веских аргументов своей правоты, и я поспешил сделать это. Для этого как нельзя лучше подошло понятие о Церкви небесной и земной. Церковь Небесная – торжествующая вкупе с Церковью земной – воинствующей составляет единую Церковь Христову – Его Тело. А все люди, в том числе святые угодники, порознь являются членами Церкви Христовой. Святые являются нашими молитвенниками и покровителями в небесах и поэтому живыми и деятельными членами Церкви воинствующей, земной. Их благодатное присутствие в Церкви, внешне являемое в их иконах и мощах, окружает нас как бы молитвенным облаком славы Божией. Оно не отделяет нас от Христа, но приближает к Нему, соединяет с Ним. Это не посредники между Богом и людьми, которые отстраняли бы Единого Посредника Христа, как думают протестанты, но наши сомолитвенники, друзья и помощники в нашем служении Христу и нашем общении с Ним. Посредник же "...един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех..." (1Тим. 2:5-6).
Церковь есть тело Христово, и спасающиеся в Церкви получают силу и жизнь Христову, обожаются, становятся "богами по благодати", сами являются христами во Христе Иисусе. Таким образом, святые суть те, кто подвигом своей действенной веры и деятельной любви осуществили в себе свое богоподобие и тем явили в силе Божий образ, чем и привлекли к себе изобильную благодать Божию. Ведь сам Христос говорит в Евангелии: "кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему, и обитель у него сотворим" (Ин. 14:23). Апостол лишь подтверждает эти слова: "не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20). На это мой собеседник уже не мог найти вразумительных аргументов в свою пользу ни в Священном Писании, ни в своих сектантских познаниях.
Теперь я мог спокойно перейти к вопросу о молитве к святым угодникам. Как я уже показал выше, святые суть наши сомолитвенники и друзья на пути служения Богу. Но разве мы не можем просить ходатайствовать за нас пред престолом Вседержителя? Разве не то же самое происходит в нашей повседневной жизни, когда мы просим наших близких и знакомых замолвить слово за нас перед начальством? А ведь Отец наш Небесный куда выше любого земного начальства. И Ему действительно возможно все, чего нельзя сказать о простых земных людях. Но при молитве к святым угодникам вовсе нельзя забывать о молитве Господу. Ибо только Он – Податель всех благ. И это очень важный момент, т.к. многие православные христиане в молитве к святым забывают о Том, к Кому, в конце концов, и направлена будет молитвенная просьба, пусть и предстательством кого-либо из святых. Не должно христианину забывать о Господе Боге своем.
Ведь и святые служили именно Ему. Этим я показал молодому человеку, как важно не перегнуть палку даже в таком, вроде бы, простом деле, как молитва. Было видно, что парень находился в некотором замешательстве, но собравшись с мыслями, выдал последний вопрос: "Скажите, а почему необходимо молиться разным святым по какому-то определенному вопросу?". Я ожидал этого вопроса и ответ уже был готов. Святые могут помогать нам не в силу изобилия своих заслуг, но в силу обретаемой ими духовной свободы в любви, которая достигается их подвигом. Она дает им силу предстательства пред Богом в молитве, а также и в деятельной любви к людям. Бог дает святым, наряду с ангелами Божиими, совершать Свою волю в жизни людей деятельной, хотя обычно и невидимой, помощью. Они суть руки Божии, которыми Бог совершает дела Свои. Поэтому святым и за гранью смерти дано творить дела любви не в качестве подвига для своего спасения, которое уже совершено, но, действительно, для помощи в спасении других собратий.
И помощь эта даруется Самим Господом во всех наших житейских нуждах и переживаниях по молитвам святых. Отсюда и святые – покровители тех или иных профессий или ходатаи перед Богом в житейских нуждах. Благочестивая церковная традиция, основываясь на житиях святых, приписывает им действенную помощь своим земным собратьям в различных нуждах. К примеру, Георгий Победоносец, бывший при жизни воином, почитается как покровитель православного воинства. Великомученику Пантелеимону, бывшему при жизни врачом, молятся об избавлении от телесных недугов. Николая Чудотворца очень почитают моряки, ему же молятся девицы об удачном замужестве, основываясь на фактах его жития. Люди, живущие за счет рыбной ловли, молятся об удачном улове апостолам Петру и Андрею, которые до своего высокого призвания были простыми рыбаками. Ну и конечно, нельзя не сказать о высшей всех ангел и архангел Пресвятой Богородице, стоящей во главе сонма святых. Она является покровительницей материнства.
В Православии существует обычай давать при крещении имена в честь христианских святых, которые, при этом, называются ангелами данного человека (день именин также называется день ангела). Это словоупотребление указывает, что святой и ангел-хранитель сближаются в служении своем человеку настолько, что обозначаются даже общим именованием, хотя и не отожествляются.
Беседа наша подходила к логическому концу. Я очень надеялся, что аргументы, приведенные мной, должны были оставить след в душе этого молодого человека. И я не ошибся. Напоследок он сказал фразу, ради которой можно было бы говорить еще очень долго: "Спасибо вам! Я понял, что во многом ошибался. Видимо моих познаний в христианстве еще недостаточно, но теперь я знаю, где искать правду. В православии. Еще раз большое спасибо". С этими словами мой собеседник удалился. Оставшись один на один со своей радостью, я поспешил в храм вознести благодарственную молитву Господу и всем святым, которые помогли мне в этот день в моем пастырском служении. Но это уже совсем другая история.....
Все Святые, молите Бога о нас!
Часть вторая
Не так давно на сайте была опубликована моя статья «Зачем молиться святым, когда есть Христос?». Как я и предполагал, она вызвала достаточное количество отзывов. Были отзывы с благодарностью, а были и с осуждением и непониманием. Но мне запомнился один комментарий. Приведу его дословно: «У меня пару замечаний. Как известно, протестанты бывают разные. Среди них и лютеране. И знают они Писание в целом лучше православных. Так вот, их позиция: можно "почитать святых", т.е. вспоминать их жизнь, ставить их в пример... но нельзя им молиться. Почему? – потому, что все почившие пребывают в ожидании Страшного Суда. До этого они как бы "недееспособны". Таким образом, вoпрос не в пантеизме, а понимании загробной жизни до(!) Суда. Если батюшка соизволит это объяснить, ссылаясь на Писание (а для протестантов это авторитет в отличие от предания), тогда это будет более ценным».
Итак, предлагаю читателю вновь рассмотреть тему почитания святых в свете Священного Писания. Сразу же хотел бы возразить автору комментария в том, что лютеране знают Библию лучше православных. Библия одна и у православных и у протестантов. Есть православные, которые весьма хорошо знают Священное Писание, есть и протестанты, которые хорошо подкованы в знании Библии. Поэтому, думаю, что какое-то сравнение вообще неуместно.
Продолжим дальше. Действительно, протестанты не признают Священного Предания, для них является авторитетом лишь Священное Писание. Пусть так. Начнем со слов ап. Павла, сказанных в послании к евреям: «вы приступили … ко граду Бога Живаго, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12:22-23). Праведники пребывают на небесах, в Небесном Иерусалиме. Значит, их загробная участь уже определена Господом. Еще более показательны в этом вопросе слова Спасителя, сказанные раскаявшемуся разбойнику: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).
Священное Писание содержит достаточное количество текстов, говорящих о святых, как о насельниках Небесного Града. Вот один из них: «тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откр. 5:8). Показана и немаловажность святых в Небесном Иерусалиме: «и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5, 10). И их число достаточно велико: «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч» (Откр. 5:11). Следовательно, согласно Писанию, святые уже пребывают в раю рядом с Господом и их загробная участь уже определена до Страшного Суда.
Теперь стоит поразмыслить над «недееспособностью» святых, о которых говорил автор комментария. Здесь было бы уместным дать определение Церкви Христовой. Опять обратимся к Писанию. Бог положил «всё небесное и земное соединить под Главою – Христом» (Еф. 1:10). Следовательно, Церковь Христова – это совокупность небесной и земной церквей. Церковь небесная и земная есть одно Тело, Глава которого – Христос. А все мы, в том числе и святые – это члены одного Тела. Но разве члены одного тела не заботятся друг о друге. Разве одна нога, споткнувшись, не перекладывает всей ноши тела на другую ногу. Или одна рука не моет ли другую заботясь о ней. Не может организм функционировать, если прекратило свою работу сердце. В таком случае, не заботятся ли святые о нас, уже находясь перед Богом.
Разве не посылает здоровый орган тела импульс головному мозгу о том, что начал болеть соседний. Так же и святые молят о нас Господа, "дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены" (1 Кор. 12, 25-26). «Вышний Иерусалим ... он – матерь всем нам» (Гал. 4:26). А ведь граждане одного города, когда увидят своих сограждан в какой-либо беде, тотчас по зову их помогают, чем могут. Так поступают и православные и протестанты. И те и другие молятся друг за друга, не взирая на многие трудности, которые приходится преодолевать, чтобы помочь или делом или молитвой. Молятся по слову апостола: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» (Иак. 5:14-15).
Так почему же протестанты возбраняют молиться за нас самим апостолам? Разве это не абсурд? Взаимная молитва есть проявление взаимной христианской любви и попечения. Вот в эту-то взаимность между земной Церковью и небесной не верят протестантские богословы.
Во дни своей земной жизни апостолы, по слову Спасителя, любили ближних и молились за них: «мы... не перестаем молиться о вас» (Кол. 1:8). Так неужели, после того, как они «вышли из тела и водворились у Господа» (2Кор. 2:8), стали меньше любить тех, которые остались на земле? Неужели потеряли они ту любовь во Христе Иисусе, о которой и сами писали, что она «никогда не перестает» (1Кор. 13:8)? Нет, нет и еще раз нет! Они молятся за нас и молитва их действенна, и глупо отрицать это. Сколько чудес совершает Господь через их святые мощи и иконы! И этому нет противоречий в Священном Писании, ибо «вера без дел мертва» (Иак. 2:25). А их дела видны всем.
Просят за нас святые угодники, и Господь исполняет их просьбы: «чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21, 22). Они наши сомолитвенники. Мы просим их молиться с нами и за нас. Так почему же мы должны отвергнуть от себя то, что было естественно для святых – молитву друг за друга? В православии молитвенное призывание святых основывается на том, что они такие же люди. И мы просим их о том же, о чём и других людей имеющих свободную молитву.
Призывает к взаимной молитве не только Господь, но святые вторят ему. Святой Киприан Карфагенский: “Будем везде и всегда молиться друг за друга... и если кто из нас прежде отойдет туда (на небо) по благоволению Божию: да продолжится пред Господом наша взаимная любовь, и да не престанет пред милосердием Отца, молитва за наших братий”. А вот как говорит о предстательстве святых свт. Василий Великий в слове на 40 мучеников: «Сколько употребил бы ты труда найти и одного молитвенника за себя ко Господу! – и вот 40 молитвенников, возсылающих согласную молитву... святый лик! Священная дружина! Непоколебимый полк! Общие хранители человеческого рода! Добрые сообщники в заботах, споспешники в молитвах, самые сильные ходатаи, светила вселенной, цвет церквей! Вас не земля сокрыла, но прияло небо, вам отверзлись врата рая».
Итак, святые молятся за нас, помощь их действенна и видна многим. Сколько у людей духовных и житейских нужд. Но не всегда Господь исполняет наши молитвенные просьбы. И это по грехам нашим: «И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови» (Ис. 1:15). Бывает это и от того, что мы молимся без веры и усердия: "Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих" (Иак. 1:8). Молитвы же святых Господь слышит и исполняет: "потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их " (1Пет. 3:12). Молитвы святых сильны перед Богом: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.
Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой» (Иак. 5:16-18).Поэтому мы и стараемся найти себе сомолитвенников и предстателей перед Господом среди святых. И действительно, многие люди прибегают к молитвенной помощи святых в разных нуждах. И каждому святому Господь дает особую благодать помощи людям в различных ситуациях. Сколько женщин становятся счастливыми матерями после долгих лет бесплодия по молитвам Богоматери. И воистину «Кто притекая в храм твой, Богородице, не премлет вскоре исцеления?» (чинопоследование малого освящения воды).
А сколько людей исцеляет от телесных недугов Господь руками вмч. Пантелеимона Исцелителя. И не перечесть всех чудес, которых творит Бог по молитвам свт. Николая Чудотворца.
Уже сложилась традиция молитвы разным святым в различных нуждах. В ней нет ничего предрассудительного, если следовать всему вышеизложенному. Но, к сожалению, многие люди не понимают этого. В последнее время в храмах появились в продаже «молитвословы на различную потребу». В них изобильно представлены молитвы святым угодникам в различных житейских нуждах. Названия молитв в них представлены примерно следующим образом: «молитва Адриану и Наталии о семейном благополучии» или «молитва Пантелеимону Исцелителю от телесных недугов».
Прекрасно, давайте молиться! Открываем нужную страницу и видим, что там находится молитва, читаемая в день памяти святого. Что-то смущает. А где же наша житейская нужда? Куда делось наше молитвенное прошение к святому помолиться в конкретной ситуации? Разве не проще обратиться к святому своими словами и попросить помолиться за нас. Ведь, как говорил Иоанн Златоуст, «молитвы святых имеют очень великую силу, но только когда мы сами раскаиваемся и исправляемся». И лишь в редкой книге можно найти подобное объяснение. Как правило, его нет. А народ Божий начинает усердно читать предложенные молитвы как некие заговоры. Написано ведь черным по белому: «от телесных недугов» и т.п. И даже не советуются со священниками в столь важном вопросе, как молитвенное правило.
А зачем? В молитвослове ведь все написано, как и кому молиться. А в молитве ко святому многие и вовсе забывают о том, что подателем всех благ является Всемогущий Бог, а не святой. И молитвенное правило такого человека представляет собой подобие такого «молитвослова на всякую потребу», где нет места молитве Господу. А человек уже начинает мнить себя столпом благочестия и примером молитвенного подвижничества. В итоге впадает в гордыню. И этому виной издатели таких молитвословов, которые в целях экономии средств не утруждают себя объяснением того, как правильно почитать святых и просить их молитвенного предстательства. Печально, но факт! И это вовсе не придумано мной, а основано на реальных человеческих судьбах. К счастью, есть и противоположные примеры, когда издатели, заботясь о читателе, подробно изъясняют то, как следует чтить святых и обращаться к ним за молитвенной поддержкой. Такой молитвослов приятно взять в руки и помолиться.
Так что же делать человеку неопытному в таком важном вопросе, как молитва? В первую очередь, необходимо четко понимать, что мы просим святых молить Бога о нас. И никак иначе! Во вторых, молитва – это не какой-то заговор, после прочтения которого моментально перестанет болеть голова или удачно выйдет замуж засидевшаяся в девках дочь. Лишь Господь знает, когда и что подать от своих богатых милостей и щедрот человеку. В третьих, перед началом постоянного чтения того или иного молитвенного последования нужно взять благословение у духовника. В этом случае человек будет знать, что поступает правильно, а с благословения молиться всегда лучше.
Можно даже попросить священника отслужить молебен святому, к которому впоследствии будет обращаться с молитвами. Но только не надо просить батюшку отслужить молебен о материальном благополучии или повышении по службе. Если бы Господь исполнял эти прошения, то священники, наверное, были бы самыми богатыми и успешными людьми на земле. Но самое главное, надо помнить, что молитва никогда не бывает лишней. Она, по слову Иоанна Златоуста, «есть наша благоговейная беседа с Богом». Пусть и предстательством святых. Одним словом, беседуйте на здоровье!
Все святые, молите Бога о нас!
"П Я Т Ь М И Н У Т" рассказ
Говорят, что те, кто так и не собрался покаяться в своих грехах при жизни, лелеют там единственную мечту – вернуться хотя бы на 5 минут вновь в тело и совершить покаяние. Потому что это можно сделать только здесь.
Человек может и не верить Христу, прожить жизнь как стрекоза, которая не задумывалась о грядущей зиме, а встретившись лицом к лицу с Небом, испытать великое разочарование.
Вступив в вечность, человек, который её отвергал, вынужден менять свою точку зрения. Для него наступает период знания, а вот период веры и надежды уже не наступит никогда. А там в цене – только вера, расцветающая Любовью, а не знание с его констатацией факта. При этом можно ссылаться на авторитет святителя Игнатия Брянчанинова и других учителей Церкви, но у меня имеется опыт и несколько другого порядка. Вот о нем я и хочу рассказать.
* * *
Как-то, зимой, года 2 назад, после окончания всенощного бдения (то есть после 8-ми часов вечера), когда мы уже собирались уходить, в храм зашли мужчина и женщина, оба лет сорока.
– Не сможешь-ли, батюшка, окрестить нашего отца? – спросили эти люди, оказавшиеся родными братом и сестрой. – Он умирает и просит совершить Таинство немедленно.
– Конечно, – ответил я, – куда едем?
– Он хочет совершить крещение в храме.
«Странно, – подумал я, – здоровые до храма никак не дойдут, а тут умирающий собрался. На руках они его, что ли, понесут? Хотя, это их личное дело».
– Хорошо. Я буду вас ждать.
Через полчаса в церковь, сопровождаемый своими детьми, бодро вошел пожилой мужчина в синем спортивном костюме. «Что-то он не очень похож на умирающего», – подумалось мне. Дело в том, что в таких случаях мы крестим «по скору», – это специальный чин для того, чтобы успеть окрестить человека, когда его жизни что-то угрожает.
– Постойте, – говорю, – ребята, ваш папа, чувствует себя достаточно бодро, может, отложим крещение до следующего раза, согласно расписанию. Мы подготовим человека и окрестим его торжественно большим чином.
Но мои собеседники были непреклонны: – Батюшка, отец только кажется таким бодрым, он уже было умер, и потом вдруг, пришел в себя и потребовал вести его в церковь. Пожалуйста, крести, мы потом тебе все объясним.
Я подошел к старику и спросил: – Скажи, отец, ты сам хочешь креститься, или они, – я показал в сторону его детей, – заставляют тебя?
– Нет, я сам хочу принять крещение.
– А ты в Христа, как в Бога, веришь?
– Теперь верю, – ответил он.
После совершения Таинства старик без помощи детей покинул храм. На следующий день мы служили Божественную Литургию, и в конце службы, как и было условлено, старика привезли на Причастие. В храм вчерашний наш знакомец уже не вошел, а его под руки тащили дочь и сын. Человек принял Причастие и перекрестился. Потом его привезли домой, положили на кровать, он потерял сознание и окончательно умер.
Перед отпеванием брат и сестра рассказали мне следующее:
Старик, я уже не помню его по имени, был всю свою жизнь ярым коммунистом. Ни о какой Церкви, Боге и прочей «чепухе», он, естественно, никогда и не думал. Когда дети просили его креститься, он вынимал свой партбилет, показывая профиль Ильича, и говорил: «Вот мой бог»! Даже заболев неизлечимой болезнью, отец отказывался креститься. Человек он был добрый, в семье его любили и хотели молиться о нем и в дни его болезни, и после кончины.
Умирал он у них на руках, уже перестал дышать, лицо начало приобретать соответствующую бледность. Вдруг, отец вновь задышал, открыл глаза, сел и потребовал: «Крестите меня немедленно»!
Что с ним произошло, почему вернулся к жизни? Он так никому и не рассказал….
* * *
В нашем поселке жил ветеран Великой Отечественной Войны дядя Саша. Маленький, с темными густыми бровями и неизменной улыбкой на лице. Ходил он в одном и том же костюме серого цвета. Жил вдовцом, дочери разъехались, но внешне старик всегда выглядел аккуратно. Любил дядя Саша выпить, но никогда я не видел его пьяным. У него была соседка Люся, женщинка неопределенного возраста, и тоже любитель выпить. Видимо, на почве одиночества и общего интереса, между ними завязалась дружба.
Вот эта Люся звонит мне и требует: «Дядя Саша говорит, что ему дали 5 минут, приходи немедленно».
Ветеран уже помирал, вызвали дочерей. Понятное дело, что ни о каком священнике не шло и речи. Он никогда не заходил в храм, а встречая меня на улице, провожал взглядом так, как если бы пересекся возле своего дома с каким-нибудь папуасом в боевом раскрасе. Он не здоровался со мной, даже если я и совершал попытки его поприветствовать. Видимо мои приветствия ставили его в тупик, – как если бы тот же папуас заговорил с ним на чистейшем русском языке.
Но мне он был симпатичен, а на лацкане его пиджака висел орден «Отечественной войны».
Я уважаю ветеранов. Встретишь такого старичка, возится он там у себя на даче, или возле дома, дощечку прибивает, или деревце обрезает. И думаешь, – ты уж копошись потихоньку, займи себя чем-нибудь, но только живи, не умирай. Вы нам нужны, старички, без вас нам будет плохо. Без вас мы станем на первое место, и нам придется принимать главные решения, а так еще хочется иметь мудрых, идущих впереди...
Когда я пришел к нему, дядя Саша сидел на кровати в черных штанах и майке. Мы впервые поговорили с ним. И я понял, почему он всегда был мне так симпатичен.
Он рассказывал мне о своей юности, о войне, на которую ушел в первый же день.
О тяжелейшем ранении в живот и лечении в госпитале, где и встретил Победу.
О том, как вернулся с войны инвалидом, женился, родил двух дочерей.
Вспоминал как его, после войны, со многими наградами и инвалидностью - никто не брал на работу, и как практически голодали всей семьей.
А главной и мучительной страницей его жизни оказалось то, что во время войны ему приходилось убивать.
Убивал всякий раз, переживая сам факт убийства человека, словно в первый раз.
«Мне всегда было тяжело убивать немцев, тем более, что они лучше нас». Это его слова.
Когда пришло ему время умирать, его там не приняли. Он ясно услышал требование: «Покайся», и еще ему сказали: «У тебя 5 минут». Правда, дядя Саша прожил еще целую неделю...
Когда я отпевал старого солдата, а отпевание проходило в его доме, пьяная Люся заявила, что она не верит в эти самые поповские сказки, а дядя Саша просто блажил напоследок. Мне пришлось сказать ей приблизительно следующее: «Меня не интересует: веришь ты, или нет, ведь не тебя же отпеваем. А вот когда помрешь, тогда мы тебя и спросим». Люся задумалась над моими словами и замолчала.
В тишине я смотрел на лицо этого большого ребенка, который прожил долгую и грустную жизнь, вырастил детей, познал одиночество, был обижаем и пренебрегаем, но не озлобился и не потерял веры в людей. Безстрашный солдат, с первого до последнего дня прошедший войну, но который так и не научился убивать.
Он многое испытал, и многое пережил, ему не хватало только вот этих самых пяти минут, которые Небо ему и подарило.
Иерей Александр Дьяченко
Что это было?..
О таинственном участии Бога в нашей жизни
Эта загадочная история, свидетелями которой стало больше десятка людей, произошла осенью прошедшего года. Прихожу в храм. Девять утра, то время, когда зажигаются первые лампады и свечи, храм готовится принять людей. Перекрестившись, прикладываюсь к иконе. Поворачиваюсь и вижу, как из глубины храма ко мне идет женщина. Съежившаяся, с искаженным лицом. Сразу видно, у нее какое-то горе или боль. Ее опережает сторож: «Батюшка, женщина ждет вас с восьми утра. А пришла еще раньше, сидела у закрытых дверей храма».
Женщина подходит ко мне, начинает плакать. Но слез у нее уже нет, выплакала все. Она как-то цепляется за меня, потому что стоять ей трудно.
– Что случилось?..
Я беру ее за плечи, заглядываю в глаза.
И вот какую поистине страшную историю она мне рассказывает. Вчера вечером пришли с прогулки с трехлетним сыном, Ванечкой. Она разула в прихожей сына и сама разувалась. А Ванечка – на кухню. А там у подоконника – стул, так что залезть на подоконник легко. На окне – москитная сетка. Малыш залез и облокотился на сетку. И вместе с ней… вывалился в окно. Пятый этаж, внизу асфальт. Она ничего и не поняла, только услышала крик и стук. Такой стук, который не дай Бог кому-то из нас услышать… И все, больше ни звука. Шагнула на кухню и задохнулась: пустое окно и нет ребенка.
Ванечка еще дышал, но был без сознания. Конечно, скорая, реанимация… Врачи никаких шансов не дают. «Если верующая, – говорят, – молитесь». И она ночью – в храм. Он закрыт. Стояла и плакала под дверью, а как открыли, бросилась искать отца Константина.
«Если верующая!..» Конечно, верующая! Два с половиной года назад этого малыша крестили у нас в соборе. Крестил я. И перед Крещением взял слово с родителей и крестных, что будут ребенка приносить и приводить в храм и причащать.
«Батюшка, мы же так и не выбрались за это время!.. – плачет мама, цепляясь за меня. – То одно, то другое. Все откладывали. И вот, самое-то ужасное, что вы, батюшка, приснились мне за несколько дней до этого. Раньше не снились. Я не думала про вас, чтоб вы снились. А тут приснились. В облачении. Стоите и смотрите так строго. И я во сне думаю: зачем батюшка так смотрит? А потом понимаю, что это оттого, что Ванечку не причащаем. И тут же решаю: все, утром пойдем в храм».
Проснулись, в храм не пошли. Решили пойти завтра, но… как это обычно бывает, проспали. А потом выветрился сон, мало ли что, в самом деле, приснится, не ломать же привычный уклад жизни. «Как-нибудь сходим…» Так и не сходили.
– Миленький батюшка, помогите... Не знаю как, помогите!..
Мне было отчаянно жалко ребенка, родителей, но ведь я не знал планов Бога… – Мы можем молиться, чтобы Господь спас малыша, если на то будет Его воля, – говорил я маме. – Мы не можем требовать: обязательно исцели, вылечи…
– Да, да, давайте, умоляю, давайте молиться!
– В таком случае, отпустите меня на службу, – сказал я мягко, потому что женщина так вцепилась в мою куртку – я как вошел в храм, так и был в уличной одежде, – что оторвать ее руки было невозможно.
– Да, да, конечно…
Она отпустила меня, как было очевидно, с неохотой. Так тяжело в одиночку переносить это, так хочется ухватиться за кого-то и держаться…
Я подвел женщину к огромной иконе Пресвятой Богородицы «Всецарица» – в богато украшенном окладе, с десятком разноцветных лампад, возле придела св. муч. Иоанна Воина.
– Стойте здесь и молитесь.
– Я не умею…
– Как умеете. Просите своими словами Богородицу помочь вашему малышу. Я скоро выйду на исповедь. Подойдите ко мне и исповедуйтесь. Попросите у Бога прощения за все свои грехи. Когда начнется служба, отойдите от иконы и встаньте вот здесь. Слушайте службу, все, что диакон говорит, что поется, и молитесь. Потом причащайтесь.
– Надо как-то к этому готовиться, я не знаю, как…
– В этот раз я благословляю причаститься так. Господь хочет вас, как дочь Свою, поддержать и напитать силой, поддержкой. Будьте благодарны за это.
Я прошел в алтарь и сообщил грустную новость присутствующим.
Диакон стал вписывать в свой синодик имя «тяжкоболящего младенца Иоанна». «Отдельную ектенью произнесу», – пробасил он.
Чтецы и пономари также отнеслись с самым неподдельным участием…
Мы приступили к службе. Конечно, помянули малыша на проскомидии – я вынул с особой молитвой о болящем, частицу из просфоры. Положил ее на дискос возле Агнца. Потом – исповедь и Божественная литургия. Мне хотелось, чтобы не только клир, но и народ Божий – члены Церкви, молились об этой ситуации, поэтому с просьбой помолиться о беде я обратился к прихожанам.
Мама младенца Иоанна всю службу стояла, как свечечка, было видно, что искренне молится. Потом она подошла к Причастию, а после службы вдруг, смотрю, исчезла. Однако, когда я заканчивал проповедь, опять появилась в храме. Подошла. Ее лицо было светлым. «Батюшка, простите, я выходила из храма, потому что позвонили из больницы. Сказали, что Ванечка пришел в себя. Сделали повторные снимки и сказали, что все не так страшно, как врачам казалось ночью. Жить будет…»
Потом мы еще молились о младенце Иоанне, и эта женщина каждый день приходила в храм: я так посоветовал. Через, кажется, неделю или чуть больше она принесла к Причастию сына, которого выписали из больницы. Никаких разрывов внутренних органов, никаких переломов, только два ребрышка треснули. Сейчас ходят в храм. Стараются каждую неделю. Ванечка оказался симпатичным и смышленым светловолосым мальчиком, причащаться очень любит. А наши пономари, зная о его истории, наливают ему двойную порцию запивки.
Вот такой приходской случай. Один из многих.
Этим рассказом я не хотел говорить о чуде. Было оно в случае столь легкого исцеления Вани или нет, я не знаю. Может быть, он просто удачно упал. Мне во всей этой истории интересно и важно другое: почему я приснился этой женщине за несколько дней до трагедии и смотрел строго?..
Понятно, что это не имеет отношения к моим духовным достоинствам. Образ явившегося во сне священника, естественно, не должен был быть случайным; это должен был быть образ священника, наставлявшего в вере и крестившего сына. Вопрос в другом: почему Господь (или Ангел Хранитель, впрочем, Ангел без поручения Божия не действует) считал важным послать священника во сне перед этой бедой?
Может быть, Господь хотел показать, по какому адресу нужно обращаться в случае беды? А обращаться нужно было в Церковь, что женщина поняла и поэтому ночью прибежала к храму.
А может быть, это указание, что если бы малыша причащали, то благодать Божия его уберегла от неожиданной травмы?.. А если так, то, значит, Причастие и церковная жизнь действительно нас оберегают от бед, неприятностей, бесовских подножек и ловушек?
Из личного блога о.Констанина (Пархоменко)
Метки: Церковь и люди
ХРАНИ СЕБЯ

Свт. Игнатий (Брянчанинов). Клеймо иконы. Иконописец: Алексей Козлов
Одним из ключевых понятий святителя Игнатия, как, впрочем, и других святых отцов, писавших об умном делании, является понятие трезвения. Что такое трезвение в святоотеческом понимании? Если сказать коротко, трезвение – внутренняя бдительность по отношению к уму и сердцу, чтобы не допустить в них даже малейших греховных мыслей и чувств. Это бодрствование души в стремлении очиститься от всякого греха и приобщиться благодати Божией.
Вникнем в слова Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26: 41); «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13: 37). В этих словах, как замечает святитель Игнатий, «Господь заповедал нам непрестанную молитвенную бдительность над собой, состояние, называемое в деятельных отеческих писаниях священным трезвением»[1].
Трезвение имеет непосредственную связь с исполнением евангельских заповедей и с непрестанной молитвой: «Трезвение противодействует самым началам греха: помыслу и чувствованию греховным. Трезвение совершает заповеди в самых началах человека: в помыслах и чувствованиях… Трезвение есть необходимая принадлежность истинного душевного делания, при которой вся видимая и невидимая деятельность инока совершается по воле Божией, единственно в благоугождение Богу, охраняется от всякой примеси служения диаволу»[2].
Для успешного прохождения духовной жизни необходимо оградить себя вовне и внутри поведением самым осторожным и благоразумным, бодрствовать и внимать себе, так как из-за малой неосторожности и самонадеянности может возникнуть решающее для жизни последствие. Поскольку вся деятельность человека руководится образом его мыслей, ум должен быть всецело проникнут евангельской истиной: «Обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным: потому что они очень мало разборчивы при принятии мыслей. Но от принятых неправильных мыслей рождается все злое»[3]. Вот почему необходимо внимать своему духу, хранить свои сердце и ум, дабы грех не проник в душу посредством мысли и чувства.
Ум должен быть храним в тишине и преданности воле Божией. Необходимо воздерживаться от эмоциональных порывов, от всего, что лишает внутреннего мира, лишь при котором возможна полноценная бдительность души. Особенно требуется хранить себя от рассеянности и мечтательности, поскольку «всякая мечтательность есть скитание ума, вне истины, в стране призраков несуществующих», от этого происходит «утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве; отсюда – душевное расстройство»[4].
Достаточно понаблюдать за собой, чтобы признать, насколько рассеянность ума несовместима с правильной молитвой. Такой ум гуляет по всему миру, пережевывает земные впечатления, взаимоотношения с окружающими, обиды и огорчения – мысль не поднимается к Богу. Вот почему для занятия молитвой требуется не допускать в себе рассеянности, этого «празднословия мысленного»[5]. «Рассеянный обыкновенно непостоянен: его сердечные ощущения лишены глубины и силы, а потому они непрочны и маловременны»[6]. Необходимо хранить свежесть и светлость ума, чтобы он, пребывая у врат души, сразу замечал и производил суд над приходящими помыслами и впечатлениями.
Обыкновенно наша душа наполняется впечатлениями от образа своей деятельности, от образа своей жизни. Когда грех становится составляющей нашего образа жизни, то это губит душу. Каждое удовлетворение греховного пожелания налагает на душу греховное впечатление, влечет за собой внутренний плен. Достаточно произвольно допустить себе победиться в одном греховном пожелании, чтобы затем побеждаться уже невольно, и побеждаться во всем, поскольку между всеми греховными помыслами и страстями, равно как и между добродетелями, имеется сродство и естественная связь. Поэтому необходимо нам постоянное трезвение и внимание себе. «Трезвение приобретается постепенно, стяжавается долгим временем и трудом; рождается преимущественно от внимательных чтения и молитвы, от навыка наблюдать за собой, бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко всем своим помыслам и ощущениям, наблюдая за собой, чтоб не соделаться каким-либо образом ловитвой греха»[7].
В деле трезвения, бдительности над собой святитель Игнатий особое место уделяет совести. «Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум. Труднее обольстить совесть, нежели ум. И с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивой волей, долго борется совесть. Совесть – естественный закон»[8]. Совесть способна подсказывать человеку в его духовной жизни, только и ее необходимо хранить от осквернения грехом, и тогда она будет ясно различать добро и зло среди всего подступающего к душе.
Есть даже признаки отличия помыслов и ощущений благих от злых. Определяется это по производимому помыслами и ощущениями действию на наше естество, по их первому действию, как они только возникли в нас. Помыслы и ощущения благочестивые, добрые, благодатные «приносят с собою в душу несказанный мир и тишину, поэтому познаются, что они от Истины»[9], они «содействуют молитве, оживляют ее, усиливают внимание и чувство покаяния, производят умиление, плач сердца, слезы, обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого, возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке»[10]. Напротив, «ощущение смущения служит всегда верным признаком приближения падших духов, хотя бы производимое ими действие имело вид праведности»[11], «смущение, самое тончайшее, какими бы оно ни прикрывалось оправданиями, служит верным признаком уклонения с тесного пути Христова на путь широкий, ведущий в погибель»[12].
Для большей ясности упомянем, что в суждениях о различии действия на душу помыслов добрых и помыслов вражьих святитель Игнатий опирается в первую очередь на учение преподобного Антония Великого о различии воздействия на душу видений святых и видений злых духов. Видения святых несут душе невозмутимость, радость, покой, мир, страх Божий, бесы же привносят в душу смятение, шум, боязнь, беспорядок помыслов, уныние[13]. Святому Антонию следует его ученик преподобный Макарий Великий: «Что – от благодати, в том есть радость, есть мир, есть любовь, есть истина. Сама истина побуждает человека искать истины. Всякий же вид греха исполнен смятения; в нем нет любви и радости пред Богом»[14]. «Не может он (сатана) произвести ни любви к Богу или ближнему, ни кротости, ни смирения, ни радости, ни мира, ни благоустройства помыслов, ни ненависти к миру (греховному. – д. В.Д.), ни духовного упокоения, ни вожделения небесных плодов, ни усмирить страсти и сластолюбие… Всего же скорее сатана способен и силен внушить кичение и высокоумие»[15].
«Занятие служебное, сопряженное с ответственностью, не препятствует сохранению внимания к себе. Деятельность – необходимый путь к бдительности над собой».
Поскольку «душа всех упражнений о Господе – внимание»[16], или, что то же, трезвение, то необходимо сохранять внимание душе своей даже и при рассеянности, в которую мы вовлечены обстоятельствами. Святитель Игнатий считает, что для сохранения внимания и трезвения совершенно необязательно покидать свои служебные обязанности: «Занятие служебное, сопряженное с ответственностью, не препятствует сохранению внимания к себе – оно руководствует к такому вниманию… Деятельность – необходимый путь к бдительности над собой, и этот путь предписывается святыми отцами для всех, которые хотят научиться вниманию себе… При деятельной жизни люди помогают человеку стяжать внимание, напоминая ему нарушения внимания. Подчиненность есть лучшее средство приучиться ко вниманию: никто столько не научит человека внимать себе, как его строгий и благоразумный начальник»[17]. Значит, и миряне, люди, облеченные служебными обязанностями, могут беспрепятственно и полноценно совершать умное делание, хранить внутренние трезвение и внимание себе. «При служебных твоих занятиях, – говорит святитель, – посреди людей – не позволяй себе убивать время в пустословии и глупых шутках; при кабинетных занятиях – воспрети себе мечтательность: скоро изострится твоя совесть, начнет указывать тебе на всякое уклонение в рассеянность как на нарушение евангельского Закона, даже как на нарушение благоразумия»[18].
Святитель Игнатий обращает внимание на то, что содержащееся в трезвении и внимании рассматривание себя открывает человеку, что он существо не самобытное и не самостоятельное, что он имеет жизненную нужду в Боге. Еще более глубокое рассматривание показывает поврежденность нашей воли, непокорность ее разуму и утрату разумом способности руководить нашим существом, руководить правильно. То есть рассматривание себя показывает, что человек не только несамобытное существо, но и существо падшее. Только трезвение способно вскрыть в человеке ту муку, которая появилась в нем из-за расстройства образа Божия. Человек скрывает эту муку от себя развлечениями, а трезвение ее выявляет, и потому оно приводит к сознанию жизненной необходимости в Спасителе, Который исцеляет наше естество благодатью Святого Духа, восстанавливает в нас образ и подобие Божии.
И еще, трезвение немыслимо без совершения молитвы Иисусовой: «Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой»[19]. Трезвение и молитва Иисусова должны совершаться вместе и постоянно, они нераздельны друг от друга, почему святитель Игнатий иногда само трезвение называет упражнением в молитве Иисусовой. «Трезвение есть причина чистоты сердца, а поэтому и причина Боговидения, даруемого благодатию чистым, возвышающего чистоту сердца до блаженного бесстрастия. Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой: оно рождается от нее и рождает ее: от взаимного рождения друг другом эти две добродетели сочетаваются между собой неразрывным союзом. Трезвение есть духовное жительство; трезвение есть жительство небесное; трезвение есть истинное смирение, сосредоточившее надежду свою в Боге, отрекшееся от всякой самонадеянности и от надежды на человеков»[20].
Диакон Валерий Духанин
13 марта 2014 года
[1] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 5. М., 1998. С. 264.
[2] Там же. С. 265. Вне трезвения немыслимо правильное совершение умного делания. Все святые отцы, проходя духовное делание, проходили его именно посредством трезвения, и само умное делание порой может именоваться трезвением. Учение о трезвении в особенности хорошо изложено у преп. Исихия Иерусалимского. Он пишет: «Трезвение есть духовное художество, которое, если долго и с постоянным усердием проходить его, с Божией помощью совершенно избавляет человека от страстных помыслов, и слов худых, и худых дел; дарует тому, кто его так проходит, верное познание Бога непостижимого, сколько сие возможно для нас, и сокровенное разрешение сокровенных Божественных таин; и есть творительница всякой заповеди Ветхого и Нового Завета и всякого блага будущего века подательница. – Само же оно есть собственно чистота сердца» (Исихий Иерусалимский, преподобный. О трезвении и молитве // Добротолюбие. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1993. Т. 2. С. 157).
[3] Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. М.; СПб., 1995. С. 436. Согласно св. Исааку Сирину, внутреннее наше устроение познается по живущим в нас мыслям, и нередко, пренебрегая малым, мы подаем повод врагу нападать на нас в великом (см.: Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. М., 1993. С. 179, 378). Потому что, как учит преп. Филофей Синайский, кто предается греху в мыслях, тот не удержится от греха и во внешней жизни (см.: Филофей Синайский, преподобный. Сорок глав о трезвении // Добротолюбие. Т. 3. С. 417). Также, по замечанию преп. Иоанна Лествичника, бесы покушаются сначала помрачить наш ум и затем уже внушают, что хотят (см.: Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. СПб., 1996. С. 136–137). «Как невозможно жить теперешнею жизнию без пищи и пития, – учит преп. Исихий, – так без хранения ума и чистоты сердца – что есть и называется трезвение – невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного или избавиться от мысленного греха, хотя бы кто страхом мук и удерживал себя принудительно от грешения делом» (Исихий Иерусалимский, преподобный. О трезвении // Добротолюбие. Т. 2. С. 180, также С. 169).
[4] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 1. М., 1996. С. 300.
[5] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2 // Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения. Т. 2. М., 1996. С. 300. Святитель следует наставлению преп. Исихия Иерусалимского: «Говорит (Моисей): “внемли себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззакония” (Втор. 15: 9), – тайным словом называя одно мысленное воображение какой-либо греховной, Богу ненавистной вещи, что св. отцы называют также приводимым в сердце от диавола прилогом, за которым, вслед за появлением его в уме, тотчас последуют наши помыслы и страстно с ним разглагольствуют. Трезвение есть путь всякой добродетели и заповеди Божией; оно называется также сердечным безмолвием и есть то же, что хранение ума, в совершенной немечтательности держимого» (Исихий Иерусалимский, преподобный. О трезвении и молитве // Добротолюбие. Т. 2. С. 158). Как замечает св. Марк Подвижник, необходимо внимать своему сердцу, чтобы в нашей душе не было парения мыслей, иначе в молитве нас будут беспокоить посторонние помыслы (см.: Марк Подвижник, преподобный. Нравственно-подвижнические слова. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1911. С. 104, 127). Потому-то, по слову преп. Исаака Сирина, «что приобрели мы во время нерадения своего, то и посрамляет нас во время молитвы нашей» (Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. С. 427–428).
[6] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 373. Об этом особенно учит преп. Макарий Великий, а именно, что даже причастник благодати Духа Святого, если не будет осторожен, падет, потому что такова наша природа, она способна обратиться не только от порока к добру, но и от добра к пороку. Иногда, уже по стяжании благодати, если подвижник не бодрствует духовно и думает, что похоть в нем уже увяла, порок способен вдруг вновь прийти в движение. Потому необходимо постоянное трезвение (см.: Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1994. С. 128, 144, 151). Также авва Исаия замечает, что сердце необходимо хранить каждую минуту, так как до самой смерти нашей страсти способны вновь в нас восстать (см.: Отечник, составленный свт. Игнатием (Брянчаниновым). Подворье русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, 1996. С. 128). Св. Иоанн Лествичник обращает внимание на то, что в особенности необходимо нам трезвение после молитвы, потому что если мы будем рассеянны, невидимые враги быстро похитят плод нашей молитвы и осквернят нас злыми помыслами (см.: Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. С. 147). Касательно этого есть прекрасное высказывание преп. Нила Синайского, на которое иногда ссылался святитель Игнатий: «Помолившись, как должно, ожидай, что не должно» (Нил Синайский, преподобный. Слово о молитве // Добротолюбие. Т. 2. С. 212).
[7] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. С. 266.
[8] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 369. «Не презирай совести, всегда лучшее тебе советующей, – наставляет преп. Максим Исповедник, – ибо она предлагает тебе Божественный и Ангельский совет, освобождает от тайных осквернений сердца и при исходе из мира дарует тебе дерзновение к Богу» (Максим Исповедник, преподобный. Сотницы о любви // Добротолюбие. Т. 3. С. 209).
[9] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 303.
[10] Там же. С. 212.
[11] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2. С. 300.
[12] Там же. С. 223.
[13] См.: Афанасий Великий, святитель. Житие преподобного отца нашего Антония // Афанасий Великий, святитель. Творения: В 4 т. Т. 3. М, 1994. С. 208–209.
[14] Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. С. 65
[15] Там же. С. 391.
[16] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 1. С. 298.
[17] Там же. С. 375–376.
[18] Там же. С. 376.
[19] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Т. 2. С. 206. Так же учит преп. Филофей Синайский: «С трезвением сочетай молитву – и будет трезвение усиливать молитву, а молитва трезвение» (Филофей Синайский, преподобный. Сорок глав о трезвении // Добротолюбие. Т. 3. С. 413).
[20] Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. С. 265–266.
Метки: Хранение ума
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО Часть 1. Доверься Богу
Архимандрит Андрей (Конанос)
Иногда в некоторых случаях ты не знаешь, как поступить. Не знаешь, что правильно, а что ошибочно…
Уверен ли ты в том, что есть хорошо, а что – плохо?

Я приведу один пример… Ты просыпаешься утром, а твой ребенок тебе говорит: «Я не хочу идти в школу!» Ты считаешь, что это очень плохо. Но уверен ли ты в том, что есть хорошо, а что – плохо?
Недавно (не знаю, помнишь ли ты этот случай) отец вез своего ребенка в школу. Недалеко от школы грабители ворвались в банк в Афинах, в Каллифее, похитили большую сумму денег, вышли, вооруженные, на улицу, у них был «калашников», выстрелили четыре раза в воздух, запугивая людей, чтобы никто к ним не приближался. Народ хотел поймать их – сообщили в полицию, и та попыталась задержать грабителей. Те во время общей паники остановили проезжавшую мимо машину, чтобы бежать на ней и так спастись. Но в машине, которую они остановили, отец вез в школу свою маленькую дочку. И он, защищая ребенка, противостоял им, оказывал сопротивление. Грабители избили и его, и ребенка. К счастью, никто из этих двух не был убит. Но девочку ударили прямо в живот! Ребенка доставили в больницу, опасность миновала, но, как бы там ни было, девочка испытала огромный шок и получила страшные переживания.
И я задумываюсь вот над каким вопросом: ведь если бы тот ребенок в то утро проснулся, и плакал, и просился бы остаться дома со словами: «Я не хочу идти в школу, потому что мне не нравится школа, потому что я что-то чувствую. Я не выспался, мне тяжело, я не выучил уроки», то его родители сказали бы ему: «Это исключено», полагая, что если они уступят, то нанесут ущерб успехам и благополучию ребенка. «Это исключено, чтобы ты пропустил уроки. Ты должен идти в школу. Ты пойдешь, и оставь свои “не хочу”. В любом случае в школу ты пойдешь!» И я на их месте поступил бы точно так же. Разве нет? А ты не сделал бы то же самое? И то же самое не делаешь изо дня в день? Если твой ребенок протестует против того, что тебе кажется «хорошим», ты говоришь, что «это хорошо. А тем более школа, она так полезна. Нельзя пропускать школу!» И ты ведешь его в школу, хочет или нет того твой ребенок.
Естественно, если бы тот отец знал, что в то утро по дороге в школу случится весь этот кошмар и что грабители будут стрелять в его ребенка и в него… И он наверняка сказал: «Если бы знал, ни за что бы не повез его! Но откуда мне было знать! Ведь ходить в школу – это “хорошо” и обязательно».
Так что ты предполагаешь совершать какие-то действия, но понятия не имеешь при этом, к чему они тебя приведут.
Не знаю, случалось ли с тобой нечто подобное: ты размышляешь о том, чтобы что-то купить, куда-то поехать попутешествовать, встретить того или иного человека, повести себя определенным образом, и не знаешь, выйдет ли тут что-то хорошее (и из чего именно). Ты не уверен, как нужно поступить и что принесет тебе завтрашний день. Даже относительно тех действий, которые кажутся на первый взгляд весьма положительными, весьма богоугодными, благословенными и святыми. Согласен? Ведь что может быть лучше, чем идти твоему ребеночку в школу? И всё же в то утро, если бы он не пошел в школу, было бы намного лучше!
Наконец, что есть лучшее и что есть худшее? Дилеммы и вопрошания, ответы на которые будут даны, я полагаю, в конце нашей жизни. А исчерпывающий ответ на все эти дилеммы мы получим в вечности. На этой земле то, что мы называем «хорошо», может принести нам большую боль. И то, что на первый взгляд, как кажется, нам принесет большую боль, может нас привести к чему-то очень «хорошему» впоследствии. И поскольку мы не можем различить этого сами, нам остается одно. Я скажу об этом дальше.
Я вижу недоумение на твоем лице. Ты хочешь всё узнать прямо сейчас, и я тебе скажу. Я думаю, нам остается одно. Мы не знаем того, недоумеваем об этом, остаемся в неведении относительно многого. И ты часто пишешь мне сообщения, письма и мейлы и говоришь: «Я думаю, я собираюсь сделать то-то. Скажите мне: это правильно?» Я не знаю. Единственное, что я знаю, я тебе об этом скажу. Немного погодя.
Я думаю, насколько всё было бы иначе, если бы мы имели очень живую и явную связь с Богом. Очень явную связь. То есть, как когда ты видишь человека и обращаешься к нему, а он обращается к тебе и говорит ясно то, что думает, так мы могли бы живо общаться с Творцом, с нашим Богом, Господом. И тогда бы мы Ему говорили: «Господи, а вот тут как мне поступить?» И сразу бы слышали Его голос в ответ: «В этой ситуации поступай так-то. Иди вперед. Это самый верный путь». Затем, дальше: «Господи, а это движение верное?!» А Он бы тебе отвечал: «Нет, не делай этого! Это не приведет тебя ни к чему хорошему. Не продолжай. Поменяй свои планы». Вот если бы у нас была такая живая и явная связь с Ним, наша жизнь была бы прекрасна.
Но у нас всё не так. Перед нами – неопределенность. Мы не понимаем, что хочет от нас Бог. Мы не знаем, что хочет Бог от меня лично и от тебя лично, ибо того, что Он хочет от меня, Он может не хотеть от тебя. И наоборот. Он не хочет от всех одного и того же. Каждый имеет свой путь. И столькие ошибки, приносящие нам сильную боль, совершаются на этом пути. И проходят годы, мы поступаем оплошно и переживаем. Мы идем в том направлении, которое, нам кажется, приведет к хорошему, а оно в конце приводит нас к плохому. Конечно, если ты смотришь глубоко на происходящее, «плохого» нет. Всё в конечном итоге ведет к добру. Но нам же больно. Мы же плачем. И воспринимаем всё то, что с нами происходит, как житейские неурядицы. Мы расстраиваемся и разочаровываемся.
Наше упорство должно уважать знаки, подаваемые Господом и предупреждающие: «Остановись»
Поэтому я выработал как некоторый выход для некоторых ситуаций следующую тактику. Тебя беспокоит какой-то вопрос. Ты недолго «стучишься в дверь» (относительно этого вопроса). Тук-тук – пробуешь. Дверь не открывается. Еще разок: тук-тук. Дверь не открывается. Конечно, если ты пнешь ее ногой и выломаешь, то в результате сможешь войти внутрь, но это произойдет через взлом. Самая прекрасная дверь, которую открывает Господь в нашей жизни, по-моему, это та дверь, которая открывается легко и свободно. Конечно, с усилием и упорством, но без эгоистического давления. Так я думаю. При этом наше упорство должно уважать знаки, подаваемые Господом, и не настаивать чрезмерно, но принимать эти знаки, предупреждающие: «Остановись». Тогда задумайся: а, может, это знак от Бога, чтобы я не слишком упорствовал и изменил курс?
И еще одно уточнение. Всё, что я говорю тебе сегодня, как и всегда, не есть истина в последней инстанции. Я не знаю, прав ли я. А, может, на самом деле всё и не так. Но я говорю то, что понял исходя из прочитанного, услышанного и рассказанного тобою.
Вот, к примеру, едет один человек в аэропорт. Билетов нет, и ему говорят: «Мы поставим вас в лист ожидания». И вот он ждет своей очереди, и с нетерпением, и с молитвой стремится получить местечко на этот рейс. Он даже молится и просит Бога: «Я прошу Тебя, Господи, сделай что-нибудь, чтобы меня взяли на борт, сделай то, что должно, самое наилучшее для меня». Вот выкрикивают несколько имен, его имени не называют. В конце концов он остается без билета. Самолет улетает без него. Он очень расстроен, огорчен, возмущен, нервы на взводе. То, о чем я говорю, случалось со многими. Многие или же потому, что опоздали в аэропорт, или же потому, что им не хватило места, не попали на нужный рейс. Спустя несколько минут после того, как самолет взлетел, все вдруг слышат жуткую весть: самолет упал. И тот человек, который только что убивался и причитал: «Ну почему я должен терять этот рейс?!», падает на колени, целует землю и со слезами восклицает: «Я спасся! Я жив! Я жив! Если бы я был в этом самолете, я бы погиб! А теперь я жив! А ведь мне так хотелось во что бы то ни стало попасть на этот рейс, я так упорствовал, так наставил на своем, и вот на тебе – страшно представить, что бы со мной сейчас было!»
И «идет» один из тех, кто разбился. Он является мне и говорит: «А мне ты что скажешь? Ну хорошо, тот, другой, он не попал на рейс и спасся. А я? Почему со мной случилось это?» И тут, знаешь, что я делаю? Я молчу. Я не знаю, что ему ответить. Потому что на самом деле феномен жизни, таинство жизни превосходит наше разумение. Единственное, что я могу сказать ему: «Брат мой, не спрашивай меня. Ты спроси Того, Кто есть Распорядитель нашей жизни. Ты спроси Того, Кто определяет, и регулирует, и знает всё. И направляет обстоятельства туда, куда направляет, для каждого из нас. Он знает, сколько мы будем жить, когда уйдем, при каких обстоятельствах нас застигнет конец. Лишь только Он один знает, как и почему. Он знает всё. А я не знаю и не могу тебе ответить на этот вопрос».
Я и в самом деле нахожусь в растерянности. Но я знаю, что тот, кто в итоге выжил, после такого становится более зрелым, иначе смотрит на мир. Он задумывается: «Смотри, к чему всё может привести! Значит, в жизни не стоит сетовать и говорить так, как говорил я в тот момент, когда улетел мой самолет; “Ах, как это плохо для меня обернулось”. Потому что ты не знаешь, что тебе уготовано в будущем и что на самом деле есть хорошо и что – плохо».
Нам остается одно. Я скажу об этом сейчас. Я и так довольно долго держал тебя в напряжении. Надо довериться Богу! Некоторые, услышав это предложение, говорят: «Иными словами, мне вообще тогда ничего не нужно делать самому? Никаких движений? Просто сидеть сложа руки и ждать?» Конечно, тебе нужно действовать. Нужно делать те дела, которые ты должен делать, нужно строить планы. А дальше довериться любви Божией и сказать: «Господи мой, теперь Ты благослови мои дела и всё устрой Сам. Я не знаю, что у меня выйдет из того, что я начинаю делать. Могут быть ошибки, неудачи, проблемы. Может, меня вообще вышвырнут. Я начинаю. Благослови мою жизнь».
«Хорошо» не значит, что всё будет «в шоколаде», легко и приятно
И я полагаюсь не на то, что всё будет хорошо в смысле «безоблачно». Будьте внимательны! Вероятно, именно эту ошибку люди делают в жизни, и ты в своей, и я в своей. Разные учителя, проповедники, богословы – и я мог допускать эту ошибку – с самого детства воспитывали нас и учили, что когда ты рядом с Богом, у тебя всё будет хорошо. А пришла жизнь и нас разочаровала. Потому что никогда нам не объясняли, что значит это «хорошо». Ведь «хорошо» не значит, что всё будет «в шоколаде», легко и приятно. Потому что в реальности мы увидели, что скорее действует обратное. Мы поняли, что когда ты рядом с Богом, твои дела далеко не всегда идут хорошо. Ты сталкиваешься и с несчастьями, и со скорбями, и с преследованиями, и с болезнями, и с нуждой, и с неудачами – с такими разными малоприятными вещами. Это правда жизни. Но через нее ты научишься возмужанию, внутреннему обогащению, смирению. Твоя душа, пройдя эти несчастья и проблемы, станет умудренной, умной, просвещенной.
Кто сказал, что человек рядом с Богом не столкнется с непредвиденными ситуациями? И что с ним не произойдет то, чего он не ожидал и даже не представлял, что вообще такое может случиться в его жизни! Нет, даже не думай, что рядом со Христом, любя Господа, ты не будешь подвергаться жизненным испытаниям. Будешь, и очень многим. С одной лишь разницей: ты будешь знать, как их преодолевать. Ты победишь многие треволнения и научишься держаться над волнами и нырять в пучину, чтобы миновать стремительный натиск. И когда на тебя станет надвигаться волна, чтобы накрыть тебя и разочаровать, ты будешь погружаться в смирение, в любовь, в предание себя воле Божией, в полную покорность. Ты покоришься и скажешь: «Господи, я не могу объяснить мою жизнь. Но я знаю – и мне этого довольно, – что Ты любишь меня».
Ко мне на исповедь пришла одна мать, несколько лет тому назад. Я спрашиваю у нее: «У вас есть семья?» Она говорит: «Да». И я увидел слезу у нее на глазах. – «У вас есть дети?» – «Была дочь, и я силой отправила ее на экскурсию, организованную университетом. Я заставила ее поехать, чтобы она не была изолирована и оторвана от ребят, чтобы общалась с ними, а не была одна, не замыкалась на себе. Я сказала ей: езжай и ты. Они отправились за границу, в Токио, и там мою дочку, отче, убила молния!» Ты понимаешь?! Ты можешь себе вообразить, что чувствует эта мать? Неужели она хотела сделать зло своему ребенку? Неужели желала ему чего-то плохого? Она предложила девочке поехать, чтобы та радовалась. Побуждала ее подружиться с университетской компанией. «Давай, – говорит ей, – оторвись от дома, развейся немного, порадуйся и ты. Отдохни от непрерывных занятий». И в мыслях она не имела ничего дурного. И вот в балкон, туда, где беспечно сидела ее дочь, ударила молния, и ребенок погиб. Представь теперь, как этой матери звонят по телефону из Токио, чтобы сообщить о смерти дочери!
В жизни случается много неожиданностей, очень много. Иногда, когда ты думаешь обо всем этом, хочется сказать: «Лучше я буду сидеть дома, никуда не пойду, и тогда со мной ничего не произойдет». Ничего ты не знаешь. Если ты рационалист и не имеешь доверия к Богу, то ты действительно так думаешь. И в этом есть своя логика.
Пастырь добрый
Пастырь добрый
Но если ты любишь Бога и помещаешь Его в свою жизнь, тогда ты говоришь: «Я полностью вверяю себя в руки Божии и куда Он приведет»! Я не могу быть уверен ни в чем. Только в одном я уверен: Он любит меня. «Но как же Он тебя любит? – спрашивает другой. – Ты сам недавно рассказывал мне о ребенке, в которого стреляли из винтовки; о девочке, которая погибла; о не попавшем на самолет человеке и многих других, с которыми не знаю что еще приключилось». Неужели же всё это и есть «любовь»?
Слушай. Несколько дней тому назад у меня возникла проблема с зубами. Они разболелись. Во время еды я надкусил что-то твердое – это оказался мой зуб! Он сломался: откололся небольшой кусочек. Я пошел его лечить. Зубной врач – моя духовная дочь (она мне исповедуется). И когда она приходит ко мне, то стоит передо мной со страхом. И вот я сижу в кресле и, как она, зубной врач, «трепещет» перед исповедью, так и я в эти минуты предаю себя в ее руки, и трепещу, и говорю: «Боже мой, что меня сейчас ждет?» Очень мучительные мгновения! Как правило, для больного посещение зубного врача – дело неприятное. Если у тебя болел зуб, ты понимаешь, что это такое… или ухо, или была мигрень. Это ужасные моменты. И вот врач делает мне анестезию – бесполезно! Врач делает усиленную анестезию – и внутри всё немеет. Заработали бормашина, сверла, круг. Я чувствовал сильную боль, нога вздрагивала, нервы напряжены, как тетива, – невыносимо. И я сказал про себя: «Эта врач так сильно меня любит и так больно мне делает. Как это возможно, чтобы она, которая так меня любит – я уверен в этом, – приносила мне такие страдания»? И, несмотря на то, что она знала, что мне больно, она продолжала. Без шуток – продолжала.
Любовь – это не всегда значит «гладить по головке»
Так вот любовь – это не всегда значит «гладить по головке». Любовь значит и делать больно тому, кого ты любишь, и не останавливаться, когда другой стонет от боли, или страдает, или мучается, если знаешь, что другого выхода нет. Кто даст нам ответ на этот вопрос: «Почему другого выхода нет?»? Я думаю, ответ дает Крест Христов: «Се бо прииде Крестом радость всему миру». Через боль приходит радость, через мрак испытания приходит свет надежды. И в итоге жизнь жительствует. Я не знаю как: это таинство превосходит мое разумение. Но то, что я знаю, это: я могу общаться с вами сегодня, потому что мой любимый зубной врач позавчера меня не пожалела, а сделала мне больно, мучила меня, обездвижила мои уста, я не понимал, что со мной происходит, онемел, чувствовал дисфорию. Однако всё это принесло мне выздоровление (хотя в тот момент мне и было ужасно плохо).
Каков же итог? Человек вверяет себя Богу. Другого выхода нет.
(Продолжение следует)
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с новогреческого Александра Никифорова Александра Никифорова
Переведено по книге: Π. Ανδρέα Κονάνου. Αθέατα περάσματα, 2. Σωματείο Παναγία Γάλαξα η Θαλασσοκρατούσα 2012. Σ. 157–168.
Метки: Вера без дел мертва
В ЧЕМ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ?
Внешне может показаться, что в мире сплошь и рядом торжествует зло. Торжествует неправда, насилие, деньги, сектантство, безбожие. Некоторые говорят о том, что Православие не победило в истории, не оправдало себя. Приводят цифры, факты…

Да, в жизни действительно много зла. Но суть жизни не в этом, а в том, что зло, не ограниченное никакой моралью, для которого все средства хороши, при всем своем вероломстве, злобе и цинизме, всё же не способно победить вроде бы беззащитное, наивное и кроткое добро. И мы всё время видим, что в жизни есть и добро: бескорыстие, взаимопомощь, дружба, милосердие, любовь…
Почему?
Потому что есть Бог. А Он всегда сильнее всего зла, вместе взятого. И об этом свидетельствует Православие.
Торжество Православия — это день, обозначающий главную правду происходящего в жизни: торжество правды Божией всегда, как бы ни бушевало зло.
Жизнь говорит о том, что истина редко когда бывает за большинством. Но лучше быть с истиной.
Сам Господь говорил нам: Не бойся, малое стадо. Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Он не обещал, что Его стадо будет большим. Он не заповедовал нам мечтать о том, чего не будет в реальности, уныло вздыхая об этом. Он сказал нам: «Радуйтесь». Радуйтесь тому, что есть врата спасения. Они, хотя тесны, однако открыты для всех, кто пожелает в них войти.
Торжество Православия — это Воскресение Христово, к которому мы готовимся начавшимся Великим постом и которое празднуем в первое воскресенье Святой Четыредесятницы.
Торжество Православия в том, что Господь послал Своих учеников, как агнцев среди волков, а волки их не одолели, и они просветили всю Вселенную.
Торжество Православия в том, что врата адовы, как и предсказывал Господь, не одолели Церкви, Им созданной, хотя силы зла за эти две тысячи лет стремились ее уничтожить. Они и ныне не оставляют безумной надежды на это. Но Церковь Христова жива, и даже растет на глазах. Люди молятся, исповедуются, причащаются, крестят детей, поклоняются ее святыням, спасаются. Великое Торжество!
Торжество Православия — это чудо всей русской истории, начиная с Крещения Руси 1025 лет назад и Куликовской победы в день Рождества Пресвятой Богородицы до Великой Победы на Пасху 1945 года, в день святого великомученика и победоносца Георгия. Чудо Покрова Царицы Небесной над нашей страной, без которого ее бы уже просто не было — в ответ на верность народа нашего Православию. И даже время безбожных гонений прошлого века стало этим торжеством — ибо явило сонм новомучеников.
Торжество Православия — это то, что происходило на наших глазах — глазах людей, юность которых прошла еще в советское, официально безбожное время. Мы, бывшие пионеры и комсомольцы, чье воспитание и образование было полностью лишено правды о Боге, вдруг стали ходить в Церковь, молиться, служить Ему. Мы уже и не мыслим себе жизни без Православия.
В те годы православная вера считалась чем-то совершенно устаревшим, отжившим. Ни в одной книге, ни в одной теле-, радиопередаче, ни в одном публичном мероприятии не могло быть произнесено и слова православного. Слово «Бог» должно было писаться только с маленькой буквы. К счастью, на факультете журналистики МГУ, где я учился, по «научному атеизму» однажды задали прочитать Евангелие.
Когда я стал ходить в Пименовский храм на Новослободской, нас, постоянных молодых прихожан, было там только двое. Никто не мог себе представить, что будет сделан хотя бы шаг в другую сторону, а тем более, что произойдет такое чудо — духовное возрождение последней четверти века. Что вместо бассейна «Москва» опять будет стоять храм Христа Спасителя. Что откроются сотни монастырей, тысячи храмов. Что в Церковь придет молодежь, что будут причащаться дети, что мужчин в храмах будет не меньше, чем женщин… Ничего такого, кажется, уже просто не могло быть! А его и действительно по-человечески не могло быть! Но Господь совершил это чудо. Великое торжество!
Господь внял молитвам новомучеников, принял их жертву. Принял все жертвы нашего православного народа, его великое терпение, его веру, которой не могли одолеть даже те лютые гонения, которые понес наш народ.
Да, с народом нашим изрядно поработали… И продолжают работать. Наш народ понес великие потери. Гонения эти, увы, не прошли бесследно. Но ведь как над ним потрудились! Как ни над каким другим народом. Его и обманывали, и соблазняли, и пугали, и войнами на него шли, и расстреливали за веру — другой народ после такой тотальной безбожной обработки, после таких жертв вообще вряд ли бы остался жить на земле. С другими народами так трудиться не требовалось — они почти добровольно отказались от Христа, от жизни по Евангелию. Как будто так и надо, и даже хорошо. А наш народ после всей этой «работы адовой» (В.В. Маяковский), как ни странно, жив, и его благочестие иное, чем в других землях. Об этом свидетельствуют и миллионы наших соотечественников, поклонившихся у нас в последние годы православным святыням.
Духовное повреждение отступившего от чистоты православной веры католического, протестантского, униатского Запада, пришедшего к безбожию и сатанизму, тоже свидетельствует об истинности Православия.
Торжество Православия недаром празднуется в завершение первой недели Великого поста. Торжество нашей веры, ее правды, ее истинности, обращенности к Небу — вся эта первая седмица, наполненная усердными молитвами, поклонами, глубоким покаянием, прежде всего при чтении Великого канона преподобного Андрея Критского, который все православные люди стараются выслушать в храмах, где его непременно читают посреди церкви священники, архиереи, сам Патриарх. С первого дня поста мы меняем образ жизни, берем на себя особый духовный труд, — и уже видим, какие добрые плоды приносят это особое, радостное, мудрое, глубокое время года. А вся та жизнь, которой мы живем обычно, «нормальная» жизнь — сколько в ней пустоты и неправды, какая она земная и бесплодная, хотя и привычная. Даже и те труды, которые мы взяли на себя, говорят нам о том, какое это великое установление — момент истины, пробуждение, трезвение, сколько в этих днях правды и чистоты. И лучшее им название — Торжество Православия.
Торжество Православия хорошо видит в жизни, в себе самом каждый молящийся, постящийся, живущий церковной жизнью православный человек. Он видит, как правда нашей веры, церковных уставов, богослужебного ритма жизни с опорой на святые Таинства Церкви дает ему благодатную силу. Для него его вера — это самый драгоценный подарок, полученный от Бога, который дает высший смысл жизни.
Православие — это самый реальный взгляд на человека, это торжество правды о том, что самая наша главная, самая трудная борьба — с самими собой, со своей греховностью. Что перестройка души на евангельский строй, стяжание Святого Духа — главная цель нашей земной жизни — достигается трудом, ибо изменение души невозможно «кроме трудов», как говорится в Великом каноне.
Род сей ничимже изходит, токмко молитвою и постом, — открыл нам наш Спаситель. Торжество Православия — торжество этой истины. Православия нет без поста. Молитва, богослужение и пост остались практически только в Православии.
Дерево познается по плодам, — сказал Господь. Плоды Православия — это сонм святых на небесах. Это и есть главное Торжество Православия. Святых, которых мы почитаем в Православии, с которыми живем, постоянно обращаясь в молитвах, празднуем дни их памяти как наши праздники, чьи имена носим — наших небесных покровителей, скорых помощников и молитвенников о душах наших. Именно верность православной вере сделала их святыми. Именно этим путем преподобные, молитвенники и постники достигали великих духовных даров, святости. Те же средства для духовного восхождения к вершинам духа в Церкви нашей и у нас под руками.
Потому у нас на Святой Руси и сражались воины за веру, Царя и Отечество — и прежде всего за веру, как главное сокровище нашей земли, ибо она ведет к небесам. За Царя православного, потому что его главная цель — защита веры, Церкви Православной, народа Божьего в жизни земной.
Торжество Православия — это правда о богоустановленности православной монархии как высшей формы государственного устройства, о симфонии власти и Церкви, при которой земными делами в стране управляет человек верующий, благословленный Богом на это служение. Человек молящийся, исповедующийся, старающийся творить Его святую волю, не поддаваясь своим страстям и вражьим помыслам, сознающий, что за свое ответственное служение он даст ответ прежде всего Царю царей, от Которого получил власть.
Торжество Православия — это та любовь к иконам, к иконочкам, без которых православный человек не мыслит молитвы, разговора с Богом, с Пречистой, со святыми, не мыслит православного храма, без которых его жилище — словно без души. Он непременно возьмет иконку с собой в путешествие, в больницу. А когда заканчивается его земной путь, ему дают ее в руки — с ней совсем другой переход в вечность.
Торжество Православия — это Непобедимая Победа Креста Христова.
Крест Господень — это ключ к пониманию тайны жизни. Крест — это не поражение, не бессилие добра, не могущество зла. Крест — это самая великая победа, которая совершилась на земле. Победа любви и смирения. И вера наша, жизнь православная.
«Россия на Голгофе», — так сказал протоиерей Николай Гурьянов. Все страдания, скорби, кажущиеся поражения нашего народа в истории — это совсем не так просто, это его Голгофа, которой он сподобился за верность Христу, за особенное принятие «терпкой горечи Креста», как верно подметил один иноплеменник, побывавший когда-то у нас. Мы не рабский народ, а христианский; крест, смирение — это не рабство, это высшая свобода.
Торжество Православия — это и русский характер, который веками воспитывался нашей верой. Русскому человеку скучно жить только земными интересами, он запивает от этого с горя — отученный, бедный, от молитвы и поста. Но когда нужно взяться за великое общее дело, кого-то спасать, он чувствует себя в своей тарелке, он знает тогда, зачем живет и готов даже на подвиг.
Торжество Православия — это наши доброта и искренность, «дух русской неподдельности — высшее, что у нас есть» (Б.Л. Пастернак). Это наши великие архитектура и литература, музыка и живопись, наши прекрасные песни. Это наш великий русский язык, который всегда питался, обогащался языком церковнославянским.
«Россия на Голгофе, а Америки уже нет», — говорил батюшка Николай Гурьянов.
Нет Америки, нет всех противящихся Святой Руси, всех ее распинателей, хулителей, клеветников — ничего этого в жизни истинной нет. Во всем этом жизни нет — одна тьма. Нежизнь.
«Какие вы счастливые, что вы верующие!.. что вы с Господом!.. что вы в истине!» — любил повторять батюшка.
Православие, истинная вера — это правильное понимание того, где добро и где зло, где правда и где ложь. В том числе и в нынешние тревожные, трудные дни, когда страна наша, как говорил иеросхимонах Моисей (Боголюбов) еще в 1992 году, вновь «на острие меча».
Униатам и раскольникам кажется, что им приходит из США бескорыстная помощь в борьбе со «злом» (в кавычках или без кавычек — не важно). Но зачем это нужно «друзьям» из-за океана, вообще с Запада? — спросите. Неужели от избытка доброты по отношению ко столь далеким от них и чужим людям? А может быть, они им нужны только как орудие борьбы против России и Православия — за торжество доллара над Вселенной?
Батюшка Николай так и предсказывал: «Диавол бросает свое последнее оружие — деньги». Именно это мы и видим сегодня. Это оружие прежде всего — против Православия, ибо оно больше всего досаждает врагу рода человеческого.
Весь мировой синедрион ополчился на Россию, и, как всегда, прежде всего потому, что она православная. Но никогда еще в истории не удалось победить нашу Родину — Дом Пресвятой Богородицы.
То и дело приходят люди в церковь, спрашивают: как быть, что делать? Положения бывают, действительно, очень сложные. Торжество Православия — в том, что мы знаем: у Бога нет безвыходных положений. Он Сам сказал: всё возможно верующему. Нет худа без добра, — говорит наш народ. На всё воля Божия. Что Бог ни делает, всё к лучшему. Бог даст день, Бог даст пищу. Пусти душу в ад — будешь богат. От греха подальше. Молитва и труд всё перетрут. Непобедимое оружие — молитва и пост. А батюшка Николай говорил приплывавшим к нему на остров, утешая: «Трудных не бывает в жизни положений». Или так говорил: «Всё будет так, как вам надо». Точно! Потому что всё будет по воле Божией — так, как для нас лучше всего, спасительнее. А без скорбей не спасешься. Многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное, — сказал нам Господь. Значит, слава Богу за всё.
На тех, кто хочет жить по истинной вере, враг нападает особенно яростно — по слову апостола: Все благочестно жить хотящии о Христе Иисусе гоними будут. Но и помощь верным благодатная посылается Свыше необоримая.
Есть такое выражение: если бы люди знали, какие радости у монахов, то все захотели бы быть монахами, а если бы знали, какие у них скорби, никто бы не захотел ими стать. В определенной степени так можно сказать и о православных. Но скорби наши — земные, временные, а радости — небесные, они начинаются здесь, а уходят в радость вечную.
Священник Николай Булгаков
9 марта 2014 года
Метки: Церковь и люди
УРОКИ ИДИОТСКИХ СИТУАЦИЙ
Кто в них не попадал?!

Моя подруга (не знаю человека честнее и чище нее) рассказывала мне о том, как соседки по студенческому общежитию обвинили ее в краже денег и какой-то дорогой косметики. Логика этих девушек была проста: все остальные из «нормальных», то есть обеспеченных, семей, а Наташа из бедной, многодетной – кому же, как не ей?..
Мне самой никогда уже не забыть, как кондуктор троллейбуса заподозрил меня в некоем хитром приеме, с помощью которого я якобы получила у него билет бесплатно: «Я сообразил только сейчас, что ты билет взяла, а деньги-то мне не отдала». Кондуктор разговаривал со мной как крутой опер с бандитом. Слова «дрянь», «мразь» и «аферюга» сыпались на меня как из рога изобилия. Самое страшное – что некоторые пассажиры поспешили встать на его сторону. Это весьма свойственно человеку, между прочим, – даже тогда, когда конфликт лично его не касается, – становиться на сторону «сильного», то есть агрессора.
Один известный мне молодой человек жарким летом в дачной местности купил у бабушки яблок и имел неосторожность пойти с этой покупкой мимо садов, охраняемых частным казачьим агентством. Слегка подвыпившие казачки почему-то решили, что яблоки прохожий украл во вверенном им саду, и не слушали никаких контрдоводов. Они намеревались привязать молодого человека к забору, повесив ему на грудь заготовленную уже табличку «Вор», и держать так до захода солнца (уже отработанная, по всей видимости, карательная практика). Парня спасло только то, что его родной дядя работал в прокуратуре и один из ретивых не в меру охранников этого дядю неплохо знал, чем и отрезвился.
Сюда же надо отнести совершенно необоснованные задержания милицией, о которых я, как журналист, много раз писала; нескончаемые конфликты в магазинах самообслуживания; «наезды» соседей из-за прорвавшейся трубы… Иные из этих ситуаций менее драматичны, чем вышеописанные, однако тоже неприятны. Иные трагикомичны… Вряд ли стоит пересказывать их здесь одну за другой. Зададим для начала вопросы психологического характера.
Как мы переносим подобные передряги? Не становимся ли мы их заложниками на всю свою жизнь? Не «прописывается» ли в нас страх, подавленность, ощущение бесправия, беззащитности?..
Умеем ли мы в подобных ситуациях вести себя правильно, не во вред себе самим? В силах ли мы сохранить внешнее спокойствие (а оно совершенно необходимо) и то, что принято называть человеческим достоинством? Случается ведь и такое: от страха, от агрессивного напора, от невозможности (как представляется) себя защитить человек признается в краже, которой не совершал. Или, в лучшем случае, отдает деньги, которых никому на самом деле не задолжал, становясь по сути жертвой вымогательства.
Находим ли мы в себе силы, хватает ли у нас смелости добиваться правды, справедливости, а когда-то и наказания наших обидчиков? Дядя в прокуратуре или журналистское удостоверение в сумочке – они есть не у всех, а вот ощущение обступающего беззакония и личной беззащитности – у всех практически…
Что касается моего собственного поведения в попадавшихся на моей дороге ситуациях-ловушках – я сама оценивала его по-разному: от четверки до двойки. Не раз себя ругала: «Как журналист, других должна научить вести себя в подобных конфликтах, а ты – сама не умеешь!» И тут же раздавался внутри печальный контрголос: «Других-то учить легче, а вот когда сама попадаешь, да еще так неожиданно…»
Что все-таки делать с такими ситуациями в нашей жизни, как их осмысливать, какие выводы из них делать? И вообще, зачем они нам даны? Последний вопрос – уже не психологический, как предыдущие, а христианский.
Поступлю как обычно: сначала попробую поискать ответ сама, цепляясь за свои обрывочные и поверхностные познания в православной литературе, а потом обращусь к священнику.
Что касается литературы: обычный молитвослов, который есть у любого верующего человека, – это удивительный, богатый, глубокий учебник христианской жизни. Сколько в нем смыслов, сколько стрелочек-указателей пути к Истине! Лично для меня одним из самых важных стало вот это место в вечерней молитве святителя Макария Великого: «… яко ленящася мене на Твое угождение и ничтоже благо сотворша, привел еси на конец мимошедшаго дне сего, обращение и спасение души моей строя…»
Оглядываясь на промелькнувший день, понимаешь, что, хотя весь день работал, на угождение при этом действительно ленился; и что Отец Небесный, при всей этой твоей лени, натаскивал тебя, как бесконечно терпеливый учитель бестолкового школьника, вновь и вновь ставя в ситуации, не дающие заснуть, заставляющие нащупывать духовную опору и делать выбор.
Но как это трудно – научиться воспринимать собственную жизнь со всеми ее перипетиями – вот именно так. Как бесконечную возню Творца с тобой, неприлежным и малоуспешным. Особенно это трудно, когда Учитель использует, скажем так, неприятные и жесткие для нас методы. Когда мы попадаем в ловушки, подобные вышеописанным.
Как уже сказано, мы не всегда умеем правильно себя в этих переплетах вести. Это проблема. Ну а если всё же попытаться воспринимать любую подобную ситуацию как Самим Богом назначенный нам урок?.. Как упражнение, направленное на преодоление малодушия, на возрастание в доверии ко Творцу?
Всё происходит по воле Божией. Значит, так надо. Кому надо? Тебе. Ты не можешь понять, для чего? А кто тебе обещал, что ты будешь прямо вот так сходу всё понимать? Вот поблагодаришь за случившееся Господа от всего сердца – тогда и сделаешь, может быть, первый шаг к пониманию. Помнишь Послание апостола Павла фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5: 18)? А молитву Оптинских старцев помнишь? – «Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой…»
Бог не посылает испытания не по силам. Он ведает, что с тобою. Можно сказать, что Он держит руку на пульсе ситуации. Но многое зависит от тебя самого. Молись, не сомневайся в Его помощи, в заступничестве Пресвятой Богородицы, не теряй присутствия духа. Вспомни, сколько раз святые становились жертвами клеветы, жертвами диких, грязных обвинений и воспринимали это как посланное им во благо.
Мне кажется, что у человека, настроенного подобным образом, гораздо больше шансов выйти из унизительной ситуации победителем, в дальнейшем добиться справедливости и преодолеть последствия психологической травмы. Это земное благо, это необходимое нам, немощным, далеким от духовных высот людям утешение. Но получаем мы его всё же в результате посильного для нас духовного напряжения.
В общем, всё правильно: встряски эти нам нужны для того, чтобы мы, как сказано в молитве Макария Великого, обращались, взоры свои обращали к Нему, тянулись к Нему, подрастали духовно; а подрастая, мы обретаем способность, умение из этих ловушек выбираться.
Кстати, о той моей подруге, Наташе. Она с детства верующий человек, хотя православной в тот тяжелый момент – момент обрушившейся на нее клеветы – не была: поддерживала связь с одной из протестантских конфессий. И у протестантов порой можно чему-то хорошему научиться. Наташа рассказывала так: «Я стала молиться, и чем больше молилась, тем спокойнее мне становилось, и они, эти девчонки, как-то затихли, будто смутились… А на следующий день вели себя со мной как ни в чем не бывало. Конечно, меня это коробило – хоть бы извинились… Но я поняла: если я буду сейчас пытаться выяснить с ними отношения, они снова примутся меня обвинять, не в этом, так в чем-нибудь другом – лишь бы самим не быть виноватыми. И решила просто держаться от них подальше». (Наташа – человек с трудным детством и мудрой стала до срока – уже в юности.)
Однако мне уже пора за советом к священнику.
Иерей Михаил Богатырев
Иерей Михаил Богатырев
– Отец Михаил, к вам приходят люди, травмированные такими вот унизительными, оскорбительными ситуациями? Что вы им говорите? Всякий ли человек в силах увидеть в подобной передряге духовный урок? Всякому ли можно помочь?
– Не только ко мне приходят, а я и сам тысячу раз в таких ситуациях бывал, – отвечает настоятель Владимирского храма в Саратове иерей Михаил Богатырев. – Это болезненно в самом деле, когда тебя обвиняют – в том, о чем ты и не думал, чего ты и в принципе не мог совершить. В том, например, что ты лампочки в подъезде выкручиваешь…
Я по сей день помню, как это произошло со мною в первый раз – в детском саду. Мне было четыре или пять лет, и меня обвинили в обычном детском безобразии, совсем не мною совершенном. Я не мог сопротивляться, я был совершенно задавлен и признал, что это сделал я. Потом выяснилось, что не я, но извиниться передо мной никто, конечно, и не подумал. И потом, в жизни, это было не раз, и я сделал для себя такой вывод: трагических реакций на такие обвинения у нас быть не должно. Ты знаешь, что ты этого не делал, и Бог это знает. Ты перед Ним этого греха не совершил – вот главное. А людям, которые тебя обвиняют, твои оправдания не нужны. Они устраивают такого рода самочинные расследования вовсе не для того, чтобы найти правду. Правда им вообще безразлична. Им всё равно, ты это сделал или не ты. У них есть потребность унижать и третировать другого человека. Для этого им нужен повод. Их поведение может быть связано с комплексом неполноценности, ущербностью, завистью – человек, который завидует, может не только того, кому завидует, грязью поливать, но и других тоже – ему всё равно.
Нужно вовремя переключиться с человеческого суда на Суд Божий и сказать: Господи, Ты всё знаешь – и да будет воля Твоя
Конечно, нервная система у людей разная. Кто-то махнет рукой и забудет, а для кого-то это действительно травма на всю жизнь. Но здесь важно понять: если ты увязнешь в выяснении отношений с этими людьми, хотя бы мысленно, – у тебя вся жизнь мимо пройдет. Ты всю жизнь будешь что-то им доказывать. А доказывая, что ты не верблюд, ты сам себе потихоньку внушаешь, что ты таки верблюд – по крайней мере, в чьих-то глазах. И таким образом становишься зависимым от обвинения. Вот почему это страшно, это опасно – оправдываться в том, чего ты не сделал. Нужно вовремя переключиться с человеческого суда на Суд Божий и сказать: Господи, Ты всё знаешь – и да будет воля Твоя. Этого достаточно. По сути это означает – остаться здоровым психически и целым духовно.
– Но легко ли это на деле – переключиться?
– Лично я всегда исхожу из того, что мне есть чем жить дальше. Есть о чем и о ком думать, чем заняться. Я стараюсь работать на результат, и мне не хочется отвлекаться на какие-то посторонние вещи. Потеря драгоценного времени, данного нам Богом для достижения результата, – это грех. Вспомним притчу о талантах (см.: Мф. 25: 14–30). Тебе нужно трудиться, приумножая данный Господином талант, а тут тебе кто-то вдруг помешал, и ты, разбираясь с ним, не замечаешь, как теряешь свою духовную вертикаль и оказываешься в двухмерном пространстве, на плоскости. И уже ничего не можешь делать для Бога. А ведь конечный результат твоего труда – это всегда результат духовный. И это не твоя личная цель. Это цель, которая тебе Богом задана. А это значит, что она важна для многих людей.
– С вашей точки зрения, стало быть, справедливости добиваться не нужно?
– Справедливость – она у Бога. Мой жизненный опыт подсказывает: через некоторое время после таких вот голословных обвинений правда всегда откуда-нибудь вылезет. Я не один раз это пережил, прежде чем сказать: Господи, да будет воля Твоя.
– Батюшка, но ведь их еще простить надо, этих наших обидчиков, иначе и впрямь увязнешь в хроническом конфликте с ними. У вас это получается?
– Я вообще не умею держать зло на людей. Могу обидеться, но обида не будет долгой. У меня в жизни бывали очень сложные случаи, когда меня предавали по полной программе. Но потом, по прошествии какого-то времени, вслушиваясь в собственную душу, я убеждался, что я к этим людям никаких претензий не имею. Ни злости нет, ни уж тем более чувства мести. Я не буду, конечно, по-дружески сидеть с ними за столом, у меня вообще нет желания с ними общаться – хотя бы потому, что это связано с неприятными воспоминаниями. Но если я узнаю, что они попали в беду, я сделаю всё, чтобы их выручить. И никогда потом их этим не попрекну.
***
Слушаю отца Михаила и понемногу избавляюсь от всяких невротических сомнений в простой истине: все эти наши унизительные, оскорбительные, нелепые, идиотские ситуации даны нам Отцом и Учителем нашим ради обращения и спасения наших душ. И поменьше бы нам лениться на угождение.
Священник Михаил Богатырев, Марина Бирюкова
Метки: ложные обвинения
Смирение, послушание, покорность в чем разница?
Ответ. Бог благословит!
Вопрос. В чем разница тогда смирения и послушания и покорности? Все вроде рядом, близко и в то же время так далеко.
Ответ. Про смирение и покорность я уже ответил,
а вот послушание это то что приводит ко смирению. Человек духовно развивается проходя через три стадии - раб - наемник - сын.
Отвечал. священник Георгий Осипов
Метки: смирение
БОЛЕЕМ ГРИПП ПОМОЛИТЕСЬ О БОЛЯЩИХ ИГОРЕ И ТАТЬЯНЕ И РАИСЕ
Овцы, волки и козлища

Знание об истинах не тождественно познанию истин
Интересно идёт процесс познания: слой за слоем. Подобно процессу редактирования талантливо, но безграмотно написанного текста. Поправил один уровень ошибок — проступил другой, поправил этот — обнаружил следующий. И таких слоев может быть N-ное количество, причём, пока не снят первый слой — второй остаётся невидимым, не доступным для восприятия.
Волк в овечьей шкуре
Многие годы накапливался духовный и житейский опыт, необходимый для осознания и понимания. Но что интересно, образы ведь работают с нами не зависимо от нашего понимания, они создают чувство, переживание, ощущение, которое направляет душу в нужное русло и, постепенно, формирует вИдение-понимание . Именно поэтому Христос говорил притчами, чтобы в самое разное историческое время самые разные люди могли снимать все новые слои заложенных Им смыслов.
Итак, Господь назвал нас овцами, а себя — Пастухом стада овец. Овца — неагрессивное и, в общем, неразумное животное. Для себя я расшифровала этот образ, объясняющий нашу суть, так: мы нуждаемся в Пастухе, то есть не можем быть самодостаточными и вполне самостоятельными.
Царица Александра говорила почти то же: «народ — дитя», то есть неразумен, внушаем, доверчив и нуждается в руководстве и опеке. Мы легко можем увидеть, что ныне власть имущие используют это наше природное качество в корыстных целях. Лишь Христос — истинный Пастырь своих овец, Сам полагает душу свою за нас.
Народ, однако, уже не помнит себя, не знает своей сути, а потому мнит о себе, чрезмерно дорожит своим мнением, не взирая даже на увещания Спасителя и Церкви Его.
Господь говорил нам и о козлищах, которые затесались в овечье стадо, и обещал, что овцы, в своё время, будут отделены от козлищ.
В связи с тем, что я типичный городской житель, этот образ был долго непонятен мне. Лишь узнав, что козлы страшно смердят, я уразумела, что козлища — символ нечистоты. Действительно, встречаются люди, которые любят нечистоты и, естественно, устремлены к сокровищам сердца своего — в грязь. Их сердца любят то, что смердит пред Господом. Понятно, что на своём пути встретить Бога они вряд ли смогут, разве только как исключение, если Господь Сам явит к ним милость и сотворит чудо (не нам о том судить).
Волки, понятно, — образ хищников. Мне встречались такие пожиратели чужой жизни, чужой радости, чужих добродетелей. У них, правда, есть «клыки», которые больно вонзаются в сердца ближних, раня их и причиняя страдания. Они — насильники, ибо творят душевное или духовное насилие, они посягают на то, что им не принадлежит.
Господь также говорит о волках в овечьих шкурах. Изначально сознание верно расшифровывает этот образ: внешняя (показная) добродетель. Но лишь со временем приходит глубина постижения его, головокружительная глубина.
Если с волками и козлищами все просто и ясно, то с волками в овечьей шкуре — лишь на первый взгляд.
Мы призваны быть незлобивыми овцами, послушными Пастуху. Все мы знаем об этом. Таков образ христианина, такими мы хотим видеть себя и выглядеть перед окружающими. Евангелие рисует нам подробный портрет истинного христианина и даёт массу указаний как таковым стать.
Но беда наша в том, что путь становления христианина — это не умозрительное прохождение этого пути, не абстрактное теоретизирование на тему, а реальное дело — подвиг. Без подвига нет христианина.
Только действительно возлюбивший Христа начинает строить жизнь свою реально по заповедям. Воображать что-либо крайне просто, но и крайне опасно. Слишком легко внушить себе то, чего нет, но очень хочется. Слишком легко вообразить себя христианином — мы же знаем что это значит, мы же много читали, даже учились — МЫ ВСЁ ЗНАЕМ! Но путь ко Христу — не знание, а страдание ради Него, отказ от себя и своего в пользу ближнего и Его.
Живя благополучно, в комфорте и довольстве, человек не может стать настоящей овцой стада Христового, у него нет возможности обнаружить в себе волка. А он там есть — сидит, наряженный в овечью шкурку.
Ряженый волк агрессивен, он не любит ближнего, а лишь изображает любовь — по этому признаку его легко можно обнаружить. Потому любовь к Богу невозможна без любви к ближнему. Но что такое эта самая любовь? Ряженый волк смотрит на себя в зеркало и вполне доволен собой: очень милая овца.
Потому и дал Господь заповеди. Тот, кто любит Его, то есть Красоту, Чистоту, Любовь, Добро, Истину, тот обязательно потянется сердцем к Нему, захочет исполнить все Им заповеданное. И, по мере исполнения, будет вновь и вновь, слой за слоем, открывать своё сердце Господу, очищая его от всяческой скверны. В центре личности своей он поставит Христа и ближнего, сместив самость свою — только не умозрительно, а реально, через подвиг самоотречения, самозабвения, через подвиг служения Христу и Христовым ценностям. А без такого подвига ряженные волки остаются волками.
Исходя из всего вышесказанного, я делаю весьма печальный вывод. Типичный христианин нашего времени — скорее ряженый волк, чем овца. Именно поэтому столь часто окружающие ужасаются, видя на что мы способны. Назвавшись христианами, мы таковыми, увы, не стали. Гробы крашеные — наше второе имя.
Обо всем этом я размышляла раньше. А сегодня вот подумалось: а бывают ли ряженые под волков овцы? Думаю, да. Только эти «волки» вовсе не страшны Христу, хотя мы, конечно, можем принять их за волков.
А представьте себе схватку ряженой овцы с ряженым волком. Кому будет сочувствовать толпа ряженых доброделателей?
А козлища ряженые могут быть? Наверное, могут, но козла всегда выдаст его запах…
Опубликовано: 2009-11-26
Всеукраинский журнал «Мгарский колокол»
Метки: овцы-козлы-волки
ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ИДТИ ЗА ХРИСТОМ, А НЕ ЗА ПОЛИТИКАМИ
Митрополит Онуфрий ― постоянный член Священного синода УПЦ МП, глава Канонической комиссии при синоде ― сегодня один из самых авторитетных архиереев Украинской Православной Церкви. Он известен также как твердый противник раскола: его выступление на так называемом Харьковском Соборе 1992 года стало решающим для сохранения канонической Церкви на Украине. Богатый опыт церковной, монашеской жизни, архиерейского служения сделали Митрополита Онуфрия одним из самых почитаемых и любимых архипастырей на украинской земле.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский). Фото: Михаил Родионов / Православие.Ru
─ Владыка, Ваше архипастырское служение проходит в том крае, где Вы родились и выросли. Край это сложный, многонациональный, приграничный... Какие изменения в нем произошли за последние, не самые, может быть, благополучные в межнациональных отношениях годы?
─ Область, в которой я несу послушание епископа, называется Черновицкой. Это действительно многонациональная область, где живет много румын, молдаван, русских, есть здесь грузины и поляки, а сейчас еще прибавились и выходцы из Средней Азии. Но традиционно все населяющие наш край народности уживались мирно. Сейчас действительно время такое, когда культивируется национализм, но Черновицкую область, слава Богу, не раскачали этим национализмом, и люди продолжают по-прежнему жить в согласии, мире, терпении друг к другу.
─ Если сравнивать с другими областями Украины или России, это церковный край?
─ Да, безусловно, это край, где много верующих людей.
─ Так было и в советские годы?
─ Даже в советское время, когда верующим приходилось «прятаться» от властей, здесь всё равно было много храмов по сравнению с другими областями, Еще при Советах тут служило одновременно до 150 священников. А сейчас в нашей епархии 400 приходов при том, что население в области порядка 960 тысяч.
― При той очень непростой политической ситуации, которая сложилась на Украине сейчас, насколько Православной Церкви удается сохранять самостоятельность своей позиции, суждений?
─ Это дается совсем непросто… В основном те люди, которые ходили в церковь при атеистическом режиме, сегодня являются преданными чадами Церкви, противниками вмешательства политиков в церковную жизнь, они стоят за единство святой Русской Православной Церкви. Из тех, кто пришел в Церковь уже гораздо позже, когда настало время свободы, многие тоже стали верными чадами Церкви, но некоторые еще не имеют достаточного понимания церковной миссии, того, что собственно есть Церковь...
─ То есть можно сказать, что в значительной степени проблемы церковной жизни на Украине связаны с теми, кого можно назвать новообращенными?
─ Можно так сказать, потому что они меньше понимают и любят Церковь. Они думают, что это человеческая организация, которой можно манипулировать. Нет ясного понимания, что Церковь имеет свои законы, свои правила и свою Главу. Церковь имеет главой Христа, и она должна идти за Христом, а не за политиками.
─ Владыка, к сожалению, ни для кого не секрет, что сейчас ведется очень много разговоров о потенциальной возможности отпадения Украинской Церкви от Московского Патриархата. Насколько это, с Вашей точки зрения, реально? И если, не дай Бог, отпадение все же произойдет, то каковы будут его последствия?
─ Я убежден, что у нас нет никаких духовных аргументов в пользу того, чтобы отсоединяться от Московского Патриархата. Самая главная миссия Церкви ― это спасение человеческих душ. В нашей Церкви ― в Русской Православной Церкви ― эта благодать спасения по сей день существует. Чего еще можно большего искать в Церкви? Те люди, которые ищут своего в Церкви, а не Божиего,― они хотят отделения. Если оно совершится, то это будет против воли Божией. Если это произойдет, то я думаю, что на Украине Православие будет в очень большой опасности, и я даже уверен, что оно будет уничтожено.
─ Уничтожено или реформировано?
─ Можно назвать по-разному. Были ведь уже случаи попыток образования самостоятельной Церкви на Украине, и даже не одна, а несколько. И ни к чему доброму это не приводило. Почему? ― Не знаю: духа ли у нас не хватает, или же есть о нас какое-то Божие определение, против которого нельзя идти… А определение это, я думаю, такое, чтобы мы были дети одного князя Владимира, чтобы мы были вместе. А где эти дети живут ― на Украине, или в России, или в Белоруссии ― неважно.
─ А насколько сильны сегодня на Украине те люди, которые ищут в Церкви своего, а не Божьего?
─ В основном это люди, находящиеся при власти, имеющие административные рычаги в своих руках и использующие эти рычаги для того, чтобы Церковь разорить, причем разоряют Церковь через расколы: один раскол, второй, третий… Не все, конечно, политики на Украине действуют именно так, но таких достаточно.
─ И как преодолеть эту новую угрозу раскола на Украине?
─ Преодолеть? Она не преодолевается, надо просто твердо стоять в своей вере и исповедовать истину. У них свои цели, задачи ― расколоть, а наша задача ― сохранить Церковь единой канонической.
─ Сейчас по-прежнему, невзирая на решения Архиерейского Собора, актуальной остается проблема, скажем так, Епископа Диомида. Но, конечно, эту проблему невозможно свести к личности только лишь одного человека, одного архиерея, она гораздо шире. В чем, на Ваш взгляд, причина того, что значительная часть людей откликается на воззвания, письма, призывы, подобные тем, что раздавались до недавнего времени с Чукотки?
─ Церковь ― это организм, который оживотворяет, возглавляет и содержит Христос. Против Церкви всегда воюет дьявол. И он старается от Церкви оторвать людей под любыми предлогами: кого через политику, кого через экономику, а кого-то пытается оторвать даже через ревность по Бозе. Есть люди, ревнующие по Бозе, но может немножко у них разума не хватает, рассудительности. Апостол Павел по чрезмерной ревности гнал христиан, так что и Владыка Диомид в данном случае, он как раз является орудием тех сил, которые хотят отторгать людей от Церкви через непомерную, неразумную его ревность.
Отторгают от Церкви по причине ИНН, новых паспортов, каких-то карточек банкоматных, ― дьявол всё использует, весь арсенал соблазнов, который он имеет, чтобы человека сбить с толку и оторвать от Церкви.
─ Делается много прогнозов относительно того, как будет праздноваться в Киеве 1020-летие Крещения Руси, в частности, высказывается предположение о том, что состоится встреча главы Украинской Православной Церкви и лжепатриарха Филарета…
─ Состоится ли на празднования 1020-летия Крещения Руси официальная встреча нашего предстоятеля, который возглавляет Православную Церковь на Украине, митрополита Владимира с раскольником? Нет, этого не будет. Если идет речь о воссоединении, то здесь наша позиция такая: у нас двери открыты, мы не имеем права их закрывать, но эти двери являются дверями покаяния. Может произойти присоединение отпадших через покаяние, через исправление тех ошибок, которые они сделали, тех канонов, которые они нарушили. У нас такой принцип: мы можем говорить о соединении православных верующих только на основе канонов святой Православной Церкви.
─ Сегодня на Украине человеку, не очень хорошо понимающему все тонкости современных церковных отношений, легко перепутать православный храм с униатским, храм, относящийся к Украинской Церкви Московского Патриархата ― с храмом раскольников. Как «обычному» человеку, живущему на Украине, только приходящему в Церковь, или же приехавшему на Украину, избежать ошибки?
─ Спросить людей, кто глава Церкви. А если некого спросить, если зашли по ошибке, послушать кого поминают. Если поминают Филарета или Мефодия Кудрякова, или папу Римского ― выйти из нее, а если Патриарха и митрополита Владимира ― остаться.
─ А как с Вашей точки зрения, есть какие-то специфические различия в церковной жизни в России и на Украине?
─ Отличия есть, может быть, в каких-то незначительных административных элементах, в решении экономических, хозяйственных вопросов, но не в вероучении. В Божественных службах ― всё то же самое.
─ Владыка, было время, когда Церковь оказалась практически полностью выключенной из общественной, тем более, политической жизни государства. Церковь тогда находилась в крайне стесненных условиях. Сегодня включение в политику, наоборот, происходит, иногда осознанное, иногда неосознанное, но, вероятно, оно тоже таит в себе какие-то опасности. Вы так не считаете?
─ Считаю. Знаете, есть такой совет у духовных отцов, что в монастыре не должно быть слишком близких, дружеских отношений, чрезмерной откровенности между братьями. Потому что, поскольку люди несовершенны, иногда эти близкие, откровенные отношения, то, что они там друг другу поверяют какие-то тайны сердечные, враг потом может употребить и обернуть так, что эти же самые люди станут непримиримыми врагами. Такое бывало и может быть и в Церкви, и в государстве: и там, и там люди несовершенны. И такое чересчур близкое соединение может в результате обернуться взаимной ненавистью. Дай Бог, чтобы такого не было.
─ Владыка, у Вас в епархии, Вы сказали, где-то около миллиона всего жителей, и при этом ― 400 приходов и порядка 500 монашествующих. Это очень много…
─ Обуславливается это во многом тем, что советская власть в России установилась с 1917-го года, а у нас на Буковине ― с 1946-го. И таких гонений, таких жестоких разрушений, которые пережила Россия, там не было. Я думаю, что это один из основных факторов.
─ То есть всё-таки традиции церковной и монашеской жизни там сохранились в большей степени, чем в России, точнее, в меньшей степени были уничтожены?
─ Да. Ведь здесь не было такого уничтожения монашества, священства, верующих, как в России. По крайней мере, именно в Черновицкой области, потому что другие области, которые были под Советским Союзом с самого начала, претерпевали то же.
─ Если говорить о ситуации с монастырями, то, к сожалению, часто в России бывает так, что когда устраивают новую обитель или же возрождается существовавшая ранее, то просто не оказывается опытного наместника, опытного духовника, которые могли бы правильным образом организовать жизнь в этом монастыре, и потому зачастую становление нового братства бывает очень трудным, мучительным.
─ Это общая проблема. И у нас такие же проблемы, такие же монастыри. И у нас тоже все молодые монахи, прервана традиция монашеского жития и поставлены наместниками, игуменами молодые монахи. И они учатся, как жить, и стараются учить, как жить, свою братию. Человек духовно учится ходить сам, и другого тоже учит ходить... Но, конечно, очень важно для монастыря, какой настоятель. Это как ядро, если оно будет здоровое, то вокруг него и здоровый организм образуется, а если больное, может организм сложиться, а изнутри будет гнить, слабый будет, хилый.
С митрополитом Онуфрием (Березовским)
беседовал игумен Нектарий (Морозов)
Православие и современность
24 февраля 2014 г.
В связи с медицински удостоверенной невозможностью для Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять исполнение обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив Его Блаженство в больнице, Синод принял решение о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры.
В соответствии с нормами Устава Украинской Православной Церкви тайным голосованием на должность местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.
Биография митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия
Постоянный член Священного Синода УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский Орест Владимирович) родился 5 ноября 1944 г. в с. Корытном Вашковского р-на Черновицкой обл. Украины в семье священника.
В 1964 г. окончил Черновицкое техническое училище, работал в строительной организации, в 1966 г. поступил на общетехнический факультет Черновицкого ГУ. В 1969 г. оставил университет и поступил в Московскую духовную семинарию.
В 1970 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. 18 марта 1971 г. пострижен в монашество, 20 июня — рукоположен во иеродиакона, 29 мая 1972 г. — во иеромонаха. В 1980 г. возведен в сан игумена. 28 августа 1984 г. назначен настоятелем Преображенского храма Афонского подворья в с. Лукине Московской обл. 28 июня 1985 г. назначен благочинным Троице-Сергиевой лавры. 15 декабря 1986 г. возведен в сан архимандрита.
В 1988 г. окончил МДА со степенью кандидата богословия.
20 июля 1988 г. назначен наместником Успенской Почаевской лавры.
9 декабря 1990 г. во Владимирском соборе Киева хиротонисан во епископа Черновицкого и Буковинского.
22 января 1992 г. отказался подписать обращение архиерейского совещания УПЦ к Святейшему Патриарху Алексию II о предоставлении автокефалии Церкви на Украине, 23 января митр. Филаретом (Денисенко, впоследствии анафематствован) переведен на Ивано-Франковскую кафедру.
7 апреля 1992 г. восстановлен на Черновицкой кафедре. 28 июля 1994 г. возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ.
22 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита. 23 ноября 2013 г. Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром удостоен права ношения второй панагии.
24 февраля 2014 г. на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры.
24 февраля 2014 года
Метки: Беседа с батюшкой
В вашей семье случилось горе – умер человек. Что делать?
Успение – сон, засыпание. Заснуло смертным сном тело, а душа жива, душа бодрствует…
Или другое слово – преставление. Мы молимся о ново-преставленном рабе Божием. Был с нами – переставился в другой мир.
Для христиан – смерть лишь переход на иной уровень бытия, уход к Богу. И похороны для христиан – это не ужасное прощание с человеком, который был, и теперь его нет, а проводы в мир иной любимого человека, чья душа бессмертна.
И проводить человека за границу земного мира мы должны достойно. Достойные проводы – это церковное погребение.
Оно совершается только над крещеным православным человеком.
Придите в любой храм и обратитесь к женщинам, продающим свечи, или к священнику. Там вам расскажут, как организовать отпевание, как заказать поминание. Все это — продуманная и, если так можно выразиться, отработанная процедура, так что к вам отнесутся с вниманием и деликатностью и не будут мучить бюрократическими придирками (как часто встречается в государственных органах).
Отпеваем мы обычно в храме в день похорон. Потом покойного везут на кладбище, а в храме остается записанным для церковного поминания его имя. О нем молятся.
Какие существуют виды молитв за покойного?
Их много. Например, панихида – небольшая служба, во время которой мы просим Бога простить грехи покойного, принять его в Царство Небесное. (Именно панихиды служатся на кладбищах, когда мы приглашаем священника посетить могилку.)
Высшая форма поминовения – за Литургией. Тогда поминаемые люди становятся участниками Причащения, соединяются со Христом. За любой Литургией причащаются живые, находящиеся в храме (например, мы с вами), и душою причащаются все те, за кого молятся, хотя бы человек даже и умер.
В свечных ларьках, в которых принимают записки, обычно пишут: «На обедню» или «На проскомидию». Это как раз и означает поминание за Литургией.
А что такое сорокоуст?
А это поминание покойного за Литургией, которое будет совершаться на протяжении 40 дней. (Уточню: многте думают, что сорокоустное поминовение заказывают только об усопших. Это не так: на сорокоуст подают и о здравии.)
Кроме того, можно заказать поминание на полгода, на год и даже… вечное. Вечное поминание – это поминание человека, которое будет совершаться в этом храме до тех пор, пока стоит храм. (После революции, когда закрывались храмы и монастыри и из них изымались книги, находили поминальные списки еще домонгольского времени.)
Простите, а если человек был некрещен?..
О некрещеном человеке мы можем молиться только сами — дома или в храме. В записках, подаваемых на поминание, мы не пишем имена некрещеных. Это не значит, что такой человек проклят, как иногда приходиться услышать от несведущих людей. (У меня самого есть некрещеные родственники, о которых я вспоминаю с теплом и любовью.) Просто Церковь молится за богослужением только за своих членов, людей захотевших быть христианами, или тех, за кого это решение приняли родители (если человек был крещен во младенчестве)!
Что значат 3-й, 9-й, 40-й дни после смерти?
Не буду подробно говорить об этом, но это особые дни для души, разлучившейся с телом. В эти дни, а также в годовщину смерти (это как бы новый день рождения, то есть рождения в новую жизнь) нужно прийти в храм и помолиться за усопшего.
Сколько носить траур?
Несколько дней назад ко мне в храм пришла женщина и попросила благословения выйти замуж. При этом она добавила: «Я вдова». Я спросил, когда она похоронила мужа. «Уже почти полгода…»
Вот это тот самый пример, когда мы делаем что-то не то… До года мы молимся о усопшем как о новопреставленном, это же время можно носить траур. Хотя бывают такие потери, что и по прошествии многих лет трудно смириться с утратой…
В заключение я хотел бы напомнить слова святителя Феофана Затворника, нашего отечественного подвижника XIX века. Он однажды сказал: «Давайте плакать о почившем… Но плакать по-христиански!» Это значит, что в наших слезах не должно быть безнадежности и отчаяния. Это разлука не навсегда, но лишь на какое-то время. В свое время все мы встретимся за порогом этой жизни».
Более того! Человек, который «ушел» от нас, – может участвовать в нашей жизни, он слышит наши просьбы, он любит нас. Когда мы молимся за покойного, этим самым мы устанавливаем связь с ним, как бы протягиваем ему руку поддержки.
И последнее: Все мы предстанем перед Богом. И дадим Ему ответ в том, как жили. Пока не поздно, пока еще можно что-то исправить (когда умрем – уже будет ничего не исправить), покаяться, измениться к лучшему, — воспользуемся этой возможностью.
Храни Вас Бог!
священник Константин Пархоменко
БЫТЬ В Церкви и не спастись
Евангельский текст в Неделю блудного сына напоминает нам о чем-то глубоко волнующем, потому что обычно мы сводим всю эту историю к младшему сыну, который жил так, как жил, но потом покаялся, тогда как то, что должно нас потрясти, – это поведение старшего сына, который в конечном счете не был спасен. Как я уже говорил, слово «блудный» (άσωτος), каковым был младший сын, состоит из отрицательной частицы «α» и глагола σώζομαι («спасаюсь»), то есть жить блудно – значит жить таким образом, который в конечном счете тебя не спасает.
Что же тут самое трагичное? То, что ты можешь находиться в Церкви – и не спастись! Мы тоже рискуем, что с нами такое может случиться. Жить блудно в Церкви – как это бывает, нам объясняет евангельский текст, на котором я хочу остановить ваше внимание, поскольку он показывает нам, как это возможно – быть в Церкви и жить блудно, и даже хуже того – оказаться отверженным Самим Богом.
Что же тут самое трагичное? То, что ты можешь находиться в Церкви – и не спастись!
Этот евангельский текст посвящен Второму Пришествию и содержит много тем для рассмотрения. Во-первых: само Второе Пришествие, независимо от того, нравится ли нам это или нет, действительно произойдет, как произошло и Первое Пришествие. Каким было Первое? Оно было боговоплощением – тем фактом, что Бог стал Человеком, что Он пришел в мир, открыл Себя людям, совершая всецелое дело Своей любви, чтобы спасти человека. И как имело место Первое Пришествие, так же будет иметь место и Второе Пришествие с теми условиями и предпосылками, которые Сам Христос назвал нам: когда приидет Сын Человеческий и все Ангелы…[2].
Итак, Он придет. Сколько бы мы ни рассуждали об этом как о каком-то мифе, это реальность, и этот приход Христа будет означать Суд миру. Христос многократно подчеркивает, что Он пришел в мир не судить его, а спасти[3].
Что же значит верить в Бога? Это не значит соглашаться с тем, что Он существует, ведь Бог не нуждается ни во мне, ни в вас, – а доверяться Ему, доверяться Его личности. Бог не неведом, ведь Он явился во плоти, и Христос есть Сын и Слово Божие, Он вошел в наш мир и именно поэтому может быть изображен, и посредством Своего изображения Он уверяет нас, что Он стал Человеком, стал Одним из нас.
Он сказал нам, что верующий в Него не будет судим[4]. Почему? Потому что он поверил, он доверился Богу, то есть ты доверяешься Его лицу и слову, ты доверяешь тому, что Христос – Сын и Слово Божие, ставшее Человеком.
В другом месте святой евангелист Иоанн подчеркивает, что тот, кто не принимает Сына Божия во плоти, есть антихрист[5]. Затем он снова говорит нам, что кто не верует, тот уже осужден, потому что не поверил[6].
Итак, в каком смысле Второе Пришествие будет Судом миру? В том смысле, что Пришествие реально будет судить нас. Почему же? Потому что тогда мы вынуждены будем занять определенную позицию по отношению к Тому, Кто пришел. И эта позиция будет означать Суд.
В сущности ад и рай, говорят отцы, не касаются Бога, они касаются нас. Ад и рай будут существовать для нас, а не для Бога. Что представляют собой рай и ад? Это одно и то же – ад и рай являются одним и тем же. Чем же? Пришествие Бога в нас – это наш суд. Это наш рай, и это же может быть нашим адом.
Когда Пришествие Бога является раем? Когда мы любим Того, Кто приходит, ждем Его, жаждем Его. Когда любишь кого-то и он приходит в твой дом, разве ты не радуешься этому? Следовательно, для того, кто любит Бога, Его Пришествие не означает страх и ужас, а, наоборот, радость, оно будет означать его восполнение, его прославление в славе Бога, наполнение его жизни светом.
Страшный Суд
С другой стороны, что скажут тогда все не возлюбившие Бога, все воевавшие с Ним, что они будут делать, смогут ли они тогда отрицать Его? Ведь Он будет стоять перед ними. И это Пришествие станет для них мучением.
У света имеются два свойства: первое – светить, второе – жечь
Поскольку Христос говорит: Я свет миру[7], то отцы Церкви учат, что у света имеются два свойства: первое – светить, второе – жечь. Для тех, кто возлюбил Бога и ушел из этой жизни в покаянии, Пришествие Бога будет светом, оно будет освещать их жизнь, и они будут радоваться этому свету. А для других свет будет иметь второе свойство – жечь, и они будут страдать именно от этого света, как больной глаз страдает от яркого освещения. Поэтому мы не говорим ни о котлах и смоле, ни о цветах и красотах, а о Пришествии Бога, которое превыше всякой красоты.
Задумайтесь: почему мы отвергаем Бога? Если вы прочтете Евангелие, то не увидите, чтобы Христос сделал что-нибудь плохое. Он провел Свою жизнь, творя добро и исцеляя всех. Он отдал нам Самого Себя, Свое слово, Свою истину, унизился ради нас, был распят на Кресте – что же плохого можно найти во всём этом? Так что же может заставить человека отвергнуть такого Бога? Бога, Который есть любовь, Бога, Который отдает Себя для того, чтобы жили мы? Только одно – человеческий эгоизм, эгоизм, который твердит: «Нет, я не стану подчиняться Божией воле, но своей!»
В конечном счете наша воля – это смерть, наша воля запирает нас в смерти.
Некоторые говорят:
– Хорошо, но может ли быть Богом Тот, Кто допускает, чтобы Его творения страдали?
Но Бог виноватым не будет. Бог есть любовь и будет ею, это люди не будут выносить любви Бога, и она будет означать для них мучение.
Не надо принижать Бога до меры нашей злобы. Это мы призваны возвыситься до меры Его любви
Что же должен сделать Бог, чтобы стать плохим? Стать таким, как один из нас, таящих злобу? И тогда мы почувствуем, что Он наш? Следовательно, не надо принижать Бога до меры нашей злобы. Это мы призваны возвыситься до меры Его любви, стяжать ум Христов и сердце, и тогда ощутим радость от Его Пришествия.
Вот именно это создает рай и ад – то, что мы называем концом света. Мир прейдет и преобразится. В апостольском чтении на отпевании точно описывается, что будет при Втором Пришествии, а именно: мы, живущии оставшии в Пришествие Господне[8], изменимся, то есть тело из материального сделается духовным, и мы устремимся навстречу Господу, а одновременно с этим все мертвые воскреснут, и душа человека станет искать свое тело, где бы оно ни было положено.
Бог создал нас как душу-тело, а не с душой и телом, и тело – это не темница души, тело – храм Святого Духа, обиталище Бога. Поэтому когда кто-нибудь умирает, мы кадим его ладаном, потому что это то тело, с которым он жил в добродетели или грехе, в покаянии или эгоизме. Человек живет вместе с телом своим.
В смерти страшно не то, что мы уйдем из этого мира. Ведь никто не считает чем-то страшным уехать с Кипра и переехать в Грецию или же переехать на Кипр, если жизнь, которую он проводит, хорошая. Что же тогда страшно? Страшно отделение души от тела и уничтожение гармонии между ними, ведь они выросли вместе.
Тогда наступит то, что мы называем изменением всего мира. Поэтому Евангелие говорит нам очень ясно, что мы ожидаем нового неба и новой земли[9], совершенно нового состояния вещей, преображенного в Божией благодати, где, к сожалению, эта благодать для некоторых будет означать муку.
Страшный Суд
Евангелие говорит нам, каков критерий, и я снова возвращаюсь к тому, что сказал до этого, а именно, что возможно жить блудно в Церкви. Христос говорит просто и ясно:
– Придите, благословенные Отца Моего! – то есть чтобы пришли те, которые имели любовь. Почему? – Потому что алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; наг был, и вы одели Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
И они Его спросят:
– Но, Господи, когда же мы сделали это?
И Он скажет им:
– Поскольку вы сделали это братьям Моим меньшим, то сделали Мне[10].
Это страшно, потому что по сути Христос говорит нам, что каждый человек прежде всего – Его икона. И поэтому мы лицемеры и фарисеи. Подобное нам делал фарисей, когда вошел в каменный храм и благодарил Бога, а в то же время оскорблял живой храм Бога, которым был его ближний – мытарь.
Каким же был мытарь? Он был запятнанной иконой Бога, но через покаяние очистился и поэтому был хорошо принят Богом, тогда как фарисей говорил, что постится два раза в неделю, подает десятину, но чего у него не было? У него не было любви в душе, и поэтому он был отринут: он не был сроден Богу.
Заметьте: Бог есть любовь, Он не имеет любовь, а есть любовь. Разница между имеет и есть огромная. Мы, люди, сотворены по образу Божию, и даже само наше устройство таково. Скажу вам, что я имею в виду под этим «быть любовью».
Когда вы слышите, что кто-нибудь говорит: «Я имею любовь!» – знайте, что у него есть только эгоизм и ничего другого.
Многие спрашивают:
– До каких пор мне любить?
Когда я имею любовь, я завтра могу не иметь ее.
А когда ты сам есть любовь, ты даже на зло ответишь любовью, потому что это твоя жизнь
Ты спрашиваешь, до каких пор тебе любить, когда сама жизнь твоя должна быть любовью?! Вот в чем разница. Когда я имею любовь, я завтра могу не иметь ее, и обычно люди, говорящие, что имеют ее, не имеют ее. А когда ты сам есть любовь, ты не можешь поступать иначе и даже на зло ответишь любовью, потому что это твоя жизнь, потому что это твоя натура, и поэтому злоба другого не может изменить твою душу.
Если мы здравы умом, что мы делаем с больным человеком? Жалеем его. Что сказать человеку, который порой не знает, что творит? А он тебя поймет? А вы придете к взаимному согласию? Ты видишь, что он достоин жалости, хочет помощи, и поэтому если он скажет тебе плохое слово, ты не презираешь его, а говоришь:
– Да ладно, он сам не знает, что говорит!
Ты жалеешь его, не ненавидишь. То же самое и душевно больной – и здесь я использую выражение «душевно больной» не в смысле психиатрии, а в его духовном значении. Душевно больной человек – это самый достойный сожаления человек из всех людей. Другими словами, он заслуживает того, чтобы ты жалел его, оплакивал, а не ненавидел.
Нам очень ясно говорится, что человек – это икона Бога. Каково же наше устройство? Церковь учит нас, что мы личности, а не индивиды. Я отделяю свою индивидуальность от вас и даже могу противопоставить ее вашей. Однако как личность я могу функционировать только в связи с другими. Вот что означает личность: я существую перед лицом другого.
Почему же человек является личностью? Потому что он может сам встать пред лицом Божиим и иметь связь с Богом. Именно поэтому мы личности, то есть личность характеризуется отношением. А каково содержание отношения? Только любовь. Мы сотворены по образу Божию, Бог един в Своей сущности и имеет Три Лица, и Он есть любовь. Лица любят друг друга, взаимно проникают друг в друга, и одно Лицо есть радость и слава другого.
Ну, а какова наша собственная жизнь? Как же формально то, что мы говорим, а именно, что мы, православные христиане, верим в Троичного Бога – Отца, Сына и Святого Духа! Почему же мы говорим это? Может, такова прихоть Бога? Или же способ, каким мы сами должны жить?
Крещение Господне
Когда Бог истинный открывает Себя на реке Иордан, что Он Един в Трех Лицах, Он в сущности открывает нам, каковы мы, созданные по образу Божию. Сейчас, когда я вижу мой Первообраз, сейчас я это понимаю. Следовательно, я должен любить того, кто рядом со мной, и это не мой долг, а моя жизнь. Человек, который не любит, – это противоестественный человек. Надо хорошенько понять это. Это больной человек.
Человек, который не любит, – это противоестественный человек
Вы знаете, в Церкви есть такая категория святых, которые называются юродивыми Христа ради, – это явно безрассудные люди Христа ради, они совершают безумные поступки, но они святые. Они делают это, потому что не хотят, чтобы мир понял, что они святые, и иногда притворяются безумными, чтобы помочь другому покаяться. Эти люди притворяются ради любви Божией.
Поэтому важно, чтобы мы задумались: не есть ли некоторые люди рядом с нами – немощные, бедные, больные, заключенные, – не есть ли они по сути данная нам Богом возможность поупражняться в любви? Как упражняться в ней? Я могу сказать, что имею любовь, но стоят ли эти слова чего-нибудь? Ведь на деле видно, что мы имеем. Поэтому Христос говорит очень просто: Я был голоден, и вы дали Мне есть. Или когда Его спросили, и Он сказал: идите от Меня[11]. Что же тут служило критерием? Отсутствие любви в их жизни.
Вопрос в том, есть ли у тебя способность любить, смотреть на другого и отождествлять его с собой. И не ждите, когда человек придет в состояние отверженности, чтобы тогда делаться спасателями, ведь человек может оказаться изгоем не по лености, а из-за жизненных обстоятельств. Есть люди, у которых была очень хорошая работа, и они неожиданно лишились ее. То есть я говорю, что если у меня есть холодильник дома, то и у другого есть право иметь его, и если у меня есть право иметь автомобиль, то и у него есть такое же право. Вот это настоящее человеколюбие.
Что такое Божие человеколюбие? Это тот факт, что Бог стал тем, кем являемся мы. Он не спас нас с высоты, а унизил Себя, и мы призваны унизиться и служить людям с тем чувством, что наш ближний – это сокрытый Христос.
Когда мы имеем и переживаем эту любовь, над нами иногда могут даже смеяться. Но это неважно: и над Христом тоже смеялись. Вопрос в том, с каким расположением ты делаешь то, что делаешь. Нужна также и рассудительность, чтобы не навредить, а принести пользу. Если бы мы имели любовь, то не было бы несчастных людей.
Итак, каким же будет критерий при Втором Пришествии? Критерием является сродство с Богом, Который есть любовь. Это то, что я говорил вам вначале.
Кто такие благословенные? Это те, которые возлюбили в своей жизни. И заметьте: не те, которые возлюбили эгоистично, вот в чем разница. Те, которые возлюбили человека, другого, какого бы то ни было человека вообще как икону Бога и служили ему с этой мыслью и перспективой. Они и есть те люди, которые любят Бога и служат Ему в лице других, и поэтому Пришествие Бога будет для них радостью.
Кто такие другие люди? Это те, которые не возлюбили в своей жизни, те, которые нашли удобный повод для того, чтобы даже обвинить другого человека и не заниматься им. В последовании браковенчания мы дважды молимся о том, чтобы Бог наполнил дом новой супружеской пары всяческим благом. Почему? Чтобы мы наслаждались им эгоистично? Нет, ведь сказано ясно, что даже то, что ты считаешь своим, не твое: ты лишь домовладыка, управитель. А вы знаете, что когда управляющий в какой-нибудь компании совершит злоупотребление, то есть присвоит деньги другого, тогда его привлекают к судебной ответственности.
Тут Бог говорит нам:
– Я наполнил дом твой и жизнь твою массой благ – почему, как ты думаешь? Чтобы ты наслаждался этим эгоистично и презирал других? Нет, но чтобы давал и тем, кто нуждается. Я дал тебе их, чтобы ты распоряжался ими правильно, а в конце ты дашь Мне в этом отчет.
Ну и, конечно же, кто распоряжается правильно? Тот, кто имеет любовь.
А в чем мы нуждаемся, чтобы быть счастливыми? Только в одном – в том, чтобы иметь любовь, тогда у нас есть всё. Потому что беден не тот, кто имеет мало, а тот, у кого много нужд и претензий и кто постоянно производит новые. Сегодня мы видим это. Мы живем в обществе потребления. А что говорится в Евангелии? Когда у меня есть пища и одежда, этого достаточно[12]. Всё остальное не делает нашу жизнь счастливой.
То, что делает счастливой нашу жизнь, – это Божия любовь и благодать. Поэтому есть люди, которые бедны, но довольны тем, что Бог им дает, счастливы и правильно воспитывают своих детей. И есть люди, которые богаты, но в их дворцах царит несчастье, и родные дети не любят их и не уважают, потому что у них нет времени заниматься ими.
У отца не было времени заниматься – чем? Своим ребенком. Тогда для чего он становился отцом?
Слышу об этом и просто выхожу из себя. У отца не было времени заниматься – кем? Своим ребенком. Тогда для чего он становился отцом? Чтобы давать ему только материальные вещи? Главной предпосылкой отцовства является общение в любви между отцом и ребенком, которому он передает жизнь и нрав, а не материальные вещи.
Вспоминаю, что однажды некоторые родители уехали в другую страну, чтобы заработать денег, и оставили ребенка у своих близких. Когда вернулись, ребенок уже считал тех своими родителями и вошел в большой конфликт со своими настоящими родителями. Он не был безразличен к ним, но и не испытывал потребности быть с ними. И когда однажды родители сказали ему:
– Но, деточка, мы же твои родители! – он им ответил прямо и резко:
– В те минуты, когда я искал вас, вас не было рядом! Для меня родители те, кто был со мной!
Разве ребенок не был прав?
Мы оправдываемся: «Но я ведь родил ребенка!» Вопрос в том, чтобы знать, что нужно делать, а не делать, что нам взбредет на ум, полагая, будто наш ребенок нуждается в этом. Ведь мы дали ему дом и опустошили душу.
Поэтому в этом евангельском тексте мы очень ясно видим, что тут нет ничего магического: наша собственная жизнь будет судить нас за то, как мы жили, и в зависимости от того, как мы жили: встретили ли мы Бога, Который в сущности будет нашей радостью. Поэтому мы, христиане, ожидаем Второго Пришествия с радостью, а не со страхом.
Ну а если мы не жили с любовью?
Конечно, есть вероятность, что кто-нибудь скажет:
– Хорошо, отче. Но мы ведь люди. Мы пали. Эгоизм сделал свое, мы хотели… – и т. д.
Притча о Богаче и Лазаре
В евангельском тексте о богаче и Лазаре говорится, что богач умер и был погребен. Бедный Лазарь тоже умер и был погребен. И богач отправился в ад, а Лазарь – на лоно Авраамово[13]. Есть две разные вещи: одно дело – жизнь человека после смерти, а другое – жизнь после Второго Пришествия. После смерти в период до Второго Пришествия душа находится в промежуточном состоянии, которое для праведников называется лоном Авраамовым, то есть лоно Авраамово – это Сам Бог. Ад – это духовное пространство, в котором находятся умершие, которые жили, не имея любви и не полагаясь на Божию любовь.
Конечно, Церковь говорит нам очень ясно, что с момента нашей смерти до Второго Пришествия имеет место динамичное, а не статичное состояние. Поэтому мы совершаем поминовения в Церкви, поэтому молимся о людях, которые отошли из мира сего в покаянии, но не подготовившись правильно.
Первым и великим грехом, изгнавшим Адама из рая, был его эгоизм. Вы помните Закхея? Он жил как жил, но в какой-то момент был потрясен и раскаялся в своем образе жизни[14]. Поэтому наши молитвы помогают исключительно много этим людям, которые ушли из жизни сей в покаянии, но не примирены полностью, и поэтому мы молимся непрестанно.
На днях я читал о старцах Паисии и Порфирии и видел, какое старание они вкладывали, молясь о почивших, как увещали других мирян и монахов молиться об умерших, потому что эта молитва помогает им исключительно много. Они ничего больше не ждут, кроме нашей молитвы, любви, Святой Литургии, которую мы совершаем во имя их, милостыни, которую подаем ради них, потому что всё это действительно улучшает их положение, поскольку окончательный Суд еще не наступил.
Конечно, люди совершенно нераскаянные невосприимчивы к Божией благодати. Читал я о старце Паисии – знаете, какую любовь имел этот человек? Видите, как человек меняется, какую любовь он приобретает, такую любовь, что даже за диавола молится. Он помолился Богу о диаволе, чтобы тот был спасен, и тут, преклоняя колени и молясь о диаволе, почувствовал возле себя что-то, обернулся и увидел диавола в виде собаки, хохочущего над ним, и сказал ему:
– Ах, я молюсь о тебе, а ты смеешься!
Итак, вот какова любовь людей, а мы приходим и говорим:
– Я не могу простить его!
Христос говорит нам: если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6: 15). Категоричные слова. Всё. Конец.
В конечном счете вопрос в том, на кого ляжет ответственность – на Бога, если мы окажемся в аду? На нас, потому что мы отказываемся от любви.
– Но он плохо поступил со мной!
Хуже, чем мы – с Богом?
Митрополит Сисанионский и Сиатистский Павел (Иоанну)
Перевела с болгарского Станка Косова
Dveri.bg
20 февраля 2014 года
Справка: Митрополит Сисанийский и Сиатистийский Павел родился в 1947 году в г. Халкида, Греция. В 1971 году окончил богословский факультет Афинского университета, в 1973 году рукоположен в диакона, в 1974-м – в пресвитера. С 1998 года является секретарем синодальной комиссии по христианскому образованию молодежи и других синодальных органов. Председатель фонда «Тасос Георгиадис». 28 февраля 2006 года избран митрополитом Сисанийской и Сиатистийской епархии Элладской Православной Церкви.
[1] Сроден – родственен.
[2] Ср.: Мф. 25: 31.
[3] См.: Ин. 3: 17; 12: 47.
[4] См.: Ин. 3: 18.
[5] См.: 1 Ин. 4: 3.
[6] См.: Ин. 3: 18.
[7] Ин. 8: 12; 9: 5.
[8] 1 Сол. 4: 15.
[9] См.: 2 Пет. 3: 13.
[10] Ср.: Мф. 25: 34–40.
[11] Мф. 25: 41.
[12] См.: 1 Тим. 6: 8.
[13] См.: Лк. 16: 19–31.
[14] См.: Лк. 19: 1–10.
Метки: Страшный суд
БЕЗ ВЕЧНОСТИ ЧЕЛОВЕК ПРОПАДАЕТ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В сегодняшнем Евангелии о Страшном Суде Бог открывает нам, как Он придет со славой, чтобы судить мир, восстановить всё в его истинном положении, и говорит нам, что критерием на Суде станет любовь, которую мы проявляли к братьям нашим. Господь описал нам эту страшную картину Своего последнего Суда.

Он говорит на эти темы образно, поскольку ничто в этом мире не может уподобиться тем грядущим событиям. Когда Он говорит, например, что сядет на престоле славы[1], то это не означает, что будет стоять некий престол – деревянный или золотой, на который Он воссядет; не будет также и левой и правой сторон, чтобы Бог ставил одних по правую сторону, а других – по левую. Однако таким образом Христос раскрывает нам картину грядущих событий, насколько это возможно для наших человеческих способностей.
В Евангелии Он говорит, что когда Он придет в день тот и сядет на престоле славы, то соберет людей перед Собой, как пастырь знает свое стадо и отделяет овец по правую сторону, а коз – по левую. Овцы незлобивы, невинны и, так сказать, более благородны, чем козы, которые считаются непослушными и буйными и не очень повинуются. Таким же образом Бог отделяет людей и ставит одних справа, а других – слева от Себя.
Господь говорит одним: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»[2]. Почему?
– Потому что, – говорит Господь, – Я был странником, и вы приняли Меня, был беден, и вы помогли Мне, был наг, и вы Меня одели, был в темнице, и вы Меня посетили, был болен, и вы позаботились обо Мне, – и тому подобное.
Конечно же, люди спросят:
– Но когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, в темнице, странником и сделали всё, о чем Ты говоришь?
Повернется Он и к грешным, к тем, что слева, и они зададут тот же вопрос:
– Но когда мы, Господи, видели Тебя голодающим и не дали Тебе еды, когда видели странником и не ввели Тебя в дом? – и т. д.
Христос говорит очень серьезные слова, которые являются ключом, открывающим нам сущность евангельского чтения. Он говорит людям:
– В тот момент, когда вы сделали это вашим братиям, вы сделали это Мне.
Другими словами, «с того момента, в который вы научились в лице другого человека видеть Меня, всё, что вы делаете для него, относится и ко Мне, Христу – средоточию любви подвизающегося человека».
Христос завершает словами: «и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»[3]. История человечества завершается вхождением праведников в вечное Царство Божие и вхождением людей, – которые, к сожалению, окажутся далекими от Бога, – в вечное отстранение и отчуждение от Божией любви.
Сегодняшний евангельский текст – это, в сущности, очень радостное, но и очень серьезное благовестие, хотя оно и кажется очень строгим. Почему же оно радостное? Потому, что Господь наш уверяет нас, что всё настоящее имеет конец. Сегодня Христос уверяет нас, что образ мира сего преходящ, что всё проходит, ничего не останется, всё пройдет, и, что бы ни происходило в мире сем, Господь придет, чтобы рассудить и оценить это.
Это означает, что мудрость и бдительность каждого человека заключается в том, как он сможет обратить на пользу настоящее в вечном Царстве Божием. Как человек, каждый из нас может обратить на пользу то, что у него есть сейчас: радость или скорбь, счастье или несчастье, независимо от того, молод он или стар, богат или беден, – всё, что бы ни было у человека.
Христу будет принадлежать последнее слово в истории мира. Когда Господь придет в славе, Он всем воздаст по справедливости и расставит всё по своим реальным местам.
Если отнять у нашей жизни продолжение ее в Царстве Божием, то этот мир действительно – театр абсурда.
Часто люди спрашивают себя, и по праву: «Но почему столько несправедливости на свете? Почему молодые покидают мир сей, почему маленькие дети умирают от голода, болезней, брошенные, почему?» И всё выглядит так, будто праведные, и правда, остаются в ущемленном положении. Все мы часто бываем в такой ситуации, когда чувствуем, что справедливость словно забыла о нас. И это действительно так. Доказано, что мир таков, каково происходящее в нем. Если отнять у нашей жизни продолжение ее в Царстве Божием, то этот мир действительно – театр абсурда: мы имеем абсурдный мир, основным признаком которого является несправедливость.
Тогда ты действительно чувствуешь, что реально задыхаешься, и тебе хочется совершить грандиозный бунт и разрушить этот мир. Почему? Потому что несправедливость, которая у тебя перед глазами, иначе никак нельзя понять и объяснить. Как ты объяснишь несправедливость такому человеку, которого обидели, который голодает, страдает, умирает, болеет, теряет близких, как ты объяснишь этому человеку, что происходит, если отнять у него сознание и чувство вечного Царства Божия? Это действительно невозможно.
Без вечности человек буквально задыхается в своей повседневности. Христос, однако, сегодня уверяет нас, что у настоящей жизни есть продолжение, и это такое продолжение, что настоящее, как говорят отцы, будет как несуществующее. Оно словно не существует. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Не удивляйся настоящему, ибо жизнь мира сего – театр, наша жизнь – театр; закончилось представление – закончилось всё. И не увлекайся тем, что видишь, а смотри вовне, чтобы найти реальность».
Святитель Василий Великий тоже обращает великолепное слово к христианам: «Внимай, ибо ты путник, а не житель, ты идешь, а не живешь в этом мире, ты в пути, так не обманывайся же, чтобы сесть где-нибудь и сказать: “А здесь хорошо, останусь я тут!” Тогда ты будешь похож, – говорит он, – на того, кто садится на корабль, чтобы добраться в некую страну, но забывается, корабль начинает ему нравиться, и он строит себе дом на корабле». Но ты сойдешь с него в определенный момент, ты не останешься там. Надо готовиться, потому что это лишь момент нашей жизни, и он недолог.
Мы не ожидаем Христа для того, чтобы Он наказал несправедливых, нет.
Это действительно радостная весть сегодняшнего евангельского текста – то, о чем мы говорим в Символе веры: «Чаю воскресения мертвых». Глагол «чаю» означает: ожидаю с сильным желанием того часа, в который Господь придет, и наступит справедливость для нас. Мы не ожидаем Христа для того, чтобы Он наказал несправедливых, нет, это было бы огромной ошибкой. Мы ожидаем Его, но не для того, чтобы Он наказал кого-нибудь, а чтобы наступила наша правда в мире сем.

Реальная неправда совершается не тогда, когда мы поступаем несправедливо с другими, а когда поступаем несправедливо по отношению к самим себе и лишаемся благодати Божией. Когда мы лишены благодати, тогда действительно мы поступаем несправедливо по отношению к себе. Поэтому Христос – наша правда, Он дарует нам Свою правду и Свое присутствие.
Поэтому Господь сегодня перечеркивает настоящее, приоткрывает завесу и показывает нам реальность нашей ипостаси и нашей плоти, чтобы ничто из настоящего не сломило нас и не потопило в депрессии и отчаянии, поскольку мы уповаем на Царство Божие, уповаем на вечность, знаем, что настоящее – это не всё: еще есть продолжение в Царстве Божием.
Другой аспект. Человек, увидев сегодняшний евангельский текст, может подумать, что Господь говорит о некоей социальной системе, пекущейся о бедных, голодных, заключенных и больных. Конечно, Евангелие имеет и социальные последствия, поскольку дела христианина – это, прежде всего, дела любви. Однако Христос указывает признак, отделяющий мирскую любовь от Его любви, и говорит, что поскольку «вы сделали это одному из братьев сих Моих, то сделали Мне»[4]. Он ставит Себя вместо всякого человека, который стоит перед нами, который является нашим братом.
Один старец-авва говорит: «Блажен человек, смотрящий на всех людей, как на Бога. Видел ли ты брата своего – ты видел Господа Бога твоего, в лице брата своего ты видел Самого Бога». Потому что человек, любящий Бога, в чистоте своей уже реально видит другого человека не в его страстях, а каким создал его Бог, он смотрит на внешнюю сторону, а видит созданную по образу Божию красоту, он любит человека и видит, как он прекрасен и значителен.
Давайте напомню вам нечто, чтобы мы поняли, какое огромное значение придает Церковь присутствию человека. Мы видим это во всецелом ее подходе ко всякому человеку, но особенно это видно в Писании. Когда Бог создал человека, то говорится, что Он увидел Адама и сказал: «Вот, Адам стал как один из Нас»[5]. Бог словно похвалил Себя и восхитился Своим созданием, ибо увидел Свой образ в человеке.
Как вам известно (ведь большинство из вас – родители), когда у вас есть ребенок, он похож на вас, и вы ему радуетесь. Смотришь на этого ребенка и говоришь: «Он похож на меня, у него мои черты; как я сам, так и мама с папой – мы хорошие, радостные, мы добрые люди». Вот, родитель видит, что у ребенка есть эти черты, и он радуется, поскольку в ребенке видит себя. Ребенок – образ своего родителя. Точно как же, глядя на Свой образ, на красоту Божию в человеке, Бог обрадовался ему и сказал: «Вот, Адам стал как один из Нас».
Даже в философии наши древние предки говорили о том, какое значительное и прекрасное создание – человек, когда он действительно человек. То есть когда в нем есть та красота, с какой Бог его создал, он исключительно хорош, красив, прекрасен. Почему? Потому что обладает всецелой красотой образа Божия. Но у него есть и нечто еще. Второе, что дал ему Бог, – это возможность богоподобия. Поэтому Христос говорит нам, чтобы мы были подобны Богу: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и милосерды, как и Отец ваш милосерд»[6].
Когда человек действительно обратит на пользу образ Божий, будет подвизаться и уподобится Богу, тогда он становится таким же, каков Бог, – то есть он смотрит на людей, как Благий Бог на Своих чад, не делая никаких различий и не проявляя никакой мелочности и пристрастности. Бог любит всех одинаково, для Бога нет никакой разницы в Его любви к людям. А мы делаем различия: мы любим Бога один мало, другой больше, один отчасти, другой всецело. Будучи совершен, Бог, однако, любит всех нас одинаково, потому что Он наш Отец. Так и Божий человек одинаково любит всех без исключения.
Это подводит нас к критерию, который Христос объявляет сегодня, чтобы не оставлять нас в затруднительном положении и чтобы мы не гадали: «Когда я умру, буду ли я вместе с Богом? А где я буду находиться после смерти? Что будет со мной на Суде Божием?» Чтобы убрать эти псевдодилеммы и псевдооправдания, Он открывает нам критерий и выносит на суд простые вопросы. Он говорит следующее: «Смотри, не волнуйся, если ты с любовью поступаешь с каждым человеком и в каждом человеке видишь Меня, то это – твое спасение». Чтобы показать, что любовь к брату – это результат любви к Богу.
Ты не можешь сказать, что любишь Бога, если не любишь брата своего. Ты не можешь сказать, что ты Божий человек, если не можешь общаться с другим человеком. Общаться не значит бросить ему кусок хлеба или отдать свои излишки и еще сделать себе при этом рекламу, мол, «я подаю милостыню, я раздаю деньги». Бог не хочет так. Бог движется по-Своему, Он хочет, чтобы на нас были Его черты. Конечно, сегодня люди нуждаются в хлебе, еде и деньгах и прочем, но прежде всего человек нуждается в любви, которая является не чем-то абстрактным, а живейшим чувством, которое несет в себе человек.
Если мы спросим, что такое человек, то можем дать одно простое определение. Писание говорит нам ясно: «Бог есть любовь»[7]. А что есть человек? Если он образ Божий, значит, мы можем сказать, что человек есть любовь!
Приведу вам простой пример. К сожалению, сегодня все вы знаете о самом страшном биче среди молодежи – наркотиках. К сожалению, все мы каждый день сталкиваемся с молодыми людьми, которые попали в этот водоворот наркотиков, и приходим в жуткое недоумение, потому что ты видишь перед собой человека, за которого ты ни с какой стороны не можешь взяться. Как дым – можешь ли ты поймать дым? Ты пытаешься схватить его, а в руке не остается ничего. Кажется, что у него есть очертание, но ты не можешь его уловить.
Когда занимаешься с молодыми людьми, которые бросили всё в жизни и их абсолютно ничего не волнует, даже собственная жизнь, – такой человек не боится смерти, поскольку его жизнь хуже смерти, – то думаешь: что же мне сказать этому человеку? Что ему обещать? Как его растрогать? Ведь его абсолютно ничего не интересует. Он как больной анорексией: хоть самую хорошую еду ему принеси, он смотрит на нее с отвращением. Он не хочет видеть ее перед собой, ты заставляешь его есть, а он не хочет. Действительно, это нечто страшное.
Признаюсь, вначале, когда я начал заниматься с этими молодыми людьми, много раз бывал в этом недоумении: что я им буду говорить? Когда их ничего не волнует: ни деньги, ни слава, ни работа, ни жизнь, ни родители – абсолютно ничего. Что ему сказать? Однако из своего малого опыта я увидел следующее: что действительно может воскресить даже мертвого человека – это любовь. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорит: «Любовь – это источник огня и жизни». Любовь переливает жизнь в другого человека. Люби брата своего от души, по-настоящему, не ожидая от него ничего, не ища ничего, как Бог любит тебя. А Бог не приходит, чтобы осудить тебя или хотя бы сказать тебе что-нибудь, но только чтобы оживить тебя и согреть Своей любовью.
Сегодня мир нуждается в этой любви. Проявим же любовь к брату нашему, здоровую любовь, которая может выражаться и в чем-то материальном, но даже если нам нечего дать ему, достаточно любить его правильно и по-настоящему. Сегодня у многих людей есть всё, но их некому любить, они сами никого не любят и утопают в материи, богатстве, но при этом несчастны. Потому что отсутствует суть жизни, отсутствует ее реальный смысл.
Кто бы он ни был, какой бы расы или веры он ни был, для Церкви он – образ Божий. Он человек, за которого Христос умер.
Следовательно, Церковь совершает социальное дело, она даже совершает дело национального значения и имеет отношение к проблемам мира сего. Церковь – это то место, которое Евангелие открывает нам сегодня, место, где нашим братом является Христос, нашим меньшим братом является тот, кто несет в себе образ Господа Иисуса Христа. И если мы чада Церкви и любим Христа, мы не можем не любить брата своего: кто бы он ни был, какой бы расы или веры он ни был, для Церкви он – образ Божий. Он человек, за которого Христос умер, человек, которого Бог создал и привел в этот мир.
Поэтому мы не должны ни спрашивать себя, ни говорить: «А как учит Церковь на такую-то тему и что говорит Церковь по этническим вопросам?» Церковь через Евангелие говорит уже 2000 лет, она не ждала появления ни ООН, ни других институций человеческой справедливости. Церковь всегда благовествует Божию любовь в мире, равно как и то, что решением человеческих проблем является Сам Бог и Царство Божие: они – ответ на всё, что терпит человек в своей повседневной жизни.
Поэтому, братия, когда мы смотрим на Царство Божие, мы испытываем большую радость, потому что страдания настоящей жизни облегчаются; когда смотрим на Христа, мы видим всех своими братьями. И когда смотрим на человека, всякого человека, видим нашего Господа Иисуса Христа, Которого мы как христиане любим – не просто верим в Него, а любим Его и ожидаем часа, в который встретим Его. Сначала – в лице наших братий, а потом, в последний день – в Его вечном Царстве.
Молюсь, чтобы у всех нас была эта великая Христова благодать в наших сердцах и чтобы Господь сподобил нас огромной радости и сил вступить в этот великий и благословенный период Великого поста, чтобы мы были смелыми борцами против страстей и обитающего в нас греха, а Воскресение нашего Господа даровало радость и свет всему миру!
Митрополит Лимассольский Афанасий
Перевела с болгарского Станка Косова
Двери.Бг
21 февраля 2014 года
[1] Мф. 25: 31.
[2] Ст. 34.
[3] Ст. 46.
[4] Ср.: Мф. 25: 40.
[5] Быт. 3: 22.
[6] Мф. 5: 48; Лк. 6: 36.
[7] 1 Ин. 4: 8, 16.
Метки: Страшный суд
Паисий Святогорец: “БЛАГОСЛОВИТЕ, А НЕ КЛЯНИТЕ ДЕТЕЙ”
Но и те родители, которые словами “посылают” своих детей к диаволу, “посвящают” их ему. После этого диавол имеет права на таких детей, он говорит: “Ты посвятил их мне”.
В Фарасах (одно из шести греческих селений в Кесарии Каппадокийской) жили муж и жена. Их ребенок был очень плаксивым, и отец постоянно говорил: “Да чтоб тебя нечистый забрал!”. Ну и что же: отец так говорил младенцу, и по попущению Божию тот стал исчезать из колыбели. Потом несчастная мать шла к преподобному священнику Хаджефенди. “Благослови, Хаджефенди! Моего ребенка утащили бесы”. Хаджефенди шел к ним в дом, читал молитвы над колыбелью, и младенец возвращался. И так продолжалось без конца. “Хаджефенди, благослови!” — снова и снова говорила несчастная женщина и спрашивала: “Чем же все это закончится?”. “Мне, — отвечал ей святой, — к вам ходить не трудно. А тебе разве сложно приходить и звать меня? Значит, когда-нибудь диаволу это надоест, и он оставит твоего сына в покое”. С того самого дня ребенок перестал пропадать. Но, когда он вырос, его прозвали “дьявольское отродье”. Он баламутил все село — не давал покоя никому. Как же мучился от этого мой отец! Этот малый сперва шел к одному поселянину и говорил: “Такой-то сказал про тебя то-то”, потом шел к другому и говорил ему то же самое. Люди ссорились между собой, доходило даже до потасовок.
Потом, понимая, что на каждого из них возвели напраслину, они договаривались схватить клеветника и расправиться с ним. Но тот ухитрялся сделать так, что в конце концов оба просили у него прощения! Настолько он преуспел в коварстве! Настоящее “дьявольское отродье”! Бог попустил это для того, чтобы, увидев продолжение истории с исчезновением младенца, люди образумились, сдерживали себя и были очень внимательны. О том, как будет судить этого человека Бог, мы сейчас не говорим. Понятно, что смягчающих вину обстоятельств у него много.
Величайшее сокровище для людей, живущих в миру, — родительское благословение. Подобно тому, как в жизни монашеской величайшее благословение то, которым благословил тебя твой старец. Поэтому и говорят: “Не упусти родительского благословения”. У одной матери было четверо детей. Никто из них не женился и не вышел замуж.
Мать плакала. “Умру, — говорила, — от горя, никто из моих детей не женился. Помолись за них”. Она была вдовой, ее дети — сиротами. Мне стало за них больно. Молился я, молился, но безрезультатно. “Что-то здесь не то”, — подумал я. “На нас, — говорили ее дети, — навели порчу”. “Да нет, — говорю, — это не от порчи, порчу видно... А может быть, ваша мать проклинала вас?“ “Верно, отче, — отвечают, — в детстве мы очень шалили, и она постоянно с утра до вечера твердила нам: «Да чтоб вам обрубками быть!»”. “Идите, — говорю, — к матери и скажите ей истинную причину вашей неустроенности, чтоб она пришла в чувство. Скажите, чтобы она покаялась, поисповедывалась и с сегодняшнего дня, не переставая, благословляла вас”. И за полтора года все четверо создали семьи! По всей видимости, эта несчастная, мало того, что была вдовой, но еще и легко впадала в состояние раздражения и уныния. Озорники выводили ее из себя, и за это она их проклинала.
А если родители проклянут своих детей и потом умрут, то все же дети могут избавиться от родительского проклятия! Как? Приглядевшись к себе, они, скорее всего, признают, что в свое время бедокурили, мучили родителей и поэтому те их прокляли. Если они осознают свою вину, искренне покаются и исповедают свои грехи, то все у них наладится. Преуспевая духовно, они помогут и своим усопшим родителям.
К родительскому проклятию относятся все плохие слова: дурак, урод, неразумный, недоразвитый, невежда и др. Мы имеем право только молиться за них: “Помоги тебе Господи”, “Сохрани тебя Господи”, “Спаси тебя Господи” и просить Господа о вразумлении чад. Дитя по своей природе безвинный ангел, и если у него отклонения в плохом воспитании, то причина в нас. Ищите грех в себе и искореняйте. Когда родители очистят себя, автоматически очищается и ребенок. Родители, вам дан великий дар от Бога — дар чадорождения. И дети наши — наше подобие…”
Метки: семья
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
