Дмитрий Терехов,
19-09-2012 03:23
(ссылка)
Саммит АТЭС во Владивостоке - этапная веха!
В пятницу 7 сентября во Владивостоке наконец открылся саммит АТЭС-2012. Участников саммита (а это 21 страна мира, суммарный ВВП которых превышает половину ВВП всего человечества) приветствовал Президент Путин, который чуть позже дал обширную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.

Казалось бы, что можно сказать об этом рядовом событии? В скольких саммитах за год участвует Россия? Наверное их число измеряется сотнями, но даже тех, которые посещает Президент России, без сомнения десятки. Почему же мы уделяем внимание именно этому?
[ читать дальше → ]

Казалось бы, что можно сказать об этом рядовом событии? В скольких саммитах за год участвует Россия? Наверное их число измеряется сотнями, но даже тех, которые посещает Президент России, без сомнения десятки. Почему же мы уделяем внимание именно этому?
[ читать дальше → ]
Метки: атэс, саммит, путин, программа, развитие, Дальний Восток, Сибирь, транспорт, энергоносители, университет
Имя АЛЛАХ облаками - Альфа и Омега - Знамения!!!
2Кто-то взломал почту и удалил предыдущий ролик "Альфа и Омега - знамения Аллаха", поэтому видео было загружено заново. Это видео дополнено сведениями из древнейшей Библии, названной "Синайским кодексом".
Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Можете оставлять комментарии на странице ролика.
Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.
Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Можете оставлять комментарии на странице ролика.
Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.
Александр Корнилов,
20-08-2011 02:43
(ссылка)
Главная ценность России.
http://www.nasledie-rus.ru/...
Майор засмеялся и разгладил усы. В кустах пищала синица: самовар, остывая, нежно пел.
— А про хозяйство я одно скажу: будь моя воля, я бы всех мужиков в хуторян обратил. Почему мужику усадьбой не жить? Работников ему нанимать не надо, орудия по хозяйству он сам исправит. Хлеба и соломы вволю: значит, будет и лишняя скотина. Тогда вместо коровенок ледащих заведутся голландки да холмогорки; лошади, например, будут датской породы. А там, глядишь, земля-то и даст вместо полсотни целковых всю тысячу. Что же помещик-то, кто он будет? Крез, Сарданапал? Да тогда российское дворянство самому Ротшильду нос утрет. Потому, наша сила вся в земле. Нам для чего войско надобно? Воевать черкесов? Нет: землю охранять.
— От кого?
— Ото всех. Нас все боятся, а, стало быть, и не любят.
Майор засмеялся и разгладил усы. В кустах пищала синица: самовар, остывая, нежно пел.
— А про хозяйство я одно скажу: будь моя воля, я бы всех мужиков в хуторян обратил. Почему мужику усадьбой не жить? Работников ему нанимать не надо, орудия по хозяйству он сам исправит. Хлеба и соломы вволю: значит, будет и лишняя скотина. Тогда вместо коровенок ледащих заведутся голландки да холмогорки; лошади, например, будут датской породы. А там, глядишь, земля-то и даст вместо полсотни целковых всю тысячу. Что же помещик-то, кто он будет? Крез, Сарданапал? Да тогда российское дворянство самому Ротшильду нос утрет. Потому, наша сила вся в земле. Нам для чего войско надобно? Воевать черкесов? Нет: землю охранять.
— От кого?
— Ото всех. Нас все боятся, а, стало быть, и не любят.
Александр Корнилов,
15-08-2011 05:56
(ссылка)
Умер популярный советский актер, Сергей Подгорный.
"Скончался Сергей Подгорный, звезда фильма «В бой идут одни старики» Киноактер Сергей Подгорный, сыгравший роль Смуглянки (Виктора Щедронова) в картине Леонида Быкова «В бой идут одни старики», умер под Киевом в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РБК. Смерть наступила в ночь на 19 июля в реанимации центральной больницы города Ирпень недалеко от украинской столицы. Сергей Подгорный родился 1 января 1954 года на Украине, в поселке Буча Киевской области. На роль Смуглянки Быков пригласил его в 1973 году. После выхода фильма на экран Подгорный получил всесоюзную популярность." - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье http://www.aif.ru/culture/n...
"После окончания Киевского театрального института имени И. К. Карпенко-Карого в 1976 году Сергей Подгорный пришел на работу на киностудию имени Довженко. После знаменитого фильма Быкова актер снялся в 55 лентах, однако повторить успех так и не удалось. Роль Смуглянки оказалась его единственной работой, получившей широкую известность. В основном актер снимался в ролях второго плана и эпизодах. С середины 1990-х годов Подгорный перестал сниматься в кино, пишет «Лента.Ру». Он снова появился на экране лишь в 2009 году, сыграв в фильме «Золушка с острова Джерба». Эта работа стала последней ролью Подгорного. В мае того же года на российские экраны вышла цветная версия фильма «В бой идут одни старики»." - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье http://www.aif.ru/culture/n...
"После окончания Киевского театрального института имени И. К. Карпенко-Карого в 1976 году Сергей Подгорный пришел на работу на киностудию имени Довженко. После знаменитого фильма Быкова актер снялся в 55 лентах, однако повторить успех так и не удалось. Роль Смуглянки оказалась его единственной работой, получившей широкую известность. В основном актер снимался в ролях второго плана и эпизодах. С середины 1990-х годов Подгорный перестал сниматься в кино, пишет «Лента.Ру». Он снова появился на экране лишь в 2009 году, сыграв в фильме «Золушка с острова Джерба». Эта работа стала последней ролью Подгорного. В мае того же года на российские экраны вышла цветная версия фильма «В бой идут одни старики»." - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье http://www.aif.ru/culture/n...
Александр Корнилов,
14-08-2011 02:14
(ссылка)
Немного о Николае-2.
http://militera.lib.ru/memo...
В 7 ч. 15 м. вечера я стоял в зале дворца, а равно в 7 ч. 20 м. камердинер Государя пригласил меня в кабинет его величества.
Государь встретил меня стоя, почти у самых дверей.
На нем был мундир царскосельских гусар, который очень молодил его.
— Как вы съездили в Петроград? — обратился он ко мне и сейчас же пригласил меня сесть. — Вот сюда садитесь, по-архиерейски! — сказал он, улыбаясь и показал рукой на стоявший налево от входных дверей диван.
Я попросил разрешения сесть в стоявшее около [218] дивана кресло. Государь сел в другое кресло, лицом ко мне. Не более шагу разделяло нас.
— Ваше величество! — начал я, — я четыре дня пробыл в Петрограде и за это время виделся со многими общественными и государственными деятелями. Одни, узнав о моем приезде, сами ко мне поспешили, к другим я заезжал. Всё это — честные, любящие вас и Родину люди.
— Верю! Иные к вам не поехали бы, — заметил Государь.
— Так вот, все эти люди, — продолжал я, — обвиняют нас, приближенных ваших, называя нас подлыми и лживыми рабами, скрывающими от вас истину.
— Какие глупости! — воскликнул Государь.
— Нет, это верно! — возразил я. — Не стану говорить о других, — скажу о себе. В докладах о поездках по фронту и вообще в беседах с вами приятное я всегда вам докладывал, а о неприятном и печальном часто умалчивал. Дальше я не хочу навлекать на себя справедливое обвинение и, как бы ни отнеслись вы к моему докладу, я изложу вам голую правду. Знаете ли вы, ваше величество, что происходит в стране, в армии, в Думе? Изволите ли прочитывать думские отчеты?
— Да, я читаю их, — ответил Государь.
— В «Новом времени»? — спросил я.
— Нет, более подробные, — сказал он.
— Изволили вы читать речи Милюкова, Шульгина?
— Да, — ответил он.
— Тогда вы, ваше величество, знаете, что творится в Государственной Думе. Там в отношении правительства нет теперь ни левых, ни правых партий, — все правые и левые объединились в одну партию, недовольную правительством, враждебную ему. Пока вас, ваше величество, отделяют от вашего правительства, но [219] кто поручится, что вскоре не изменится и в этом отношении дело. Вы, конечно, знаете, против кого именно главным образом направлено возмущение Думы. Вы знаете, что в Думе открыто назвали председателя Совета Министров вором, изменником и выгнали его вон.
— Какие гадости! — с возмущением воскликнул Государь.
— Почему же он не оправдывался, если он прав? — возразил я.
— Да как будешь оправдываться против таких несуразностей! — сказал Государь.
— Если бы кто-либо меня назвал вором или изменником, я не только перед Думой, я перед целым светом закричал бы, что это ложь, — опять возразил я.
— Я давно знаю Штюрмера, знал его, когда он еще был Ярославским губернатором, — сказал Государь.
— Его, ваше величество, обвиняют и за то время... Затем. Министр внутренних дел Протопопов... Его ближайшие сотрудники с ужасом уверяют, что он сумасшедший.
— Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, — как я его назначил министром?
Ведь, в Государственную Думу выбирал его не я, а губерния. В губернские Симбирские предводители дворянства его избрало Симбирское дворянство; товарищем председателя Думы, а затем председателем посылавшейся в Лондон комиссии его избрала Дума. Тогда он не был сумасшедшим? А как только я выбрал Протопопова, все закричали, что он с ума сошел, — несколько волнуясь, возразил Государь.
— Но, ваше величество, действия Протопопова говорят об его ненормальности, — ответил я. Государь молчал. [220] — Дальше. Обер-прокурор Раев, — продолжал я, — Разве может он делать что-либо путное для Церкви.
— Он всего два месяца обер-прокурором, — разве мог он сделать что-либо за это время? — возразил Государь.
— А я решаюсь уверять вас, что, если он и двадцать лет пробудет в этой должности, он ничего не сделает, ибо он не способен что-либо серьезное в этой области сделать, — ответил я. — Но самое ужасное в том, что на Петроградском митрополичьем престоле сидит негодный Питирим...
— Как негодный? У вас есть доказательства для этого? — почти вскрикнул, подпрыгнув в кресле, Государь.
— Так точно, ваше величество. Есть и сколько угодно, — спокойно ответил я. — Я более года заседаю с ним в Синоде и пока еще ни разу не слышал от него честного, правдивого слова. Окружают его лжецы, льстецы и обманщики. Он сам, ваше величество, лжец и обманщик. Когда трудно будет вам, он первый отвернется от вас.
— Но ведь любили же его в Грузии? — спросил Государь.
— Да, известные круги любили, — ответил я. — Но за что? За то, что он обещал Грузии автокефалию церковную, автономию государственную, на что едва ли он был вами уполномочен, ваше величество! Гроза надвигается! — продолжал я. — Если начнутся народные волнения, — кто поможет вам подавить их? Армия? На армию не надейтесь! Я знаю ее настроение, — она может не поддержать вас. Я не хотел этого говорить, но теперь скажу: в гвардии идут серьезные разговоры о государственном перевороте, даже о смене династии. Вам может показаться, что я сгущаю краски. Спросите [221] тогда других, хорошо знакомых с настроением страны и армии людей!
И я назвал имена кн. Волконского и ген. Никольского.
— Пора, ваше величество, теперь страшная. Если разразится революционная буря, она может всё смести: и династию и, может быть, даже Россию. Если вы не жалеете России, пожалейте себя и свою семью. На вас и на вашу семью ведь прежде всего обрушится народный гнев. Страшно сказать: вас с семьей могут разорвать на клочки...
— Ужель вы думаете, что Россия для меня не дорога? — нервно спросил меня Государь.
— Я не смею этого думать, — ответил я, — я знаю вашу любовь к Родине, но осмеливаюсь сказать вам, что вы не оцениваете должным образом страшной обстановки, складывающейся около вас, которая может погубить и вас, и Родину. Пока от вас требуется немного: приставьте к делу людей честных, серьезных, государственных, знающих нужды народные и готовых самоотверженно пойти на удовлетворение их!
Затем я попросил у Государя прощения, что осмелился резким и неприятным разговором обеспокоить его.
— Верьте, ваше величество, что только любовь к вам и Родине заставили меня сделать это, — закончил я.
— Вы совершенно правильно поняли свой долг и впредь так поступайте! Помните, что двери моего кабинета всегда для вас открыты, — ласково сказал мне Государь, протягивая руку.
Ген. Н. И. Иванов рассказывал мне, со слов фрейлины А. А. Вырубовой, что по приезде Императрицы в Ставку Государь передал ей весь разговор.
— И ты его слушал! — с раздражением сказала царица. [222] — Еще рясу носит, а говорит мне такие дерзости, поддакнул ей Государь.
Таков был наш Государь: добрый, деликатный, приветливый и смелый — без жены; безличный и безвольный — при жене.
В 7 ч. 15 м. вечера я стоял в зале дворца, а равно в 7 ч. 20 м. камердинер Государя пригласил меня в кабинет его величества.
Государь встретил меня стоя, почти у самых дверей.
На нем был мундир царскосельских гусар, который очень молодил его.
— Как вы съездили в Петроград? — обратился он ко мне и сейчас же пригласил меня сесть. — Вот сюда садитесь, по-архиерейски! — сказал он, улыбаясь и показал рукой на стоявший налево от входных дверей диван.
Я попросил разрешения сесть в стоявшее около [218] дивана кресло. Государь сел в другое кресло, лицом ко мне. Не более шагу разделяло нас.
— Ваше величество! — начал я, — я четыре дня пробыл в Петрограде и за это время виделся со многими общественными и государственными деятелями. Одни, узнав о моем приезде, сами ко мне поспешили, к другим я заезжал. Всё это — честные, любящие вас и Родину люди.
— Верю! Иные к вам не поехали бы, — заметил Государь.
— Так вот, все эти люди, — продолжал я, — обвиняют нас, приближенных ваших, называя нас подлыми и лживыми рабами, скрывающими от вас истину.
— Какие глупости! — воскликнул Государь.
— Нет, это верно! — возразил я. — Не стану говорить о других, — скажу о себе. В докладах о поездках по фронту и вообще в беседах с вами приятное я всегда вам докладывал, а о неприятном и печальном часто умалчивал. Дальше я не хочу навлекать на себя справедливое обвинение и, как бы ни отнеслись вы к моему докладу, я изложу вам голую правду. Знаете ли вы, ваше величество, что происходит в стране, в армии, в Думе? Изволите ли прочитывать думские отчеты?
— Да, я читаю их, — ответил Государь.
— В «Новом времени»? — спросил я.
— Нет, более подробные, — сказал он.
— Изволили вы читать речи Милюкова, Шульгина?
— Да, — ответил он.
— Тогда вы, ваше величество, знаете, что творится в Государственной Думе. Там в отношении правительства нет теперь ни левых, ни правых партий, — все правые и левые объединились в одну партию, недовольную правительством, враждебную ему. Пока вас, ваше величество, отделяют от вашего правительства, но [219] кто поручится, что вскоре не изменится и в этом отношении дело. Вы, конечно, знаете, против кого именно главным образом направлено возмущение Думы. Вы знаете, что в Думе открыто назвали председателя Совета Министров вором, изменником и выгнали его вон.
— Какие гадости! — с возмущением воскликнул Государь.
— Почему же он не оправдывался, если он прав? — возразил я.
— Да как будешь оправдываться против таких несуразностей! — сказал Государь.
— Если бы кто-либо меня назвал вором или изменником, я не только перед Думой, я перед целым светом закричал бы, что это ложь, — опять возразил я.
— Я давно знаю Штюрмера, знал его, когда он еще был Ярославским губернатором, — сказал Государь.
— Его, ваше величество, обвиняют и за то время... Затем. Министр внутренних дел Протопопов... Его ближайшие сотрудники с ужасом уверяют, что он сумасшедший.
— Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, — как я его назначил министром?
Ведь, в Государственную Думу выбирал его не я, а губерния. В губернские Симбирские предводители дворянства его избрало Симбирское дворянство; товарищем председателя Думы, а затем председателем посылавшейся в Лондон комиссии его избрала Дума. Тогда он не был сумасшедшим? А как только я выбрал Протопопова, все закричали, что он с ума сошел, — несколько волнуясь, возразил Государь.
— Но, ваше величество, действия Протопопова говорят об его ненормальности, — ответил я. Государь молчал. [220] — Дальше. Обер-прокурор Раев, — продолжал я, — Разве может он делать что-либо путное для Церкви.
— Он всего два месяца обер-прокурором, — разве мог он сделать что-либо за это время? — возразил Государь.
— А я решаюсь уверять вас, что, если он и двадцать лет пробудет в этой должности, он ничего не сделает, ибо он не способен что-либо серьезное в этой области сделать, — ответил я. — Но самое ужасное в том, что на Петроградском митрополичьем престоле сидит негодный Питирим...
— Как негодный? У вас есть доказательства для этого? — почти вскрикнул, подпрыгнув в кресле, Государь.
— Так точно, ваше величество. Есть и сколько угодно, — спокойно ответил я. — Я более года заседаю с ним в Синоде и пока еще ни разу не слышал от него честного, правдивого слова. Окружают его лжецы, льстецы и обманщики. Он сам, ваше величество, лжец и обманщик. Когда трудно будет вам, он первый отвернется от вас.
— Но ведь любили же его в Грузии? — спросил Государь.
— Да, известные круги любили, — ответил я. — Но за что? За то, что он обещал Грузии автокефалию церковную, автономию государственную, на что едва ли он был вами уполномочен, ваше величество! Гроза надвигается! — продолжал я. — Если начнутся народные волнения, — кто поможет вам подавить их? Армия? На армию не надейтесь! Я знаю ее настроение, — она может не поддержать вас. Я не хотел этого говорить, но теперь скажу: в гвардии идут серьезные разговоры о государственном перевороте, даже о смене династии. Вам может показаться, что я сгущаю краски. Спросите [221] тогда других, хорошо знакомых с настроением страны и армии людей!
И я назвал имена кн. Волконского и ген. Никольского.
— Пора, ваше величество, теперь страшная. Если разразится революционная буря, она может всё смести: и династию и, может быть, даже Россию. Если вы не жалеете России, пожалейте себя и свою семью. На вас и на вашу семью ведь прежде всего обрушится народный гнев. Страшно сказать: вас с семьей могут разорвать на клочки...
— Ужель вы думаете, что Россия для меня не дорога? — нервно спросил меня Государь.
— Я не смею этого думать, — ответил я, — я знаю вашу любовь к Родине, но осмеливаюсь сказать вам, что вы не оцениваете должным образом страшной обстановки, складывающейся около вас, которая может погубить и вас, и Родину. Пока от вас требуется немного: приставьте к делу людей честных, серьезных, государственных, знающих нужды народные и готовых самоотверженно пойти на удовлетворение их!
Затем я попросил у Государя прощения, что осмелился резким и неприятным разговором обеспокоить его.
— Верьте, ваше величество, что только любовь к вам и Родине заставили меня сделать это, — закончил я.
— Вы совершенно правильно поняли свой долг и впредь так поступайте! Помните, что двери моего кабинета всегда для вас открыты, — ласково сказал мне Государь, протягивая руку.
Ген. Н. И. Иванов рассказывал мне, со слов фрейлины А. А. Вырубовой, что по приезде Императрицы в Ставку Государь передал ей весь разговор.
— И ты его слушал! — с раздражением сказала царица. [222] — Еще рясу носит, а говорит мне такие дерзости, поддакнул ей Государь.
Таков был наш Государь: добрый, деликатный, приветливый и смелый — без жены; безличный и безвольный — при жене.
Александр Корнилов,
11-08-2011 06:34
(ссылка)
Россия 100 лет назад.
Ради чего происходят различные события в России уже более 100 лет. Идет борьба за его богатства...
http://militera.lib.ru/memo...
После Русско-японской войны началось усиленное переселение крестьян из разных губерний Европейской России в Сибирь. Скоро Сибирь стала неузнаваема. В 1904 году, когда я, едучи на войну, впервые увидел Сибирь, там даже прилегающие к железной дороге места не были заселены. Вдоль железнодорожного пути тянулась бесконечная тайга, и только изредка встречались поселки. Проезжая в августе 1913 г. Сибирь, я не узнавал ее: везде виднелись обширные поля и сенокосы; уборка хлебов и сена всюду производилась машинами, поля обрабатывались пароконными плугами, — [36] одноконных плугов не было видно. В этом отношении Сибирь опередила не только северную и западную, но и центральную Россию, где в то время еще не вывелась соха, а серпы и косы оставались в крестьянских хозяйствах единственными орудиями при жатве и косьбе.
Прежние маленькие Сибирские городишки теперь разрослись в большие города. Новониколаевск на Оби, в 1904 г. имевший, кажется, не более 15 тысяч жителей, в 1913 г. насчитывал 130 тысяч жителей. Девственная сибирская земля щедро вознаграждала всякого, кто отдавал ей свой труд. В Красноярске, Томске и Омске мне много рассказывали: об удивительных урожаях пшеницы — сам 40, о бесконечных богатейших пастбищах для скота, об обилии дичи в лесах, о кишевших рыбой Сибирских реках, о чудовищных минеральных богатствах Алтая, о беспредельных лесных пространствах, о целебнейших минерально-водных источниках Алтая.
Алтайская минеральная вода и Ямаровка — забайкальская — не уступали нашим Боржому и Нарзану, но почему-то не получили распространения дальше Сибири.
Океанское побережье нашего Дальнего Востока меня в особенности поразило своим рыбным богатством.
Приблизительно в десяти километрах от Владивостока находится так называемый Русский Остров, на котором в 1913 году квартировала 9 Сибирская стрелковая дивизия с 9 Сибирской артиллерийской бригадой. 20 августа этого года 33 Сибирский полк, в котором я служил во время Русско-японской войны, угощал меня ужином. Когда подали огромную рыбу, командир полка пояснил мне:
— Это рыба собственного улова. Купил я солдатам сети, — думал: пусть развлекутся. А они этими сетями в течение двух недель наловили что-то около 2.000 пудов рыбы. Мы ее варили и жарили, и раздавали, и впрок насолили, — и всё же много пришлось выбросить.
А накануне этого дня я был в заливе Посьет, куда меня доставил военный корабль под командой капитана [37] I ранга Иванова. Последний, узнав от кого-то, что я любитель рыбной ловли, захватил с собою сети. И вот на моих глазах сеть была заброшена. Одна тоня дала 35 пудов самой разнообразной рыбы. Возвращаясь из Посьета, мы ели чудную уху из рыбы собственного улова.
Приамурский край удивил меня разнообразием климата, флоры и фауны. В Хабаровском арсенале (в нескольких верстах от города) я видел столб-памятник с надписью: «На этом месте в 1885 году — такого-то числа и месяца — был убит тигр». И этот край изобиловал всякого рода богатствами.
Знавшие Сибирь предсказывали ей величайшую будущность. И Сибирь шла к ней быстрыми шагами.
Туркестан перед Великой войной представлял не менее интересную картину. Там можно было наблюдать и остатки древнейшей культуры — в многочисленных памятниках старины, в укладе жизни туземцев, в способах обработки ими земли, — и пышный расцвет новой, превращавшей голодную степь в текущую молоком и медом землю. В расцвете Туркестан не уступал Сибири, а ввиду необыкновенного плодородия своей земли должен был опередить ее.
В апреле-мае 1914 года я, перерезав Туркестан по линии Ташкент — Скобелев — Самарканд — Ашхабад — Красноводск — Кушка — Мерв, всюду наблюдал удивительные результаты производившейся там в последнее время колоссальной культурной работы. Рядом с огромными еще пространствами голой, выжженной солнцем степи особенно рельефно выделялись оазисы с пышной, как роскошнейший сад, растительностью, — эти искусственно орошенные местности с каждым годом всё увеличивались. На полях насаждались, всё размножаясь, ценнейшие культуры: хлопка (В г. Скобелеве Ферганский губернатор рассказывал мне, что в 1913 г. одна Ферганская область продала хлопка на 40 милл. рублей, когда раньше тут хлопок совсем не производился.), риса; развивалось садоводство: [38] в 1914 году насчитывали до 120 сортов винограда; яблоки, груши, сливы и вишни чудного качества производились в невероятном количестве. Быстро развивалось виноделие, обещавшее выбросить на рынок огромное количество новых десертных вин весьма высокого качества. Разрасталось шелководство и пчеловодство и т. д.
Одним из замечательнейших достижений Туркестана было облесение песчаной степи, в особенности на участке железной дороги Ашхабад-Красноводск, обратившее на себя внимание специалистов-ученых чуть ли не всего мира.
Выстроенная ген. Анненковым Закаспийская железная дорога встретилась со страшным врагом — сыпучими песками, беспрестанно заносившими железнодорожный путь. Очистка пути от этих песков стоила огромных средств, не говоря о том, что заносы постоянно расстраивали железнодорожное движение. Предотвратить бедствие можно было только облесением прилегающего к железнодорожному пути пространства. Но почва была такова, что на ней не принималось никакое растение. Одному инженеру (к сожалению, из памяти совершенно улетучилась фамилия этого замечательного человека, хотя образ его, как живой, стоит перед моими глазами) удалось найти одно примитивное растение, которое не погнушалось закаспийскими песками, но было столь слабо, что ни в какой степени не могло защитить железнодорожный путь. Инженер нашел другое, более сильное растение, которое под покровом первого смогло осесть на песке, и затем на закрепленной этими двумя растениями почве, он насадил особое туркестанское дерево — саксаул, которое совсем оградило железную дорогу от песков. Французские и английские инженеры, мечтавшие об облесении Сахары, специально приезжали в Закаспийскую область, чтобы ознакомиться со способом облесения Закаспийских песков.
Но закаспийский опыт, — объяснял мне инженер, — может быть не приложим к Сахаре, ибо пески бывают разной породы. В Астраханских [39] степях, например, различалось восемь пород песков, для каждой из которых требовались особые растения.
Говоря о Туркестане, нельзя не упомянуть об одном, весьма оригинальном, но, несомненно, благодетельном культуртрегере этого края, великом князе Николае Константиновиче. Сосланный императором Александром III за какую-то несоответствующую его званию проделку, в Туркестан, он поселился в Ташкенте и там проводил жизнь, дававшую обильный материал для всевозможных разговоров. Великий князь жил уединенно, замкнувшись в своем, огороженном стеной, дворце, а от времени до времени удивлял своими эксцентричностями. Прибыв однажды к настоятелю Ташкентского военного собора, прот. Константину Богородицкому, он в категорической форме потребовал, чтобы его немедленно обвенчали с 17-летней гимназисткой. Прот. Богородицкий отказался исполнить просьбу, ибо великий князь состоял в браке. Великий князь ушел от него возмущенный «оказанной ему несправедливостью». 23 апреля 1914 года ген.-губернатор А. В. Самсонов рассказывал мне, что незадолго перед тем великий князь Николай Константинович вызвал 500 человек, чтобы перемостить одну из главных ташкентских улиц, почему-то ему не понравившуюся. Чтобы предотвратить нашествие, ген. Самсонов должен был лично убедить великого князя, что этот ремонт надо отложить на некоторое время.
И, однако, этот великий князь оказался несомненным благодетелем Туркестана, когда не пожалел больших средств, чтобы оросить так называемую Голодную степь, ранее бывшую бесплодной пустыней, а потом ставшую одним из благословенных уголков богатейшего Туркестана.
В апреле 1914 года, будучи в Ташкенте, я сделал визит великому князю, на который он ответил немедленной присылкой своей карточки. Проезжая затем через цветущую Голодную степь, я отправил ему телеграмму с выражением своего восторга перед совершенным им [40] великим делом. Вернувшись затем в Ташкент, я нашел целую папку присланных мне великим князем прекрасных акварелей, представляющих Голодную степь в ее прежнем виде и преображенную его заботами.
Поездку по Туркестану я представляю теперь, как какой-то волшебный сон, где мне рисовалось величественнейшее будущее этого края, неотделимое от величия всей России. И только Красноводск, — конечный пункт Закаспийской железной дороги, — город на берегу Каспийского моря, окруженный высокими, лишенными всякой растительности, горами, в летнее жаркое время напоминал тот ад, в котором будут жариться и париться души неисправимых грешников, способствующих устроению вместо рая ада на земле.
Кавказ я проехал в 1911 и 1916 гг., когда побывал в городах Баку, Тифлисе, Кутаисе, Батуме, Александрополе, Карсе. Кавказ воспет поэтами. Он не мог не поражать наблюдателя несравненной красотой природы, разнообразием народностей, оригинальнейшим кавказским гостеприимством, совершенно особым укладом всей кавказской жизни. Незнающий кавказских нравов и обычаев мог удивляться на каждом шагу.
Прибыв в первый раз в Тифлис 2 или 3 октября 1911 г., я счел обязательным посетить все воинские части, расквартированные в этом городе. Меня неотлучно сопровождал командир кавказского корпуса, генерал А. З. Мышлаевский, бывший талантливый профессор Академии Генерального Штаба и мой сослуживец. В 17 драгунском Нижегородском полку, считавшемся Кавказской гвардией, нас чествовали завтраком. Речи и тосты, — это больное место кавказцев, — они для них «слаще меда и сота», — начались с первой чаши. Выступил старший полковник полка князь Медиков. Он говорил о радости полка, увидевшего в своей среде протопресвитера, молодого, энергичного, зарекомендовавшего себя на Русско-японской войне и т. д. и т. д. Комплиментам там не было конца. «Итак, выпьем за [41] здоровье ген. Мышлаевского», — закончил свой тост полк. Медиков. — «А я-то тут причем?» — отозвался ген. Мышлаевский. И я тогда был удивлен заключением тоста. После же я узнал, что заключение было вызовом ген. Мышлаевскому, чтобы тот продолжил речь.
В своем расцвете Кавказ не отставал от Сибири и Туркестана. С каждым годом разраставшиеся там чайные плантации, апельсинные, мандариновые и лимонные рощи, рисовые поля и новые, легко прививавшиеся культуры разных южных фруктов обещали всё большие и большие блага краю, а через него и России.
После, во время Гражданской войны, мне пришлось познакомиться со Ставропольской губернией и Кубанской областью, землями, по библейскому выражению (Исх. III, 8), текущими медом и молоком. И та и другая поразили меня своим богатством: баснословное плодородие земли, множество скота, рыбы, дичи, всяких плодов земных, «вина и елея» — создавали жителям их чрезвычайное благоденствие. Дом каждого хозяина был — чаша полная. Великолепнейшие храмы, с богатейшей утварью, драгоценными иконами и иконостасами, — были храмы, где иконостас стоил свыше 200.000 руб., — свидетельствовали о богатстве и щедрости жителей. Духовенство утопало в изобилии благ земных. Священник с годовым бюджетом в 10 тысяч руб. на Кубани представлял явление не исключительное (A ординарный профессор Дух. Академии получал 3000 р. в год, бюджет же Новгородского священника часто не превышал 400-500 руб. в год.). Мне называли одного кубанского священника, который получал до 25.000 руб. в год. Такое обеспечение, однако, не способствовало ни подъему духовного уровня, ни повышению работоспособности Ставропольского и Кубанского духовенства. Благоденствие этого края обещало возрасти еще более. Помимо с каждым годом улучшавшегося земледелия, скотоводства, овцеводства, виноделия — там, в Кубанской области, начала развиваться нефтяная промышленность и [42] были найдены изобиловавшие огромным количеством марганца озера. В 1919 году американцы усиленно пытались заарендовать эти озера, заявляя, что за них они готовы будут кормить всю Кубань.
Стоило побывать на описанных мною выше трех окраинах и на Кубани, присмотреться к тамошним достижениям самых последних лет, чтобы убедиться, как быстро залечивались раны, нанесенные несчастной Русско-японской войной, и как быстро неслась Россия вперед, развивая и умножая свои природные богатства. Была не только надежда, но и уверенность, что вскоре наша Родина станет богатейшей и счастливейшей в мире страной.
Эта уверенность подкреплялась еще тем, что прогресс наблюдался почти во всех областях жизни и внутренней России — в торговле, промышленности, земледелии, в развитии школьного дела и, в частности, женского образования.
Кому Россия была обязана таким быстрым, всё прогрессирующим расцветом? На этот вопрос затрудняюсь ответить. Думаю, что блестящие министры последнего царствования — Столыпин, Витте, Кривошеин, Коковцов и другие — своими настойчивыми и талантливыми мероприятиями способствовали всероссийскому прогрессу. Но было бы большой несправедливостью не отдать должное и личности Императора Николая II, всегда и всей душой откликавшегося на клонившиеся к народному благу разные реформы, если только эти реформы предлагались соответствующими министрами или иными начальниками. Всякий начальник мог быть совершенно уверен в поддержке Императора, если только он сумеет представить ему необходимость и полезность нового начинания. Государь неподдельно и безгранично любил Родину, не страшился новизны и очень ценил смелые порывы вперед своих сотрудников. Это были драгоценные его, как правителя, качества, которым, к великому несчастью, не суждено было проявиться до конца и во всей силе. [45]
http://militera.lib.ru/memo...
После Русско-японской войны началось усиленное переселение крестьян из разных губерний Европейской России в Сибирь. Скоро Сибирь стала неузнаваема. В 1904 году, когда я, едучи на войну, впервые увидел Сибирь, там даже прилегающие к железной дороге места не были заселены. Вдоль железнодорожного пути тянулась бесконечная тайга, и только изредка встречались поселки. Проезжая в августе 1913 г. Сибирь, я не узнавал ее: везде виднелись обширные поля и сенокосы; уборка хлебов и сена всюду производилась машинами, поля обрабатывались пароконными плугами, — [36] одноконных плугов не было видно. В этом отношении Сибирь опередила не только северную и западную, но и центральную Россию, где в то время еще не вывелась соха, а серпы и косы оставались в крестьянских хозяйствах единственными орудиями при жатве и косьбе.
Прежние маленькие Сибирские городишки теперь разрослись в большие города. Новониколаевск на Оби, в 1904 г. имевший, кажется, не более 15 тысяч жителей, в 1913 г. насчитывал 130 тысяч жителей. Девственная сибирская земля щедро вознаграждала всякого, кто отдавал ей свой труд. В Красноярске, Томске и Омске мне много рассказывали: об удивительных урожаях пшеницы — сам 40, о бесконечных богатейших пастбищах для скота, об обилии дичи в лесах, о кишевших рыбой Сибирских реках, о чудовищных минеральных богатствах Алтая, о беспредельных лесных пространствах, о целебнейших минерально-водных источниках Алтая.
Алтайская минеральная вода и Ямаровка — забайкальская — не уступали нашим Боржому и Нарзану, но почему-то не получили распространения дальше Сибири.
Океанское побережье нашего Дальнего Востока меня в особенности поразило своим рыбным богатством.
Приблизительно в десяти километрах от Владивостока находится так называемый Русский Остров, на котором в 1913 году квартировала 9 Сибирская стрелковая дивизия с 9 Сибирской артиллерийской бригадой. 20 августа этого года 33 Сибирский полк, в котором я служил во время Русско-японской войны, угощал меня ужином. Когда подали огромную рыбу, командир полка пояснил мне:
— Это рыба собственного улова. Купил я солдатам сети, — думал: пусть развлекутся. А они этими сетями в течение двух недель наловили что-то около 2.000 пудов рыбы. Мы ее варили и жарили, и раздавали, и впрок насолили, — и всё же много пришлось выбросить.
А накануне этого дня я был в заливе Посьет, куда меня доставил военный корабль под командой капитана [37] I ранга Иванова. Последний, узнав от кого-то, что я любитель рыбной ловли, захватил с собою сети. И вот на моих глазах сеть была заброшена. Одна тоня дала 35 пудов самой разнообразной рыбы. Возвращаясь из Посьета, мы ели чудную уху из рыбы собственного улова.
Приамурский край удивил меня разнообразием климата, флоры и фауны. В Хабаровском арсенале (в нескольких верстах от города) я видел столб-памятник с надписью: «На этом месте в 1885 году — такого-то числа и месяца — был убит тигр». И этот край изобиловал всякого рода богатствами.
Знавшие Сибирь предсказывали ей величайшую будущность. И Сибирь шла к ней быстрыми шагами.
Туркестан перед Великой войной представлял не менее интересную картину. Там можно было наблюдать и остатки древнейшей культуры — в многочисленных памятниках старины, в укладе жизни туземцев, в способах обработки ими земли, — и пышный расцвет новой, превращавшей голодную степь в текущую молоком и медом землю. В расцвете Туркестан не уступал Сибири, а ввиду необыкновенного плодородия своей земли должен был опередить ее.
В апреле-мае 1914 года я, перерезав Туркестан по линии Ташкент — Скобелев — Самарканд — Ашхабад — Красноводск — Кушка — Мерв, всюду наблюдал удивительные результаты производившейся там в последнее время колоссальной культурной работы. Рядом с огромными еще пространствами голой, выжженной солнцем степи особенно рельефно выделялись оазисы с пышной, как роскошнейший сад, растительностью, — эти искусственно орошенные местности с каждым годом всё увеличивались. На полях насаждались, всё размножаясь, ценнейшие культуры: хлопка (В г. Скобелеве Ферганский губернатор рассказывал мне, что в 1913 г. одна Ферганская область продала хлопка на 40 милл. рублей, когда раньше тут хлопок совсем не производился.), риса; развивалось садоводство: [38] в 1914 году насчитывали до 120 сортов винограда; яблоки, груши, сливы и вишни чудного качества производились в невероятном количестве. Быстро развивалось виноделие, обещавшее выбросить на рынок огромное количество новых десертных вин весьма высокого качества. Разрасталось шелководство и пчеловодство и т. д.
Одним из замечательнейших достижений Туркестана было облесение песчаной степи, в особенности на участке железной дороги Ашхабад-Красноводск, обратившее на себя внимание специалистов-ученых чуть ли не всего мира.
Выстроенная ген. Анненковым Закаспийская железная дорога встретилась со страшным врагом — сыпучими песками, беспрестанно заносившими железнодорожный путь. Очистка пути от этих песков стоила огромных средств, не говоря о том, что заносы постоянно расстраивали железнодорожное движение. Предотвратить бедствие можно было только облесением прилегающего к железнодорожному пути пространства. Но почва была такова, что на ней не принималось никакое растение. Одному инженеру (к сожалению, из памяти совершенно улетучилась фамилия этого замечательного человека, хотя образ его, как живой, стоит перед моими глазами) удалось найти одно примитивное растение, которое не погнушалось закаспийскими песками, но было столь слабо, что ни в какой степени не могло защитить железнодорожный путь. Инженер нашел другое, более сильное растение, которое под покровом первого смогло осесть на песке, и затем на закрепленной этими двумя растениями почве, он насадил особое туркестанское дерево — саксаул, которое совсем оградило железную дорогу от песков. Французские и английские инженеры, мечтавшие об облесении Сахары, специально приезжали в Закаспийскую область, чтобы ознакомиться со способом облесения Закаспийских песков.
Но закаспийский опыт, — объяснял мне инженер, — может быть не приложим к Сахаре, ибо пески бывают разной породы. В Астраханских [39] степях, например, различалось восемь пород песков, для каждой из которых требовались особые растения.
Говоря о Туркестане, нельзя не упомянуть об одном, весьма оригинальном, но, несомненно, благодетельном культуртрегере этого края, великом князе Николае Константиновиче. Сосланный императором Александром III за какую-то несоответствующую его званию проделку, в Туркестан, он поселился в Ташкенте и там проводил жизнь, дававшую обильный материал для всевозможных разговоров. Великий князь жил уединенно, замкнувшись в своем, огороженном стеной, дворце, а от времени до времени удивлял своими эксцентричностями. Прибыв однажды к настоятелю Ташкентского военного собора, прот. Константину Богородицкому, он в категорической форме потребовал, чтобы его немедленно обвенчали с 17-летней гимназисткой. Прот. Богородицкий отказался исполнить просьбу, ибо великий князь состоял в браке. Великий князь ушел от него возмущенный «оказанной ему несправедливостью». 23 апреля 1914 года ген.-губернатор А. В. Самсонов рассказывал мне, что незадолго перед тем великий князь Николай Константинович вызвал 500 человек, чтобы перемостить одну из главных ташкентских улиц, почему-то ему не понравившуюся. Чтобы предотвратить нашествие, ген. Самсонов должен был лично убедить великого князя, что этот ремонт надо отложить на некоторое время.
И, однако, этот великий князь оказался несомненным благодетелем Туркестана, когда не пожалел больших средств, чтобы оросить так называемую Голодную степь, ранее бывшую бесплодной пустыней, а потом ставшую одним из благословенных уголков богатейшего Туркестана.
В апреле 1914 года, будучи в Ташкенте, я сделал визит великому князю, на который он ответил немедленной присылкой своей карточки. Проезжая затем через цветущую Голодную степь, я отправил ему телеграмму с выражением своего восторга перед совершенным им [40] великим делом. Вернувшись затем в Ташкент, я нашел целую папку присланных мне великим князем прекрасных акварелей, представляющих Голодную степь в ее прежнем виде и преображенную его заботами.
Поездку по Туркестану я представляю теперь, как какой-то волшебный сон, где мне рисовалось величественнейшее будущее этого края, неотделимое от величия всей России. И только Красноводск, — конечный пункт Закаспийской железной дороги, — город на берегу Каспийского моря, окруженный высокими, лишенными всякой растительности, горами, в летнее жаркое время напоминал тот ад, в котором будут жариться и париться души неисправимых грешников, способствующих устроению вместо рая ада на земле.
Кавказ я проехал в 1911 и 1916 гг., когда побывал в городах Баку, Тифлисе, Кутаисе, Батуме, Александрополе, Карсе. Кавказ воспет поэтами. Он не мог не поражать наблюдателя несравненной красотой природы, разнообразием народностей, оригинальнейшим кавказским гостеприимством, совершенно особым укладом всей кавказской жизни. Незнающий кавказских нравов и обычаев мог удивляться на каждом шагу.
Прибыв в первый раз в Тифлис 2 или 3 октября 1911 г., я счел обязательным посетить все воинские части, расквартированные в этом городе. Меня неотлучно сопровождал командир кавказского корпуса, генерал А. З. Мышлаевский, бывший талантливый профессор Академии Генерального Штаба и мой сослуживец. В 17 драгунском Нижегородском полку, считавшемся Кавказской гвардией, нас чествовали завтраком. Речи и тосты, — это больное место кавказцев, — они для них «слаще меда и сота», — начались с первой чаши. Выступил старший полковник полка князь Медиков. Он говорил о радости полка, увидевшего в своей среде протопресвитера, молодого, энергичного, зарекомендовавшего себя на Русско-японской войне и т. д. и т. д. Комплиментам там не было конца. «Итак, выпьем за [41] здоровье ген. Мышлаевского», — закончил свой тост полк. Медиков. — «А я-то тут причем?» — отозвался ген. Мышлаевский. И я тогда был удивлен заключением тоста. После же я узнал, что заключение было вызовом ген. Мышлаевскому, чтобы тот продолжил речь.
В своем расцвете Кавказ не отставал от Сибири и Туркестана. С каждым годом разраставшиеся там чайные плантации, апельсинные, мандариновые и лимонные рощи, рисовые поля и новые, легко прививавшиеся культуры разных южных фруктов обещали всё большие и большие блага краю, а через него и России.
После, во время Гражданской войны, мне пришлось познакомиться со Ставропольской губернией и Кубанской областью, землями, по библейскому выражению (Исх. III, 8), текущими медом и молоком. И та и другая поразили меня своим богатством: баснословное плодородие земли, множество скота, рыбы, дичи, всяких плодов земных, «вина и елея» — создавали жителям их чрезвычайное благоденствие. Дом каждого хозяина был — чаша полная. Великолепнейшие храмы, с богатейшей утварью, драгоценными иконами и иконостасами, — были храмы, где иконостас стоил свыше 200.000 руб., — свидетельствовали о богатстве и щедрости жителей. Духовенство утопало в изобилии благ земных. Священник с годовым бюджетом в 10 тысяч руб. на Кубани представлял явление не исключительное (A ординарный профессор Дух. Академии получал 3000 р. в год, бюджет же Новгородского священника часто не превышал 400-500 руб. в год.). Мне называли одного кубанского священника, который получал до 25.000 руб. в год. Такое обеспечение, однако, не способствовало ни подъему духовного уровня, ни повышению работоспособности Ставропольского и Кубанского духовенства. Благоденствие этого края обещало возрасти еще более. Помимо с каждым годом улучшавшегося земледелия, скотоводства, овцеводства, виноделия — там, в Кубанской области, начала развиваться нефтяная промышленность и [42] были найдены изобиловавшие огромным количеством марганца озера. В 1919 году американцы усиленно пытались заарендовать эти озера, заявляя, что за них они готовы будут кормить всю Кубань.
Стоило побывать на описанных мною выше трех окраинах и на Кубани, присмотреться к тамошним достижениям самых последних лет, чтобы убедиться, как быстро залечивались раны, нанесенные несчастной Русско-японской войной, и как быстро неслась Россия вперед, развивая и умножая свои природные богатства. Была не только надежда, но и уверенность, что вскоре наша Родина станет богатейшей и счастливейшей в мире страной.
Эта уверенность подкреплялась еще тем, что прогресс наблюдался почти во всех областях жизни и внутренней России — в торговле, промышленности, земледелии, в развитии школьного дела и, в частности, женского образования.
Кому Россия была обязана таким быстрым, всё прогрессирующим расцветом? На этот вопрос затрудняюсь ответить. Думаю, что блестящие министры последнего царствования — Столыпин, Витте, Кривошеин, Коковцов и другие — своими настойчивыми и талантливыми мероприятиями способствовали всероссийскому прогрессу. Но было бы большой несправедливостью не отдать должное и личности Императора Николая II, всегда и всей душой откликавшегося на клонившиеся к народному благу разные реформы, если только эти реформы предлагались соответствующими министрами или иными начальниками. Всякий начальник мог быть совершенно уверен в поддержке Императора, если только он сумеет представить ему необходимость и полезность нового начинания. Государь неподдельно и безгранично любил Родину, не страшился новизны и очень ценил смелые порывы вперед своих сотрудников. Это были драгоценные его, как правителя, качества, которым, к великому несчастью, не суждено было проявиться до конца и во всей силе. [45]
Ольга Aйкенберг,
09-08-2011 22:27
(ссылка)
МЕРТВЫЕ ДУШИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СРОЧНО! НОВЫЕ МЕРТВЫЕ ДУШИ РОССИИ
МЕРТВЫЕ ДУШИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Появились сведения, что общественный комитет по преодолению ГЕНОЦИДА русского
народа, во главе с Председателем Комитета Назаровым А.С. и секретарем Щербаковым А.А.
обнародовал закрытые до этого, от наших людей статистические данные, показывающие
истинное катастрофическое состояние дел в демографии в России. Комитет обратился за
помощью к Генеральному Секретарю ООН, правительствам государств ООН, должностным
лицам России от Президента до Председателя Конституционного суда Зорькина В.Д. принятия
немедленных мер по пресечению ГЕНОЦИДА одного из крупных народов мира русского и
других народов России и дать оценку происходящего в России с точки международного права.
Исх. 77-170211 от 17 февраля 2011 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ и ОСОБОЙ СРОЧНОСТИ!
Общественный Комитет по Преодолению Геноцида Русского Народа сообщает Вам о
том, что по данным Центрального Аналитического Центра РФ отдела ЗАГСа на 1 июня 2010 г.
в Российской Федерации по документам числится живого населения только 89.654.325
человек, а не 142.000.000, как заявлено официально в переписи населения. За 2009 год умерло
5.000.854 человека. В период с 01.01.2010 г. до 1 июня 2010 года умерло 4.678.856 человек.
Каждый квартал правительство фиксирует отчёты Центрального Аналитического Центра
(ЦАЦ) РФ, но реально цифры обнародует совсем другие. В течение 10-15 лет ожидается
смертность около 40.000.000 человек (данные предоставлены сотрудницей ЦАЦ РФ Улитиной
Екатериной, официально опубликованы в газете «За Русское дело» № 8(160) за 2010 год,
регистрационное свидетельство № 012225 МП РФ от 10.12.1993 г.).
Информация официально не опровергнута. Данное обстоятельство позволяет считать её
достоверной „Факт преступного сокрытия чудовищного по масштабам УМЕРЩВЛЕНИЯ
людей указывает на умышленное создание режимом Российской Федерации (во всех её ветвях
и подразделениях) таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное физическое
уничтожение населения России. Выходные данные 129110 г. Москва Водопроводные переулок
д. 2 офис 33. тлф (495) 6814214, (916) 102 9548, (916) 276 4628.
www.rrrus.ru
Данные, опубликованные вышеназванным комитетом, конечно нуждаются в тщательной
проверке и их анализе, но проверке явно независимой от действующей власти в России,
которая, будет всячески скрывать правду от народа и международных органов, если это имеет
место быть. Обращает особое внимание, что в 2010 году прошла, по инициативе властей,
перепись населения России. О том, как она проходила – это особое описание, но в Москве из
20 моих знакомых 15 вообще не переписали, или перепись возложили на их сознательность
или несознательность – Вам это надо, вы и приходите к нам и переписывайтесь. В нашем доме
75 по Ленинградскому проспекту в Москве переписчиков вообще не было. О каких данных
можно говорить? Такое отношение к переписи населения говорит о том, что власть,
инициировавшая эту перепись, истинных данных знать не хочет или их знает, но всячески
скрывает в своих корыстных целях. С одной стороны власть не хочет, чтобы эти данные стали
доступными мировой общественности – это бомба и международные трибуналы, с другой
стороны большее количество населения позволяет манипулировать, данными по
общественному мнению и выборам этой же власти. Объявленные в ходе переписи 142.000.000
(почему-то с точностью до миллиона) вызывают большие сомнения, так как даже при призыве
в армию в течении года более 600.000 призвать не могут и говорят о мифических 300 тысячах,
которые где-то бегают. Но известно, что хватают и больных, и преступников и студентов –
всех кого поймают. Махинации с количеством населения выгодны партии власти, которая
растеряла доверие народа за прошедшие 10 лет. И это позволяет значительно
фальсифицировать результаты выборов, производить неконтролируемые вбросы бюллетеней,
манипулируя количеством избирателей, так как выгодно им. А на местах губернаторы,
избирательные комиссии, думы, главы администраций из этой же партии могут быть
1
спокойными – им всегда хватит мертвых душ. Отсюда иногда и появляются сто с лишним
процента голосов.
Если то, что пишет общественный комитет по преодолению геноцида правда – это
требует отдельного расследования не российскими, а именно международными независимыми
органами. Надо остановить деятельность современных Чичиковых, если это имеет место быть.
Количество умершего населения в России, если правдивы эти цифры, то требуют отдельного
осмысления и видимо международного трибунала по типу Нюрнбергского или трибунала по
Югославии. Требуется специальное обращение народа России, к мировому сообществу с
призывом СРОЧНО принять действенные меры, по проверке истинного состояния дел в
России. Если данные комитета будут подтверждены, то требуется принятия экстренных мер, по
спасению народа России от ГЕНОЦИДА, осуждение лиц его развязавших и соответственно
предусмотренные уставом ООН мероприятия, по пресечению ГЕНОЦИДА народа России со
стороны властей. Больше винить-то некого! На этот период, период проверки – на наш взгляд,
должна быть приостановлена деятельность всех органов власти законодательных,
исполнительных и введены специальные управляющие территориями утвержденные в ООН.
Полностью пересмотрена система здравоохранения и т.д. А все лица причастные в России к
фальсификации данных, если это имеет место быть, должны быть взяты предварительно под
международный арест, чтобы не сбежали. Мы в России все хотим знать правду о том, что
творят с нами власти.
Если судить по данным, опубликованным Комитетом, то:
•при населении России в 89.654.325 человек, смело можно сказать, что:
•людей старше 60 лет в России должно остаться при среднем возрасте мужчин 58 лет и
женщин 68 лет – 20% всего населения или 17.930.865 человек;
•в работоспособном возрасте от 18 – 60 лет – 50% населения или 44.827.163 человека;
•молодых людей и детей 30% или 26.896.297 человек.
Цифры весьма прикидочны, но и по ним становится понятным почему максимальный
призыв Министерство Обороны РФ смогло обеспечить, в течение года всего около 600.000
человек. Если учесть количество наркоманов, бродяг, психически ненормальных, то положение
в России исключительно катастрофическое, особенно в отношении государствообразующего
народа – русских и казаков, количество, которых уменьшается уже в геометрической
прогрессии, и, судя по цифрам, сегодня уже не превышает 50% от общего количества
населения. Все разговоры о Национальном проекте – Здоровье нации – это разговоры для
мировой общественности. Закон называемый – о монетизации льгот стариков, направлен
напрямую на уничтожение именно стариков.
И люди (нелюди) его (Закон_____________) создававшие, как и принимавшие заслуживают особого
осуждения, как международные преступники. Мы хотим знать своих героев – кто голосовал
за закон о монетизации льгот, кто его утверждал и подписывал поименно! Если все это,
правда, то становится понятным, откуда берутся идеи о продлении пенсионного возраста,
продлении рабочей недели, о катастрофическом состоянии оборонки, где уже нет
конструкторов, инженеров, а заодно и о том, что старики мешают жить и уровень их пенсий
оказывается ниже прожиточного минимума. А их потребности, рассматриваемые при расчетах,
оказываются ниже, чем даже потребности детей и заключенных. Лично я хочу знать, правда,
это или нет?
Я считаю, что выборы в такой обстановке, как и продление власти Президента и
Федерального Собрания не только неэтичны, но и преступны по своей сути в отношении всех
наших людей. Их надо остановить!
(http://my.mail.ru/community/voen_mor/7FA2D5EC3E9D3143.html)
2__
Вопрос: как голосуют 50 млн Мертвых душ?
И Один в поле воин коль по Руски скроен.
ПРГРАММА УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКИХ
ПРОГРАММА НАШИХ ВРАГОВ. ЕЁ НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ.
 Программа истребления русских и других славян - как асоциальных элементов, порождающих фашизм, по той причине, что каждый славянин и представитель любой другой белой национальности- является патологическим национистом/фашистом. Программа является стратегическим действием против фашизма, принятая на АНТИФАШИСТКОМ конгрессе в рамках борьбы с фашизмом.
Программа истребления русских и других славян - как асоциальных элементов, порождающих фашизм, по той причине, что каждый славянин и представитель любой другой белой национальности- является патологическим национистом/фашистом. Программа является стратегическим действием против фашизма, принятая на АНТИФАШИСТКОМ конгрессе в рамках борьбы с фашизмом.
I. Удержание власти.
1. Захват средств массовой информации.
2. Находящийся у власти должен иметь фамилию и внешность местных гоев(неевреев).
3. Директор может быть гой, но хотя бы один из его замов должен быть из наших.
4. Не допустить власти трудящихся.
5. Обеспечить поддержку аппарата контроля, распределения и подавления.
6. Масон, оставивший след в применении средств или при проведении операций,заканчивает жизнь самоубийством или его убирают.
7. Обеспечить создание и поддержание структуры чистки общества, обезглавливание гоев проводить по плану, независимо от его активности.
II. Идеология
1. СМИ, литературу иискусство использовать для показа преимуществ капитализма перед социализмом.
2. С позиций утверждения существования антисемитизма можно подавлять гоев.
3. Разоружение язычества, внедрение религии сплачивающей, как баранов, на рабских принципах, оккупация и ассимиляция славян должна идти с нарастанием.
4. Действовать только от имени народа и для народа, только благими намерениямии пожеланиями - говорить можно все..
5. Не допускать распространения гойских кличей: "Цукерман в Биробиджан", "Убийц, жидов к ответу", "Сионизм, встать -суд идет" и т. д.
6. Не допускать распространения листовок, обращений, воззваний и заявлений гоев: Шапку по кругу на русскую кольчугу. Геноцид можно остановить только геноцидом.
III. Денационализация
1. Продолжать смешивание рас под видом интернационализма.
2. Использовать все средства для комплексного национального обезличивания гоев.
3. Под видом борьбы с национализмом и шовинизмом уничтожать все национальное.
4. Обеспечить повсеместную организацию и управление русофобией (уничтожениевсего русского любыми путями).
5. Не допустить распространения славянского язычества, объявить эту религию фашистской.
6. Приобщить славян к религии рабов, в православии не допускать никаких вольностей и свободомыслия.
7. Не дать гоям в паспорте устанавливать графу - "расовая принадлежность" и добиться ликвидации графы "национальность".
8. Не допустить установления статуса коренного русского населения и др. ереси для возрождения их нации и культуры
9. Не допустить создания Центров русской национальной культуры.
IV. Устранение свободи активности гоев
1. Вовремя пополнять спецпсихлечебницы, места лишения свободы, больницы, спецшколы, дисциплинарные батальоны, спецПТУ.
2. Не допускать создания разведшкол гоев; не объединение гоев в стадо -управлять-то будем мы, а консолидацию их на совместных действиях,обеспечивающих им непобедимое положение и вкладывать им в руки идейное оружие;создание науки управления иудеями; координационных, консультативных советов;способы быстрого обмена информации со способами оповещения; выход из-под нашего контроля национальных организаций; фашизм и национализм в любой форме; сбор гоями телефонов или адресов иудеев; создание методов борьбы с сионизмом.
3. Отвлекать гоев на что угодно, менять средства борьбы, все наши действиядолжны быть гибкими и неотразимыми, дискредитировать и раскалывать противника,заставлять его подлаживаться под нас и считаться с нами, обезглавливать, вести огонь по штабам, дезорганизовывать противника своими людьми.
4. Мешать созданию работ, направленных против нас: "Что делать","Как действовать", "Схемы действий по направлениям", "Лидеры славян", "Способы привлечения людей и борьбы за аудиторию".
5. ЦСУ не должно учитывать членов тайных обществ ни сионистов, ни иудеев, ни полуевреев, ни четверть евреев, ничего, что связано с нами, не учитывать то,что говорит о самоубийствах русских
V. Торможение развития гоев
1. Необходимо поддерживать нищету и бесправие гойского быдла.
2. Замедленное развитие гоев обеспечивать нашим окружением и управлением их развития в нужном русле.
3. Музыку, имеющую наркотические свойства, крутить гоям почаще, промывать мозги, затруднять поиск и установление контроля над определенными музыкальными звуками, стирающими глубинную информацию.
4. Рабским у гоев должно быть все: пища, религия, идеология, наука, отношение к нам, оружие, средства защиты, способы существования, средства информации,образование, профессии, положение в обществе, жилье, культура.
5.Превращать гоев рабской пищей и способами ее употребления в бескультурный скот, в безынициативных, бездеятельных и ожиревших свиней . Кровь у гоя должна быть кислой, а не щелочной.
6. Создавать и удерживать превосходство над гойским быдлом, бить по слабым точкам и ключевым центрам гоев, быстрей переходить к решающей стадии во владении миром и полному подчинению гоев нашему международному правительству.
VI. Уничтожение противника ассимиляцией как гуманной формой геноцида
1.Иудаизм, сионизм,всемирная еврейская нация и Международное правительство органически не приемлют создание и существование славянских семей и теперь необходимо постараться и втечение ближайшего времени ассимилировать большое количество славянских девушек другими народами.
2. Использовать секс по прямому назначению и для укрепления семьи конечно нельзя, но лишь для разврата молодежи, распространения половых извращений,увеличения конфликтов и по той причине разводов, а в сумме для сокращения численности гоeв.
3. Ни в коем случае не допустить установления каких-либо льгот или вознаграждений за производство детей от красивых или имеющих высокую степень национальной чистоты славянских супружеских пар.
4. Для усиления ассимилирующего эффекта не стоит отказываться от старых идей кастрации всех гоев.
Vll. Доведение и поддержание гоев в атмосфере нищеты и бесправия.
1.Средний русский всегда должен быть нищим и бесправным, испытывающим всюду множество неудобств и повседневных бюрократических рогаток.
2. Массовая нищета должна порождать массовое бескультурье, а оно должно порождать массовую преступность.
3. Исключить возвращение русским равенства, независимости, свободы,млрд.золотом.
VIll. Массоваядебилизация гоев.
1. Враг значительно деморализуется, когда видит, что все, что делается вокруг него, вранье, вредительство и грабеж.
2. Образование для гоев должно готовить моральных уродов.
3. Схема действий должна быть по единому плану, разработанному международным правительством.
4. Ценнее спаивания алкоголем, наверное, ничего сейчас нет. Мешать постепенному сокращению градусности спиртных напитков.
lX. Боевые психотропные препараты, изменяющие психику человека.
1. Вызывающие провал в памяти на несколько часов и более.
2. Имеющие чисто наркотические свойства.
3. Ограничивающие интерес человека определенными занятиями.
4. Усиливающие тягу к спиртным напиткам.
5. Программируется на убийство или самоубийство.
6. Мужские и женские возбудители половой деятельности, приводящие к половымизвращениям.
X. Методы достаточномассового потравления гоев.
1. Уходя с места жительства лить гоям на пол ртуть, уходя из бани не имеющим обрезания в парной поддавать мыльной водой.
2. Средства массового поражения должны оказываться в варочных цехах, столовых или просто в местах скопления гоев.
3. Необходимо Россию превратить в технологическую свалку наиболее развитых стран.
XI. Сокращение численности гоев до разумных пределов скрытыми формами геноцида в тайной односторонней войне.
1. Продолжать истребление славянских гоев приемом "своеобразное демографическое сокращение русских".
2. Продолжать сокращение славянских гоев в 3 раза за поколение иудо-масонскимприемом "льготы для матери одиночки".
3. Плохо варьируется прием "старение нации", оставляющий жить лишь неспособных к сопротивлению.
4. Если работать с умом, то с русским гоями можно кончить к 1992 году.
XII. Сокращение численности гоев открытыми формами геноцида.
1. Сделать невозможным создание многодетных семей русских.
2. Поддерживать высокую детскую смертность славян и отсутствие ее у иудеев.
3. Поддерживать высокую смертность славян юношей и девушек.
4. Не занижать, а завышать русским срок, разрешающий вступать в брак.
5. Всячески стравливать быдловских мужчин и женщин и разрушать их семьи.
6. Разрабатывать новые законы (экодемографические войны) для ликвидации гойских масс без военной машины, без материальных затрат на нее, голодом и обнищанием рабов.
7. Организация беспорядков и применение армии, сил правопорядка и закона для наведения порядка с небольшим процентом сокращения гоев.
XIII. Уничтожение противника управляемой медициной.
1. Поддержание достаточного количества подростков беременными, бесплодных от абортов женщин,"случайных" выкидышей, преждевременных родов, мертворождений,послеродовых осложнений.
2. Необходимо саботировать обслуживание беременных женщин, только что родившихся быдлят и женщин после беременности и мешать установлению реальных мер по охране материнства и младенчества.
3. Тормозить профилактическую медицину и делать все, чтобы средняя продолжительность жизни гоев постоянно снижалась.
4. Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь или необходимое вещество.
5. Во время любой операции пересадка раковых опухолей от больного здоровому.
6. Применение лекарств с измененным химическим составом и лекарств, необладающих лечебными свойствами, которые предварительно облучаются, морозятся ит. д. врачами скорой помощи и лечащими врачами.
7. Обычное длительное отравление малыми дозами.
8. Во время флюорографической съемки изменяется сила и время облучения.
ХIV.Действия через контролируемые средства массовой информации.
1. Стабильная направленность СМИ на русофобию.
2. Объявление патриотических и национальных движений гоев фашистскими,националистическими, шовинистическими, погромными и консервативными,шельмование, навешивание ярлыков, клевета.
XV. Повсеместное и повседневное глумление над врагом.
1. Над славянскими гоями может издеваться кто угодно и как угодно. В положении искусственной безответственности имена наши всегда будут засекречены.
2. Повсеместные действия по доведению до самоубийств, инфарктов, кровоизлиянийв мозг, обмороков и других состояний противника посредством хамства, наглости,издевательств, унижений, оскорблений и полной безнаказанности нас, других членов тайных обществ и шабез-гоев должны носить массовый характер."
примерный источник: СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ
 Программа истребления русских и других славян - как асоциальных элементов, порождающих фашизм, по той причине, что каждый славянин и представитель любой другой белой национальности- является патологическим национистом/фашистом. Программа является стратегическим действием против фашизма, принятая на АНТИФАШИСТКОМ конгрессе в рамках борьбы с фашизмом.
Программа истребления русских и других славян - как асоциальных элементов, порождающих фашизм, по той причине, что каждый славянин и представитель любой другой белой национальности- является патологическим национистом/фашистом. Программа является стратегическим действием против фашизма, принятая на АНТИФАШИСТКОМ конгрессе в рамках борьбы с фашизмом. I. Удержание власти.
1. Захват средств массовой информации.
2. Находящийся у власти должен иметь фамилию и внешность местных гоев(неевреев).
3. Директор может быть гой, но хотя бы один из его замов должен быть из наших.
4. Не допустить власти трудящихся.
5. Обеспечить поддержку аппарата контроля, распределения и подавления.
6. Масон, оставивший след в применении средств или при проведении операций,заканчивает жизнь самоубийством или его убирают.
7. Обеспечить создание и поддержание структуры чистки общества, обезглавливание гоев проводить по плану, независимо от его активности.
II. Идеология
1. СМИ, литературу иискусство использовать для показа преимуществ капитализма перед социализмом.
2. С позиций утверждения существования антисемитизма можно подавлять гоев.
3. Разоружение язычества, внедрение религии сплачивающей, как баранов, на рабских принципах, оккупация и ассимиляция славян должна идти с нарастанием.
4. Действовать только от имени народа и для народа, только благими намерениямии пожеланиями - говорить можно все..
5. Не допускать распространения гойских кличей: "Цукерман в Биробиджан", "Убийц, жидов к ответу", "Сионизм, встать -суд идет" и т. д.
6. Не допускать распространения листовок, обращений, воззваний и заявлений гоев: Шапку по кругу на русскую кольчугу. Геноцид можно остановить только геноцидом.
III. Денационализация
1. Продолжать смешивание рас под видом интернационализма.
2. Использовать все средства для комплексного национального обезличивания гоев.
3. Под видом борьбы с национализмом и шовинизмом уничтожать все национальное.
4. Обеспечить повсеместную организацию и управление русофобией (уничтожениевсего русского любыми путями).
5. Не допустить распространения славянского язычества, объявить эту религию фашистской.
6. Приобщить славян к религии рабов, в православии не допускать никаких вольностей и свободомыслия.
7. Не дать гоям в паспорте устанавливать графу - "расовая принадлежность" и добиться ликвидации графы "национальность".
8. Не допустить установления статуса коренного русского населения и др. ереси для возрождения их нации и культуры
9. Не допустить создания Центров русской национальной культуры.
IV. Устранение свободи активности гоев
1. Вовремя пополнять спецпсихлечебницы, места лишения свободы, больницы, спецшколы, дисциплинарные батальоны, спецПТУ.
2. Не допускать создания разведшкол гоев; не объединение гоев в стадо -управлять-то будем мы, а консолидацию их на совместных действиях,обеспечивающих им непобедимое положение и вкладывать им в руки идейное оружие;создание науки управления иудеями; координационных, консультативных советов;способы быстрого обмена информации со способами оповещения; выход из-под нашего контроля национальных организаций; фашизм и национализм в любой форме; сбор гоями телефонов или адресов иудеев; создание методов борьбы с сионизмом.
3. Отвлекать гоев на что угодно, менять средства борьбы, все наши действиядолжны быть гибкими и неотразимыми, дискредитировать и раскалывать противника,заставлять его подлаживаться под нас и считаться с нами, обезглавливать, вести огонь по штабам, дезорганизовывать противника своими людьми.
4. Мешать созданию работ, направленных против нас: "Что делать","Как действовать", "Схемы действий по направлениям", "Лидеры славян", "Способы привлечения людей и борьбы за аудиторию".
5. ЦСУ не должно учитывать членов тайных обществ ни сионистов, ни иудеев, ни полуевреев, ни четверть евреев, ничего, что связано с нами, не учитывать то,что говорит о самоубийствах русских
V. Торможение развития гоев
1. Необходимо поддерживать нищету и бесправие гойского быдла.
2. Замедленное развитие гоев обеспечивать нашим окружением и управлением их развития в нужном русле.
3. Музыку, имеющую наркотические свойства, крутить гоям почаще, промывать мозги, затруднять поиск и установление контроля над определенными музыкальными звуками, стирающими глубинную информацию.
4. Рабским у гоев должно быть все: пища, религия, идеология, наука, отношение к нам, оружие, средства защиты, способы существования, средства информации,образование, профессии, положение в обществе, жилье, культура.
5.Превращать гоев рабской пищей и способами ее употребления в бескультурный скот, в безынициативных, бездеятельных и ожиревших свиней . Кровь у гоя должна быть кислой, а не щелочной.
6. Создавать и удерживать превосходство над гойским быдлом, бить по слабым точкам и ключевым центрам гоев, быстрей переходить к решающей стадии во владении миром и полному подчинению гоев нашему международному правительству.
VI. Уничтожение противника ассимиляцией как гуманной формой геноцида
1.Иудаизм, сионизм,всемирная еврейская нация и Международное правительство органически не приемлют создание и существование славянских семей и теперь необходимо постараться и втечение ближайшего времени ассимилировать большое количество славянских девушек другими народами.
2. Использовать секс по прямому назначению и для укрепления семьи конечно нельзя, но лишь для разврата молодежи, распространения половых извращений,увеличения конфликтов и по той причине разводов, а в сумме для сокращения численности гоeв.
3. Ни в коем случае не допустить установления каких-либо льгот или вознаграждений за производство детей от красивых или имеющих высокую степень национальной чистоты славянских супружеских пар.
4. Для усиления ассимилирующего эффекта не стоит отказываться от старых идей кастрации всех гоев.
Vll. Доведение и поддержание гоев в атмосфере нищеты и бесправия.
1.Средний русский всегда должен быть нищим и бесправным, испытывающим всюду множество неудобств и повседневных бюрократических рогаток.
2. Массовая нищета должна порождать массовое бескультурье, а оно должно порождать массовую преступность.
3. Исключить возвращение русским равенства, независимости, свободы,млрд.золотом.
VIll. Массоваядебилизация гоев.
1. Враг значительно деморализуется, когда видит, что все, что делается вокруг него, вранье, вредительство и грабеж.
2. Образование для гоев должно готовить моральных уродов.
3. Схема действий должна быть по единому плану, разработанному международным правительством.
4. Ценнее спаивания алкоголем, наверное, ничего сейчас нет. Мешать постепенному сокращению градусности спиртных напитков.
lX. Боевые психотропные препараты, изменяющие психику человека.
1. Вызывающие провал в памяти на несколько часов и более.
2. Имеющие чисто наркотические свойства.
3. Ограничивающие интерес человека определенными занятиями.
4. Усиливающие тягу к спиртным напиткам.
5. Программируется на убийство или самоубийство.
6. Мужские и женские возбудители половой деятельности, приводящие к половымизвращениям.
X. Методы достаточномассового потравления гоев.
1. Уходя с места жительства лить гоям на пол ртуть, уходя из бани не имеющим обрезания в парной поддавать мыльной водой.
2. Средства массового поражения должны оказываться в варочных цехах, столовых или просто в местах скопления гоев.
3. Необходимо Россию превратить в технологическую свалку наиболее развитых стран.
XI. Сокращение численности гоев до разумных пределов скрытыми формами геноцида в тайной односторонней войне.
1. Продолжать истребление славянских гоев приемом "своеобразное демографическое сокращение русских".
2. Продолжать сокращение славянских гоев в 3 раза за поколение иудо-масонскимприемом "льготы для матери одиночки".
3. Плохо варьируется прием "старение нации", оставляющий жить лишь неспособных к сопротивлению.
4. Если работать с умом, то с русским гоями можно кончить к 1992 году.
XII. Сокращение численности гоев открытыми формами геноцида.
1. Сделать невозможным создание многодетных семей русских.
2. Поддерживать высокую детскую смертность славян и отсутствие ее у иудеев.
3. Поддерживать высокую смертность славян юношей и девушек.
4. Не занижать, а завышать русским срок, разрешающий вступать в брак.
5. Всячески стравливать быдловских мужчин и женщин и разрушать их семьи.
6. Разрабатывать новые законы (экодемографические войны) для ликвидации гойских масс без военной машины, без материальных затрат на нее, голодом и обнищанием рабов.
7. Организация беспорядков и применение армии, сил правопорядка и закона для наведения порядка с небольшим процентом сокращения гоев.
XIII. Уничтожение противника управляемой медициной.
1. Поддержание достаточного количества подростков беременными, бесплодных от абортов женщин,"случайных" выкидышей, преждевременных родов, мертворождений,послеродовых осложнений.
2. Необходимо саботировать обслуживание беременных женщин, только что родившихся быдлят и женщин после беременности и мешать установлению реальных мер по охране материнства и младенчества.
3. Тормозить профилактическую медицину и делать все, чтобы средняя продолжительность жизни гоев постоянно снижалась.
4. Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь или необходимое вещество.
5. Во время любой операции пересадка раковых опухолей от больного здоровому.
6. Применение лекарств с измененным химическим составом и лекарств, необладающих лечебными свойствами, которые предварительно облучаются, морозятся ит. д. врачами скорой помощи и лечащими врачами.
7. Обычное длительное отравление малыми дозами.
8. Во время флюорографической съемки изменяется сила и время облучения.
ХIV.Действия через контролируемые средства массовой информации.
1. Стабильная направленность СМИ на русофобию.
2. Объявление патриотических и национальных движений гоев фашистскими,националистическими, шовинистическими, погромными и консервативными,шельмование, навешивание ярлыков, клевета.
XV. Повсеместное и повседневное глумление над врагом.
1. Над славянскими гоями может издеваться кто угодно и как угодно. В положении искусственной безответственности имена наши всегда будут засекречены.
2. Повсеместные действия по доведению до самоубийств, инфарктов, кровоизлиянийв мозг, обмороков и других состояний противника посредством хамства, наглости,издевательств, унижений, оскорблений и полной безнаказанности нас, других членов тайных обществ и шабез-гоев должны носить массовый характер."
примерный источник: СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ
Александр Корнилов,
05-02-2011 02:29
(ссылка)
Пьянству - Бой!
Иногда можно немного и выпить - в хорошей компании.
Но не до такой же степени. Позор - http://www.youtube.com/watc...
Но не до такой же степени. Позор - http://www.youtube.com/watc...
Александр Корнилов,
02-02-2011 04:47
(ссылка)
Воспоминания русского землепашца Комментарии Михаила Полубоярова
Жизнь по совести
В семидесятые годы в Киеве сняли документальный фильм «Я и другие». О том, как сильно зависит сознание человека от «общественного мнения». На глазах кинозрителя психологи проводили эксперименты. В одной аудитории психолог показывал студентам портрет человека: «Это преступник, убийца. Какие черты характера вы бы выделили в нем?» Ответ студентов: «В глазах – равнодушие. Расположение морщин свидетельствует о непреклонной воле, патологической жестокости». Предъявляют тот же портрет другой аудитории со словами: «Это – портрет выдающегося ученого…» Оценки прямо противоположные: «В глазах – проникновенный ум. Морщины – свидетельство мудрости…»
Разве не то же самое сделали с народом средства массовой информации, начиная с конца восьмидесятых годов? Население (трудно называть людей, ныне живущих на территории России, народом – разрушено его единство) предпочитает довольствоваться готовыми выводами, которые предлагаются с экранов телевизора и «желтыми» изданиями.
Подлость стала приобретать статус обычая с августа 1991 года, когда произошло нечто, называемое «путчем», «попыткой путча», что совершенно не соответствует истине.
Напомню суть дела. В августе 1991 года все мы, кто жил в это время на территории РСФСР, были гражданами Советского Союза (заметьте: не РСФСР, не других союзных республик!). Все мы имели единое союзное гражданство. Все военнообязанные принимали военную присягу и расписывались под ней. То есть присяга – это документ. Не случайно в военных билетах всех военнообязанных обязательно указывалась дата принятия военной присяги.
Текст присяги был такой (ниже специально выделяю особо значимые слова):
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.
Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и как воин Вооруженных Сил я клянусь защищать ее мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом.
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
Такую присягу принимали и ставили под нею подписи полковник запаса Горбачев, полковник запаса Ельцин, подполковник КГБ СССР Путин.
Теперь судите сами, кто они – «политическая элита» или изменники Родины… Президент СССР Горбачев, по должности обязанный обеспечивать всеми средствами защиту конституционного строя и территориальную целостность СССР, не арестовал заговорщиков в Беловежской Пуще (Ельцина, Кравчука, Шушкевича), подготовивших решение о «роспуске» СССР. Еще один признак измены Родине!
Президент РСФСР полковник запаса Ельцин, избранный на эту должность 12 июня 1991 г., тоже на эту дату был гражданином СССР, он изменил военной присяге, совершил покушение на территориальную целостность СССР (а это признак измены Родине).
Подполковник КГБ Путин, уволившись в 1990 году в запас, оставался в действующем резерве КГБ до начала 1992 года. Вместо защиты конституционного строя СССР – главной функции КГБ СССР – Путин пошел на службу в советники к А. Собчаку (с мая 1990 года – главы администрации Ленинграда), который являлся членом Движения демократических реформ. Движение было создано в июле 1991 г. и возглавлено людьми, также приносившими присягу в том, что они готовы защищать Советский Союз «не щадя крови и самой жизни». Это А.Н. Яковлев, Шеварднадзе, Вольский, Гавриил Попов, Руцкой, Собчак, Силаев, академики-экономисты Шаталин и Петраков. Служа одному из разрушителей врагу СССР, Путин оказался тем же, чем были для генерала-предателя Власова его офицеры-власовцы. Кроме того, находясь на посту президента РФ, Путин ничего не сделал для привлечения к уголовной ответственности за измену Родине Горбачева, Ельцина, маршала Шапошникова, генерала армии Грачева и других виновников разрушения. А ведь Российская Федерация является правопреемницей СССР.
Конечно, мне скажут: ты ведь тоже присягу принимал, а ничего не сделал для защиты своей Советской Родины.
Да, я мало что сделал для этого. Оставаясь в ряда Коммунистической партии (КПРФ), когда она была объявлена Ельциным вне закона, я клеил по ночам листовки, ходил на демонстрации, которые разгоняла милиция, не раз давал в своей московской квартире приют пензенским коммунистам, когда те приезжали в Москву, много раз был наблюдателем от КПРФ на выборах и т.д. Конечно, невелики заслуги, но я все же не предал. Я и миллионы мужчин, подобных мне, были людьми, лишенными части гражданских прав, у нас не было оружия, мы были почти военнопленными. В декабре 1998 года ЦК КПРФ приняло постановление о 120-летии Сталина, создателя системы, при которой стало возможным едва ли не поголовное предательство, полностью разрушено партийное товарищество. Принятие постановления послужило причиной моего выхода из КПРФ. До этого на собраниях кунцевских коммунистов я боролся со сталинистами. Теперь сталинизм фактически стал для ЦК КПРФ официальной доктриной. С такой партией мне не по пути.
Я прочитал немало воспоминаний о событиях августа 1991 года: Горбачева, Ельцина, Яковлева, Собчака, Бакатина, Александра Лебедя (кстати, наиболее талантливо написанные, хотя не без хвастовства). Но ни в одной не нашел упоминания о военной присяге. Раза три говорил о ней Лебедь, но вне контекста преданности Советской, Социалистической Родине: «не было приказа, поэтому не сохранили Советского Союза». Вот так: если нет приказа, Родину можно и не защищать.
Отсутствие приказа не может считаться разумным доводом в пользу перехода гражданина СССР на сторону противника, тех, кто действовал в соответствии с желанием западных правительств с целью разрушения Советского государства. Гарнизону Брестской крепости Советское правительство тоже не отдавало приказов, однако солдаты и офицеры сражались с немцами целых два месяца. Уже не говорю о пограничных нарядах, простых солдатах, не имевших никакой связи с командованием. Так что отсутствие приказа, на которое ссылался Лебедь, не аргумент. Так недолго и генерала Власова, и тысячи власовцев оправдать: они ведь тоже в окружении приказов не получали, тем не менее одни с боем прорывались к своим, другие сдавались и переходили на сторону противника. Юридические тонкости бессильны перед выбором совести, когда дело касается Родины.
Такое предисловие необходимо, чтобы посетители сайта, вниманию которых предлагаются мемуары Андрея Васильевича Шайкина, постоянно учитывали фактор идейного и нравственного разрыва поколений. То, что было дорого для Шайкина (преданность Родине, своему трудовому классу, солдатской дружбе, семье, жене, ответственность перед потомками), сегодня выглядят… неуместно.
Не исключаю, что многие гости сайта отнесутся к написанному крестьянским пером высокомерно. Ведь для них и так «всё понятно»: писал «совок» с начальным образованием. Им пропаганда так вдолбила в голову. А они думают, что это их собственное мнение. Им по башке поленом, а они: «Застучали тут мысли мне в темечко».
Наш современник видит и ощущает те же события в русле заданных концепций антикоммунизма и ненависти к большевизму, глядя на большевизм через чужие очки, подобранные для них политическими экспериментаторами.
Воспоминания Шайкина и нынешняя жизнь… Правда и Ложь. Простота и изощренность. Но не забудем главного! Это – голос из прошлого не одного Шайкина, а десятков миллионов преданных нами дедов и прадедов, ушедших из жизни в годы Гражданской и Великой Отечественной войн и после. Пока это голос одиночки против голосов десятков миллионов внуков и правнуков поколения предателей.
Кто этот одиночка и почему его нужно читать серьезно?
Андрей Васильевич Шайкин родился 16/28 октября 1900 года в крестьянской семье в селе Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии. С февраля 1939 года это село является районным центром Пензенской области. Умер в том же селе 13 июня 1998 года на 99-м году жизни.
В конце 1980-х годов он начал писать воспоминания и закончил в 1991. Они существуют в одной редакции, в двух экземплярах, в общих тетрадях, написанных ученической шариковой ручкой.
Я хорошо знал Андрея Васильевича, родного деда моей жены, мы дружили с ним. Еще при жизни он подарил мне одну из тетрадей, и выдержки из воспоминаний появились (уже после смерти деда) в пензенском журнале «Земство. Архив провинциальной истории России». Вторую тетрадь я передал через знакомого профессора в Институт истории РАН. Их собирались опубликовать, но времена изменились. Теперь исторической наукой такие мемуары «неинтересны».
Как видно из метрической книги Никольской церкви, отцом А.В. Шайкина был государственный крестьянин Василий Иванович Шайкин, матерью – Анастасия Афанасьевна (урожденная Морозова), оба – православного вероисповедания. Предки Шайкина в переписных книгах числились служилыми людьми города Петровска в Сердобинской слободе, прибывшими охранять от набегов крымцев, калмыков, ногайцев и прочих степняков порученный им участок Дикого Поля. Прибыли по указу Петра Первого от 5 ноября 1697 года. Первопоселенцы числились конными казаками. Их служба проходила на дальних и ближних караулах. После подавления восстания под руководством Кондратия Булавина, захватившее верховья Хопра и Медведицы, петровских станичников было велено именовать пахотными солдатами, а с конца 18 века – государственными крестьянами.
По сравнению с помещичьими, государственные крестьяне находились в привилегированном положении и жили относительно богато. Однако неприязнь к помещикам, дворянству сохранялась долго, присутствует она и на страницах воспоминаний Шайкина.
В 1905 году Малосердобинская волость стала одним из центров аграрного движения в Поволжье. Действовала боевая дружина, разъезжавшая по окрестным волостям, открыто, среди бела дня поджигавшая помещичьи имения. После осени 1905 года на территории Малосердобинского района не сохранилось ни одной помещичьей усадьбы. А.В. Шайкин не одобрял действий поджигателей. Но и к столыпинской аграрной реформе относился крайне негативно. В период ее проведения Шайкин был 10-16-летним подростком. Поэтому его оценки, скорее, не собственные. Они принадлежат более старшим поколениям.
Вызывает интерес отношение автора к руководителям государства. Царя Николая Второго не вспомнил ни разу, хотя прожил при нем 17 лет. Образец народного вождя Шайкин видел в Ленине. Сталин для него – «враг народа». Одобрял Ю.В. Андропова за то, что, по мнению Андрея Васильевича, тот боролся за дисциплину в стране и что наконец-то вспомнил об участниках Гражданской войны, повысив пенсии.
Особо следует подчеркнуть, что Андрей Васильевич никогда не был ни комсомольцем, ни коммунистом, ни беспартийным активистом. Простой крестьянин. «Высшие посты», которые он занимал при жизни, – это колхозный завхоз и заведующий током (местом привоза с полей и первичной сортировки зерновых в период уборки урожая).
Гражданская война, с точки зрения бывшего красноармейца, отнюдь не была братоубийственной. Неприязненно относясь к дворянам, он питал двойственное отношение к казакам. С одной стороны, осуждал за поддержку дворян, с другой – жалел, что казаки, будучи такими же тружениками, как сам Андрей Васильевич, пошли за дворянами и оказались никому не нужными в эмиграции.
Шайкин – патриот, государственник. Интересы государства для него выше, чем интересы индивида. Однако государство должно жить по справедливым законам, поддерживать честного труженика. Важны для него и законы товарищества. Он тяжело переживал высылку в годы коллективизации бывших красноармейцев, записанных в «кулаки». В Малой Сердобе их сослали в холодные края почти поголовно. Естественно, что среди них ходили разговоры о Сталине, предавшего идеалы революции и тех, кто вместе с ним «прогнали» белогвардейцев. Но для Шайкина это не повод, чтобы из-за предательских деяний вождя порочить систему, Советскую власть. Автор мемуаров написал удивительно мудрые слова: «Если я на Сталина обиделся за то, что нас он загонял в колхоз принудительно, я должен Родину сдать и идти в рабы и все поколение отдать в порабощение? Сегодня Сталин, завтра Х-ярин, нынче Горбачев, завтра Лихачев, а Родину сдать и быть рабом – это невозможно, лучше помереть». Такова жизненная установка советского солдата.
Шайкин не выпячивает собственных заслуг, похвальба для него чужда. Мы видим лишь гордость за честно прожитую жизнь, за то, что детей воспитал достойными людьми, за то, что у него много внуков, и они живут хорошо. Это для него главное, а не фронтовые подвиги. И еще важна доброта людская: о добрых поступках он рассказывает с особой теплотой.
В воспоминаниях Шайкина не найти отвлеченных рассуждений на тему, что лучше, капитализм или социализм. Для него преимущества социализма настолько очевидны, что не нуждались в доказательстве. Такое убеждение сформировалось у Андрея Васильевича на основе народной нравственности. Из которой следует: справедливость выше сытости. Во имя социальной справедливости, государственной, национальной или духовной идеи поднимались восстания, велись многочисленные войны. А вот ради удовлетворения физиологических потребностей в худшем случае совершались разве что уголовные преступления.
Суть трактовки истории России в ХХ веке Андреем Васильевичем Шайкиным в следующем.
1. Россия укрепляла свое могущество благодаря усилиям многих поколений простого народа. Который сам для себя отвоевал право жить и работать на этой земле. И в их числе предки мемуариста, воевавшие с татарами, Наполеоном и турками. В то же время народ угнетали помещики и капиталисты. Они всегда стремились к тому, чтобы отнять у народа богатства, по праву принадлежащие тем, кто на земле трудится. Одна из самых ненавистных для автора воспоминаний фигур отечественной истории – Столыпин. Он не только совершил покушение на общенародную землю, но натравил одну часть крестьян на другую. То есть Столыпин – один из творцов будущей Гражданской войны. Если бы не революция, крестьяне «перерезали бы друг друга», считал Шайкин.
2. Народ не вытерпел несправедливости и «прогнал» помещиков и капиталистов. Вождем и спасителем народа был Ленин. Итогом деятельности народного вождя, считал А.В. Шайкин, стала свобода, воля, просвещение народа и набиравшая мощь в двадцатые годы Советская страна.
3. Сталин, пришедший к власти после смерти Ленина, оказался «врагом народа». Его первое преступление – насильственная коллективизация, второе – несчастное начало Великой Отечественной войны, обрекшее на ужасные мучения миллионы советских людей, третье – покушение на Волю («все ходили под дулом нагана, партийные и беспартийные»).
4. После Сталина жить стало хорошо, молодежь училась, стариков уважали, но не хватало дисциплины. Возвращать народу волю следовало одновременно повышая требовательность.
Наивен ли взгляд на советскую историю крестьянина Шайкина? Разберемся по пунктам.
Первый. В этом пункте отражен классовый подход крестьянина к событиям истории. Примем как факт, что Шайкин не прочел ни одной марксистской книжки, следовательно, не имел «научного» представления о противоречиях между трудом и капиталом. Но прочувствовал интуитивно то, что Маркс доказал с помощью научного анализа. Опровергнуть Маркса с помощью инструментов науки невозможно, разве что путем метафизических ухищрений, то есть обратившись в конце концов к сентенции, что на все существует «воля бога». Но Знание и Вера (в сверхъестественное) – разные понятия, одно принадлежит к сфере Разума, другое – к сфере Чувства. Судить эти понятия по взаимоисключающим законам – занятие, лишенное смысла. Знание нельзя проверить Чувством, оно проверяется Опытом. В то же время не существует приборов, которыми можно проконтролировать или измерить Чувство. Хотя, конечно, такой вывод не исключает возможности внешнего воздействия на психику, но последнее явление вполне материалистического содержания.
По второму пункту. Следует ли воспринимать всерьез отношение к Ленину как к «спасителю» России? Решайте сами, однако не стоит забывать, что подобный взгляд разделяли и беспартийные знаменитости: Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Маяковский, Есенин… И даже, сквозь зубы, некоторые враги большевизма, вроде монархиста Шульгина, одного из главных организаторов белого движения. Так, Есенин, потрясенный смертью Ленина, писал: «Того, кто спас нас, больше нет!» Ленин - «простой и милый», «строгий отец». Маяковский посвятил Ленину одну из лучших своих поэм. Патриарх Алексий I в 1924 году, будучи тяжело болен и, видимо, предвидя близкую кончину, призвал паству помириться с Советской властью, а Ленина назвал «христианнейшей души человеком». Ленин и Христос… Что между ними общего? Немало! Как сказал один приходский священник, «Ленин бедных любил. Как Христос». А богатых прогнал, опять же как Христос из храма. Главное противоречие в том, что один жил реально, второй - миф вокруг культа Христа, который создавался (это мое мнение) римской аристократией с целью спасения империи.
Объективно итогом деятельности правительства Ленина стало создание СССР. Много крови пролито? А существуют ли в мире великие государства, созданные малой кровью? Я не знаю таких. Да и лжи вокруг Ленина нагорожено много. К примеру, сотни раз на страницах прессы цитировались телеграммы Ленина в Пензенский губернский Совет немедленно и самым жестоким образом подавить восстание под Пензой («повесить, непременно повесить» его участников!). С чего бы такая озлобленность? В дальнейшем слово «повесить» исчезло из ленинского лексикона, хотя восстаний было сотни, в том числе в самом тяжелом для Советского правительства 1919 году. А дело в том, что в 1918 году, в Пензе находилась секретная «Экспедиция заготовления государственных бумаг», печатались деньги и другие ценные бумаги. Ее захват привел бы к полному экономическому краху молодое государство. Плюс Пензенская губерния в это время оставалась одной из немногих житниц, кормившей Москву и Петроград. Плюс важный железнодорожный узел: через Пензу возили войска на Самару, где власть принадлежала представителям «Учредительного собрания», которое пользовалось поддержкой восставшего чехословацкого корпуса и стран Антанты. В это время чехословацкий фронт был самым опасным для Советской республики. Отсюда нервный срыв Ленина, требование «непременно повесить», хотя на местах никто не воспринимал этого приказания буквально (да, вероятно, и сам Ленин). Из переписки с «пензенскими товарищами» ясно видно: Ленин полагал, что они не понимают всей опасности восстания, и потому нагнетал страсти. Как бывший директор Пензенского областного краеведческого музея знаю, что фактически было расстреляно 13 участников Кучкинско-Бессоновского восстания, ровно столько, сколько восставшие убили красноармейцев и членов продотряда.
Вбивание в головы наших современников чувственного отношения к Ленину, как будто он только и занимался репрессиями, одна из главных идеологем нынешней власти. Ее смысл – не дать вырасти в России новому Ленину, спасти то, что наворовано у народа с 1991 года. Великое дело – отвага и интеллект. В Ленине сочетались оба эти качества.
Троцкий, Свердлов и другие деятели Октября явно не хотели, чтобы Ленин прибыл в Смольный. Они что-то затевали против Ленина… Поэтому он тайно, в сопровождении лишь одного рабочего, приехал в Смольный на трамвае, хотя если бы Ленин был нужен троцким, его привезли бы на автомобиле в сопровождении броневиков: сил в Смольном было для этого более чем достаточно.
По третьему пункту. Шайкин совершенно прав. Коммунизм по-ленински и по-сталински – понятия прямо противоположные. Поиск истоков сталинизма в ленинском периоде – обычная антикоммунистическая практика. Во-первых, при Ленине власть принадлежала Советам, созданным по производственно-территориальному принципу. Естественно, большевистские ячейки занимались подбором кадров в советские органы власти. Этим занимается любая партия, пришедшая к власти. Но от имени партии (разумеется, «совместно» с Совнаркомом и ВЦИК) решения, имеющие силу законов, стали приниматься лишь с конца двадцатых годов. Государственная власть при Ленине – это власть Советов (революция совершалась под лозунгом «Вся власть Советам!»), при Сталине – это поначалу власть триумвиратов (в разных составах), а с тридцатых годов – единоличная власть генерального секретаря ЦК КПСС. Сменился носитель власть – следовательно, в стране произошел контрреволюционный переворот.
Почему именно на 1937 год приходится пик репрессий на политическую, научную, гуманитарную, производственную элиту страны? Потому что, согласно действовавшему на тот момент Уставу ВКП(б), в 1937 году должен был состояться 18 съезд партии. Сталин запомнил итог голосования на 17 съезде, когда против него проголосовало большое число делегатов, поэтому решил упредить события… Троцкизм тут ни при чем. На власть претендовал русский большевизм.
По пункту четвертому. Конечно, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко, ни Горбачев не были коммунистами-ленинцами. Хрущев сам был виноват в репрессиях, на его совести не одна сотня замученных товарищей по партии. Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев – обыкновенные партийные чиновники среднего ума, завоевавшие высокие места на партийном Олимпе благодаря отсутствию у них твердых принципов, если не считать принципа беспрекословного подчинения вышестоящему начальнику. За всю свою жизнь они не написали ничего умного, что хотелось бы перечитывать. Интеллектуально выше других в этой четверке был Андропов, но и его потенциал не следует преувеличивать: он привлек в свою команду советников, составивших впоследствии ядро идеологов горбачевской «перестройки». Отсюда можно сделать вывод: Андропов не был проницательным человеком.
«Философский» пароход, который постоянно ставят в вину Ленину (высылку из Советской России в 1922 году нескольких десятков философов и писателей), был вынужденной мерой. Ленин хотел внести успокоение в умы, начать практическое строительство социализма. Для этого следовало убрать идеологических противников, пользовавшихся влиянием на умы колеблющихся людей. Не случайно на «философском» пароходе мы не видим физиков, математиков, химиков, инженеров, металлургов, агрономов. Они были нужны большевикам восстанавливать экономику страны (читайте «Цемент» Федора Гладкова, произведение двадцатых годов). А вот бердяи булгаковичи ильины явно мешали дружному строительству социализма. Ведь именно философы создают «платформы», на базе которых объединяются люди, пользующиеся готовыми выводами (каких большинство). Это мы видели при Горбачеве. Сначала были статьи в журнале «Огонек» Коротича, затем многотысячные протестные толпы звенигородской технической «интеллигенции». Ленин предвидел такой вариант событий и был совершенно прав как государственник…
Рассказ крестьянина о своей жизни – это мысли и чувства поколения Октябрьской революции, оболганной, оплёванной и облёванной неблагодарными потомками. Совершающими то же нравственное преступление, что и библейский Хам, посмеявшийся над отцом.
Поэт Ярослав Смеляков написал вещее стихотворение «Замечание». В 1970-е годы у части «патриотической» интеллигенции проснулся интерес к Церкви, монархии. И родились такие строки.
С закономерностью глубокой,
Познанья жаждою полны,
Мы нынче тянемся к истокам
Своей российской старины.
Но в этих радостях искомых
Не упустить бы на беду
Красноармейского шелома,
Пятиконечную звезду.
Не позабыть бы, с обольщеньем
В соборном роясь серебре,
Второе русское рожденье
Осадной ночью на Днепре...
Вспомним же о том, о чем забыли…
КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ ВОСПОМИНАНИЙ А.В. ШАЙКИНА
«Где у нас были господа?» Господами на родине А.В. Шайкина называли исключительно помещиков. Волостные и уездные власти «господами» не считались.
Марьевка, Алексеевский, Круглое – населенные пункты Малосердобинского района Пензенской области. Среди соседних бывших помещичьих селений А.В. Шайкин забыл упомянуть Огарёвку, Колемас и Топлое.
Село Трескино, совхоз «Пятилетка» - населенные пункты соседнего Колышлейского района. Камышинка, Екатериновка, Жуковка – населенные пункты соседних районов Саратовской области.
«Основали село Шингал.., Асмётовку…» - соседние деревни: Шингал – Малосердобинского района, Асметовка – Екатериновского района Саратовской области. Они основаны крестьянами Малой Сердобы в период Генерального межевания конца 18 – начала 19 веков с целью недопущения посягательств помещиков на земли государственных крестьян. По представлениям последних, наличие таких выселков являлось лучшим доказательством прав на эти дальние земли малосердобинских крестьян. Следует заметить, что автор воспоминаний ничего не пишет о противоречиях в земельном вопросе с мордовскими земельными общинами, граничившими с малосердобинскими на протяжении около десяти километров на севере и северо-востоке. Это объясняется тем, что на протяжении трех сотен лет, со времени основания Малой Сердобы, с мордвой не было ни одного столкновения на этнической или хозяйственной почве. В то же время с помещиками, губернскими чиновниками, а также внутри сельской общины судебные споры и иные конфликты случались не раз (в период Генерального межевания, «картофельного бунта» 1841 года, Первой русской революции). Последняя массовая драка из-за сенокосов внутри малосердобинского общества (был убит губернский землемер) произошла в начале 1920-х годов.
«Мне говорили отец и дедушка, что она начинала строится на Горах». Малая Сердоба основана как слобода города Петровска, по указу Петра Первого от 5/15 ноября 1697 года, «на Горах» (см. об истории основания Малой Сердобы на нашем авторском портале страницу «Малосердобинский район» под рубрикой «Весь Пензенский край»).
«Была сделана крепость из леса и камней». На самом деле был построен деревянный острог, срублена засека. Район горского кладбища и поныне имеет неофициальное название «Засека», хотя лес отступил на полкилометра от этого места. Обычно вокруг острогов насыпали вал с камнями, с целью создания трудностей для противника, стремящегося сделать в оборонительном валу прокопы. Этот район Малой Сердобы автор воспоминаний назвал Кирпичихой (таково название одного из ближайших оврагов).
«На первых поселенцев нападали крымские татары». Известно о нападении на Сердобинский острог «кубанских татар» - ногайцев и горцев с Северного Кавказа в 1711 и 1717 годах. Все эти племена находились в вассальной зависимости от крымского хана, кубанские «салтаны» являлись близкими его родственниками.
«Петр Первый послал стрелецкий полк для заселения». Через несколько лет после завоевания Азова какая-то часть стрельцов, вероятно, на самом деле осела в Сердобинской слободе. После Московского стрелецкого восстания царь не был заинтересован в возвращении стрельцов из Азова в Москву, так как стрельцы поддерживали царевну Софью Алексеевну. Известно, что после Азовской кампании их расселили в губерниях между Москвой и Петербургом. Однако документальных свидетельств поселения стрельцов в Малой Сердобе пока не найдено, хотя о стрельцах как «основателях» села говорили все старики.
«И из Старого Славкина барина тоже прогнали». В мордовском селе Старое Славкино не было «барина». Мемуарист имел в виду борьбу славкинской мордвы с соседними помещиками.
«Нарезай (не ближние земли), а от границы Асметовки, от Липовки». Речь идет о дальних землях общины. В годы Столыпинской аграрной реформы крестьянам, вышедшим из общины, выделялись ближние и лучшие земли, что приводило к конфликту с основной массой крестьян, так как от общины оказывались отрезанными поля и водопои.
Очевидна ненависть автора воспоминаний к Столыпину. Теперь, разумеется, «общеизвестно», что Петр Аркадьевич был «патриотом», не желавшим «великих потрясений» и строившим «великую Россию», но, увы, революционеры не дали ему закончить святое дело. Однако объективно Столыпин нанес России колоссальный ущерб. В эпоху промышленной революции он уповал на крестьянина-одиночку при отсутствии рынков сбыта, развитой дорожной сети, тем более в годы аграрного кризиса, связанного с перепроизводством зерна. Ни одна страна в ХХ веке не стала великой на основе преимущественного развития аграрного сектора. Возьмем в качестве примера Малую Сердобу, в которой жил автор воспоминаний. До ближайших рынков сбыта (Саратова и Пензы) было соответственно 120 и 100 км. Ближайшие железнодорожные станции (Петровск и Колышлей) находились соответственно в 30 и 45 километрах. Мог ли крестьянин Шайкин возить для продажи зерно, тем более мясо и молоко, на такое далекое расстояние? Много ли увезешь на лошади? Довезешь ли в целости молоко? Вопросы риторические.
Единственно возможный путь успешного экономического развития для России заключался в выделении правительством субсидий на расширение строительства железных дорог, шоссе и перерабатывающих предприятий в крупных селах, превращении их в города, а сельских бедняков – в заводских рабочих и обслуживающий персонал. То есть надо было следовать практике преобразований, проверенной в развитых странах Запада. Вместо этого премьер Столыпин направлял средства на строительство дальневосточной магистрали с целью реванша за военное поражение России в 1904 году (подвоз войск!), прекратил развернутое С.Ю. Витте дело по обустройству Центра России. Столыпин же население направлял не на заводы, а на хутора, в Сибирь, тратя на это огромные деньги. Во внешней политике Столыпин переориентировал Россию с Германии на союзнические отношения с Англией и Францией (на этой основе возникла будущая Антанта), тем самым сделав Россию уязвимый в случае конфликта с ближайшим соседом Германией, что и случилось в 1914 и 1941 годах. До этого Россия с Германией никогда не воевала, а вот с Англией и Францией – и в Отечественной войне 1812 года, и в Крымской 1854-56 гг.
А.В. Шайкин, как и другие крестьяне, интуитивно чувствовал неправоту Столыпина. Но такого же мнения придерживался предшественник Столыпина на посту премьера С.Ю. Витте, который отказывал Столыпину в способности государственного мышления.
«Вечники». Распространенное в Малой Сердобе название крестьян, приобретавших землю «навечно» в частную собственность.
«Иткаринская дорога». Старинная, ныне не существующая (запахана) дорога из Малой Сердобы на город Аткарск.
«Зашел человек к Столыпину в кабинет и застрелил в упор». Столыпин был убит агентом охранки Богровым в Киевском театре в сентябре 1911 года.
«Быстро убежал на гору Порт-Артур». Местечко в Малой Сердобе, за свою отдаленность получившее название Порт-Артура.
«В 1918 году меня взяли на Гражданскую войну». Виновниками развязывания Гражданской войны на территории нашего государства были, без сомнения, противники большевизма. Не следует забывать, что Советская власть победила почти на всей территории бывшей Российской империи бескровно, поэтому большевикам не было нужды начинать войну. А вот противники большевиков стали готовиться к гражданской войне за несколько месяцев до перехода власти в руки большевиков, левых эсеров и анархистов.
Рис. 1. Атака красной конницы
Опубликованы письма генерала, одного из организаторов Белой армии М.К. Дитерихса (1874-1937) к генералу М.В. Алексееву (годы), написанные в 1917 году («Источник», 1999, №3, с.10-13). Стоит обратить внимание на то, что в своих письмах он вообще не употребляет слов «крестьяне», «рабочие», «трудящиеся». В письме от 11 ноября 1917 года (по старому стилю) вместо них Дитерихс прибегает к унизительному слову «чернь». Впрочем, один раз употребил и слово «массы», однако исключительно в смысле «необходимости» их «чем-нибудь» «облагоразумить». Видимо, это «что-нибудь» означало массовые средневековые казни.
В борьбе против «черни» Дитерихс уповал на союзников (англичан, американцев и японцев), к помощи которых «придется прибегнуть». Он умолчал, чем с ними придется рассчитываться России в час расплаты после победы Белого движения. Объективно такие как Дитерихс уже в 1917 году готовили для России участь сырьевого придатка западных государств.
Полагая, что Гражданская война неизбежна, Дитерихс предлагал Алексееву следующую стратегию. Поскольку большевикам симпатизирует «чернь» российского Севера (территория от Ледовитого океана до земель Войска Донского), т.е. русская часть России, включая ее культурные центры, то белым, считал он, следует сосредоточить внимание на работу на Украине и в казачьих областях. Такая своебразная "любовь" к русским белого генерала.
Одной из главных опасностей в начале Белого движения Дитерихс считал «преждевременное» заключение большевиками мира с немцами. Если это произойдет, писал он Алексееву, то немцы высвободившиеся на Севере дивизии бросят против Юга, «и мы лишимся Юга до Дона, а то и Волги». Юг особенно интересовал белых генералов по той причине, что именно там были сосредоточены основные природные богатства России (уголь, нефть) и металлургическая промышленность. Это как раз то, чем собирались руководители Белого движения расплачиваться за военную помощь союзников.
Территориальный раздел России начался отнюдь не с первой Советской Конституции 1918 года, предусматривавший автономию для отдельных ее частей по национальным признакам. Вслед за Керенским, при котором Украина добилась «самостийности», расчленение России намеревались продолжить белые. Еще до «Октябрьского переворота», в Екатеринодаре 20 октября 1917 года был создан «Юго-Восточный Союз» – суверенное государственное объединение Донского, Кубанского, Терского, Астраханского казачьих областей, горцев Северного Кавказа и калмыков до созыва Учредительного собрания. Орган исполнительной власти Юга России после победы белогвардейцев.
А если не удастся победить Север? Такие вопросы в среде организаторов Белого движения даже не рассматривались.
Стратегию будущей войны с «германскими большевиками Лениным и Троцким» Дитерихс предвидел по американскому сценарию войны Севера с Югом. Как известно, во время гражданской войны в Америке Север олицетворял республиканско-демократический стиль правления, Юг – рабовладельческий. Рабами дитерихсы, естественно, считали «чернь».
В борьбе с большевиками Дитерихс предлагал активно опираться на «эсдеков», т.е. меньшевиков, возглавлявшихся, как теперь известно, масонскими орденами, тесно связанными с правительствами стран Запада. Может, и сам Дитрихс был масоном. Во всяком случае не стоит забывать, что он стал ближайшим соратником Колчака, главы «Омского правительства», который прибыл на смену Деникину после длительного вояжа по Англии и США. Опытный полевой командир Деникин безропотно уступил бразды правления хорошему моряку, талантливому ученому, но плохому военачальнику. Уступил, потому что в случает отказа он вступил бы в конфликт с руководителями западных стран, что означало бы прекращение военных поставок Белому движению.
Рис. 2. Отступление белогвардейцев
По сути руководство Белого движения являлось агентом Антанты, правительства которой, видимо, ставили перед генералами Юга задачу не отдать Россию под немецкое влияние. В любом случае задача стояла – максимально ослабить Россию с тем, чтобы любой победитель, белый или красный, пришел к ним с протянутой рукой. В известной степени они этого добились, но в худшем для себя варианте. Советское правительство не дало повода обращаться с собой как с марионеткой, хотя старые большевики в середине 1930-х годов считали Сталина марионеткой западных правительств (см. опубликованные дневники большевика Василия Кураева).
Песенный Ванёк из известной красноармейской песни «Во солдаты меня мать провожала» (написанный, кстати, летом 1918 года, в начале полномасштабной Гражданской войны), отвечал родне, пеняя ей на недостаток патриотизма:
Будь такие все, как вы, ротозеи,
Что б осталось от Москвы, от Расеи?
Воспоминания А.В. Шайкина – весомое доказательство того, что красноармейская масса отнюдь не была озабочена троцкистскими идеями «мировой революции». Эта солдатская масса, одетая в шинели, сшитые на российских суконных фабриках, вооруженная тульскими винтовками, воевала за «Расею». Белая армия воевала вооружением, присланном «союзниками», странами Антанты.
Что представляла собой Советская Россия в 1918 году, показано на этой карте. Кажется невероятным, что всего за два года большевикам удалось пройти от Балтики до Тихого океана. И сделал это в основном русский мужик. «Кони сорвались с привязи, теперь только у океана остановятся», - пророчествовал один из них – герой повести Алексея Толстого «Гадюка».
«Генерал Шкуро». А.Г. Шкуро, в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. Повешен по приговору советского военного трибунала.
«Нам рассказывал Гудков Кузьма Калентьевич, он был революционером». Среди участников революции человек с такой фамилией в Малой Сердобе неизвестен. Возможно, мемуарист перепутал рассказчика с учителем, бывшим левым эсером, Константином Калиновичем Долговым (арестован в Малой Сердобе и расстрелян в 1937 году).
34-я Кировская дивизия – летом 1920 года
9-я Краснознамённая дивизия – летом 1920 года
«Мой дядя Гриня служил во флоте минером» - дядя А.В. Шайкина Григорий Морозов, черноморский моряк, участник Гражданской войны. По воспоминаниям, стариков, демобилизовавшись, приехал с маузером, его опасалось волостное начальство как человека крутого, независимого нрава. По-видимому, в годы коллективизации уехал в Алма-Ату, где уверовал в бога. Вернувшись в Малую Сердобу в 1970-е годы совершенно другим человеком, был избран старостой местной православной общины. К нему приезжали священники. Благодаря одному из них, сельскому священнику из соседнего Колышлейского района, Андрей Васильевич бросил пить водку, чем иногда злоупотреблял лет до 80-ти. Неизвестно, какими словами его убеждал священник, однако родственники видели, что когда священник вышел из дома Шайкина, то, оборотясь, повторял: «Не губи свою душу, не губи!» Не сразу, но после этого случая Андрей Васильевич стал трезвенником и уверовал в бога, что видно по страницам воспоминаний.
«И вот к нам приехал главнокомандующий (председатель Реввоенсовета республики) Троцкий… оратор замечательный». Андрей Васильевич рассказывал мне о митинге, на котором выступал Троцкий. Точно не помню, сам ли Шайкин на нем присутствовал, или он узнал эту историю из уст кого-то из земляков. В Саратове, напротив церкви, что и сейчас стоит на Музейной площади, собрался полк, председатель Реввоенсовета сказал речь. Заканчивая, Троцкий обратился к красноармейцам: "Если есть вопросы – задавайте». «В баню бы, вошь заела!» - крикнул кто-то. Троцкий повернулся к командиру полка: «Почему бойцов не помыли?» Тот что-то ответил, а Троцкий сказал: «Комполка говорит, что все бани заняты под госпиталя и тифозные бараки, негде мыться. Это отговорки. Вот рядом церковь, рядом Волга, можно помыться». «Тут и синагога поблизости», - послышался чей-то голос. После искали, кто сказал про синагогу, но ребята не выдали.
"Дедушка, в вашем хуторе есть кадеты?" Красноармейцы в годы гражданской войны называли кадетами вообще всех белогвардейцев. Изначально кадеты - партия конституционных демократов (КД), крупной буржуазии, сторонников Учредительного собрания.
"Когда мы переправились через Сиваш..." Форсирование Сиваша состоялось в ночь с 7 на 8 ноября 1920 года при 12-градусном морозе, и это был настоящий массовый подвиг, на который не была способна "белая кость". Вспоминаются слова из белогвардейской песни: "Если б ты видела, мама, как я замерз на ветру"... В Красной Армии подобных песен не было.
9-я стрелковая дивизия, в составе которой был 81-й полк, форсировала Сиваш в районе Генического пролива в направлении на Арабатскую стрелку и устья реки Салгир. Длина пролива 4 км, ширина - до 150 метров, глубина до 4,5 метра (непостоянная, зависит от направления ветра). По рассказу автора мемуаров, много красноармейцев утонуло. В 81-м полку утонувших не было благодаря проводнику. Однако, судя по описанию, не исключено, что речь в воспоминаниях идет не о Геническом проливе, а о собственно-Сиваше.
"У Врангеля укрепления очень хорошие..." Командующий фронтом М.В. Фрунзе так оценивал их: "Перекопский и Чонгарский перешеек и соединяющий их южный берег Сиваша представляли собой одну общую сеть заблаговременно возведенных укрепленных позиций, усиленных естественными и искусственными препятствиями и заграждениями. Начатые постройкой еще в период Добровольческой армии Деникина, позиции эти были с особым вниманием и заботой усовершенствованы Врангелем. В сооружении их принимали участие как русские, так и французские военные инженеры, использовавшие при постройках весь опыт империалистической войны" (Фрунзе М.В. Избранные произведения. М., 1950. С. 228—229.)
"На 305 кораблях увезли наши богатства за границу вместе со своими союзниками..." Эвакуация армии Врангеля и гражданских лиц осуществлялась на русских и французских судах, всего было эвакуировано в Турцию до 80 тыс. солдат, офицеров и беженцев. Картина бегства показана в художественных фильмах "Служили два товарища" и "Бег".
"Из каждой роты выбрать по красноармейцу и направить на высшие командные курсы в Киев, в кадетский корпус..." Вероятно, в бывший Владимирский кадетский корпус в Киеве. С мая 1921 г. в Киеве стала работать объединенная школа командиров РККА имени С.С. Каменева. Возможно, в нее и осуществлялся первый набор.
«И вот я в команде 144-й этапной роты на улице Крещатике...» Этапные роты выполняли задачу по охране тыла РККА от диверсий и уничтожению нацистских банд, в частности, на Западной Украине и в Белоруссии, где они прорывались на территорию Советской республики из-за границы. Об отношении украинских нацистов к русским лучше всего расскажет их же листовка, выпущенная, вероятно, осенью 1941 года…
«По указу Ленина в стране начался нэп…» Новая экономическая политика, которая допускала занятие частным предпринимательством, совместное с иностранцами владение предприятиями и другие элементы капиталистического хозяйства. В первые годы нэпа достигнуты большие успехи. Промышленное производство превзошло довоенный уровень в 1927 году на 18%, однако производство зерна сократилось на 10%, по сравнению с довоенным временем (но с 1921 по 1927 на территории СССР было несколько жестоких засух). Было восстановлено поголовье скота. Общий объем сельскохозяйственного производства вырос на 10% за счет роста в животноводстве и расширения площадей выращивания технических культур. Но мало поступало товарного зерна, так как зерновых требовалось в большем объеме, чем до войны, для животноводства, поголовье которого выросло. Соответственно немного зерна шло и на экспорт.
Вокруг нэпа развернулась острая политическая борьба в Политбюро ЦК ВКП(б). За прежний, ленинский, курс нэпа выступали Дзержинский и Бухарин, за развитие экономики за счет крестьянства – Троцкий и Пятаков. В «середине» были Сталин, Каменев и Зиновьев. Когда умер Дзержинский, баланс сил нарушился, и победу одержала группа Сталина – Каменева – Зиновьева. Последние одержали верх над сторонниками позиции Троцкого. Затем Сталин оттеснил на задворки политической жизни Каменева, Зиновьева и Бухарина и… стал проводить курс Троцкого: индустриализацию за счет ограбления деревни.
Ленинский опыт нэпа использовал в конце 20 века Китай.
Внешне нэп в деревне проявлялся в развитии культуры земледелия и животноводства, кооперативного движения, борьбой за грамотность; широко развернулась культурно-просветительская работа: в каждом более или менее крупном селе действовал самодеятельный драмтеатр, бывали и свои «драматурги»; в Малой Сердобе пьесы на местные темы писал будущий самарский писатель Василий Евдокимович Козин). После его пьес зрители восторженно хлопали в ладоши и вызывали на сцену автора. Однажды произошел комичный случай. Самодеятельные артисты поставили гоголевский "Ревизор", в котором играл и Вася Козин. По окончании спектакля раздались оглушительные аплодисменты и вызовы... автора. Со сцены отвечали: "Он умер!" В ответ: "Как так умер? Только что на сцене комедиянничал!" Поскольку Николай Васильевич Гоголь не мог прибыть на свой триумф в Малую Сердобу, пришлось вместо него выходить раскланиваться перед публикой Васе Козину. Только тогда зрители угомонились и стали расходиться.
«В 1929 году возник колхоз…» Показушный колхоз-гигант в Малой Сердобе, в котором, по официальному отчету райкома ВКП(б), якобы состояло 3218 хозяйств, это 95% дворов самого районного центра и еще нескольких окружающих поселков и деревень.
«И вот грянул гром: всех стали загонять в колхоз принудительно...» Массовая коллективизация в Малой Сердобе проходила в 1931 году. Было организовано в селе четыре колхоза – в земельных границах бывших четырех крестьянских обществ. Автор мемуаров состоял в Кузнецовской общине, где в 1931 году был создан колхоз «Первый путь», который возглавил рабочий из Ленинграда, 25-тысячник Клевцов. Людей загонял в колхоз сельсовет с помощью налогового бремени, арестов крестьян и высылок за пределы Нижневолжского края (чаще всего на Урал). Насильственная коллективизация нанесла огромный ущерб экономике села. В октябре 1929 года в Малой Сердобе насчитывалось 960 бедняцких хозяйств, 910 – середняцких, 240 – «зажиточно-кулацких». Резко упали численность населения, поголовье скота, в 1933 году произошел массовый голод, от него погибли, по сохранившихся в архиве районного отдела ЗАГСа актах о смертях, в которых указывалась причины смерти, 325 человек. (При этом надо иметь в виду, что акты сохранились не все, много страниц вырвано, остались лишь корешки). А в районе умерло от голода около 2900 человек.
Из дневника художника Кацмана, побывавшего вместе с коллегами 6 июля 1933 года на кунцевской даче Сталина, видно, что хозяин дачи щедро угощал художников и произнес циничный тост о русском народе, который в эти самые дни умирал от голода. (Дневник Кацмана публиковался в "Независимой газете" 4 июля 1998 года). “Подали щи, закуски, колбасу, икру, сливочное масло, шашлык из свинины с картошкой, что-то такое с фазанами и еще что-то вкусное, – писал Кацман. – Было вино, потом дали водку и шампанское... Щи, действительно, оказались очень вкусными. Потом ели кто чего хочет. Я съел шашлык из свинины с картошкой”. На этом пиршестве Сталин предложил тост: “За самый лучший народ – русский народ, за самую советскую нацию”.
«А «хозяевам» государство отпускало в три раза дороже, чем получало от нас, семена и комбикорм». Эта практика сохранялась до конца 1980-х годов. Сначала отвозили "в государственные закрома" весь хлеб, включая семена, а весной из тех же "закромов" везли обратно семена уже как государственную ссуду, но по более высоким ценам.
«Стали раскулачивать, отправлять в концлагеря и Сибирь». В селе Малая Сердоба на начало апреля подверглось раскулачиванию, по официальному отчету райисполкома, 5,4% крестьянских хозяйств. Всего же до 1933 года включительно раскулачено не менее 8-9 процентов. По району динамика численности населения имела такой вид:
1.7.1930
15.6.1931
1.7.1932
1.7.1933
1.1.1934
Дворов
Жителей
Дворов
Жителей
Дворов
Жителей
Дворов
Жителей
(оценочно)
Дворов
Жителей
Служащие
371
691
871
2824
936
2954
неизв.
3000
1170
3030
Колхозники
1662
7361
7676
36042
6326
30971
5263
24104
5665
23590
Единоличн.
8520
43003
1957
11528
2524
10897
1409
7158
1107
4342
Кулаки
580
2784
234
1170
142
703
41
202
94
444
Прочие
18
72
131
395
95
240
–
240
–
–
Всего
11151
53911
10869
51959
10093
45765
6713
34704
8236
32022
В «концлагеря» раскулаченных не отправляли. Видимо, под этим словом автор мемуаров подразумевает так называемые «кулацкие поселки» за пределами села, где первоначально сосредоточивались раскулаченные перед отправкой в эшелоны. В этих поселках семьи раскулаченных жили в землянках, ограждение отсутствовало, охраняли поселки местные милиционеры и «активисты». За охрану последние получали конфискованную одежду и обувь – шубы, чапаны, сапоги, валенки и т.п.
Граблин Павел Егорович. Большевик с 1920 года. Отличался сдержанностью, деловитостью, говорил на «о», как все коренное население соседнего села Бакуры. Один из друзей большевика с марта 1917 года Ивана Петровича Турунина (Турунена), известного тем, что в 1921 году он ездил в Москву к Ленину заступаться за бакурских крестьян (см. ПСС В.И.Ленина), за что уездные власти по возвращении арестовали его и посадили в тюрьму.
«В это время всех гнали в Селиксу». Ныне район г. Заречного под Пензой, место формирования новых воинских частей и пополнения действующих.
«И нельзя сказать про войну – расстреляют». Т.е. опасно было говорить о вероятности войны с Германией. В соседнем макаровском колхозе был такой случай. Приехал лектор из Пензы, стал рассказывать колхозникам о «мудром решении» правительства подписать договор с фашистской Германией о ненападении. Один колхозник возразил: «Договор договором, а камешек за пазухой нам надо бы держать». Лектор: «Кто сказал?» В ответ громыхнула табуретка: «критик» договора бросился наутек. Лектор спросил: "Кто этот провокатор»? Спасая «критика», лектору объяснили: "Да это у нас один ненормальный, мы с ним сами разберемся».
«У нас же ничего не было – ни танков, ни самолетов, ни снарядов». У Гитлера, пришедшего к власти в 1933 году, поначалу практически не было армии. По Версальскому договору 1919 г. Германии разрешалось иметь не более чем 100-тысячную армию, вооруженную только стрелковым оружием. Но за 6 лет, до начала Второй мировой войны, у Гитлера имелись уже и танки, и артиллерия, и самолеты, и корабли. Сталин же стал единоличным правителем в 1927-29 годах и имел в это время все виды современных для того времени вооружений. Однако, имея в два раза больше времени (с 1929 по 1941 годы), растерял до июня 1941 года все свое преимущество. Но главная причина поражений Красной Армии в 1941-42 годах, если не считать неподготовленности высшего армейского руководства от командира полка и выше взамен репрессированных в 1937-38 годах, думается, в страхе советских командиров принимать собственные решения. Немецкие историки (Пауль Карель, «Гитлер идет на Восток») высказывают изумление, почему русские в первый день войны отдали без боя более 900 мостов, многие из которых были подготовлены к взрыву. Ведь разрушение мостов серьезно замедлило бы темпы вторжения немцев на территорию СССР. Ответ очевиден: лейтенанты охранявшие эти мосты, боялись принять решение о взрыве. Пока они звонили капитанам и майорам, те – полковникам, полковники – генералам, штурмовые группы немцев успевали перебить охрану и захватить мосты. Никто не хотел брать на себя ответственность, потому что в случае ошибки (а вдруг движение немцев к мосту - еще не война, а маневры или провокация) ты будешь расстрелян как провокатор и «агент» чьей-либо разведки.
«Власовцы, хорошо одетые, с чубами, сытыми мордами, стояли на углу и вербовали нас в свою «армию-освободительницу». После войны отношение в СССР к бывшим советским военнопленным было крайне негативным. Его формировали бывшие «штабные», тыловики и дураки, не нюхавшие пороха. Это продолжалось до 1957 года, когда, по инициативе Маршала Жукова было принято постановление Совета Министров СССР о восстановлении в гражданских правах всех бывших военнопленных, которые не сотрудничали с гитлеровцами. Это было решение Солдата с большой буквы, который хорошо понимал, как просто можно было попасть в плен, тем более в начале войны. После проверки военнопленных следовало бы наградить специальной медалью «За верность Родине». Они выдержали испытание голодом, холодом, издевательствами и не поддались на приманки власовцев. Голодному человеку особенно трудно противостоять искушению и не взять протянутый кусок. У голодного ослаблена воля к сопротивлению, он становится равнодушным ко всему, кроме пищи.
"Мы как вырвались из ада фашистского, очень быстро стали поправляться". Рассказ А.В. Шайкина находится в полном противоречии с утверждениями Солженицына и прочих антисоветчиков, согласно которым едва ли не все военнопленные после войны отправлялись в "сталинские концлагеря". Кто прав? Безусловно, автор мемуаров. По данным Института военной истории РАН, после Великой Отечественной войны было репатриировано 1,8 млн бывших военнопленных. Более 1 млн направлено для дальнейшего прохождения службы в Красную Армию, 600 тыс. (лица старшего возраста) – на работы в промышленности в составе рабочих батальонов и лишь 234 тыс. как «скомпрометировавшие себя в плену» направлены в лагеря НКВД, из них расстреляно «незначительное количество» («Независимая газета», 2 июля 1999 года).
"...банду бендеровцев разбили". О действиях бендеровцев мне рассказывал иотец. Когда он с другими солдатами возвращался из Германии, все были безоружными, кроме офицеров, вооруженных пистолетами. Автомашины, на которых ехали солдаты, были остановлены бендеровцами, офицеры расстреляны, автомашины отобраны, а солдат отпустили.
Михаил Полубояров
В семидесятые годы в Киеве сняли документальный фильм «Я и другие». О том, как сильно зависит сознание человека от «общественного мнения». На глазах кинозрителя психологи проводили эксперименты. В одной аудитории психолог показывал студентам портрет человека: «Это преступник, убийца. Какие черты характера вы бы выделили в нем?» Ответ студентов: «В глазах – равнодушие. Расположение морщин свидетельствует о непреклонной воле, патологической жестокости». Предъявляют тот же портрет другой аудитории со словами: «Это – портрет выдающегося ученого…» Оценки прямо противоположные: «В глазах – проникновенный ум. Морщины – свидетельство мудрости…»
Разве не то же самое сделали с народом средства массовой информации, начиная с конца восьмидесятых годов? Население (трудно называть людей, ныне живущих на территории России, народом – разрушено его единство) предпочитает довольствоваться готовыми выводами, которые предлагаются с экранов телевизора и «желтыми» изданиями.
Подлость стала приобретать статус обычая с августа 1991 года, когда произошло нечто, называемое «путчем», «попыткой путча», что совершенно не соответствует истине.
Напомню суть дела. В августе 1991 года все мы, кто жил в это время на территории РСФСР, были гражданами Советского Союза (заметьте: не РСФСР, не других союзных республик!). Все мы имели единое союзное гражданство. Все военнообязанные принимали военную присягу и расписывались под ней. То есть присяга – это документ. Не случайно в военных билетах всех военнообязанных обязательно указывалась дата принятия военной присяги.
Текст присяги был такой (ниже специально выделяю особо значимые слова):
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.
Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и как воин Вооруженных Сил я клянусь защищать ее мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом.
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
Такую присягу принимали и ставили под нею подписи полковник запаса Горбачев, полковник запаса Ельцин, подполковник КГБ СССР Путин.
Теперь судите сами, кто они – «политическая элита» или изменники Родины… Президент СССР Горбачев, по должности обязанный обеспечивать всеми средствами защиту конституционного строя и территориальную целостность СССР, не арестовал заговорщиков в Беловежской Пуще (Ельцина, Кравчука, Шушкевича), подготовивших решение о «роспуске» СССР. Еще один признак измены Родине!
Президент РСФСР полковник запаса Ельцин, избранный на эту должность 12 июня 1991 г., тоже на эту дату был гражданином СССР, он изменил военной присяге, совершил покушение на территориальную целостность СССР (а это признак измены Родине).
Подполковник КГБ Путин, уволившись в 1990 году в запас, оставался в действующем резерве КГБ до начала 1992 года. Вместо защиты конституционного строя СССР – главной функции КГБ СССР – Путин пошел на службу в советники к А. Собчаку (с мая 1990 года – главы администрации Ленинграда), который являлся членом Движения демократических реформ. Движение было создано в июле 1991 г. и возглавлено людьми, также приносившими присягу в том, что они готовы защищать Советский Союз «не щадя крови и самой жизни». Это А.Н. Яковлев, Шеварднадзе, Вольский, Гавриил Попов, Руцкой, Собчак, Силаев, академики-экономисты Шаталин и Петраков. Служа одному из разрушителей врагу СССР, Путин оказался тем же, чем были для генерала-предателя Власова его офицеры-власовцы. Кроме того, находясь на посту президента РФ, Путин ничего не сделал для привлечения к уголовной ответственности за измену Родине Горбачева, Ельцина, маршала Шапошникова, генерала армии Грачева и других виновников разрушения. А ведь Российская Федерация является правопреемницей СССР.
Конечно, мне скажут: ты ведь тоже присягу принимал, а ничего не сделал для защиты своей Советской Родины.
Да, я мало что сделал для этого. Оставаясь в ряда Коммунистической партии (КПРФ), когда она была объявлена Ельциным вне закона, я клеил по ночам листовки, ходил на демонстрации, которые разгоняла милиция, не раз давал в своей московской квартире приют пензенским коммунистам, когда те приезжали в Москву, много раз был наблюдателем от КПРФ на выборах и т.д. Конечно, невелики заслуги, но я все же не предал. Я и миллионы мужчин, подобных мне, были людьми, лишенными части гражданских прав, у нас не было оружия, мы были почти военнопленными. В декабре 1998 года ЦК КПРФ приняло постановление о 120-летии Сталина, создателя системы, при которой стало возможным едва ли не поголовное предательство, полностью разрушено партийное товарищество. Принятие постановления послужило причиной моего выхода из КПРФ. До этого на собраниях кунцевских коммунистов я боролся со сталинистами. Теперь сталинизм фактически стал для ЦК КПРФ официальной доктриной. С такой партией мне не по пути.
Я прочитал немало воспоминаний о событиях августа 1991 года: Горбачева, Ельцина, Яковлева, Собчака, Бакатина, Александра Лебедя (кстати, наиболее талантливо написанные, хотя не без хвастовства). Но ни в одной не нашел упоминания о военной присяге. Раза три говорил о ней Лебедь, но вне контекста преданности Советской, Социалистической Родине: «не было приказа, поэтому не сохранили Советского Союза». Вот так: если нет приказа, Родину можно и не защищать.
Отсутствие приказа не может считаться разумным доводом в пользу перехода гражданина СССР на сторону противника, тех, кто действовал в соответствии с желанием западных правительств с целью разрушения Советского государства. Гарнизону Брестской крепости Советское правительство тоже не отдавало приказов, однако солдаты и офицеры сражались с немцами целых два месяца. Уже не говорю о пограничных нарядах, простых солдатах, не имевших никакой связи с командованием. Так что отсутствие приказа, на которое ссылался Лебедь, не аргумент. Так недолго и генерала Власова, и тысячи власовцев оправдать: они ведь тоже в окружении приказов не получали, тем не менее одни с боем прорывались к своим, другие сдавались и переходили на сторону противника. Юридические тонкости бессильны перед выбором совести, когда дело касается Родины.
Такое предисловие необходимо, чтобы посетители сайта, вниманию которых предлагаются мемуары Андрея Васильевича Шайкина, постоянно учитывали фактор идейного и нравственного разрыва поколений. То, что было дорого для Шайкина (преданность Родине, своему трудовому классу, солдатской дружбе, семье, жене, ответственность перед потомками), сегодня выглядят… неуместно.
Не исключаю, что многие гости сайта отнесутся к написанному крестьянским пером высокомерно. Ведь для них и так «всё понятно»: писал «совок» с начальным образованием. Им пропаганда так вдолбила в голову. А они думают, что это их собственное мнение. Им по башке поленом, а они: «Застучали тут мысли мне в темечко».
Наш современник видит и ощущает те же события в русле заданных концепций антикоммунизма и ненависти к большевизму, глядя на большевизм через чужие очки, подобранные для них политическими экспериментаторами.
Воспоминания Шайкина и нынешняя жизнь… Правда и Ложь. Простота и изощренность. Но не забудем главного! Это – голос из прошлого не одного Шайкина, а десятков миллионов преданных нами дедов и прадедов, ушедших из жизни в годы Гражданской и Великой Отечественной войн и после. Пока это голос одиночки против голосов десятков миллионов внуков и правнуков поколения предателей.
Кто этот одиночка и почему его нужно читать серьезно?
Андрей Васильевич Шайкин родился 16/28 октября 1900 года в крестьянской семье в селе Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии. С февраля 1939 года это село является районным центром Пензенской области. Умер в том же селе 13 июня 1998 года на 99-м году жизни.
В конце 1980-х годов он начал писать воспоминания и закончил в 1991. Они существуют в одной редакции, в двух экземплярах, в общих тетрадях, написанных ученической шариковой ручкой.
Я хорошо знал Андрея Васильевича, родного деда моей жены, мы дружили с ним. Еще при жизни он подарил мне одну из тетрадей, и выдержки из воспоминаний появились (уже после смерти деда) в пензенском журнале «Земство. Архив провинциальной истории России». Вторую тетрадь я передал через знакомого профессора в Институт истории РАН. Их собирались опубликовать, но времена изменились. Теперь исторической наукой такие мемуары «неинтересны».
Как видно из метрической книги Никольской церкви, отцом А.В. Шайкина был государственный крестьянин Василий Иванович Шайкин, матерью – Анастасия Афанасьевна (урожденная Морозова), оба – православного вероисповедания. Предки Шайкина в переписных книгах числились служилыми людьми города Петровска в Сердобинской слободе, прибывшими охранять от набегов крымцев, калмыков, ногайцев и прочих степняков порученный им участок Дикого Поля. Прибыли по указу Петра Первого от 5 ноября 1697 года. Первопоселенцы числились конными казаками. Их служба проходила на дальних и ближних караулах. После подавления восстания под руководством Кондратия Булавина, захватившее верховья Хопра и Медведицы, петровских станичников было велено именовать пахотными солдатами, а с конца 18 века – государственными крестьянами.
По сравнению с помещичьими, государственные крестьяне находились в привилегированном положении и жили относительно богато. Однако неприязнь к помещикам, дворянству сохранялась долго, присутствует она и на страницах воспоминаний Шайкина.
В 1905 году Малосердобинская волость стала одним из центров аграрного движения в Поволжье. Действовала боевая дружина, разъезжавшая по окрестным волостям, открыто, среди бела дня поджигавшая помещичьи имения. После осени 1905 года на территории Малосердобинского района не сохранилось ни одной помещичьей усадьбы. А.В. Шайкин не одобрял действий поджигателей. Но и к столыпинской аграрной реформе относился крайне негативно. В период ее проведения Шайкин был 10-16-летним подростком. Поэтому его оценки, скорее, не собственные. Они принадлежат более старшим поколениям.
Вызывает интерес отношение автора к руководителям государства. Царя Николая Второго не вспомнил ни разу, хотя прожил при нем 17 лет. Образец народного вождя Шайкин видел в Ленине. Сталин для него – «враг народа». Одобрял Ю.В. Андропова за то, что, по мнению Андрея Васильевича, тот боролся за дисциплину в стране и что наконец-то вспомнил об участниках Гражданской войны, повысив пенсии.
Особо следует подчеркнуть, что Андрей Васильевич никогда не был ни комсомольцем, ни коммунистом, ни беспартийным активистом. Простой крестьянин. «Высшие посты», которые он занимал при жизни, – это колхозный завхоз и заведующий током (местом привоза с полей и первичной сортировки зерновых в период уборки урожая).
Гражданская война, с точки зрения бывшего красноармейца, отнюдь не была братоубийственной. Неприязненно относясь к дворянам, он питал двойственное отношение к казакам. С одной стороны, осуждал за поддержку дворян, с другой – жалел, что казаки, будучи такими же тружениками, как сам Андрей Васильевич, пошли за дворянами и оказались никому не нужными в эмиграции.
Шайкин – патриот, государственник. Интересы государства для него выше, чем интересы индивида. Однако государство должно жить по справедливым законам, поддерживать честного труженика. Важны для него и законы товарищества. Он тяжело переживал высылку в годы коллективизации бывших красноармейцев, записанных в «кулаки». В Малой Сердобе их сослали в холодные края почти поголовно. Естественно, что среди них ходили разговоры о Сталине, предавшего идеалы революции и тех, кто вместе с ним «прогнали» белогвардейцев. Но для Шайкина это не повод, чтобы из-за предательских деяний вождя порочить систему, Советскую власть. Автор мемуаров написал удивительно мудрые слова: «Если я на Сталина обиделся за то, что нас он загонял в колхоз принудительно, я должен Родину сдать и идти в рабы и все поколение отдать в порабощение? Сегодня Сталин, завтра Х-ярин, нынче Горбачев, завтра Лихачев, а Родину сдать и быть рабом – это невозможно, лучше помереть». Такова жизненная установка советского солдата.
Шайкин не выпячивает собственных заслуг, похвальба для него чужда. Мы видим лишь гордость за честно прожитую жизнь, за то, что детей воспитал достойными людьми, за то, что у него много внуков, и они живут хорошо. Это для него главное, а не фронтовые подвиги. И еще важна доброта людская: о добрых поступках он рассказывает с особой теплотой.
В воспоминаниях Шайкина не найти отвлеченных рассуждений на тему, что лучше, капитализм или социализм. Для него преимущества социализма настолько очевидны, что не нуждались в доказательстве. Такое убеждение сформировалось у Андрея Васильевича на основе народной нравственности. Из которой следует: справедливость выше сытости. Во имя социальной справедливости, государственной, национальной или духовной идеи поднимались восстания, велись многочисленные войны. А вот ради удовлетворения физиологических потребностей в худшем случае совершались разве что уголовные преступления.
Суть трактовки истории России в ХХ веке Андреем Васильевичем Шайкиным в следующем.
1. Россия укрепляла свое могущество благодаря усилиям многих поколений простого народа. Который сам для себя отвоевал право жить и работать на этой земле. И в их числе предки мемуариста, воевавшие с татарами, Наполеоном и турками. В то же время народ угнетали помещики и капиталисты. Они всегда стремились к тому, чтобы отнять у народа богатства, по праву принадлежащие тем, кто на земле трудится. Одна из самых ненавистных для автора воспоминаний фигур отечественной истории – Столыпин. Он не только совершил покушение на общенародную землю, но натравил одну часть крестьян на другую. То есть Столыпин – один из творцов будущей Гражданской войны. Если бы не революция, крестьяне «перерезали бы друг друга», считал Шайкин.
2. Народ не вытерпел несправедливости и «прогнал» помещиков и капиталистов. Вождем и спасителем народа был Ленин. Итогом деятельности народного вождя, считал А.В. Шайкин, стала свобода, воля, просвещение народа и набиравшая мощь в двадцатые годы Советская страна.
3. Сталин, пришедший к власти после смерти Ленина, оказался «врагом народа». Его первое преступление – насильственная коллективизация, второе – несчастное начало Великой Отечественной войны, обрекшее на ужасные мучения миллионы советских людей, третье – покушение на Волю («все ходили под дулом нагана, партийные и беспартийные»).
4. После Сталина жить стало хорошо, молодежь училась, стариков уважали, но не хватало дисциплины. Возвращать народу волю следовало одновременно повышая требовательность.
Наивен ли взгляд на советскую историю крестьянина Шайкина? Разберемся по пунктам.
Первый. В этом пункте отражен классовый подход крестьянина к событиям истории. Примем как факт, что Шайкин не прочел ни одной марксистской книжки, следовательно, не имел «научного» представления о противоречиях между трудом и капиталом. Но прочувствовал интуитивно то, что Маркс доказал с помощью научного анализа. Опровергнуть Маркса с помощью инструментов науки невозможно, разве что путем метафизических ухищрений, то есть обратившись в конце концов к сентенции, что на все существует «воля бога». Но Знание и Вера (в сверхъестественное) – разные понятия, одно принадлежит к сфере Разума, другое – к сфере Чувства. Судить эти понятия по взаимоисключающим законам – занятие, лишенное смысла. Знание нельзя проверить Чувством, оно проверяется Опытом. В то же время не существует приборов, которыми можно проконтролировать или измерить Чувство. Хотя, конечно, такой вывод не исключает возможности внешнего воздействия на психику, но последнее явление вполне материалистического содержания.
По второму пункту. Следует ли воспринимать всерьез отношение к Ленину как к «спасителю» России? Решайте сами, однако не стоит забывать, что подобный взгляд разделяли и беспартийные знаменитости: Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Маяковский, Есенин… И даже, сквозь зубы, некоторые враги большевизма, вроде монархиста Шульгина, одного из главных организаторов белого движения. Так, Есенин, потрясенный смертью Ленина, писал: «Того, кто спас нас, больше нет!» Ленин - «простой и милый», «строгий отец». Маяковский посвятил Ленину одну из лучших своих поэм. Патриарх Алексий I в 1924 году, будучи тяжело болен и, видимо, предвидя близкую кончину, призвал паству помириться с Советской властью, а Ленина назвал «христианнейшей души человеком». Ленин и Христос… Что между ними общего? Немало! Как сказал один приходский священник, «Ленин бедных любил. Как Христос». А богатых прогнал, опять же как Христос из храма. Главное противоречие в том, что один жил реально, второй - миф вокруг культа Христа, который создавался (это мое мнение) римской аристократией с целью спасения империи.
Объективно итогом деятельности правительства Ленина стало создание СССР. Много крови пролито? А существуют ли в мире великие государства, созданные малой кровью? Я не знаю таких. Да и лжи вокруг Ленина нагорожено много. К примеру, сотни раз на страницах прессы цитировались телеграммы Ленина в Пензенский губернский Совет немедленно и самым жестоким образом подавить восстание под Пензой («повесить, непременно повесить» его участников!). С чего бы такая озлобленность? В дальнейшем слово «повесить» исчезло из ленинского лексикона, хотя восстаний было сотни, в том числе в самом тяжелом для Советского правительства 1919 году. А дело в том, что в 1918 году, в Пензе находилась секретная «Экспедиция заготовления государственных бумаг», печатались деньги и другие ценные бумаги. Ее захват привел бы к полному экономическому краху молодое государство. Плюс Пензенская губерния в это время оставалась одной из немногих житниц, кормившей Москву и Петроград. Плюс важный железнодорожный узел: через Пензу возили войска на Самару, где власть принадлежала представителям «Учредительного собрания», которое пользовалось поддержкой восставшего чехословацкого корпуса и стран Антанты. В это время чехословацкий фронт был самым опасным для Советской республики. Отсюда нервный срыв Ленина, требование «непременно повесить», хотя на местах никто не воспринимал этого приказания буквально (да, вероятно, и сам Ленин). Из переписки с «пензенскими товарищами» ясно видно: Ленин полагал, что они не понимают всей опасности восстания, и потому нагнетал страсти. Как бывший директор Пензенского областного краеведческого музея знаю, что фактически было расстреляно 13 участников Кучкинско-Бессоновского восстания, ровно столько, сколько восставшие убили красноармейцев и членов продотряда.
Вбивание в головы наших современников чувственного отношения к Ленину, как будто он только и занимался репрессиями, одна из главных идеологем нынешней власти. Ее смысл – не дать вырасти в России новому Ленину, спасти то, что наворовано у народа с 1991 года. Великое дело – отвага и интеллект. В Ленине сочетались оба эти качества.
Троцкий, Свердлов и другие деятели Октября явно не хотели, чтобы Ленин прибыл в Смольный. Они что-то затевали против Ленина… Поэтому он тайно, в сопровождении лишь одного рабочего, приехал в Смольный на трамвае, хотя если бы Ленин был нужен троцким, его привезли бы на автомобиле в сопровождении броневиков: сил в Смольном было для этого более чем достаточно.
По третьему пункту. Шайкин совершенно прав. Коммунизм по-ленински и по-сталински – понятия прямо противоположные. Поиск истоков сталинизма в ленинском периоде – обычная антикоммунистическая практика. Во-первых, при Ленине власть принадлежала Советам, созданным по производственно-территориальному принципу. Естественно, большевистские ячейки занимались подбором кадров в советские органы власти. Этим занимается любая партия, пришедшая к власти. Но от имени партии (разумеется, «совместно» с Совнаркомом и ВЦИК) решения, имеющие силу законов, стали приниматься лишь с конца двадцатых годов. Государственная власть при Ленине – это власть Советов (революция совершалась под лозунгом «Вся власть Советам!»), при Сталине – это поначалу власть триумвиратов (в разных составах), а с тридцатых годов – единоличная власть генерального секретаря ЦК КПСС. Сменился носитель власть – следовательно, в стране произошел контрреволюционный переворот.
Почему именно на 1937 год приходится пик репрессий на политическую, научную, гуманитарную, производственную элиту страны? Потому что, согласно действовавшему на тот момент Уставу ВКП(б), в 1937 году должен был состояться 18 съезд партии. Сталин запомнил итог голосования на 17 съезде, когда против него проголосовало большое число делегатов, поэтому решил упредить события… Троцкизм тут ни при чем. На власть претендовал русский большевизм.
По пункту четвертому. Конечно, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко, ни Горбачев не были коммунистами-ленинцами. Хрущев сам был виноват в репрессиях, на его совести не одна сотня замученных товарищей по партии. Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев – обыкновенные партийные чиновники среднего ума, завоевавшие высокие места на партийном Олимпе благодаря отсутствию у них твердых принципов, если не считать принципа беспрекословного подчинения вышестоящему начальнику. За всю свою жизнь они не написали ничего умного, что хотелось бы перечитывать. Интеллектуально выше других в этой четверке был Андропов, но и его потенциал не следует преувеличивать: он привлек в свою команду советников, составивших впоследствии ядро идеологов горбачевской «перестройки». Отсюда можно сделать вывод: Андропов не был проницательным человеком.
«Философский» пароход, который постоянно ставят в вину Ленину (высылку из Советской России в 1922 году нескольких десятков философов и писателей), был вынужденной мерой. Ленин хотел внести успокоение в умы, начать практическое строительство социализма. Для этого следовало убрать идеологических противников, пользовавшихся влиянием на умы колеблющихся людей. Не случайно на «философском» пароходе мы не видим физиков, математиков, химиков, инженеров, металлургов, агрономов. Они были нужны большевикам восстанавливать экономику страны (читайте «Цемент» Федора Гладкова, произведение двадцатых годов). А вот бердяи булгаковичи ильины явно мешали дружному строительству социализма. Ведь именно философы создают «платформы», на базе которых объединяются люди, пользующиеся готовыми выводами (каких большинство). Это мы видели при Горбачеве. Сначала были статьи в журнале «Огонек» Коротича, затем многотысячные протестные толпы звенигородской технической «интеллигенции». Ленин предвидел такой вариант событий и был совершенно прав как государственник…
Рассказ крестьянина о своей жизни – это мысли и чувства поколения Октябрьской революции, оболганной, оплёванной и облёванной неблагодарными потомками. Совершающими то же нравственное преступление, что и библейский Хам, посмеявшийся над отцом.
Поэт Ярослав Смеляков написал вещее стихотворение «Замечание». В 1970-е годы у части «патриотической» интеллигенции проснулся интерес к Церкви, монархии. И родились такие строки.
С закономерностью глубокой,
Познанья жаждою полны,
Мы нынче тянемся к истокам
Своей российской старины.
Но в этих радостях искомых
Не упустить бы на беду
Красноармейского шелома,
Пятиконечную звезду.
Не позабыть бы, с обольщеньем
В соборном роясь серебре,
Второе русское рожденье
Осадной ночью на Днепре...
Вспомним же о том, о чем забыли…
КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ ВОСПОМИНАНИЙ А.В. ШАЙКИНА
«Где у нас были господа?» Господами на родине А.В. Шайкина называли исключительно помещиков. Волостные и уездные власти «господами» не считались.
Марьевка, Алексеевский, Круглое – населенные пункты Малосердобинского района Пензенской области. Среди соседних бывших помещичьих селений А.В. Шайкин забыл упомянуть Огарёвку, Колемас и Топлое.
Село Трескино, совхоз «Пятилетка» - населенные пункты соседнего Колышлейского района. Камышинка, Екатериновка, Жуковка – населенные пункты соседних районов Саратовской области.
«Основали село Шингал.., Асмётовку…» - соседние деревни: Шингал – Малосердобинского района, Асметовка – Екатериновского района Саратовской области. Они основаны крестьянами Малой Сердобы в период Генерального межевания конца 18 – начала 19 веков с целью недопущения посягательств помещиков на земли государственных крестьян. По представлениям последних, наличие таких выселков являлось лучшим доказательством прав на эти дальние земли малосердобинских крестьян. Следует заметить, что автор воспоминаний ничего не пишет о противоречиях в земельном вопросе с мордовскими земельными общинами, граничившими с малосердобинскими на протяжении около десяти километров на севере и северо-востоке. Это объясняется тем, что на протяжении трех сотен лет, со времени основания Малой Сердобы, с мордвой не было ни одного столкновения на этнической или хозяйственной почве. В то же время с помещиками, губернскими чиновниками, а также внутри сельской общины судебные споры и иные конфликты случались не раз (в период Генерального межевания, «картофельного бунта» 1841 года, Первой русской революции). Последняя массовая драка из-за сенокосов внутри малосердобинского общества (был убит губернский землемер) произошла в начале 1920-х годов.
«Мне говорили отец и дедушка, что она начинала строится на Горах». Малая Сердоба основана как слобода города Петровска, по указу Петра Первого от 5/15 ноября 1697 года, «на Горах» (см. об истории основания Малой Сердобы на нашем авторском портале страницу «Малосердобинский район» под рубрикой «Весь Пензенский край»).
«Была сделана крепость из леса и камней». На самом деле был построен деревянный острог, срублена засека. Район горского кладбища и поныне имеет неофициальное название «Засека», хотя лес отступил на полкилометра от этого места. Обычно вокруг острогов насыпали вал с камнями, с целью создания трудностей для противника, стремящегося сделать в оборонительном валу прокопы. Этот район Малой Сердобы автор воспоминаний назвал Кирпичихой (таково название одного из ближайших оврагов).
«На первых поселенцев нападали крымские татары». Известно о нападении на Сердобинский острог «кубанских татар» - ногайцев и горцев с Северного Кавказа в 1711 и 1717 годах. Все эти племена находились в вассальной зависимости от крымского хана, кубанские «салтаны» являлись близкими его родственниками.
«Петр Первый послал стрелецкий полк для заселения». Через несколько лет после завоевания Азова какая-то часть стрельцов, вероятно, на самом деле осела в Сердобинской слободе. После Московского стрелецкого восстания царь не был заинтересован в возвращении стрельцов из Азова в Москву, так как стрельцы поддерживали царевну Софью Алексеевну. Известно, что после Азовской кампании их расселили в губерниях между Москвой и Петербургом. Однако документальных свидетельств поселения стрельцов в Малой Сердобе пока не найдено, хотя о стрельцах как «основателях» села говорили все старики.
«И из Старого Славкина барина тоже прогнали». В мордовском селе Старое Славкино не было «барина». Мемуарист имел в виду борьбу славкинской мордвы с соседними помещиками.
«Нарезай (не ближние земли), а от границы Асметовки, от Липовки». Речь идет о дальних землях общины. В годы Столыпинской аграрной реформы крестьянам, вышедшим из общины, выделялись ближние и лучшие земли, что приводило к конфликту с основной массой крестьян, так как от общины оказывались отрезанными поля и водопои.
Очевидна ненависть автора воспоминаний к Столыпину. Теперь, разумеется, «общеизвестно», что Петр Аркадьевич был «патриотом», не желавшим «великих потрясений» и строившим «великую Россию», но, увы, революционеры не дали ему закончить святое дело. Однако объективно Столыпин нанес России колоссальный ущерб. В эпоху промышленной революции он уповал на крестьянина-одиночку при отсутствии рынков сбыта, развитой дорожной сети, тем более в годы аграрного кризиса, связанного с перепроизводством зерна. Ни одна страна в ХХ веке не стала великой на основе преимущественного развития аграрного сектора. Возьмем в качестве примера Малую Сердобу, в которой жил автор воспоминаний. До ближайших рынков сбыта (Саратова и Пензы) было соответственно 120 и 100 км. Ближайшие железнодорожные станции (Петровск и Колышлей) находились соответственно в 30 и 45 километрах. Мог ли крестьянин Шайкин возить для продажи зерно, тем более мясо и молоко, на такое далекое расстояние? Много ли увезешь на лошади? Довезешь ли в целости молоко? Вопросы риторические.
Единственно возможный путь успешного экономического развития для России заключался в выделении правительством субсидий на расширение строительства железных дорог, шоссе и перерабатывающих предприятий в крупных селах, превращении их в города, а сельских бедняков – в заводских рабочих и обслуживающий персонал. То есть надо было следовать практике преобразований, проверенной в развитых странах Запада. Вместо этого премьер Столыпин направлял средства на строительство дальневосточной магистрали с целью реванша за военное поражение России в 1904 году (подвоз войск!), прекратил развернутое С.Ю. Витте дело по обустройству Центра России. Столыпин же население направлял не на заводы, а на хутора, в Сибирь, тратя на это огромные деньги. Во внешней политике Столыпин переориентировал Россию с Германии на союзнические отношения с Англией и Францией (на этой основе возникла будущая Антанта), тем самым сделав Россию уязвимый в случае конфликта с ближайшим соседом Германией, что и случилось в 1914 и 1941 годах. До этого Россия с Германией никогда не воевала, а вот с Англией и Францией – и в Отечественной войне 1812 года, и в Крымской 1854-56 гг.
А.В. Шайкин, как и другие крестьяне, интуитивно чувствовал неправоту Столыпина. Но такого же мнения придерживался предшественник Столыпина на посту премьера С.Ю. Витте, который отказывал Столыпину в способности государственного мышления.
«Вечники». Распространенное в Малой Сердобе название крестьян, приобретавших землю «навечно» в частную собственность.
«Иткаринская дорога». Старинная, ныне не существующая (запахана) дорога из Малой Сердобы на город Аткарск.
«Зашел человек к Столыпину в кабинет и застрелил в упор». Столыпин был убит агентом охранки Богровым в Киевском театре в сентябре 1911 года.
«Быстро убежал на гору Порт-Артур». Местечко в Малой Сердобе, за свою отдаленность получившее название Порт-Артура.
«В 1918 году меня взяли на Гражданскую войну». Виновниками развязывания Гражданской войны на территории нашего государства были, без сомнения, противники большевизма. Не следует забывать, что Советская власть победила почти на всей территории бывшей Российской империи бескровно, поэтому большевикам не было нужды начинать войну. А вот противники большевиков стали готовиться к гражданской войне за несколько месяцев до перехода власти в руки большевиков, левых эсеров и анархистов.
Рис. 1. Атака красной конницы
Опубликованы письма генерала, одного из организаторов Белой армии М.К. Дитерихса (1874-1937) к генералу М.В. Алексееву (годы), написанные в 1917 году («Источник», 1999, №3, с.10-13). Стоит обратить внимание на то, что в своих письмах он вообще не употребляет слов «крестьяне», «рабочие», «трудящиеся». В письме от 11 ноября 1917 года (по старому стилю) вместо них Дитерихс прибегает к унизительному слову «чернь». Впрочем, один раз употребил и слово «массы», однако исключительно в смысле «необходимости» их «чем-нибудь» «облагоразумить». Видимо, это «что-нибудь» означало массовые средневековые казни.
В борьбе против «черни» Дитерихс уповал на союзников (англичан, американцев и японцев), к помощи которых «придется прибегнуть». Он умолчал, чем с ними придется рассчитываться России в час расплаты после победы Белого движения. Объективно такие как Дитерихс уже в 1917 году готовили для России участь сырьевого придатка западных государств.
Полагая, что Гражданская война неизбежна, Дитерихс предлагал Алексееву следующую стратегию. Поскольку большевикам симпатизирует «чернь» российского Севера (территория от Ледовитого океана до земель Войска Донского), т.е. русская часть России, включая ее культурные центры, то белым, считал он, следует сосредоточить внимание на работу на Украине и в казачьих областях. Такая своебразная "любовь" к русским белого генерала.
Одной из главных опасностей в начале Белого движения Дитерихс считал «преждевременное» заключение большевиками мира с немцами. Если это произойдет, писал он Алексееву, то немцы высвободившиеся на Севере дивизии бросят против Юга, «и мы лишимся Юга до Дона, а то и Волги». Юг особенно интересовал белых генералов по той причине, что именно там были сосредоточены основные природные богатства России (уголь, нефть) и металлургическая промышленность. Это как раз то, чем собирались руководители Белого движения расплачиваться за военную помощь союзников.
Территориальный раздел России начался отнюдь не с первой Советской Конституции 1918 года, предусматривавший автономию для отдельных ее частей по национальным признакам. Вслед за Керенским, при котором Украина добилась «самостийности», расчленение России намеревались продолжить белые. Еще до «Октябрьского переворота», в Екатеринодаре 20 октября 1917 года был создан «Юго-Восточный Союз» – суверенное государственное объединение Донского, Кубанского, Терского, Астраханского казачьих областей, горцев Северного Кавказа и калмыков до созыва Учредительного собрания. Орган исполнительной власти Юга России после победы белогвардейцев.
А если не удастся победить Север? Такие вопросы в среде организаторов Белого движения даже не рассматривались.
Стратегию будущей войны с «германскими большевиками Лениным и Троцким» Дитерихс предвидел по американскому сценарию войны Севера с Югом. Как известно, во время гражданской войны в Америке Север олицетворял республиканско-демократический стиль правления, Юг – рабовладельческий. Рабами дитерихсы, естественно, считали «чернь».
В борьбе с большевиками Дитерихс предлагал активно опираться на «эсдеков», т.е. меньшевиков, возглавлявшихся, как теперь известно, масонскими орденами, тесно связанными с правительствами стран Запада. Может, и сам Дитрихс был масоном. Во всяком случае не стоит забывать, что он стал ближайшим соратником Колчака, главы «Омского правительства», который прибыл на смену Деникину после длительного вояжа по Англии и США. Опытный полевой командир Деникин безропотно уступил бразды правления хорошему моряку, талантливому ученому, но плохому военачальнику. Уступил, потому что в случает отказа он вступил бы в конфликт с руководителями западных стран, что означало бы прекращение военных поставок Белому движению.
Рис. 2. Отступление белогвардейцев
По сути руководство Белого движения являлось агентом Антанты, правительства которой, видимо, ставили перед генералами Юга задачу не отдать Россию под немецкое влияние. В любом случае задача стояла – максимально ослабить Россию с тем, чтобы любой победитель, белый или красный, пришел к ним с протянутой рукой. В известной степени они этого добились, но в худшем для себя варианте. Советское правительство не дало повода обращаться с собой как с марионеткой, хотя старые большевики в середине 1930-х годов считали Сталина марионеткой западных правительств (см. опубликованные дневники большевика Василия Кураева).
Песенный Ванёк из известной красноармейской песни «Во солдаты меня мать провожала» (написанный, кстати, летом 1918 года, в начале полномасштабной Гражданской войны), отвечал родне, пеняя ей на недостаток патриотизма:
Будь такие все, как вы, ротозеи,
Что б осталось от Москвы, от Расеи?
Воспоминания А.В. Шайкина – весомое доказательство того, что красноармейская масса отнюдь не была озабочена троцкистскими идеями «мировой революции». Эта солдатская масса, одетая в шинели, сшитые на российских суконных фабриках, вооруженная тульскими винтовками, воевала за «Расею». Белая армия воевала вооружением, присланном «союзниками», странами Антанты.
Что представляла собой Советская Россия в 1918 году, показано на этой карте. Кажется невероятным, что всего за два года большевикам удалось пройти от Балтики до Тихого океана. И сделал это в основном русский мужик. «Кони сорвались с привязи, теперь только у океана остановятся», - пророчествовал один из них – герой повести Алексея Толстого «Гадюка».
«Генерал Шкуро». А.Г. Шкуро, в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. Повешен по приговору советского военного трибунала.
«Нам рассказывал Гудков Кузьма Калентьевич, он был революционером». Среди участников революции человек с такой фамилией в Малой Сердобе неизвестен. Возможно, мемуарист перепутал рассказчика с учителем, бывшим левым эсером, Константином Калиновичем Долговым (арестован в Малой Сердобе и расстрелян в 1937 году).
34-я Кировская дивизия – летом 1920 года
9-я Краснознамённая дивизия – летом 1920 года
«Мой дядя Гриня служил во флоте минером» - дядя А.В. Шайкина Григорий Морозов, черноморский моряк, участник Гражданской войны. По воспоминаниям, стариков, демобилизовавшись, приехал с маузером, его опасалось волостное начальство как человека крутого, независимого нрава. По-видимому, в годы коллективизации уехал в Алма-Ату, где уверовал в бога. Вернувшись в Малую Сердобу в 1970-е годы совершенно другим человеком, был избран старостой местной православной общины. К нему приезжали священники. Благодаря одному из них, сельскому священнику из соседнего Колышлейского района, Андрей Васильевич бросил пить водку, чем иногда злоупотреблял лет до 80-ти. Неизвестно, какими словами его убеждал священник, однако родственники видели, что когда священник вышел из дома Шайкина, то, оборотясь, повторял: «Не губи свою душу, не губи!» Не сразу, но после этого случая Андрей Васильевич стал трезвенником и уверовал в бога, что видно по страницам воспоминаний.
«И вот к нам приехал главнокомандующий (председатель Реввоенсовета республики) Троцкий… оратор замечательный». Андрей Васильевич рассказывал мне о митинге, на котором выступал Троцкий. Точно не помню, сам ли Шайкин на нем присутствовал, или он узнал эту историю из уст кого-то из земляков. В Саратове, напротив церкви, что и сейчас стоит на Музейной площади, собрался полк, председатель Реввоенсовета сказал речь. Заканчивая, Троцкий обратился к красноармейцам: "Если есть вопросы – задавайте». «В баню бы, вошь заела!» - крикнул кто-то. Троцкий повернулся к командиру полка: «Почему бойцов не помыли?» Тот что-то ответил, а Троцкий сказал: «Комполка говорит, что все бани заняты под госпиталя и тифозные бараки, негде мыться. Это отговорки. Вот рядом церковь, рядом Волга, можно помыться». «Тут и синагога поблизости», - послышался чей-то голос. После искали, кто сказал про синагогу, но ребята не выдали.
"Дедушка, в вашем хуторе есть кадеты?" Красноармейцы в годы гражданской войны называли кадетами вообще всех белогвардейцев. Изначально кадеты - партия конституционных демократов (КД), крупной буржуазии, сторонников Учредительного собрания.
"Когда мы переправились через Сиваш..." Форсирование Сиваша состоялось в ночь с 7 на 8 ноября 1920 года при 12-градусном морозе, и это был настоящий массовый подвиг, на который не была способна "белая кость". Вспоминаются слова из белогвардейской песни: "Если б ты видела, мама, как я замерз на ветру"... В Красной Армии подобных песен не было.
9-я стрелковая дивизия, в составе которой был 81-й полк, форсировала Сиваш в районе Генического пролива в направлении на Арабатскую стрелку и устья реки Салгир. Длина пролива 4 км, ширина - до 150 метров, глубина до 4,5 метра (непостоянная, зависит от направления ветра). По рассказу автора мемуаров, много красноармейцев утонуло. В 81-м полку утонувших не было благодаря проводнику. Однако, судя по описанию, не исключено, что речь в воспоминаниях идет не о Геническом проливе, а о собственно-Сиваше.
"У Врангеля укрепления очень хорошие..." Командующий фронтом М.В. Фрунзе так оценивал их: "Перекопский и Чонгарский перешеек и соединяющий их южный берег Сиваша представляли собой одну общую сеть заблаговременно возведенных укрепленных позиций, усиленных естественными и искусственными препятствиями и заграждениями. Начатые постройкой еще в период Добровольческой армии Деникина, позиции эти были с особым вниманием и заботой усовершенствованы Врангелем. В сооружении их принимали участие как русские, так и французские военные инженеры, использовавшие при постройках весь опыт империалистической войны" (Фрунзе М.В. Избранные произведения. М., 1950. С. 228—229.)
"На 305 кораблях увезли наши богатства за границу вместе со своими союзниками..." Эвакуация армии Врангеля и гражданских лиц осуществлялась на русских и французских судах, всего было эвакуировано в Турцию до 80 тыс. солдат, офицеров и беженцев. Картина бегства показана в художественных фильмах "Служили два товарища" и "Бег".
"Из каждой роты выбрать по красноармейцу и направить на высшие командные курсы в Киев, в кадетский корпус..." Вероятно, в бывший Владимирский кадетский корпус в Киеве. С мая 1921 г. в Киеве стала работать объединенная школа командиров РККА имени С.С. Каменева. Возможно, в нее и осуществлялся первый набор.
«И вот я в команде 144-й этапной роты на улице Крещатике...» Этапные роты выполняли задачу по охране тыла РККА от диверсий и уничтожению нацистских банд, в частности, на Западной Украине и в Белоруссии, где они прорывались на территорию Советской республики из-за границы. Об отношении украинских нацистов к русским лучше всего расскажет их же листовка, выпущенная, вероятно, осенью 1941 года…
«По указу Ленина в стране начался нэп…» Новая экономическая политика, которая допускала занятие частным предпринимательством, совместное с иностранцами владение предприятиями и другие элементы капиталистического хозяйства. В первые годы нэпа достигнуты большие успехи. Промышленное производство превзошло довоенный уровень в 1927 году на 18%, однако производство зерна сократилось на 10%, по сравнению с довоенным временем (но с 1921 по 1927 на территории СССР было несколько жестоких засух). Было восстановлено поголовье скота. Общий объем сельскохозяйственного производства вырос на 10% за счет роста в животноводстве и расширения площадей выращивания технических культур. Но мало поступало товарного зерна, так как зерновых требовалось в большем объеме, чем до войны, для животноводства, поголовье которого выросло. Соответственно немного зерна шло и на экспорт.
Вокруг нэпа развернулась острая политическая борьба в Политбюро ЦК ВКП(б). За прежний, ленинский, курс нэпа выступали Дзержинский и Бухарин, за развитие экономики за счет крестьянства – Троцкий и Пятаков. В «середине» были Сталин, Каменев и Зиновьев. Когда умер Дзержинский, баланс сил нарушился, и победу одержала группа Сталина – Каменева – Зиновьева. Последние одержали верх над сторонниками позиции Троцкого. Затем Сталин оттеснил на задворки политической жизни Каменева, Зиновьева и Бухарина и… стал проводить курс Троцкого: индустриализацию за счет ограбления деревни.
Ленинский опыт нэпа использовал в конце 20 века Китай.
Внешне нэп в деревне проявлялся в развитии культуры земледелия и животноводства, кооперативного движения, борьбой за грамотность; широко развернулась культурно-просветительская работа: в каждом более или менее крупном селе действовал самодеятельный драмтеатр, бывали и свои «драматурги»; в Малой Сердобе пьесы на местные темы писал будущий самарский писатель Василий Евдокимович Козин). После его пьес зрители восторженно хлопали в ладоши и вызывали на сцену автора. Однажды произошел комичный случай. Самодеятельные артисты поставили гоголевский "Ревизор", в котором играл и Вася Козин. По окончании спектакля раздались оглушительные аплодисменты и вызовы... автора. Со сцены отвечали: "Он умер!" В ответ: "Как так умер? Только что на сцене комедиянничал!" Поскольку Николай Васильевич Гоголь не мог прибыть на свой триумф в Малую Сердобу, пришлось вместо него выходить раскланиваться перед публикой Васе Козину. Только тогда зрители угомонились и стали расходиться.
«В 1929 году возник колхоз…» Показушный колхоз-гигант в Малой Сердобе, в котором, по официальному отчету райкома ВКП(б), якобы состояло 3218 хозяйств, это 95% дворов самого районного центра и еще нескольких окружающих поселков и деревень.
«И вот грянул гром: всех стали загонять в колхоз принудительно...» Массовая коллективизация в Малой Сердобе проходила в 1931 году. Было организовано в селе четыре колхоза – в земельных границах бывших четырех крестьянских обществ. Автор мемуаров состоял в Кузнецовской общине, где в 1931 году был создан колхоз «Первый путь», который возглавил рабочий из Ленинграда, 25-тысячник Клевцов. Людей загонял в колхоз сельсовет с помощью налогового бремени, арестов крестьян и высылок за пределы Нижневолжского края (чаще всего на Урал). Насильственная коллективизация нанесла огромный ущерб экономике села. В октябре 1929 года в Малой Сердобе насчитывалось 960 бедняцких хозяйств, 910 – середняцких, 240 – «зажиточно-кулацких». Резко упали численность населения, поголовье скота, в 1933 году произошел массовый голод, от него погибли, по сохранившихся в архиве районного отдела ЗАГСа актах о смертях, в которых указывалась причины смерти, 325 человек. (При этом надо иметь в виду, что акты сохранились не все, много страниц вырвано, остались лишь корешки). А в районе умерло от голода около 2900 человек.
Из дневника художника Кацмана, побывавшего вместе с коллегами 6 июля 1933 года на кунцевской даче Сталина, видно, что хозяин дачи щедро угощал художников и произнес циничный тост о русском народе, который в эти самые дни умирал от голода. (Дневник Кацмана публиковался в "Независимой газете" 4 июля 1998 года). “Подали щи, закуски, колбасу, икру, сливочное масло, шашлык из свинины с картошкой, что-то такое с фазанами и еще что-то вкусное, – писал Кацман. – Было вино, потом дали водку и шампанское... Щи, действительно, оказались очень вкусными. Потом ели кто чего хочет. Я съел шашлык из свинины с картошкой”. На этом пиршестве Сталин предложил тост: “За самый лучший народ – русский народ, за самую советскую нацию”.
«А «хозяевам» государство отпускало в три раза дороже, чем получало от нас, семена и комбикорм». Эта практика сохранялась до конца 1980-х годов. Сначала отвозили "в государственные закрома" весь хлеб, включая семена, а весной из тех же "закромов" везли обратно семена уже как государственную ссуду, но по более высоким ценам.
«Стали раскулачивать, отправлять в концлагеря и Сибирь». В селе Малая Сердоба на начало апреля подверглось раскулачиванию, по официальному отчету райисполкома, 5,4% крестьянских хозяйств. Всего же до 1933 года включительно раскулачено не менее 8-9 процентов. По району динамика численности населения имела такой вид:
1.7.1930
15.6.1931
1.7.1932
1.7.1933
1.1.1934
Дворов
Жителей
Дворов
Жителей
Дворов
Жителей
Дворов
Жителей
(оценочно)
Дворов
Жителей
Служащие
371
691
871
2824
936
2954
неизв.
3000
1170
3030
Колхозники
1662
7361
7676
36042
6326
30971
5263
24104
5665
23590
Единоличн.
8520
43003
1957
11528
2524
10897
1409
7158
1107
4342
Кулаки
580
2784
234
1170
142
703
41
202
94
444
Прочие
18
72
131
395
95
240
–
240
–
–
Всего
11151
53911
10869
51959
10093
45765
6713
34704
8236
32022
В «концлагеря» раскулаченных не отправляли. Видимо, под этим словом автор мемуаров подразумевает так называемые «кулацкие поселки» за пределами села, где первоначально сосредоточивались раскулаченные перед отправкой в эшелоны. В этих поселках семьи раскулаченных жили в землянках, ограждение отсутствовало, охраняли поселки местные милиционеры и «активисты». За охрану последние получали конфискованную одежду и обувь – шубы, чапаны, сапоги, валенки и т.п.
Граблин Павел Егорович. Большевик с 1920 года. Отличался сдержанностью, деловитостью, говорил на «о», как все коренное население соседнего села Бакуры. Один из друзей большевика с марта 1917 года Ивана Петровича Турунина (Турунена), известного тем, что в 1921 году он ездил в Москву к Ленину заступаться за бакурских крестьян (см. ПСС В.И.Ленина), за что уездные власти по возвращении арестовали его и посадили в тюрьму.
«В это время всех гнали в Селиксу». Ныне район г. Заречного под Пензой, место формирования новых воинских частей и пополнения действующих.
«И нельзя сказать про войну – расстреляют». Т.е. опасно было говорить о вероятности войны с Германией. В соседнем макаровском колхозе был такой случай. Приехал лектор из Пензы, стал рассказывать колхозникам о «мудром решении» правительства подписать договор с фашистской Германией о ненападении. Один колхозник возразил: «Договор договором, а камешек за пазухой нам надо бы держать». Лектор: «Кто сказал?» В ответ громыхнула табуретка: «критик» договора бросился наутек. Лектор спросил: "Кто этот провокатор»? Спасая «критика», лектору объяснили: "Да это у нас один ненормальный, мы с ним сами разберемся».
«У нас же ничего не было – ни танков, ни самолетов, ни снарядов». У Гитлера, пришедшего к власти в 1933 году, поначалу практически не было армии. По Версальскому договору 1919 г. Германии разрешалось иметь не более чем 100-тысячную армию, вооруженную только стрелковым оружием. Но за 6 лет, до начала Второй мировой войны, у Гитлера имелись уже и танки, и артиллерия, и самолеты, и корабли. Сталин же стал единоличным правителем в 1927-29 годах и имел в это время все виды современных для того времени вооружений. Однако, имея в два раза больше времени (с 1929 по 1941 годы), растерял до июня 1941 года все свое преимущество. Но главная причина поражений Красной Армии в 1941-42 годах, если не считать неподготовленности высшего армейского руководства от командира полка и выше взамен репрессированных в 1937-38 годах, думается, в страхе советских командиров принимать собственные решения. Немецкие историки (Пауль Карель, «Гитлер идет на Восток») высказывают изумление, почему русские в первый день войны отдали без боя более 900 мостов, многие из которых были подготовлены к взрыву. Ведь разрушение мостов серьезно замедлило бы темпы вторжения немцев на территорию СССР. Ответ очевиден: лейтенанты охранявшие эти мосты, боялись принять решение о взрыве. Пока они звонили капитанам и майорам, те – полковникам, полковники – генералам, штурмовые группы немцев успевали перебить охрану и захватить мосты. Никто не хотел брать на себя ответственность, потому что в случае ошибки (а вдруг движение немцев к мосту - еще не война, а маневры или провокация) ты будешь расстрелян как провокатор и «агент» чьей-либо разведки.
«Власовцы, хорошо одетые, с чубами, сытыми мордами, стояли на углу и вербовали нас в свою «армию-освободительницу». После войны отношение в СССР к бывшим советским военнопленным было крайне негативным. Его формировали бывшие «штабные», тыловики и дураки, не нюхавшие пороха. Это продолжалось до 1957 года, когда, по инициативе Маршала Жукова было принято постановление Совета Министров СССР о восстановлении в гражданских правах всех бывших военнопленных, которые не сотрудничали с гитлеровцами. Это было решение Солдата с большой буквы, который хорошо понимал, как просто можно было попасть в плен, тем более в начале войны. После проверки военнопленных следовало бы наградить специальной медалью «За верность Родине». Они выдержали испытание голодом, холодом, издевательствами и не поддались на приманки власовцев. Голодному человеку особенно трудно противостоять искушению и не взять протянутый кусок. У голодного ослаблена воля к сопротивлению, он становится равнодушным ко всему, кроме пищи.
"Мы как вырвались из ада фашистского, очень быстро стали поправляться". Рассказ А.В. Шайкина находится в полном противоречии с утверждениями Солженицына и прочих антисоветчиков, согласно которым едва ли не все военнопленные после войны отправлялись в "сталинские концлагеря". Кто прав? Безусловно, автор мемуаров. По данным Института военной истории РАН, после Великой Отечественной войны было репатриировано 1,8 млн бывших военнопленных. Более 1 млн направлено для дальнейшего прохождения службы в Красную Армию, 600 тыс. (лица старшего возраста) – на работы в промышленности в составе рабочих батальонов и лишь 234 тыс. как «скомпрометировавшие себя в плену» направлены в лагеря НКВД, из них расстреляно «незначительное количество» («Независимая газета», 2 июля 1999 года).
"...банду бендеровцев разбили". О действиях бендеровцев мне рассказывал иотец. Когда он с другими солдатами возвращался из Германии, все были безоружными, кроме офицеров, вооруженных пистолетами. Автомашины, на которых ехали солдаты, были остановлены бендеровцами, офицеры расстреляны, автомашины отобраны, а солдат отпустили.
Михаил Полубояров
Александр Корнилов,
02-02-2011 04:44
(ссылка)
Воспоминания русского землепашца. Год рождения 1900. Продолжение
Борису комендант доверял ключи. И он приносил нам баланду, хлеб и мазь для натирания. И мы остались живы и даже немного поправились. Вот как его забыть? Никак нельзя! И мы ему помогли, когда нас освободили, вы дальше об этом узнаете. И его назначили в нашей армии переводчиком.
Меня с Андреем последними секли и прекратили (применять этот вид наказания), потому что наши немцев погнали. Первое время когда мимо нашего лагеря везли немцев на фронт, они первое время кричали нам: «Даёшь Москау, рус капут, в Америку за золотом!» Вот у них какие были замашки: хотели покорить и закабалить весь мир. Если бы Россия их не остановила, они бы это сделали. А перед войной Америка, Англия и Франция немцев натравливали на нас. Потом видят, дело плохо, и к русскому Ивану поближе.
Пришло время, стали нас эвакуировать на запад. Нашим охранникам машинисты паровозов кричали, что немцев погнали по всему фронту. И в это время разболелся у меня большой палец у правой руки, гной пошел до кости. Я пошел в санитарный барак к нашим докторам (военнопленным). Один, украинец из Кировограда, наложил на палец гипс. Сказал, что перелом, и пальцу нужен покой. И правда, через неделю боль стала утихать. И вот команда: «Кто больной - садись на машины!» Я и еще немногие вышли – больные из санитарного барака. И Андрей Бочкарев вышел как якобы больной, с температурой. Борис, переводчик, сказал немецкому врачу: «Кранк» (больной). Больных повезли на машинах, здоровые пошли пешком в Кировоград, в очень большой лагерь. В нем было 250 тысяч наших пленных. Нам санитары сказали, что здесь немцы заморили голодом 220 тысяч. Тут нас с Бочкаревым разделили по разным группам: я остался с больными, а он попал к здоровым. Здесь нас едва не освободили наши. Переправились через Днепр танки, но до Кировограда немного не дошли – остановили немцы. Пленных опять стали эвакуировать на запад: больные на поезде, здоровые пешком. Из вагонов никуда не выпускали, вагоны запирались, оправлялись в параши. Привезли нас в город Славута на польской границе. Лагерь в Славуте тоже очень большой, жили мы в двухэтажных кирпичных зданиях, видно, военных казармах. Высокая колючая проволока и вышки, как в Кременчуге. Среди охранников полицаи разных наций, злые, как собаки, бьют по страшному. Большинство мадьяры и поляки. Нам сказали пленные, что здесь нашего брата заморили 360 тысяч. Молотов назвал этот лагерь лагерем смерти.
А наши войска с каждым днем все ближе. Опять эвакуация. На этот раз в Польшу, в город Холм (правильно: Хелм). Лагерь не очень велик, но говорили, что здесь погибло 72 тысячи пленных. Большинство конвоиров немцы, немного поляков и украинцев. Эти тоже издевались зверски. У них была построена беседка, вся стеклянная, около колючей проволоки. И вот немцы вздумают погулять, пображничать и, напившись, начинают озоровать над пленными. В беседке они выпивают, блядуют, а надумают пролить русскую кровь – ведут пленного, выпускают из беседки трех овчарок и натравливают на него. Изорвут в клочья, до смерти, ведут другого пленного. И так до пяти человек. Остальные пленные трясутся: а ну как меня вызовут! А немцы смеются, зубы щерят, как черти. Они и похожи на чертей. Потому мы называли Гитлера сатаной, а немцев чертями.
Чего они творили – ужас! Как издевались – невозможно описать. И вот за это мы (Советский Союз после войны) даем им 30 годов дешевую нефть и газ: «Подкрепляйтесь!» А ведь они опять нас, наших правнуков, будут лупить, издеваться над ними. Они на нас четырежды приходили: два раза на королей (великих князей?), на царя Николая в 1914 году и на Советский Союз. Но Россия их всегда била. Они у нас села с живыми людьми жгли. Я их проходил, видел своими глазами. Издевались ужасно!
И вот наши снова подошли поближе, и пленных снова эвакуировали на запад. Оказались мы в городе Люблине, в самом кровавом лагере, его весь мир знает – Майданек. Тут был крематорий, стояло несколько больших котлов-печей. Построят пленных вдоль стены и тянут к котлах электричеством. В котлах растопляют и что от них останется – отправляют на заводы делать мыло. Вот чего творили немцы! Но нас Бог сберёг. Двое суток нас не сгружали с поезда. Наши прорвали фронт левее Люблина, поэтому нас повезли дальше на границу с Восточной Пруссией, около Литвы, где тоже погибли миллионы пленных. Привезли в лагерь. Как он назывался – не помню. Его строили наши отцы и деды в 1915 году. Недалеко стоял памятник, где немецкого генерала убили. В его честь (каждый пролетавший) немецкий самолет трижды облетал памятник и посадку делал. И так каждый раз. Из этого лагеря нас перегнали недалеко в лагерь Губбинин (Гумбиннен Калининградской области?). Мы здесь работали, часть у бавара (Bauer, нем., – «крестьянин») хлеб на полях убирала, часть рыла противотанковые рвы. А нас, четверых плотников, водили в городишко – расстояние 8 километров – ремонтировать веялки, сортировки и разные другие машины. Из местных в мастерских работали малыши и старики, чехи, австрийцы, были и вывезенные из оккупированных территорий.
И вот ведет нас конвоир, немец, по городу. На углу стоят власовцы, справные, кудрявые, с чубами. Нам говорят: «Переходите во власовскую армию-освободительницу. Мы очень хорошо живем и в новой России будем жить хорошо». А Власов до 1944 года русских не брал в свою армию, говорил: «Они все коммунисты». Принимал казаков, грузин, армян и разные другие нации вроде как «оккупированных» русскими.
Наши опять наступают, и пленных перегоняют километров за 20 в лагерь Елава (Елгава, Латвия). Когда мы шли туда, со мной случился сердечный приступ. Упал и дальше ничего не помню. Потом товарищи рассказали. Подскочили ко мне трое конвоиров, один ударил меня пинком. У них порядок такой: кто упал – добивают. Но за меня заступился наш доктор из Кировограда Иван Федорович. Он сказал конвоирам по-немецки, что у меня сердечный приступ, убивать не надо. Иван Федорович попросил троих товарищей, что посильнее, дотащить меня до остановки. 3 километра они меня несли, а доктор все время шел сзади. Вот и рассуждай, как так получилось? Я упал, а рядом оказался доктор. Всех убивали, а меня не убили. Никогда этот доктор со мной рядом не ходил, а в этот миг оказался со мной. Я все думаю, что меня Бог берёг. Доктор дал мне лекарство, и поутру мне полегчало, я уже сам пошел.
В Елаве (Елгава) на горе находился большой лагерь. Конвойные – палачи: власовцы, полицаи, хуже немцев. Били насмерть. Но недалеко от нашего лагеря, километрах в 30-ти, бои шли ужасные, немец крепко стоял. У него тут был подземный завод, выпускал автомашины, снаряды. Построили этот завод после Первой мировой войны. В то время немцам запрещали строить военные заводы Англия и Франция. Поэтому они строили потаясь (тайно), при помощи пленных, которых задержали незаконно после войны, их было тысяч 200, в том числе и русские. А когда завод построили, всех пленных расстреляли, чтобы никто не знал про этот завод. Наших отцов и дедов побил. Вот какой немец! Он такой, с ним всегда нужна осторожность. Если придется воевать, его нужно уничтожить навсегда. А то воюем, а не добиваем.
Новая эвакуация. 35 тысяч пленных угнали и всех в Балтийском море потопили. Уничтожили, чтобы они не воевали против Германии. Об этом нам рассказали старики-немцы, которые против фашизма. Но мне посчастливилось выжить и на этот раз: за неделю до отправки сверху левой ступни образовался нарыв от простуды, меня и положили в лазарет. Больными, которые могут выздороветь, были заполнены два барака. В остальных лежали кровопоносники (больные холерой?), тифозные, туберкулезные, на выздоровление надежды у них не было. А в нашем бараке скрывалось много здоровых, между нами на нарах лежали и санитары. Наш доктор нас научал, как себя вести: «Когда мы зайдем с немецким доктором – все кашляйте. Я ему буду говорить, что тут все туберкулезники, безнадежные, все помрут». И вот как он заходит с немецким врачом, мы все кашляем, немецкий доктор тут же убегал. Благодаря нашим докторам, мы и остались живы, а то бы все пошли на дно в Балтийском море.
Наши войска приблизились, и конвой нас бросил: все разбежались. 3 дня жили мы без конвоя и без еды. Но доктора говорили: «За лагерь не выходите, кругом немецкие войска и власовцы – всех побьют. Терпите». И мы лежали голодные, чуть живые. И вот зашла в лагерь наша разведка. Командовал ею наш майор. Мы выползли из барака и он говорит: «Кто может и как может, товарищи, пробирайтесь километра три до леса. Сюда мы подогнать машины не можем, немец в километре отсюда закрепился, а лагерь на горе. Увидит машины – разобьет сразу».
И стали мы пробираться с горы кто как может. Кто ползком, кто хромой, все голодные, мохрястые (в лохмотьях), заморенные – невозможно на нас глядеть. Ко мне товарищ хромой прилепился, я ему помогаю, один на полозьях двигается – обоих ног нет: тоже хочет жить. Дошли до ворот, а возле майора-разведчика полицай, хотел проскользнуть вместе с больными. Майор его допрашивает, а он: «Я пленных жалел». А пленные говорят: «Он нас не жалел, он кровавый палач». Тогда майор вынул наган, наставил в лоб полицаю и застрелил палача. И сказал: «Гад! Ещё оправдывается, изменник!»
Добрались до леса, тут наши красноармейцы, дают пленным хлеба, сала, колбасу. Трофеев много у немцев забрали. И наших пленных от этого угощения очень много умерло: были заморенные и лишнего поели. В лесу нас стали собирать и сажать на машины. Проехали в тыл километров двадцать, поместили нас в большие сараи. На пол настелили соломы, дали продуктов – мяса, консервов, хлеба, пшена. Сказали, чтобы поменьше ели, а то после плохо будет, мы очень заморены. Приехала контрразведка, особый отдел, для проверки пленных. Расположились около сарая, поставили столы и стали по списку вызывать. Я пропишу про себя. Так и всех допрашивали.
- Шайкин Андрей Васильевич. Какой области?
- Пензенской.
- Когда мобилизован?
- 29 августа 1941 года.
- На каком фронте воевал?
- На Среднем (Юго-Западном), командующий Тимошенко.
- Какого полка?
- 167-го.
- Где и когда попал в плен?
- Около Харькова и Ахтырки, у села Кутильва. В начале 1942 года, когда отступали от Киева.
- Ну, все понятно. А как к вам относились доктора (лагерные)?
- Как братья родные.
И рассказал, как меня доктор спас, когда у меня случился сердечный приступ.
- И другие доктора были очень уважительными к пленным.
- А как к вам относился переводчик Борис?
И я рассказал, что когда мы с Бочкаревым Андреем бежали из плена и нас поймали и посадили в карцер, Борис нас спасал, носил еду, и мы его никогда не должны забывать.
- Понятно. А вот ты не замечал среди вас власовцев и полицаев?
- Я попал в этот лагерь недавно, только 10 дней в нем провел, поэтому ничего не знаю.
Дали мне обувь, я пошел к товарищу, который как раз собрался варить суп.
- Шайкин, сходи за водой.
Сам он был хромой, поэтому не мог идти самостоятельно. Я пошел к водотоку, родничку, зачерпнул и вышел на равнину. Гляжу, 22 человека, под видом пленных, в мохрястых шинелях, в окружении наших автоматчиков. Это были власовцы и полицаи. И я сказал власовцам: «Теперь вот вы сравняйтесь с нами». А конвоир спрашивает: «Что означают твои слова?» И я ему рассказал вкратце, как нас, четырех плотников, вели под конвоем в городишко на работу, а власовцы, хорошо одетые, с чубами, сытыми мордами, стояли на углу и вербовали нас в свою «армию-освободительницу».
- И я вам советую, - сказал я конвоирам, - всех их расстреляйте. Они над нами издевались, как и немцы.
Пришел к товарищу, сварили суп, покушали. Подъехали за нами машины студебеккеры американские и повезли. Километров через 15 остановились. Тут четыре легковые автомашины. Вышел генерал (фамилию забыл): «Здравствуйте, товарищи!» Мы ответили как положено. Он говорит: «Счастливые вы, что остались живы. Но повоюете еще с ним, отомстите врагу за свои муки». Оказывается, нас везли в полк выздоравливающих в его 48-ю Краснознамённую гвардейскую дивизию.
(Здесь и далее Шайкин ошибается в наименованиях дивизии и армии, в составе которых участвовал в боях. 48-я гв. с.д. в конце войны действовала в направлении на Будапешт и Вену. Скорее всего, Шайкин воевал в составе 8-й гвардейской дивизии 47-й армии).
Привезли нас на место и стали лечить и кормить замечательно. Мы как вырвались из ада фашистского, очень быстро стали поправляться. Нас обмундировали очень хорошо и вновь дали присягу как положено по закону. Вел присягу майор. Он говорил: «Вам рассказывать про фашиста нечего, вы его узнали хорошо, пострадали от него и помучились. Теперь задача – добить фашиста». Мы сказали: «Добьём и отомстим фашисту за его издевательства».
Стали нас, бывших пленных 520 человек, отправлять на машинах на пополнение 48 (8-й?) дивизии. Она стояла километрах в 20-ти от передовой, в лесу уже дней десять. Слезаем с машин. Выходит из землянки красноармеец:
- Есть кто пензенский?
Я откликнулся.
- Какого района?
- Малосердобинского.
- А я Лопатинского, села Гаревка (Огарёвка?), Гурьев Иван Михайлович.
- А я из Малой Сердобы, Шайкин Андрей Васильевич.
- Пойдем к нам в землянку, взводному скажем – земляки сошлись, он учтет, к нам еще будет добавлять красноармейцев.
Так мне пришлось повидаться с земляком. Я был очень рад. Всё им рассказал, как над нами издевался немец и как много людей от него погибло.
Отдохнули 20 дней и пошли на передовую ночью. Мы – в окопы, другая дивизия – из окопов. Теперь она пойдет отдыхать и пополняться. В это время я очень часто бредил, будто нахожусь в плену. Проснусь – слава Богу, я среди своих и опять на войне и вновь буду сражаться с ненавистным врагом в Восточной Пруссии. Наша задача – отомстить врагу ненавистному за себя и за товарищей, которые погибли в плену, и за мирных жителей, которых он погубил, сжёг. Я воевал в 1941, 1942 годах и в 1944-м – разница большая. В сорок первом у нас было совсем мало оружия. Ни танков, ни самолетов, ни орудий, ни снарядов, ни автоматов – ничего не было. А сейчас – бей (стреляй), не жалей (патронов), даже помирать радостно. Идет в атаку или ползем к его (немецким) окопам, а уже его окопы разбиты танками вдребезги. А наши танки все идут и идут. В начале войны ничего этого не было. И откуда что взялось! И идем мы по Восточной Пруссии!
Лежим как-то в окопах, один красноармеец кричит:
- Фриц, сколько тебе Гитлер пообещал русской земли?
Мы знали, что Гитлер пообещал каждому своему солдату участок русской земли, а мы должны были на него работать. Другой наш солдат кричит в ответ:
- Кто повыше ростом – два метра дадут, а которому и полтора хватит.
Немец молчит. А в сорок первом году он нас дразнил.
Но как-то немец откликнулся:
- Рус, вы же не хотели чужой земли завоевывать, а сами к нам зашли?
Наши отвечают:
- Нам вашей земли и сейчас не надо, у вас земля – одни камни, а у нас – чернозём залуженный.
Нам нужно было добить врага ненавистного в его берлоге, чтобы он на нас больше никогда не нападал. Не добили, не довоевали. Мы очень гуманные.
Пошли дальше в наступление, бои очень сильные, враг сопротивляется. В Восточной Пруссии дома многоэтажные, бойницами на восток. Хочешь пулемет ставь, хочешь – пушку. Вот он как готовился к войне. А наши ушами хлопали. Нас всегда обманывают.
Вырыли мы окопы у лесного клина. Недалеко от меня, человека через четыре, был в окопе белорус. Немец только что отступил. И вот поутру выходят из леса четыре немца, бросили оружие, кричат: «Сдаемся!» Никто из нас навстречу к ним не выходит и взводный боится: может, провокация. И вышел им навстречу белорус, наладил на них автомат и всех перестрелял. Один никак не умрет, дёргается, а он его добивает из автомата и кричит: «Ты хотел русской земли, вот и получай свои два метра!»
Когда белорус пришел, взводный спрашивает: «Почему ты их пострелял, надо было в плен брать, они же сдавались?»
Белорус отвечает:
- Мне их пленными не надо. Они издевались над нашим народом на Волге и у Москвы и Ленинграда, нас в крови топили, уничтожали, а мы пришли к ним – их трогать нельзя, они сдаются. Ты – гуманный, хочешь их кормить блинами? А они у меня в моем дому мать заживо сожгли, и отца, и жену, и дочку. И надо мной в плену издевались полтора года. Если бы ты их взял в плен и погнал в штаб, я бы и тебя застрелил.
Взводный отошел, а солдаты, бывшие пленные, ему говорят:
- Смотри начальству не доложи об этом, а то и тебя, как немцев, убьём, жалельщик!
Через две недели взводный погиб. Убили немцы, а солдаты сказали:
- Вот пожалел немцев и дождался от них смерти.
Взводный мало видел войны, он попал на фронт в 1944 году, потому и жалел немцев.
Гитлер дал приказ: всем гражданским из Восточной Пруссии эвакуироваться, оставаться нельзя – русские всех порежут. Чтобы немцы поверили приказу, Гитлер послал в одно село полицаев-власовцев, одетых в красноармейскую форму. Они всех в селе вырезали и после этого пошла пропаганда: «Вот русские чего делают!» Пустил свою жалобу по всему миру – нам об этом говорили сами немцы, - а сам миллионы людей сжёг. Вот чего фашист делал!
Подошли мы к Кенигсбергу. Бой очень сильный. Не хочет отступать немец, жалко ему терять Восточную Пруссию. Народ гибнет, беженцы. Дошли мы до моря Балтийского, 30 километров осталось до Кенигсберга. Заняли оборону. 136-й полк стали перебрасывать с левого фланга на правый, а тут проходил водоток. Один батальон прошел, второй, а третий остановился напротив нас, на поляне сделал привал: солдаты ружья в козлы и закурили группами. Мы вдвоем пошли за водой к водотоку, нам обоим дали по две баклажки, и идем. А двое молодых солдат чуть в стороне стоят и один очень внимательно на меня смотрит и вдруг окликнул: «Дядя Андрей, вы, что ли? Или я ошибся?» Я ответил, он подбежал ко мне и начал целовать. Пять минут поговорили, но тут команда «подъем!», и он на прощанье сказал: «Если останешься живой, расскажи родным, как мы с тобой увиделись». И я ему то же самое наказал. Он побежал, а сам все оглядывается, руками машет. Это был паренек с Гор (горная часть Малой Сердобы), по-уличному – Задоров (?) Петр. У его отца было прозвище Дедок.
Ему (противнику) отрезал пути к отступлению Рокоссовский, а море занял наш флот. Он был окружён, но Гитлер приказал держаться, надеялся дать помощь. Наши самолеты над немцами разбрасывали листовки, предлагали сдаться. Бесполезно. Тогда наши открыли ураганный огонь со всех сторон и флот открыл артиллерийский огонь. У нас очень много было артиллерии всякого рода. Побили его (противника) очень много. Потом начались уличные бои. Кёнигсберг очень трудно было взять, это город-крепость. Мы заняли одну улицу, а в другую прошли – меня ранило в ухо и голову. Но осколок только кожу срезал, а в голову не прошел. Каска отлетела на метр. Чудеса! Доктора удивлялись: «Какой был удар, а в голову (осколок) не пошел. Ты, Шайкин, счастливый!» Я им отвечаю: «Меня Бог бережет». Они согласились: «Наверное, так оно и есть».
В 48 (8-й?) дивизии нас было трое земляков. С одним я виделся – с Петром, а Журлов Петр Михайлович служил в 135-м полку. Но до Кенигсберга он не дошел – ранило в ногу. После он мне рассказывал, что пролежал в госпитале три недели, а когда пришел в свой полк, товарищи сказали, что немцев прижали к морю, и там они сдались в плен, несколько тысяч.
Немного постояли у Кенигсберга и пришел приказ: 8-ю гвардейскую дивизию как одну из лучших, отличившихся в боях, направить брать Берлин. Погрузили нас в вагоны и на Берлин помогать Жукову и Коневу. До ехали до Вислы. Река большая, мост ненадежный, поэтому вагоны переправляли на тот берег порожними, а мы прошли по мосту пешком. Поехали дальше, но недолго: немцы разрушили железную дорогу, и мы шли пешими до Одера. Проходили лесом, который был весь искарлючен (искалечен, переломан). Здесь шли тяжелые бои. Заняли оборону на Одере. Тут нашу армию поделили: 4 дивизии отдали Коневу, 4 – Жукову. Конев брал Берлин с юга, Рокоссовский с севера, а Жуков в лоб, посередине. Фланги его поддерживали. Начала наша 47-я дивизия (правильно: 47-я армия) оборону строить, не доходя до Одера. Лежим в окопах, в обороне, а разведчик кричит:
- Ребята, я вам сообщаю новость: Гитлер венчается.
Все засмеялись, а один красноармеец ввязался в разговор:
- А почему он вздумал венчаться? Мы скоро Берлин возьмем, а он венчается.
Разведчик отвечает:
- Потребовала мадам его Ева Браун, чтобы на тот свет идти законными супругами, а то они так, невенчанными трепались.
Красноармеец говорит:
- Это что же, наверное, думают сесть на том свете одесную Христа (по правую руку Христа). 70 миллионов побил, сжег живьем, старых, малых и пленных – всех подряд, и после этого хочет попасть в рай?
Через Одер-реку мы перебрались с большим боем. Много погибло в реке народу. Прошли от Одера километров 20, заняли оборону поближе к Берлину. Опять разведчик кричит:
- Ребята, есть новость: Гитлер смотался.
Мы спрашиваем: куда?
- В Агаринтину (Аргентину) на подводной лодке.
Вот такой был разговор. В Аргентине процветал фашизм, а в Германии оставались двойники Гитлера. Но допряма про это не знаю.
Началась подготовка к наступлению на Берлин. Нам говорили, что под Берлином собрано 4 миллиона наших войск. Но его не так просто было взять.
Началась артподготовка. Наверное, били по городу целые сутки, прожекторами ослепили весь Берлин. И вот пошла в атаку пехота с танками. Пошли уличные бои. Немцы сильно сопротивлялись, до последней крови дрались. Приходилось брать в плен даже 15-16-летних ребят и стариков 60-70-ти годов. Их мобилизовал Гитлер на защиту своей родины. Во время уличных боев никакого страха не чувствовали, сердца закаменели. Смерти не боялись, только тяжелого ранения, страшно – калекой станешь. К врагу только ненависть за его издевательство над нашим народом, только и стремишься его уничтожить. Не мы пошли на него, а он на нас пошел, хотел поработить. Мы ему отомстили, но мало, Америка не дала, а надо было всю Германию пройти. Мы всегда недовоёвываем. Надо бы так отомстить, чтобы он на нас никогда больше не ходил.
Мы прошли за Берлин 110 километров и тут война прекратилась. 28 апреля немцы требовали перемирия, а Жуков сказал: «Сдай оружие, капитулируй!» И вот они капитулировали, мы взяли их в плен. Наши солдаты проводили немцев на работу в Россию. Войне конец. Проходит немного времени – 47-ю дивизию (армию) снимают с позиций и направляют в Чехословакию – там немецкая группировка никак не сдается, никак наши Прагу не возьмут. Но через день поступил приказ: отставить, группировка сдалась. Мы говорили: «Слава Богу! Остались живы!»
В большом военном городке, километрах в 6-ти от Берлина, мы находились до самой отправки домой 1 августа 1945 года. Мы занимались тем, что разбирали станки на заводах и отправляли в Россию. Я работал на стекольном, хрустальном заводе. Немцы были грузчиками. И это правильно: они у нас все разорили, все взорвали.
Как с товарищем вздумали походить по Берлину, посмотреть, как мы его изуродовали при наступлении. Тогда смотреть было некогда, следили за немцем, как бы его уничтожить. На одной из улиц видим разбросанные письма, карточки и картинки (открытки?). Нашим солдатам поздравления с праздником. Я одну поднял: Гитлера протащили (изобразили юмористически) корреспонденты. Товарищ, Михаил Васильевич из Москвы, постарше меня на год, собрал штук пять и сказал: «Понесем в роту, пусть товарищи посмеются». А на карточке был нарисован памятник Наполеону (могильный бюст?) на острове Святой Елены, а перед ним Гитлер на корточках. И говорит:
- Наполеон, я иду на Москву.
А тот отвечает:
- Я уже был, не ходи, лучше ложись со мной.
Принесли мы карточки в роту, некоторые красноармейцы смеялись, а другие ругали и Наполеона, и Гитлера:
- Вояки! Хотели Россию поработить навсегда, но не пришлось. Русский народ их самих на колени поставил.
Через немного времени мне пришлось беседовать с немцем-стариком, ученым, коммунистом, ему годов 55. Немец при Гитлере был в подполье. Старик нам рассказывал: «Когда на вас Гитлер собрался напасть, он собрал всех генералов, адмиралов и крепко (убежденно) сказал: «Я Россию возьму за месяц или полтора. Русских только сейчас и можно взять, у них очень мало оружия, а народ недоволен колхозами и воевать против Германии не будет».
Но вот по этому вопросу Гитлер ошибся. Если я на Сталина обиделся за то, что он нас загонял в колхоз принудительно, что же, я должен Родину сдать, идти в рабы и всё поколение отдать в порабощение? Сегодня Сталин, завтра Х-ярин, нынче Горбачев, завтра Лихачев, но Родину сдать и быть рабом – это невозможно, лучше помереть.
(Дальше немецкий коммунист рассказывал):
- Один генерал сказал, что война с Россией будет длительной. Но Гитлер его выгнал: «Вы политику не знаете. Вильгельм пошел на Россию в 1914 году, (имея в союзниках) только Турцию и Австрию. А я забрал в свои руки 16 держав, и все они будут воевать на нашей стороне и готовить для Германии оружие и продовольствие.
Вот как он готовился, а Сталин глядел на подпись договора о ненападении и успокоился. У него Берия работал, враг народа. Он всех пересажал: высшее начальство и ученых, конструкторов.
Старик-немец рассказал, что партия нацистская зарождалась в секретной обстановке. В Германию приехали три американских миллионера, к ним подключились тоже три миллионера (немецких?), потом к ним примкнули английские и французские миллионеры. Американские миллионеры говорят: «Найдите нам такого человека, который бы разбил Россию и коммунизм за месяц или за два, а мы деньгами его обеспечим, сколько понадобится. Только вооружайтесь». Немцы американцам сказали: «Есть у нас такой человек – Гитлер». Вот он и готовился к войне на их деньги. Вот кто войну затеял и побил несколько миллионов. Если немецкий старик соврал, то и я вру. Но это наверное правильно: Гитлер подготовился очень сильно.
3 мая у меня разболелось сердце. Я не знал, куда деваться от тоски, глядеть ни на кого не хочу. Даже попросил ротного назначить меня в караул. Товарищ спрашивает:
- Ты почему такой невеселый? Все радуются, а ты печальный.
- Тоска на меня напала ужасная.
- Наверно, тебя убьют.
Каждый день убивали (хотя война и закончилась).
И вот пришло время возвращаться из Берлина на родину. Командир полка дал распоряжение: «1900-й год и старше поедут на лошадях. Найдите парные брички, чтобы в запасе было колесо, чтобы имелись отбой (для отбивая кос), коса, молоток, щипцы и брезент. На бричку даю по две лошади. Поход будет дальний – 1200 километров».
Мы выехали 10 августа 1945 года. Мне и еще двоим товарищам на трех бричках пришлось везти артиллеристов. Проехали немецкую землю, оказались в Польше. Тут у нас бендеровцы одну роту отравили. Солдаты попили из колодца и отравились. Некоторых отходили, лечили сывороткой, а многие поумирали. Командование отдало приказ у всех колодцев поставить часовых. На один полк не из нашей, соседней дивизии ночью напали бендеровцы. В бой вступила вся бригада – три полка, и банду бендеровцев разбили.
Нашу часть разместили на краю леса около Слуцка, у границы. Построили казармы, вырыли землянки. Пока мы этим занимались, нам приказали сдать лошадей в колхоз. И вот на выгоне я жду председателя, чтобы сдать ему лошадей и брички. Лошади ходили по лугу, а я пошел посмотреть местность. Смотрю, стоят столбы горелые вдоль водотока, пониже – землянка. Замечаю, что тут, видно, село стояло. Из землянки выходит дедушка, отвечает мне:
- Да, было небольшое сёлышко, 35 домов.
- Кто же его сжёг?
- Немцы проклятые.
- По какой причине?
- Сказали, что мы связаны с партизанами. Загнали всех людей в один коровник, облили горючим и сожгли. Все сожгли – и малых и старых.
- А ты как же остался жив?
- Я в это время в лес ходил срезать черенки для грабель.
- И как же ты теперь живёшь?
- Как живу… Вот выйду из землянки, погляжу на село, наплачусь и опять в землянку. У меня сгорели жена, сноха, к нее двое детей и девчонка от сына была, мать ее умерла, – все сгорели. Похолодает – уеду к дочери, она в 25 километрах живет. А сына убили на войне.
Даже слушать невозможно, как немец издевался над народом.
В кадровой службе оставили молодых, старых демобилизовали. Обмундирование дали всем новое и гостинцы домой: 10 килограммов сахару, 10 килограммов муки высшего сорта, 10 метров материала (ткани) и сухой паек на дорогу: консервы, сухари, хлеб. Подогнали вагоны, хорошо оборудованные нарами, обрядили поезд сосновым ветками, разноцветными лентами, был митинг, выступил командир дивизии. Играл оркестр, под музыку мы поехали домой. Поезд шел от Бреста до Владивостока.
Проезжали мы Воронежскую область, на станции организовали обед в столовой. А к поезду идут и идут люди – голодные, чуть живые, старики, старухи, ребятишки. Волосы поднимаются от ужаса, очень жалко их. Все просят хлеба, что-нибудь поесть: «Дорогие наши солдаты…» Ребятишки называют нас «дяденьками-солдатами». Никогда я не видел такого ужаса. Все стали им раздавать, что у кого есть. У меня было килограммов 8 сухарей, три буханки хлеба, консервы – всё отдал, ничего не жалко. Нас-то кормили в столовых на станциях. Нас покормят, а дети в столовой куски собирают. Супу побольше нальешь, каши наложишь, всё им раздашь. Дети и встречали нас у столовой. Все это я видел на Украине, где был голод от неурожая, засухи.
Приехали Лиски, слезли с поезда донцы, кубанцы, кавказцы. С Лисков на Пензу. 10 сентября 1945 года я сошел на станции Колышлей, тут встретил еще одного красноармейца. Он оказался артиллеристом, призывался из совхоза «Пятилетка». Он пошел к родным, которые жили в Колышлее, а я остался на станции ждать какую-нибудь подводу до Малой Сердобы. Положил свои мешки. Подходят 5 молодых ребят, земляков. Им ехать в Пензу на комиссию. Они меня сразу узнали, а я узнал только одного, Николая Ивановича Стрельникова. Поздоровались, он говорит: «Хорошо, что вы остались живеньки. Семья тебя очень ждет. Одно плохо, дядя Андрей: твоя жена Ганя умерла». Я чуть устоял на ногах. Потом спросил: «Когда это случилось?» Он ответил: «1 мая, а 3 мая были похороны». Тут я и вспомнил, какая тоска на меня напала 3 мая в Берлине. Вот чудеса: 3 тысячи километров до Берлина, а у меня сердце чуяло. В то время, когда стояли в Восточной Пруссии, мои письма до Малой Сердобы доходили, а ко мне – нет. Поэтому я ничего не знал про Ганю.
Я приказал одному старику со старухой посмотреть за моими вещами, а сам пошел по Колышлею искать попутную машину или подводу. У почты стояла лошадь, на фуре сложены посылки, а из почты выходит мой сосед. Иван Иванович Манышев.
- Здорово, Андрей Васильевич! Живенький пришел?»
- Как видишь. Ваня, я уеду с тобой?
- Обязательно.
Я помог ему посылки перетаскать, поехали к станции, положили на фуру мои мешки и отправились в путь. Все переговорили, пока ехали до Марьевки. Тут мне встретился Николай Митров (?), он тут был председателем колхоза. Увидал меня, кинулся целовать: «Поехали ко мне в гости. Я очень рад, что ты остался живой». Вместе с Иваном Манышевым поехали к нему на квартиру. Нас встретила Нюра, жена Николая, начала яичницу жарить, поставила пол-литра водки. Начали выпивать и закусывать в честь моего приезда. Погостили, поблагодарили их, Николай пошел в мастерскую, а мы поехали в Сердобу.
Подъехали к Сердобе, встали на бугре, гляжу я на село и не узнаю. Постройки, как в зимовье. Я бывал в больших городах, везде постройки хорошие, а тут плохие. Поглядел на свое позьмо: до войны было 200 яблонь, а сейчас чистое поле, все погибли в 1941 году, померзли. Иван довез сначала меня до моего дома, потом поехал на почту разгружаться. И вот вижу родительский дом, где я не был 4 года. Первой меня встретила младшая дочь Клавдя, она училась в 8-м классе. Обратались (обнялись), прибежали с работы еще две дочери – Паша и Маруся, плакали, очень было грустно. Они намучались одни без матери. Потом я их стал утешать: «Хватит плакать, этим горю не поможешь, мать не воскресишь, только себя убьём. Давайте крепиться. Буду я вам теперь и за отца, и за мать, никогда вас не оставлю, буду всем помогать». Так оно и было, до самой моей глубокой старости.
В это время старшая моя дочь Таня хлопотала в Пензе, чтобы ей не возвращаться в свою часть, из которой она была отпущена на похороны матери. И охлопотала, ее демобилизовали.
Паша и Маруся ко времени моего возвращения из Германии окончили школу и 1 августа поступили на работу, Маруся в райфо (финансовый отдел райисполкома), Паша в школу секретарем канцелярии.
25 сентября мне принесли денежный налог и налог на мясо, молоко, шерсть. Председателем сельсовета работала Зубанова Агафья Федоровна, партейная. Прихожу в сельсовет, говорю:
- Почему меня обложили налогом? Я только что пришел с войны, не работаю, две дочери месяц как поступили на работу со школьной скамьи.
- Они у тебя работают, поэтому налог заплатишь. А не заплатишь – последнюю корову отберем.
И щерится. Ей, глупой, ничего не докажешь. Пришел я домой и написал жалобу в Пензу. Через десять дней приходит из Пензы извещение, что налогом меня обложили неправильно. Я опять в сельсовет, спрашиваю у Агафьи Федоровны, пришло ли в сельсовет из Пензы указание о снятии с меня налога. Им тоже прислали. И я ей сказал: «Видишь, неправильно ты обложила, в Пензе люди поумнее тебя и сняли налог». Она аж ощетинилась, так бы и съела меня. Но нельзя, я фронтовик. В прошлом она всех раскулачивала, а в войну замучила моих девчат: гонялась за ними, хотела отправить их в ФЗУ (школу фабрично-заводского обучения в Пензе).
Вскоре заведующий райфо Ключников удержал с дочери Маруси 100 рублей. Я пошел к нему узнать, в чем дело. Он говорит:
- Тебя обложил налогом сельсовет, ты не заплатил, вот с Маруси и удержали с зарплаты в уплату налога».
- Это глупый человек обложил налогом, а ты умный.
Он было обрадовался моей похвале, но я показал ему бумагу об отмене налога, а он говорит:
- Ну, пускай на будущий год пойдет вычет из марусиной зарплаты.
- Вы хотите с меня всю шкуру содрать. Я и на тебя напишу жалобу, на умного человека.
Он мне сразу и отдал 100 рублей.
Вот как относилась к фронтовикам местная власть.
Стали у меня просватывать девчат. В 1945 году осенью просватали большуху Таню за Казачкова Ивана Тимофеевича в Синодскую Саполгу. За ней просватали Пашу за Несудимова Александра Сергеевича, он увез ее в Одессу, где служил офицером в армии. Через немного времени Марусю просватал Забелин Алексей Алексеевич и увез ее в Монголию. После войны он там служил в кадровых офицерах. Осталась у меня одна дочь Клавдя.
И вот я перехожу на крестьянскую работу. 4 года воевал, теперь буду работать по хлебопашеству. В 1946 году я работал в колхозе плотником, возил корма, косил сено. Косили в Сидоркиной луке, у речки. Звеньями в десять кос. Ряды были длинные. Как-то сели отдохнуть, мужики закурили. Я не курил сроду. Смотрим, едет конюх правленский Константин Никитич, еще он убирался за жеребятами. Привязал к фуре жеребца, дал ему сена и напрямую к нам, косцам. Подает мне записку от председателя колхоза Гнедина. В ней написано: «Андрею Васильевичу Шайкину. Сейчас же приезжай в правление колхоза, срочно нужен». Положили мы на подводу травы, сели на нее и поехали. Я слез у моей избы, переоделся и пошел в правление колхоза. Поздоровкался с председателем Гнединым. Он мне говорит:
- Шайкин, мы тебя назначили весовщиком на главном току.
- Без меня меня женили. Не буду я работать на току.
- Как хочешь, только тебя назначил не я, а правление колхоза и хлеб с поля уже везут, колод десять ссыпали.
Я отказался и ушел домой. Отец спрашивает:
- Чего тебя вызывали?
- Назначили весовщиком на главный ток, а я отказался.
- Почему отказался? Надо работать, раз назначили. Значит, ты стоишь (достоин) этого. Ведь никого другого не назначили. Значит, иди и работай честно. Ты что, хочешь опять на меня детей оставить? Я с ними мучился 4 года. Тебя посадить могут за отказ.
- За что же меня посадят? Я хлеб еще не принимал.
Через пять минут отец опять бежит:
- Ты еще не ушел? Иди и работай!
Проходит еще пять минут, он опять прибежал:
- Еще не ушел? Иди работай!
И еще несколько раз прибегал: донял! И дочь Клавдя уже говорит:
- Папа, иди принимать хлеб, он ведь тебя доймёт.
Отец не спал всю ночь, всё за меня боялся, что посадят. Так я и пошел работать весовщиком. Гнедину сказал:
- Отец прогнал. Донял: иди, говорит, и работай честно.
Он засмеялся:
- Так тебе и надо.
Дело на току у меня шло хорошо. Особенно много работы было в 1948 году, когда приходилось сушить хлеб. К тому же он был очень сорным. Зерно везли мокрое, как жвачка. Из-за непогоды комбайны косили напрямую (не в рядки), поэтому зерно было сырое. Для сушки мы рассыпали его на току тонким слоем, то и дело переворачивали, осот снимали метлами. Так мы сушили хлеб и сдавали его государству чистым. В других колхозах дело шло плохо, у них не было больших токов, где только и можно было хорошо просушивать зерно. Поэтому при сушке они рассыпали зерно толстым слоем, больше чем в четверть, и оно горело, прело и становилось негодным. Это было, конечно, еще из-за нерадивости заведующих токами: зерно преет, а они посиживают в холодке.
Петраков (первый секретарь райкома партии) задумал провести на нашем току семинар, чтобы всех поучить, как надо обращаться с хлебом. День был хороший, солнечный, хлеба мы рассыпали много, тонким слоем. Часов в 8 утра Петраков заехал на ток, поглядел, ничего не сказал и уехал. Часов в 10 приходит председатель соседнего саполговского колхоза Бочкарев Петр Герасимович. Я в это время ворочал деревянной лопатой зерно.
- Здорово, Шайкин! Сейчас у тебя Петраков соберет районный семинар., велел всем председателя сюда съезжаться.
- Вот и хорошо, - говорю я. – Поучимся друг у друга.
Съехались председатели, заведующие токами, весовщики на наш ток и Петраков с ними. Смотрят, как мы работаем. Знакомый мне весовщик из Старого Славкина Самылкин спрашивает, как мы сумели получить из сорного хлеба такой чистый. Я отвечаю:
- Тут грамоты большой не требуется, ни геометрии, ни математики. Во-первых, нужен большой ток. Почему ты большой ток не сделал, может, земли не хватает? Я могу дать тебе землю в Орешкином углу.
Все участники семинара смеются. Я продолжаю:
- Второй вопрос: почему ты веешь веялками сырой хлеб? Он же не провеется. А мы рассыпаем его по току, осот немного подсохнет и перья у него поднимутся наверх. Тут бабы берут метлы и сметают траву. Снова ворошим и снова снимаем траву. Три раза пройдем, и хлеб станет сухим и чистым. Ворочаем и лопатами, и ногами, разувшись, и ночью, и днем, и я вместе с бабами. Вот оттого хлеб и чистый. Тут подходит ко мне завхоз из Старого Славкино и говорит: «Гляжу я на тебя, Шайкин. Ты все время на току, днем и ночью, а нашего весовщика на току почти и не видно. Сидит в землянке и два помощникам с ним».
Тут Петраков дает команду, приглашает всех к столу собрание проводить, подзывает меня и тихо говорит:
- Ты знаешь, кто с тобой разговаривал?
- Не знаю имени, но он завхоз.
- Он прохиндей. Вырыл у тока землянку, дал весовщику два помощника. Один вино носит, другой караулит, чтобы врасплох не застали, пока они с весовщиком вино пьют. И ты расскажи на собрании, как надо дело вести. Выступать будешь первым, Граблин (председатель райисполкома) – второй, а я буду завершать.
Все уселись на скамьи, мне первому дали слово. Я стал говорить:
- Я беседовал с Самылкиным, вы смеялись, а теперь хочу поговорить с завхозом из Старого Славкино. Почему ты ток большой не сделаешь? Это дело только от тебя зависит. Или тебе некогда? Ты землянку вырыл, залез в нее и не высовываешься, как крот. Сам выпиваешь и Самылкина от работы отрываешь. И два помощника назначил: один бегает за вином, другой караулит. Когда же вам заниматься делами? Когда расчищать ток и заниматься зерном? Вы и не думаете, чтобы поскорее сдать хлеб государству.
Дали слово Граблину:
- Товарищи, мне непонятно, что это за начальство, которое гуляет и руководит из землянки? А хлеб киснет, гниет. Надо такое начальство освобождать от работы. Погодные условия у всех одинаковые, но Шайкин скоро выполнит план сдачи зерна государству, а вы все раскачиваетесь.
Выступил Петраков:
- Вы все видели, как надо работать с хлебом на току. Езжайте домой и, во-первых, расчистите большие тока. Срок – до завтра. Вы видели, как Шайкин работает с хлебом, так должны работать все. Завтра по всем токам проедет комиссия, поедут Шайкин, Граблин, Жуков и я. Если кто не сделает того, что вы здесь увидели, пеняйте на себя и тогда не обижайтесь. А тебя, Самылкин, если завтра найду в землянке, выпорю прутом.
- Нет-нет, я буду снаружи, - ответил Самылкин.
Наутро поехали с проверкой. Начали с Самылкина. А его уже выгнали из завхозов, он даже успел уехать на родину: побоялся – посадят. Весовщиком назначили тоже нового человека, постарше меня на 2 года, строгого. Он уже вовсю гонял работников тока, расчищали большую площадку для сушки зерна. А нам он сказал:
- Назначили дураов, они и гноили хлеб. А завхоз проходимец, ему бы только с бабами возжаться. Если будет вёдро, я за неделю выполню план сдачи хлеба государству.
На других токах тоже большие площадки расчистили, и пошла хлебозаготовка. Семинар помог.
Еще один случай не могу забыть. Года через два после этого семинара выдался очень хороший урожай, ток просто завалили хлебом, мы не успевали его обрабатывать. И вдруг пошел сильный дождь. Хлеб загорелся. Сунешь руку – горячий, как огонь. И сильно засорен осотом и другой разной сорной травой. Своими силами не справляемся. Я пошел в правление колхоза, председателем был Корсаков Василий Алексеевич, полеводом – Слепов Василий Иванович. Оба партейные. Они проводили совещание с трактористами и бригадирами. Докладываю председателю:
- Хлеб загорелся, горяч, как огонь. Что делать будем?
- Ну, что мы можем сделать? Не мы виноваты – погода, каждый день дождь.
- А я предлагаю такой выход из положения, - говорю ему. – У нас на току пустуют 4 риги. Давай колхозников, разделим их на 4 бригады, чтобы они быстро перетаскали зерно каждая в свою ригу и рассыпали валами, а пятая бригада будет лопатить и охлаждать на ветру, веять.
Корсаков мне говорит:
- А если завтра будет вёдро – обратно будем зерно выносить?
Я отвечаю:
- На току грязь по колено, неделю не влезешь.
Он не соглашается. Тогда я говорю:
- Как хочешь. А я отвечать за гибель хлеба не хочу. Пойду к прокурору и скажу: я предложил выход из положения, а председатель не соглашается. Поэтому снимите с меня ответственность за сохранность хлеба, пусть он отвечает.
Слепов как вскочит:
- Таскать! Немедленно! – И председатель тут же согласился.
- Вот и хорошо! – говорю.
Собрали больше 100 колхозников, перетаскали весь хлеб часа за четыре в пустые риги, рассыпали в валы. Стали обрабатывать хлеб, лопатить, охлаждать. По две веялки поставили в каждой риге. Веем и лопатим, веем и лопатим. Дня через два я отлучился домой на обед, а Елена осталась за меня. Прихожу с обеда, она рассказывает:
- Когда вы ушли на обед, заехал секретарь райкома Петраков и спрашивает: «А где хлеб?» Я отвечаю: «Два дня назад перетаскали в риги. И сейчас в ригах работают человек 80». Он не поверил, заглянул в риги, ничего не сказал и быстро уехал».
Потом мне рассказали, что Петраков от нас поехал на Горы в колхоз «Смычка», там председателем был Максим Игонин. Подошел к весовщику и спрашивает: «Хлеб горит?» - «Горит, Василий Романович!» А весовщик там был хороший, хозяйственный. «Что думаешь делать?» - спросил его Петраков. – «Думаю, перетаскать в риги, у нас три риги пустые, а председатель не соглашается, людей не дает. Говорит: «Вдруг завтра вёдро, придется назад вытаскивать». Велел Петраков найти председателя. Тот явился, и секретарь спрашивает: «Почему не таскаешь хлеб в риги?» Тот отвечает: «А вдруг завтра посвежеет погода». Петраков: «Так ведь на ток все равно еще неделю не влезешь. Сходи в Шайкину, своему соседу, у него уже третий день как весь хлеб в ригах, остужён, и он вовсю его веет. Почему он не дожидается команды, а сам принимает решение. Сейчас же организуйте эту работу, вечером приеду – проверю».
Поехал Петраков по всем колхозам района, всех на ноги поднял, всех заставил хлеб в риги перетаскать. А все из-за меня. Наверное, меня ругали многие весовщики за то, что прибавил им хлопот.
В 1960 году мне исполнилось 60 лет. Стал я оформляться на пенсию, доложил об этом председателю колхоза. Тот передал распоряжение председателю комиссии Барановой. Она собрала комиссию – двоих женщин из бухгалтерии и двоих мужчин, один из них Бочкарев Василий Ермолаевич. Баранова мне говорит:
- Андрей Васильевич, наши колхозные архивы мыши съели. Шкаф стоял в амбаре, а в нем был хлеб.
Отвечаю ей:
- Я знаю, что архив съеден мышами, но кто додумался туда поставить архив? Такое может произойти только в колхозе, где никому ни до чего нет дела. – Потом говорю: - Ладно, у меня есть колхозные трудовые книжки, я не сдал их учетчику и сохранил – с 1955 по 1960 годы. На, пожалуйста, бери, в хороших руках ничего не пропадает.
Взяла она книжки, полистала и говорит:
- В книжках отмечены только трудодни.
- Так переведи трудодни на деньги.
- Нельзя, - говорит.
Обманули меня и начислили пенсии всего 12 рублей. Тогда всем одинаково начисляли: и кто хорошо работал, и кто плохо. Круговая порука. С 1930 года никому не платили деньгами, запишут трудодни, выдадут на один трудодень 200 граммов плохого хлеба – как хочешь, так и кормись. Спасало собственное позьмо. Сеяли картошку, просо, рожь. У меня позьма было 45 соток, как и у всех. Держали корову – молоко очень выручало. Вот мы и остались живы. Я проработал в колхозе 45 годов, никуда из него не уходил. Хотя приглашали завхозом в больницу, даже предлагали охлопотать меня через райком. Но я отказался. И в сельпо приглашали завхозом, но я и туда не пошел. И вот за свою преданность колхозу я получил 12 рублей пенсии. Такую пенсию я получал 9 годов. Потом пенсию стали давать 18 рублей – ее получал 8 годов. 28 рублей я получал 6 годов. Мы колхозники, а колхозникам не хотели платить хороших пенсий. Такая была система.
Но в 1983 году секретарем ЦК КПСС стал Андропов. Вот он и обратил внимание на забытых государством людей и дал указ: кто участвовал в революции и гражданской войне должны получать персональную пенсию и льготы – 50 процентов за дрова и уголь и каждый год можно ездить на курорт. А кто не поедет на курорт, компенсировать выдачей на руки 100 рублей. Тогда мне назначила районная комиссия пенсию 55 рублей. В это председателем райисполкома был Стёпин. Дали 55 рублей и другому участнику гражданской войны Кривоножкину Петру Степановичу. Нас в районе осталось 6 участников гражданской войны: Зуйкову начислили 80 рублей, Стрельникову – 82, Коновалову – 85. Мельников, пока ему оформляли пенсию, умер. Но они были служащими, поэтому получали пенсию больше, чем мы, колхозники. Еще был Бурлаков из Марьевки. К этому дню они все померли, из участников гражданской войны в районе остался я один. И добром вспоминаю Андропова. Он говорил: «Давно надо было прибавить пенсии участникам революции и гражданской войны. Они отстояли Советскую власть, выгнали врага и защитили молодую Советскую власть народа. Но мы забываем от них, а их осталось очень мало».
Андропов был очень хороший, дисциплинистый, дальновидный, понимал людей. Но работать ему пришлось недолго... Большое ему спасибо от ветеранов гражданской войны и от меня лично, Шайкина Андрея Васильевича.
Меня с Андреем последними секли и прекратили (применять этот вид наказания), потому что наши немцев погнали. Первое время когда мимо нашего лагеря везли немцев на фронт, они первое время кричали нам: «Даёшь Москау, рус капут, в Америку за золотом!» Вот у них какие были замашки: хотели покорить и закабалить весь мир. Если бы Россия их не остановила, они бы это сделали. А перед войной Америка, Англия и Франция немцев натравливали на нас. Потом видят, дело плохо, и к русскому Ивану поближе.
Пришло время, стали нас эвакуировать на запад. Нашим охранникам машинисты паровозов кричали, что немцев погнали по всему фронту. И в это время разболелся у меня большой палец у правой руки, гной пошел до кости. Я пошел в санитарный барак к нашим докторам (военнопленным). Один, украинец из Кировограда, наложил на палец гипс. Сказал, что перелом, и пальцу нужен покой. И правда, через неделю боль стала утихать. И вот команда: «Кто больной - садись на машины!» Я и еще немногие вышли – больные из санитарного барака. И Андрей Бочкарев вышел как якобы больной, с температурой. Борис, переводчик, сказал немецкому врачу: «Кранк» (больной). Больных повезли на машинах, здоровые пошли пешком в Кировоград, в очень большой лагерь. В нем было 250 тысяч наших пленных. Нам санитары сказали, что здесь немцы заморили голодом 220 тысяч. Тут нас с Бочкаревым разделили по разным группам: я остался с больными, а он попал к здоровым. Здесь нас едва не освободили наши. Переправились через Днепр танки, но до Кировограда немного не дошли – остановили немцы. Пленных опять стали эвакуировать на запад: больные на поезде, здоровые пешком. Из вагонов никуда не выпускали, вагоны запирались, оправлялись в параши. Привезли нас в город Славута на польской границе. Лагерь в Славуте тоже очень большой, жили мы в двухэтажных кирпичных зданиях, видно, военных казармах. Высокая колючая проволока и вышки, как в Кременчуге. Среди охранников полицаи разных наций, злые, как собаки, бьют по страшному. Большинство мадьяры и поляки. Нам сказали пленные, что здесь нашего брата заморили 360 тысяч. Молотов назвал этот лагерь лагерем смерти.
А наши войска с каждым днем все ближе. Опять эвакуация. На этот раз в Польшу, в город Холм (правильно: Хелм). Лагерь не очень велик, но говорили, что здесь погибло 72 тысячи пленных. Большинство конвоиров немцы, немного поляков и украинцев. Эти тоже издевались зверски. У них была построена беседка, вся стеклянная, около колючей проволоки. И вот немцы вздумают погулять, пображничать и, напившись, начинают озоровать над пленными. В беседке они выпивают, блядуют, а надумают пролить русскую кровь – ведут пленного, выпускают из беседки трех овчарок и натравливают на него. Изорвут в клочья, до смерти, ведут другого пленного. И так до пяти человек. Остальные пленные трясутся: а ну как меня вызовут! А немцы смеются, зубы щерят, как черти. Они и похожи на чертей. Потому мы называли Гитлера сатаной, а немцев чертями.
Чего они творили – ужас! Как издевались – невозможно описать. И вот за это мы (Советский Союз после войны) даем им 30 годов дешевую нефть и газ: «Подкрепляйтесь!» А ведь они опять нас, наших правнуков, будут лупить, издеваться над ними. Они на нас четырежды приходили: два раза на королей (великих князей?), на царя Николая в 1914 году и на Советский Союз. Но Россия их всегда била. Они у нас села с живыми людьми жгли. Я их проходил, видел своими глазами. Издевались ужасно!
И вот наши снова подошли поближе, и пленных снова эвакуировали на запад. Оказались мы в городе Люблине, в самом кровавом лагере, его весь мир знает – Майданек. Тут был крематорий, стояло несколько больших котлов-печей. Построят пленных вдоль стены и тянут к котлах электричеством. В котлах растопляют и что от них останется – отправляют на заводы делать мыло. Вот чего творили немцы! Но нас Бог сберёг. Двое суток нас не сгружали с поезда. Наши прорвали фронт левее Люблина, поэтому нас повезли дальше на границу с Восточной Пруссией, около Литвы, где тоже погибли миллионы пленных. Привезли в лагерь. Как он назывался – не помню. Его строили наши отцы и деды в 1915 году. Недалеко стоял памятник, где немецкого генерала убили. В его честь (каждый пролетавший) немецкий самолет трижды облетал памятник и посадку делал. И так каждый раз. Из этого лагеря нас перегнали недалеко в лагерь Губбинин (Гумбиннен Калининградской области?). Мы здесь работали, часть у бавара (Bauer, нем., – «крестьянин») хлеб на полях убирала, часть рыла противотанковые рвы. А нас, четверых плотников, водили в городишко – расстояние 8 километров – ремонтировать веялки, сортировки и разные другие машины. Из местных в мастерских работали малыши и старики, чехи, австрийцы, были и вывезенные из оккупированных территорий.
И вот ведет нас конвоир, немец, по городу. На углу стоят власовцы, справные, кудрявые, с чубами. Нам говорят: «Переходите во власовскую армию-освободительницу. Мы очень хорошо живем и в новой России будем жить хорошо». А Власов до 1944 года русских не брал в свою армию, говорил: «Они все коммунисты». Принимал казаков, грузин, армян и разные другие нации вроде как «оккупированных» русскими.
Наши опять наступают, и пленных перегоняют километров за 20 в лагерь Елава (Елгава, Латвия). Когда мы шли туда, со мной случился сердечный приступ. Упал и дальше ничего не помню. Потом товарищи рассказали. Подскочили ко мне трое конвоиров, один ударил меня пинком. У них порядок такой: кто упал – добивают. Но за меня заступился наш доктор из Кировограда Иван Федорович. Он сказал конвоирам по-немецки, что у меня сердечный приступ, убивать не надо. Иван Федорович попросил троих товарищей, что посильнее, дотащить меня до остановки. 3 километра они меня несли, а доктор все время шел сзади. Вот и рассуждай, как так получилось? Я упал, а рядом оказался доктор. Всех убивали, а меня не убили. Никогда этот доктор со мной рядом не ходил, а в этот миг оказался со мной. Я все думаю, что меня Бог берёг. Доктор дал мне лекарство, и поутру мне полегчало, я уже сам пошел.
В Елаве (Елгава) на горе находился большой лагерь. Конвойные – палачи: власовцы, полицаи, хуже немцев. Били насмерть. Но недалеко от нашего лагеря, километрах в 30-ти, бои шли ужасные, немец крепко стоял. У него тут был подземный завод, выпускал автомашины, снаряды. Построили этот завод после Первой мировой войны. В то время немцам запрещали строить военные заводы Англия и Франция. Поэтому они строили потаясь (тайно), при помощи пленных, которых задержали незаконно после войны, их было тысяч 200, в том числе и русские. А когда завод построили, всех пленных расстреляли, чтобы никто не знал про этот завод. Наших отцов и дедов побил. Вот какой немец! Он такой, с ним всегда нужна осторожность. Если придется воевать, его нужно уничтожить навсегда. А то воюем, а не добиваем.
Новая эвакуация. 35 тысяч пленных угнали и всех в Балтийском море потопили. Уничтожили, чтобы они не воевали против Германии. Об этом нам рассказали старики-немцы, которые против фашизма. Но мне посчастливилось выжить и на этот раз: за неделю до отправки сверху левой ступни образовался нарыв от простуды, меня и положили в лазарет. Больными, которые могут выздороветь, были заполнены два барака. В остальных лежали кровопоносники (больные холерой?), тифозные, туберкулезные, на выздоровление надежды у них не было. А в нашем бараке скрывалось много здоровых, между нами на нарах лежали и санитары. Наш доктор нас научал, как себя вести: «Когда мы зайдем с немецким доктором – все кашляйте. Я ему буду говорить, что тут все туберкулезники, безнадежные, все помрут». И вот как он заходит с немецким врачом, мы все кашляем, немецкий доктор тут же убегал. Благодаря нашим докторам, мы и остались живы, а то бы все пошли на дно в Балтийском море.
Наши войска приблизились, и конвой нас бросил: все разбежались. 3 дня жили мы без конвоя и без еды. Но доктора говорили: «За лагерь не выходите, кругом немецкие войска и власовцы – всех побьют. Терпите». И мы лежали голодные, чуть живые. И вот зашла в лагерь наша разведка. Командовал ею наш майор. Мы выползли из барака и он говорит: «Кто может и как может, товарищи, пробирайтесь километра три до леса. Сюда мы подогнать машины не можем, немец в километре отсюда закрепился, а лагерь на горе. Увидит машины – разобьет сразу».
И стали мы пробираться с горы кто как может. Кто ползком, кто хромой, все голодные, мохрястые (в лохмотьях), заморенные – невозможно на нас глядеть. Ко мне товарищ хромой прилепился, я ему помогаю, один на полозьях двигается – обоих ног нет: тоже хочет жить. Дошли до ворот, а возле майора-разведчика полицай, хотел проскользнуть вместе с больными. Майор его допрашивает, а он: «Я пленных жалел». А пленные говорят: «Он нас не жалел, он кровавый палач». Тогда майор вынул наган, наставил в лоб полицаю и застрелил палача. И сказал: «Гад! Ещё оправдывается, изменник!»
Добрались до леса, тут наши красноармейцы, дают пленным хлеба, сала, колбасу. Трофеев много у немцев забрали. И наших пленных от этого угощения очень много умерло: были заморенные и лишнего поели. В лесу нас стали собирать и сажать на машины. Проехали в тыл километров двадцать, поместили нас в большие сараи. На пол настелили соломы, дали продуктов – мяса, консервов, хлеба, пшена. Сказали, чтобы поменьше ели, а то после плохо будет, мы очень заморены. Приехала контрразведка, особый отдел, для проверки пленных. Расположились около сарая, поставили столы и стали по списку вызывать. Я пропишу про себя. Так и всех допрашивали.
- Шайкин Андрей Васильевич. Какой области?
- Пензенской.
- Когда мобилизован?
- 29 августа 1941 года.
- На каком фронте воевал?
- На Среднем (Юго-Западном), командующий Тимошенко.
- Какого полка?
- 167-го.
- Где и когда попал в плен?
- Около Харькова и Ахтырки, у села Кутильва. В начале 1942 года, когда отступали от Киева.
- Ну, все понятно. А как к вам относились доктора (лагерные)?
- Как братья родные.
И рассказал, как меня доктор спас, когда у меня случился сердечный приступ.
- И другие доктора были очень уважительными к пленным.
- А как к вам относился переводчик Борис?
И я рассказал, что когда мы с Бочкаревым Андреем бежали из плена и нас поймали и посадили в карцер, Борис нас спасал, носил еду, и мы его никогда не должны забывать.
- Понятно. А вот ты не замечал среди вас власовцев и полицаев?
- Я попал в этот лагерь недавно, только 10 дней в нем провел, поэтому ничего не знаю.
Дали мне обувь, я пошел к товарищу, который как раз собрался варить суп.
- Шайкин, сходи за водой.
Сам он был хромой, поэтому не мог идти самостоятельно. Я пошел к водотоку, родничку, зачерпнул и вышел на равнину. Гляжу, 22 человека, под видом пленных, в мохрястых шинелях, в окружении наших автоматчиков. Это были власовцы и полицаи. И я сказал власовцам: «Теперь вот вы сравняйтесь с нами». А конвоир спрашивает: «Что означают твои слова?» И я ему рассказал вкратце, как нас, четырех плотников, вели под конвоем в городишко на работу, а власовцы, хорошо одетые, с чубами, сытыми мордами, стояли на углу и вербовали нас в свою «армию-освободительницу».
- И я вам советую, - сказал я конвоирам, - всех их расстреляйте. Они над нами издевались, как и немцы.
Пришел к товарищу, сварили суп, покушали. Подъехали за нами машины студебеккеры американские и повезли. Километров через 15 остановились. Тут четыре легковые автомашины. Вышел генерал (фамилию забыл): «Здравствуйте, товарищи!» Мы ответили как положено. Он говорит: «Счастливые вы, что остались живы. Но повоюете еще с ним, отомстите врагу за свои муки». Оказывается, нас везли в полк выздоравливающих в его 48-ю Краснознамённую гвардейскую дивизию.
(Здесь и далее Шайкин ошибается в наименованиях дивизии и армии, в составе которых участвовал в боях. 48-я гв. с.д. в конце войны действовала в направлении на Будапешт и Вену. Скорее всего, Шайкин воевал в составе 8-й гвардейской дивизии 47-й армии).
Привезли нас на место и стали лечить и кормить замечательно. Мы как вырвались из ада фашистского, очень быстро стали поправляться. Нас обмундировали очень хорошо и вновь дали присягу как положено по закону. Вел присягу майор. Он говорил: «Вам рассказывать про фашиста нечего, вы его узнали хорошо, пострадали от него и помучились. Теперь задача – добить фашиста». Мы сказали: «Добьём и отомстим фашисту за его издевательства».
Стали нас, бывших пленных 520 человек, отправлять на машинах на пополнение 48 (8-й?) дивизии. Она стояла километрах в 20-ти от передовой, в лесу уже дней десять. Слезаем с машин. Выходит из землянки красноармеец:
- Есть кто пензенский?
Я откликнулся.
- Какого района?
- Малосердобинского.
- А я Лопатинского, села Гаревка (Огарёвка?), Гурьев Иван Михайлович.
- А я из Малой Сердобы, Шайкин Андрей Васильевич.
- Пойдем к нам в землянку, взводному скажем – земляки сошлись, он учтет, к нам еще будет добавлять красноармейцев.
Так мне пришлось повидаться с земляком. Я был очень рад. Всё им рассказал, как над нами издевался немец и как много людей от него погибло.
Отдохнули 20 дней и пошли на передовую ночью. Мы – в окопы, другая дивизия – из окопов. Теперь она пойдет отдыхать и пополняться. В это время я очень часто бредил, будто нахожусь в плену. Проснусь – слава Богу, я среди своих и опять на войне и вновь буду сражаться с ненавистным врагом в Восточной Пруссии. Наша задача – отомстить врагу ненавистному за себя и за товарищей, которые погибли в плену, и за мирных жителей, которых он погубил, сжёг. Я воевал в 1941, 1942 годах и в 1944-м – разница большая. В сорок первом у нас было совсем мало оружия. Ни танков, ни самолетов, ни орудий, ни снарядов, ни автоматов – ничего не было. А сейчас – бей (стреляй), не жалей (патронов), даже помирать радостно. Идет в атаку или ползем к его (немецким) окопам, а уже его окопы разбиты танками вдребезги. А наши танки все идут и идут. В начале войны ничего этого не было. И откуда что взялось! И идем мы по Восточной Пруссии!
Лежим как-то в окопах, один красноармеец кричит:
- Фриц, сколько тебе Гитлер пообещал русской земли?
Мы знали, что Гитлер пообещал каждому своему солдату участок русской земли, а мы должны были на него работать. Другой наш солдат кричит в ответ:
- Кто повыше ростом – два метра дадут, а которому и полтора хватит.
Немец молчит. А в сорок первом году он нас дразнил.
Но как-то немец откликнулся:
- Рус, вы же не хотели чужой земли завоевывать, а сами к нам зашли?
Наши отвечают:
- Нам вашей земли и сейчас не надо, у вас земля – одни камни, а у нас – чернозём залуженный.
Нам нужно было добить врага ненавистного в его берлоге, чтобы он на нас больше никогда не нападал. Не добили, не довоевали. Мы очень гуманные.
Пошли дальше в наступление, бои очень сильные, враг сопротивляется. В Восточной Пруссии дома многоэтажные, бойницами на восток. Хочешь пулемет ставь, хочешь – пушку. Вот он как готовился к войне. А наши ушами хлопали. Нас всегда обманывают.
Вырыли мы окопы у лесного клина. Недалеко от меня, человека через четыре, был в окопе белорус. Немец только что отступил. И вот поутру выходят из леса четыре немца, бросили оружие, кричат: «Сдаемся!» Никто из нас навстречу к ним не выходит и взводный боится: может, провокация. И вышел им навстречу белорус, наладил на них автомат и всех перестрелял. Один никак не умрет, дёргается, а он его добивает из автомата и кричит: «Ты хотел русской земли, вот и получай свои два метра!»
Когда белорус пришел, взводный спрашивает: «Почему ты их пострелял, надо было в плен брать, они же сдавались?»
Белорус отвечает:
- Мне их пленными не надо. Они издевались над нашим народом на Волге и у Москвы и Ленинграда, нас в крови топили, уничтожали, а мы пришли к ним – их трогать нельзя, они сдаются. Ты – гуманный, хочешь их кормить блинами? А они у меня в моем дому мать заживо сожгли, и отца, и жену, и дочку. И надо мной в плену издевались полтора года. Если бы ты их взял в плен и погнал в штаб, я бы и тебя застрелил.
Взводный отошел, а солдаты, бывшие пленные, ему говорят:
- Смотри начальству не доложи об этом, а то и тебя, как немцев, убьём, жалельщик!
Через две недели взводный погиб. Убили немцы, а солдаты сказали:
- Вот пожалел немцев и дождался от них смерти.
Взводный мало видел войны, он попал на фронт в 1944 году, потому и жалел немцев.
Гитлер дал приказ: всем гражданским из Восточной Пруссии эвакуироваться, оставаться нельзя – русские всех порежут. Чтобы немцы поверили приказу, Гитлер послал в одно село полицаев-власовцев, одетых в красноармейскую форму. Они всех в селе вырезали и после этого пошла пропаганда: «Вот русские чего делают!» Пустил свою жалобу по всему миру – нам об этом говорили сами немцы, - а сам миллионы людей сжёг. Вот чего фашист делал!
Подошли мы к Кенигсбергу. Бой очень сильный. Не хочет отступать немец, жалко ему терять Восточную Пруссию. Народ гибнет, беженцы. Дошли мы до моря Балтийского, 30 километров осталось до Кенигсберга. Заняли оборону. 136-й полк стали перебрасывать с левого фланга на правый, а тут проходил водоток. Один батальон прошел, второй, а третий остановился напротив нас, на поляне сделал привал: солдаты ружья в козлы и закурили группами. Мы вдвоем пошли за водой к водотоку, нам обоим дали по две баклажки, и идем. А двое молодых солдат чуть в стороне стоят и один очень внимательно на меня смотрит и вдруг окликнул: «Дядя Андрей, вы, что ли? Или я ошибся?» Я ответил, он подбежал ко мне и начал целовать. Пять минут поговорили, но тут команда «подъем!», и он на прощанье сказал: «Если останешься живой, расскажи родным, как мы с тобой увиделись». И я ему то же самое наказал. Он побежал, а сам все оглядывается, руками машет. Это был паренек с Гор (горная часть Малой Сердобы), по-уличному – Задоров (?) Петр. У его отца было прозвище Дедок.
Ему (противнику) отрезал пути к отступлению Рокоссовский, а море занял наш флот. Он был окружён, но Гитлер приказал держаться, надеялся дать помощь. Наши самолеты над немцами разбрасывали листовки, предлагали сдаться. Бесполезно. Тогда наши открыли ураганный огонь со всех сторон и флот открыл артиллерийский огонь. У нас очень много было артиллерии всякого рода. Побили его (противника) очень много. Потом начались уличные бои. Кёнигсберг очень трудно было взять, это город-крепость. Мы заняли одну улицу, а в другую прошли – меня ранило в ухо и голову. Но осколок только кожу срезал, а в голову не прошел. Каска отлетела на метр. Чудеса! Доктора удивлялись: «Какой был удар, а в голову (осколок) не пошел. Ты, Шайкин, счастливый!» Я им отвечаю: «Меня Бог бережет». Они согласились: «Наверное, так оно и есть».
В 48 (8-й?) дивизии нас было трое земляков. С одним я виделся – с Петром, а Журлов Петр Михайлович служил в 135-м полку. Но до Кенигсберга он не дошел – ранило в ногу. После он мне рассказывал, что пролежал в госпитале три недели, а когда пришел в свой полк, товарищи сказали, что немцев прижали к морю, и там они сдались в плен, несколько тысяч.
Немного постояли у Кенигсберга и пришел приказ: 8-ю гвардейскую дивизию как одну из лучших, отличившихся в боях, направить брать Берлин. Погрузили нас в вагоны и на Берлин помогать Жукову и Коневу. До ехали до Вислы. Река большая, мост ненадежный, поэтому вагоны переправляли на тот берег порожними, а мы прошли по мосту пешком. Поехали дальше, но недолго: немцы разрушили железную дорогу, и мы шли пешими до Одера. Проходили лесом, который был весь искарлючен (искалечен, переломан). Здесь шли тяжелые бои. Заняли оборону на Одере. Тут нашу армию поделили: 4 дивизии отдали Коневу, 4 – Жукову. Конев брал Берлин с юга, Рокоссовский с севера, а Жуков в лоб, посередине. Фланги его поддерживали. Начала наша 47-я дивизия (правильно: 47-я армия) оборону строить, не доходя до Одера. Лежим в окопах, в обороне, а разведчик кричит:
- Ребята, я вам сообщаю новость: Гитлер венчается.
Все засмеялись, а один красноармеец ввязался в разговор:
- А почему он вздумал венчаться? Мы скоро Берлин возьмем, а он венчается.
Разведчик отвечает:
- Потребовала мадам его Ева Браун, чтобы на тот свет идти законными супругами, а то они так, невенчанными трепались.
Красноармеец говорит:
- Это что же, наверное, думают сесть на том свете одесную Христа (по правую руку Христа). 70 миллионов побил, сжег живьем, старых, малых и пленных – всех подряд, и после этого хочет попасть в рай?
Через Одер-реку мы перебрались с большим боем. Много погибло в реке народу. Прошли от Одера километров 20, заняли оборону поближе к Берлину. Опять разведчик кричит:
- Ребята, есть новость: Гитлер смотался.
Мы спрашиваем: куда?
- В Агаринтину (Аргентину) на подводной лодке.
Вот такой был разговор. В Аргентине процветал фашизм, а в Германии оставались двойники Гитлера. Но допряма про это не знаю.
Началась подготовка к наступлению на Берлин. Нам говорили, что под Берлином собрано 4 миллиона наших войск. Но его не так просто было взять.
Началась артподготовка. Наверное, били по городу целые сутки, прожекторами ослепили весь Берлин. И вот пошла в атаку пехота с танками. Пошли уличные бои. Немцы сильно сопротивлялись, до последней крови дрались. Приходилось брать в плен даже 15-16-летних ребят и стариков 60-70-ти годов. Их мобилизовал Гитлер на защиту своей родины. Во время уличных боев никакого страха не чувствовали, сердца закаменели. Смерти не боялись, только тяжелого ранения, страшно – калекой станешь. К врагу только ненависть за его издевательство над нашим народом, только и стремишься его уничтожить. Не мы пошли на него, а он на нас пошел, хотел поработить. Мы ему отомстили, но мало, Америка не дала, а надо было всю Германию пройти. Мы всегда недовоёвываем. Надо бы так отомстить, чтобы он на нас никогда больше не ходил.
Мы прошли за Берлин 110 километров и тут война прекратилась. 28 апреля немцы требовали перемирия, а Жуков сказал: «Сдай оружие, капитулируй!» И вот они капитулировали, мы взяли их в плен. Наши солдаты проводили немцев на работу в Россию. Войне конец. Проходит немного времени – 47-ю дивизию (армию) снимают с позиций и направляют в Чехословакию – там немецкая группировка никак не сдается, никак наши Прагу не возьмут. Но через день поступил приказ: отставить, группировка сдалась. Мы говорили: «Слава Богу! Остались живы!»
В большом военном городке, километрах в 6-ти от Берлина, мы находились до самой отправки домой 1 августа 1945 года. Мы занимались тем, что разбирали станки на заводах и отправляли в Россию. Я работал на стекольном, хрустальном заводе. Немцы были грузчиками. И это правильно: они у нас все разорили, все взорвали.
Как с товарищем вздумали походить по Берлину, посмотреть, как мы его изуродовали при наступлении. Тогда смотреть было некогда, следили за немцем, как бы его уничтожить. На одной из улиц видим разбросанные письма, карточки и картинки (открытки?). Нашим солдатам поздравления с праздником. Я одну поднял: Гитлера протащили (изобразили юмористически) корреспонденты. Товарищ, Михаил Васильевич из Москвы, постарше меня на год, собрал штук пять и сказал: «Понесем в роту, пусть товарищи посмеются». А на карточке был нарисован памятник Наполеону (могильный бюст?) на острове Святой Елены, а перед ним Гитлер на корточках. И говорит:
- Наполеон, я иду на Москву.
А тот отвечает:
- Я уже был, не ходи, лучше ложись со мной.
Принесли мы карточки в роту, некоторые красноармейцы смеялись, а другие ругали и Наполеона, и Гитлера:
- Вояки! Хотели Россию поработить навсегда, но не пришлось. Русский народ их самих на колени поставил.
Через немного времени мне пришлось беседовать с немцем-стариком, ученым, коммунистом, ему годов 55. Немец при Гитлере был в подполье. Старик нам рассказывал: «Когда на вас Гитлер собрался напасть, он собрал всех генералов, адмиралов и крепко (убежденно) сказал: «Я Россию возьму за месяц или полтора. Русских только сейчас и можно взять, у них очень мало оружия, а народ недоволен колхозами и воевать против Германии не будет».
Но вот по этому вопросу Гитлер ошибся. Если я на Сталина обиделся за то, что он нас загонял в колхоз принудительно, что же, я должен Родину сдать, идти в рабы и всё поколение отдать в порабощение? Сегодня Сталин, завтра Х-ярин, нынче Горбачев, завтра Лихачев, но Родину сдать и быть рабом – это невозможно, лучше помереть.
(Дальше немецкий коммунист рассказывал):
- Один генерал сказал, что война с Россией будет длительной. Но Гитлер его выгнал: «Вы политику не знаете. Вильгельм пошел на Россию в 1914 году, (имея в союзниках) только Турцию и Австрию. А я забрал в свои руки 16 держав, и все они будут воевать на нашей стороне и готовить для Германии оружие и продовольствие.
Вот как он готовился, а Сталин глядел на подпись договора о ненападении и успокоился. У него Берия работал, враг народа. Он всех пересажал: высшее начальство и ученых, конструкторов.
Старик-немец рассказал, что партия нацистская зарождалась в секретной обстановке. В Германию приехали три американских миллионера, к ним подключились тоже три миллионера (немецких?), потом к ним примкнули английские и французские миллионеры. Американские миллионеры говорят: «Найдите нам такого человека, который бы разбил Россию и коммунизм за месяц или за два, а мы деньгами его обеспечим, сколько понадобится. Только вооружайтесь». Немцы американцам сказали: «Есть у нас такой человек – Гитлер». Вот он и готовился к войне на их деньги. Вот кто войну затеял и побил несколько миллионов. Если немецкий старик соврал, то и я вру. Но это наверное правильно: Гитлер подготовился очень сильно.
3 мая у меня разболелось сердце. Я не знал, куда деваться от тоски, глядеть ни на кого не хочу. Даже попросил ротного назначить меня в караул. Товарищ спрашивает:
- Ты почему такой невеселый? Все радуются, а ты печальный.
- Тоска на меня напала ужасная.
- Наверно, тебя убьют.
Каждый день убивали (хотя война и закончилась).
И вот пришло время возвращаться из Берлина на родину. Командир полка дал распоряжение: «1900-й год и старше поедут на лошадях. Найдите парные брички, чтобы в запасе было колесо, чтобы имелись отбой (для отбивая кос), коса, молоток, щипцы и брезент. На бричку даю по две лошади. Поход будет дальний – 1200 километров».
Мы выехали 10 августа 1945 года. Мне и еще двоим товарищам на трех бричках пришлось везти артиллеристов. Проехали немецкую землю, оказались в Польше. Тут у нас бендеровцы одну роту отравили. Солдаты попили из колодца и отравились. Некоторых отходили, лечили сывороткой, а многие поумирали. Командование отдало приказ у всех колодцев поставить часовых. На один полк не из нашей, соседней дивизии ночью напали бендеровцы. В бой вступила вся бригада – три полка, и банду бендеровцев разбили.
Нашу часть разместили на краю леса около Слуцка, у границы. Построили казармы, вырыли землянки. Пока мы этим занимались, нам приказали сдать лошадей в колхоз. И вот на выгоне я жду председателя, чтобы сдать ему лошадей и брички. Лошади ходили по лугу, а я пошел посмотреть местность. Смотрю, стоят столбы горелые вдоль водотока, пониже – землянка. Замечаю, что тут, видно, село стояло. Из землянки выходит дедушка, отвечает мне:
- Да, было небольшое сёлышко, 35 домов.
- Кто же его сжёг?
- Немцы проклятые.
- По какой причине?
- Сказали, что мы связаны с партизанами. Загнали всех людей в один коровник, облили горючим и сожгли. Все сожгли – и малых и старых.
- А ты как же остался жив?
- Я в это время в лес ходил срезать черенки для грабель.
- И как же ты теперь живёшь?
- Как живу… Вот выйду из землянки, погляжу на село, наплачусь и опять в землянку. У меня сгорели жена, сноха, к нее двое детей и девчонка от сына была, мать ее умерла, – все сгорели. Похолодает – уеду к дочери, она в 25 километрах живет. А сына убили на войне.
Даже слушать невозможно, как немец издевался над народом.
В кадровой службе оставили молодых, старых демобилизовали. Обмундирование дали всем новое и гостинцы домой: 10 килограммов сахару, 10 килограммов муки высшего сорта, 10 метров материала (ткани) и сухой паек на дорогу: консервы, сухари, хлеб. Подогнали вагоны, хорошо оборудованные нарами, обрядили поезд сосновым ветками, разноцветными лентами, был митинг, выступил командир дивизии. Играл оркестр, под музыку мы поехали домой. Поезд шел от Бреста до Владивостока.
Проезжали мы Воронежскую область, на станции организовали обед в столовой. А к поезду идут и идут люди – голодные, чуть живые, старики, старухи, ребятишки. Волосы поднимаются от ужаса, очень жалко их. Все просят хлеба, что-нибудь поесть: «Дорогие наши солдаты…» Ребятишки называют нас «дяденьками-солдатами». Никогда я не видел такого ужаса. Все стали им раздавать, что у кого есть. У меня было килограммов 8 сухарей, три буханки хлеба, консервы – всё отдал, ничего не жалко. Нас-то кормили в столовых на станциях. Нас покормят, а дети в столовой куски собирают. Супу побольше нальешь, каши наложишь, всё им раздашь. Дети и встречали нас у столовой. Все это я видел на Украине, где был голод от неурожая, засухи.
Приехали Лиски, слезли с поезда донцы, кубанцы, кавказцы. С Лисков на Пензу. 10 сентября 1945 года я сошел на станции Колышлей, тут встретил еще одного красноармейца. Он оказался артиллеристом, призывался из совхоза «Пятилетка». Он пошел к родным, которые жили в Колышлее, а я остался на станции ждать какую-нибудь подводу до Малой Сердобы. Положил свои мешки. Подходят 5 молодых ребят, земляков. Им ехать в Пензу на комиссию. Они меня сразу узнали, а я узнал только одного, Николая Ивановича Стрельникова. Поздоровались, он говорит: «Хорошо, что вы остались живеньки. Семья тебя очень ждет. Одно плохо, дядя Андрей: твоя жена Ганя умерла». Я чуть устоял на ногах. Потом спросил: «Когда это случилось?» Он ответил: «1 мая, а 3 мая были похороны». Тут я и вспомнил, какая тоска на меня напала 3 мая в Берлине. Вот чудеса: 3 тысячи километров до Берлина, а у меня сердце чуяло. В то время, когда стояли в Восточной Пруссии, мои письма до Малой Сердобы доходили, а ко мне – нет. Поэтому я ничего не знал про Ганю.
Я приказал одному старику со старухой посмотреть за моими вещами, а сам пошел по Колышлею искать попутную машину или подводу. У почты стояла лошадь, на фуре сложены посылки, а из почты выходит мой сосед. Иван Иванович Манышев.
- Здорово, Андрей Васильевич! Живенький пришел?»
- Как видишь. Ваня, я уеду с тобой?
- Обязательно.
Я помог ему посылки перетаскать, поехали к станции, положили на фуру мои мешки и отправились в путь. Все переговорили, пока ехали до Марьевки. Тут мне встретился Николай Митров (?), он тут был председателем колхоза. Увидал меня, кинулся целовать: «Поехали ко мне в гости. Я очень рад, что ты остался живой». Вместе с Иваном Манышевым поехали к нему на квартиру. Нас встретила Нюра, жена Николая, начала яичницу жарить, поставила пол-литра водки. Начали выпивать и закусывать в честь моего приезда. Погостили, поблагодарили их, Николай пошел в мастерскую, а мы поехали в Сердобу.
Подъехали к Сердобе, встали на бугре, гляжу я на село и не узнаю. Постройки, как в зимовье. Я бывал в больших городах, везде постройки хорошие, а тут плохие. Поглядел на свое позьмо: до войны было 200 яблонь, а сейчас чистое поле, все погибли в 1941 году, померзли. Иван довез сначала меня до моего дома, потом поехал на почту разгружаться. И вот вижу родительский дом, где я не был 4 года. Первой меня встретила младшая дочь Клавдя, она училась в 8-м классе. Обратались (обнялись), прибежали с работы еще две дочери – Паша и Маруся, плакали, очень было грустно. Они намучались одни без матери. Потом я их стал утешать: «Хватит плакать, этим горю не поможешь, мать не воскресишь, только себя убьём. Давайте крепиться. Буду я вам теперь и за отца, и за мать, никогда вас не оставлю, буду всем помогать». Так оно и было, до самой моей глубокой старости.
В это время старшая моя дочь Таня хлопотала в Пензе, чтобы ей не возвращаться в свою часть, из которой она была отпущена на похороны матери. И охлопотала, ее демобилизовали.
Паша и Маруся ко времени моего возвращения из Германии окончили школу и 1 августа поступили на работу, Маруся в райфо (финансовый отдел райисполкома), Паша в школу секретарем канцелярии.
25 сентября мне принесли денежный налог и налог на мясо, молоко, шерсть. Председателем сельсовета работала Зубанова Агафья Федоровна, партейная. Прихожу в сельсовет, говорю:
- Почему меня обложили налогом? Я только что пришел с войны, не работаю, две дочери месяц как поступили на работу со школьной скамьи.
- Они у тебя работают, поэтому налог заплатишь. А не заплатишь – последнюю корову отберем.
И щерится. Ей, глупой, ничего не докажешь. Пришел я домой и написал жалобу в Пензу. Через десять дней приходит из Пензы извещение, что налогом меня обложили неправильно. Я опять в сельсовет, спрашиваю у Агафьи Федоровны, пришло ли в сельсовет из Пензы указание о снятии с меня налога. Им тоже прислали. И я ей сказал: «Видишь, неправильно ты обложила, в Пензе люди поумнее тебя и сняли налог». Она аж ощетинилась, так бы и съела меня. Но нельзя, я фронтовик. В прошлом она всех раскулачивала, а в войну замучила моих девчат: гонялась за ними, хотела отправить их в ФЗУ (школу фабрично-заводского обучения в Пензе).
Вскоре заведующий райфо Ключников удержал с дочери Маруси 100 рублей. Я пошел к нему узнать, в чем дело. Он говорит:
- Тебя обложил налогом сельсовет, ты не заплатил, вот с Маруси и удержали с зарплаты в уплату налога».
- Это глупый человек обложил налогом, а ты умный.
Он было обрадовался моей похвале, но я показал ему бумагу об отмене налога, а он говорит:
- Ну, пускай на будущий год пойдет вычет из марусиной зарплаты.
- Вы хотите с меня всю шкуру содрать. Я и на тебя напишу жалобу, на умного человека.
Он мне сразу и отдал 100 рублей.
Вот как относилась к фронтовикам местная власть.
Стали у меня просватывать девчат. В 1945 году осенью просватали большуху Таню за Казачкова Ивана Тимофеевича в Синодскую Саполгу. За ней просватали Пашу за Несудимова Александра Сергеевича, он увез ее в Одессу, где служил офицером в армии. Через немного времени Марусю просватал Забелин Алексей Алексеевич и увез ее в Монголию. После войны он там служил в кадровых офицерах. Осталась у меня одна дочь Клавдя.
И вот я перехожу на крестьянскую работу. 4 года воевал, теперь буду работать по хлебопашеству. В 1946 году я работал в колхозе плотником, возил корма, косил сено. Косили в Сидоркиной луке, у речки. Звеньями в десять кос. Ряды были длинные. Как-то сели отдохнуть, мужики закурили. Я не курил сроду. Смотрим, едет конюх правленский Константин Никитич, еще он убирался за жеребятами. Привязал к фуре жеребца, дал ему сена и напрямую к нам, косцам. Подает мне записку от председателя колхоза Гнедина. В ней написано: «Андрею Васильевичу Шайкину. Сейчас же приезжай в правление колхоза, срочно нужен». Положили мы на подводу травы, сели на нее и поехали. Я слез у моей избы, переоделся и пошел в правление колхоза. Поздоровкался с председателем Гнединым. Он мне говорит:
- Шайкин, мы тебя назначили весовщиком на главном току.
- Без меня меня женили. Не буду я работать на току.
- Как хочешь, только тебя назначил не я, а правление колхоза и хлеб с поля уже везут, колод десять ссыпали.
Я отказался и ушел домой. Отец спрашивает:
- Чего тебя вызывали?
- Назначили весовщиком на главный ток, а я отказался.
- Почему отказался? Надо работать, раз назначили. Значит, ты стоишь (достоин) этого. Ведь никого другого не назначили. Значит, иди и работай честно. Ты что, хочешь опять на меня детей оставить? Я с ними мучился 4 года. Тебя посадить могут за отказ.
- За что же меня посадят? Я хлеб еще не принимал.
Через пять минут отец опять бежит:
- Ты еще не ушел? Иди и работай!
Проходит еще пять минут, он опять прибежал:
- Еще не ушел? Иди работай!
И еще несколько раз прибегал: донял! И дочь Клавдя уже говорит:
- Папа, иди принимать хлеб, он ведь тебя доймёт.
Отец не спал всю ночь, всё за меня боялся, что посадят. Так я и пошел работать весовщиком. Гнедину сказал:
- Отец прогнал. Донял: иди, говорит, и работай честно.
Он засмеялся:
- Так тебе и надо.
Дело на току у меня шло хорошо. Особенно много работы было в 1948 году, когда приходилось сушить хлеб. К тому же он был очень сорным. Зерно везли мокрое, как жвачка. Из-за непогоды комбайны косили напрямую (не в рядки), поэтому зерно было сырое. Для сушки мы рассыпали его на току тонким слоем, то и дело переворачивали, осот снимали метлами. Так мы сушили хлеб и сдавали его государству чистым. В других колхозах дело шло плохо, у них не было больших токов, где только и можно было хорошо просушивать зерно. Поэтому при сушке они рассыпали зерно толстым слоем, больше чем в четверть, и оно горело, прело и становилось негодным. Это было, конечно, еще из-за нерадивости заведующих токами: зерно преет, а они посиживают в холодке.
Петраков (первый секретарь райкома партии) задумал провести на нашем току семинар, чтобы всех поучить, как надо обращаться с хлебом. День был хороший, солнечный, хлеба мы рассыпали много, тонким слоем. Часов в 8 утра Петраков заехал на ток, поглядел, ничего не сказал и уехал. Часов в 10 приходит председатель соседнего саполговского колхоза Бочкарев Петр Герасимович. Я в это время ворочал деревянной лопатой зерно.
- Здорово, Шайкин! Сейчас у тебя Петраков соберет районный семинар., велел всем председателя сюда съезжаться.
- Вот и хорошо, - говорю я. – Поучимся друг у друга.
Съехались председатели, заведующие токами, весовщики на наш ток и Петраков с ними. Смотрят, как мы работаем. Знакомый мне весовщик из Старого Славкина Самылкин спрашивает, как мы сумели получить из сорного хлеба такой чистый. Я отвечаю:
- Тут грамоты большой не требуется, ни геометрии, ни математики. Во-первых, нужен большой ток. Почему ты большой ток не сделал, может, земли не хватает? Я могу дать тебе землю в Орешкином углу.
Все участники семинара смеются. Я продолжаю:
- Второй вопрос: почему ты веешь веялками сырой хлеб? Он же не провеется. А мы рассыпаем его по току, осот немного подсохнет и перья у него поднимутся наверх. Тут бабы берут метлы и сметают траву. Снова ворошим и снова снимаем траву. Три раза пройдем, и хлеб станет сухим и чистым. Ворочаем и лопатами, и ногами, разувшись, и ночью, и днем, и я вместе с бабами. Вот оттого хлеб и чистый. Тут подходит ко мне завхоз из Старого Славкино и говорит: «Гляжу я на тебя, Шайкин. Ты все время на току, днем и ночью, а нашего весовщика на току почти и не видно. Сидит в землянке и два помощникам с ним».
Тут Петраков дает команду, приглашает всех к столу собрание проводить, подзывает меня и тихо говорит:
- Ты знаешь, кто с тобой разговаривал?
- Не знаю имени, но он завхоз.
- Он прохиндей. Вырыл у тока землянку, дал весовщику два помощника. Один вино носит, другой караулит, чтобы врасплох не застали, пока они с весовщиком вино пьют. И ты расскажи на собрании, как надо дело вести. Выступать будешь первым, Граблин (председатель райисполкома) – второй, а я буду завершать.
Все уселись на скамьи, мне первому дали слово. Я стал говорить:
- Я беседовал с Самылкиным, вы смеялись, а теперь хочу поговорить с завхозом из Старого Славкино. Почему ты ток большой не сделаешь? Это дело только от тебя зависит. Или тебе некогда? Ты землянку вырыл, залез в нее и не высовываешься, как крот. Сам выпиваешь и Самылкина от работы отрываешь. И два помощника назначил: один бегает за вином, другой караулит. Когда же вам заниматься делами? Когда расчищать ток и заниматься зерном? Вы и не думаете, чтобы поскорее сдать хлеб государству.
Дали слово Граблину:
- Товарищи, мне непонятно, что это за начальство, которое гуляет и руководит из землянки? А хлеб киснет, гниет. Надо такое начальство освобождать от работы. Погодные условия у всех одинаковые, но Шайкин скоро выполнит план сдачи зерна государству, а вы все раскачиваетесь.
Выступил Петраков:
- Вы все видели, как надо работать с хлебом на току. Езжайте домой и, во-первых, расчистите большие тока. Срок – до завтра. Вы видели, как Шайкин работает с хлебом, так должны работать все. Завтра по всем токам проедет комиссия, поедут Шайкин, Граблин, Жуков и я. Если кто не сделает того, что вы здесь увидели, пеняйте на себя и тогда не обижайтесь. А тебя, Самылкин, если завтра найду в землянке, выпорю прутом.
- Нет-нет, я буду снаружи, - ответил Самылкин.
Наутро поехали с проверкой. Начали с Самылкина. А его уже выгнали из завхозов, он даже успел уехать на родину: побоялся – посадят. Весовщиком назначили тоже нового человека, постарше меня на 2 года, строгого. Он уже вовсю гонял работников тока, расчищали большую площадку для сушки зерна. А нам он сказал:
- Назначили дураов, они и гноили хлеб. А завхоз проходимец, ему бы только с бабами возжаться. Если будет вёдро, я за неделю выполню план сдачи хлеба государству.
На других токах тоже большие площадки расчистили, и пошла хлебозаготовка. Семинар помог.
Еще один случай не могу забыть. Года через два после этого семинара выдался очень хороший урожай, ток просто завалили хлебом, мы не успевали его обрабатывать. И вдруг пошел сильный дождь. Хлеб загорелся. Сунешь руку – горячий, как огонь. И сильно засорен осотом и другой разной сорной травой. Своими силами не справляемся. Я пошел в правление колхоза, председателем был Корсаков Василий Алексеевич, полеводом – Слепов Василий Иванович. Оба партейные. Они проводили совещание с трактористами и бригадирами. Докладываю председателю:
- Хлеб загорелся, горяч, как огонь. Что делать будем?
- Ну, что мы можем сделать? Не мы виноваты – погода, каждый день дождь.
- А я предлагаю такой выход из положения, - говорю ему. – У нас на току пустуют 4 риги. Давай колхозников, разделим их на 4 бригады, чтобы они быстро перетаскали зерно каждая в свою ригу и рассыпали валами, а пятая бригада будет лопатить и охлаждать на ветру, веять.
Корсаков мне говорит:
- А если завтра будет вёдро – обратно будем зерно выносить?
Я отвечаю:
- На току грязь по колено, неделю не влезешь.
Он не соглашается. Тогда я говорю:
- Как хочешь. А я отвечать за гибель хлеба не хочу. Пойду к прокурору и скажу: я предложил выход из положения, а председатель не соглашается. Поэтому снимите с меня ответственность за сохранность хлеба, пусть он отвечает.
Слепов как вскочит:
- Таскать! Немедленно! – И председатель тут же согласился.
- Вот и хорошо! – говорю.
Собрали больше 100 колхозников, перетаскали весь хлеб часа за четыре в пустые риги, рассыпали в валы. Стали обрабатывать хлеб, лопатить, охлаждать. По две веялки поставили в каждой риге. Веем и лопатим, веем и лопатим. Дня через два я отлучился домой на обед, а Елена осталась за меня. Прихожу с обеда, она рассказывает:
- Когда вы ушли на обед, заехал секретарь райкома Петраков и спрашивает: «А где хлеб?» Я отвечаю: «Два дня назад перетаскали в риги. И сейчас в ригах работают человек 80». Он не поверил, заглянул в риги, ничего не сказал и быстро уехал».
Потом мне рассказали, что Петраков от нас поехал на Горы в колхоз «Смычка», там председателем был Максим Игонин. Подошел к весовщику и спрашивает: «Хлеб горит?» - «Горит, Василий Романович!» А весовщик там был хороший, хозяйственный. «Что думаешь делать?» - спросил его Петраков. – «Думаю, перетаскать в риги, у нас три риги пустые, а председатель не соглашается, людей не дает. Говорит: «Вдруг завтра вёдро, придется назад вытаскивать». Велел Петраков найти председателя. Тот явился, и секретарь спрашивает: «Почему не таскаешь хлеб в риги?» Тот отвечает: «А вдруг завтра посвежеет погода». Петраков: «Так ведь на ток все равно еще неделю не влезешь. Сходи в Шайкину, своему соседу, у него уже третий день как весь хлеб в ригах, остужён, и он вовсю его веет. Почему он не дожидается команды, а сам принимает решение. Сейчас же организуйте эту работу, вечером приеду – проверю».
Поехал Петраков по всем колхозам района, всех на ноги поднял, всех заставил хлеб в риги перетаскать. А все из-за меня. Наверное, меня ругали многие весовщики за то, что прибавил им хлопот.
В 1960 году мне исполнилось 60 лет. Стал я оформляться на пенсию, доложил об этом председателю колхоза. Тот передал распоряжение председателю комиссии Барановой. Она собрала комиссию – двоих женщин из бухгалтерии и двоих мужчин, один из них Бочкарев Василий Ермолаевич. Баранова мне говорит:
- Андрей Васильевич, наши колхозные архивы мыши съели. Шкаф стоял в амбаре, а в нем был хлеб.
Отвечаю ей:
- Я знаю, что архив съеден мышами, но кто додумался туда поставить архив? Такое может произойти только в колхозе, где никому ни до чего нет дела. – Потом говорю: - Ладно, у меня есть колхозные трудовые книжки, я не сдал их учетчику и сохранил – с 1955 по 1960 годы. На, пожалуйста, бери, в хороших руках ничего не пропадает.
Взяла она книжки, полистала и говорит:
- В книжках отмечены только трудодни.
- Так переведи трудодни на деньги.
- Нельзя, - говорит.
Обманули меня и начислили пенсии всего 12 рублей. Тогда всем одинаково начисляли: и кто хорошо работал, и кто плохо. Круговая порука. С 1930 года никому не платили деньгами, запишут трудодни, выдадут на один трудодень 200 граммов плохого хлеба – как хочешь, так и кормись. Спасало собственное позьмо. Сеяли картошку, просо, рожь. У меня позьма было 45 соток, как и у всех. Держали корову – молоко очень выручало. Вот мы и остались живы. Я проработал в колхозе 45 годов, никуда из него не уходил. Хотя приглашали завхозом в больницу, даже предлагали охлопотать меня через райком. Но я отказался. И в сельпо приглашали завхозом, но я и туда не пошел. И вот за свою преданность колхозу я получил 12 рублей пенсии. Такую пенсию я получал 9 годов. Потом пенсию стали давать 18 рублей – ее получал 8 годов. 28 рублей я получал 6 годов. Мы колхозники, а колхозникам не хотели платить хороших пенсий. Такая была система.
Но в 1983 году секретарем ЦК КПСС стал Андропов. Вот он и обратил внимание на забытых государством людей и дал указ: кто участвовал в революции и гражданской войне должны получать персональную пенсию и льготы – 50 процентов за дрова и уголь и каждый год можно ездить на курорт. А кто не поедет на курорт, компенсировать выдачей на руки 100 рублей. Тогда мне назначила районная комиссия пенсию 55 рублей. В это председателем райисполкома был Стёпин. Дали 55 рублей и другому участнику гражданской войны Кривоножкину Петру Степановичу. Нас в районе осталось 6 участников гражданской войны: Зуйкову начислили 80 рублей, Стрельникову – 82, Коновалову – 85. Мельников, пока ему оформляли пенсию, умер. Но они были служащими, поэтому получали пенсию больше, чем мы, колхозники. Еще был Бурлаков из Марьевки. К этому дню они все померли, из участников гражданской войны в районе остался я один. И добром вспоминаю Андропова. Он говорил: «Давно надо было прибавить пенсии участникам революции и гражданской войны. Они отстояли Советскую власть, выгнали врага и защитили молодую Советскую власть народа. Но мы забываем от них, а их осталось очень мало».
Андропов был очень хороший, дисциплинистый, дальновидный, понимал людей. Но работать ему пришлось недолго... Большое ему спасибо от ветеранов гражданской войны и от меня лично, Шайкина Андрея Васильевича.
Александр Корнилов,
02-02-2011 04:24
(ссылка)
Воспоминания русского землепашца. Год рождения 1900.
http://www.peasants.narod.r...
Воспоминания крестьянина Андрея Васильевича Шайкина
© Полубояров Михаил Сергеевич, 2007-2008 годы, Москва
ПРЕДИСЛОВИЕ
Андрей Васильевич Шайкин родился в 1900 году в селе Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенской области) в семье крестьянина среднего достатка. Из знаменитых земляков Шайкина широко известны уроженцы Малосердобинского района Лидия Андреевна Русланова и писатель Федор Васильевич Гладков. Предки Шайкина в переписных книгах числились служилыми людьми по прибору Сердобинской слободы, прибывшими для защиты города Петровска по указу Петра Первого от 5 (15) ноября 1696 года. Поначалу первопоселенцы числились конными казаками, служба которых проходила на дальних и ближних караулах, что-то вроде современных пограничных дозоров. После восстания под руководством Кондратия Булавина, затронувшего верхнее течение Хопра и Медведицы, служилых людей по прибору велели именовать пахотными солдатами, а с конца 18 века - государственными крестьянами. По сравнению с помещичьими, они находились в привилегированном положении и жили относительно богато. Нелюбовь к помещикам сохранялась долго, чувствуется она и на страницах воспоминаний Шайкина. Как отзвуки вражды времен генерального межевания, когда споры малосердобинских крестьян с окрестными помещиками о границах землевладений доходили до петербургских судебных палат.
Малосердобинская волость была одним из эпицентров аграрного движения осенью 1905 года. Здесь действовала боевая дружина, разъезжавшая по окрестным волостям и открыто поджигавшая помещичьи имения. На территории нынешнего Малосердобинского района после осени 1905 года не сохранилось ни одной помещичьей усадьбы. А.В. Шайкин не одобрял их действий - поджигатели уничтожали плоды тяжелого крестьянского труда. Вместе с тем он с большой неприязнью относился к деятельности П.А. Столыпина. В период проведения крестьянской реформы Шайкин был подростком. Поэтому его оценки, скорее, не собственные, они принадлежат старшим родственникам и соседям. Их значимость в том, что они не навязаны пропагандой, но сохранили дух и смысл суждений русских крестьян по поводу Столыпинщины. "Мы хотим великую Россию", - заявлял Столыпин. Но в 20 веке не было великих государств, развивавших экономику на аграрной основе. Это путь колониальных государств. Нужно было развивать промышленность, используя сельский пролетариат в качестве рабочей силы. По такому пути развивался Запад. Поэтому реформа Столыпина служила откровенно политическим целям - раздробить, перессорить крестьянство. И оно, судя по мемуарам Шайкина, это понимало. Столыпин для русской деревни был олицетворением злодейства отнюдь не за то, что вешал революционеров.
Вызывает интерес отношение автора воспоминаний к Ленину, Сталину другим вождям СССР. Первый для него - любимый вождь, второй - враг народа. Андрей Васильевич никогда не был ни комсомольцем, ни коммунистом, поэтому св политической предвзятости его обвинить невозможно. Жестокость Ленина обусловлена ожесточением гражданской войны. Она закончилась - и русский крестьянин получил свободу, какую не имел никогда. Жестокость Сталина в мирное время оправдать невозможно. В том числе по отношению к русскому крестьянству (кавказцев почти не раскулачивали и голода в Грузии не было). Невозможно оправдать убийство товарищей по партии, раскулачивание бывших красноармейцев - в Малой Сердобе их сослали в холодные края почти поголовно. Крестьянская мораль осуждала подобные действия. Для нее товарищество святое понятие. И еще - Родина. Своеобразную характеристику патриотизма мы находим у А.В. Шайкина в воспоминаниях о Великой Отечественной войне: "Если я на Сталина обиделся за то, что нас он загонял в колхоз принудительно, я должен Родину сдать и идти в рабы и все поколение отдать в порабощение? Сегодя Сталин, завтра Х-ярин, нынче Горбачев, завтра Лихачев, а Родину сдать и быть рабом - это невозможно, лучше помереть".
В целом воспоминания А.В. Шайкина - это взгляд изнутри на великие исторические события. Особая их ценность в том, что он не выпячивает собственных заслуг, похвальба для него дело совершенно чуждое. Мы видим лишь гордость за честно прожитую жизнь, за то, что детей воспитал достойными людьми, за то, что у него много внуков, и они живут хорошо. Это для него главное, а не фронтовые подвиги. И еще важна доброта людская: о добрых поступках он рассказывает с особой теплотой.
На публикуемой фотографии Андрей Васильевич изображен рядом со старшей дочерью Татьяной Андреевной Казачковой (фотография размещена в альбоме "Русские люди" сообщества), тоже участницей Великой Отечественной войны. Задачей ее воинской части было вслед за наступающей Красной Армией въезжать на железнодорожные станции и восстанавливать пути и прочее станционное хозяйство. Немцы жестоко бомбили ремонтные поезда.Татьяне Андреевне повезло, многие однополчане погибли под бомбами, а она, как и Андрей Васильевич, дошла до Берлина. Сейчас Татьяна Андреевна в Пензе воспитывает правнуков. Лет ей уже немало, но она сохранила жизнелюбие и бодрость, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на ее долю.
Живые, прекрасные русские лица!
Воспоминания крестьянина Андрея Васильевича Шайкина
Где у нас были господа? Барин в селе Огаревке, в селе Марьевка – барин Салов; где поселок Алексеевский, – Юматов; в Трескине было 2 барина; в “Пятилетке” был барин; село Круглое – барыня; в селе Камышинке – Гагарин; в селе Екатериновке, около Жуковки, был барин Устинов. И вот нашим предкам пришлось сделать 4 поселка (для защиты от экспансии помещиков): первый – село Липовка. И наделили переселенцев землей как положено и дали леса в Орешкином углу. Основали село Шингал – дали земли и леса в отроге. Основали село Турзовку – дали земли и леса. Основали село Асмётовку: наделили землей и дали леса на Воробьевой Поляне; его так и называют – Асметовский лес. А земля наша уходила за эти села на 6 и 8 километров. Старики боялись, что барин может отнять землю, вот и заселяли дальние поля.
Когда Сердоба основалась? Мне говорили отец и дедушка, что она начинала строится на Горах, около леса – место называется Кирпичиха. Первая церковь была в лесу. Была сделана крепость из леса и камней. На первых поселенцев нападали крымские татары, но они их отбили и отогнали.Одна из улиц на горах называется Драгунка, на ней стоял драгунский полк. Мне говорили старики, что когда Сердоба начинала строиться, царь Петр Первый послал стрелецкий полк для заселения. У нас в селе есть и фамилия Стрельниковы.
С Гор наш прапрадедушка Панфер первым перешел вниз и поселился около водотока – Ерика, на границе Кузнецовки и Тюнбая, ему понравилось это место. И задумал он рассадить сад плодовый. Посадил 100 деревьев – яблони, вишня, калина , малина, крыжовник, прорыл водоток, и ерик побежал прямиком в реку. А то тек вдоль реки, по задам и выходил устьем около дома Федьки Мочалова. Когда дедушка Панфёр прорыл ерик и сделал мосточик, люди назвали его мосток Дужниковым, по уличному прозвищу дедушки, потому что он гнул дуги. В это время на месте, где дедушка построился, еще не было никакой улицы: ни Шимровки, ни Кузнецовки, ни Тюнбая.
От прапрадеда Панфера народились сын Егор и дочь Мария и три дочери – Акулина, Анна, Васена. От прадедушки Егора народились два сына, обоих назвали Иванами. От большака Ивана народились три дочери – Александра, Акулина и Арина. От малого Ивана народились два сына – Василий, Федор и три дочери – Дарья, Мария, Евдокия от первой жены (первая жена была в девичестве Барахтина). Он овдовел, женился вторично на шингальской, звали ее Агафья, от неё были девки Матрёна и Прасковья.
От сына Фёдора народились два сына – Иван и Василий; их обоих убили в эту (Великую Отечественную) войну; и народилась дочь Мария. От сына Василия народились Андрей (то есть я) и Степан, а также дочь Анна. И вот теперь мне 90 годов, а Степану 85.
Мне говорили отец и дедушка: когда строились внизу, была очень “жидкая” земля – трясина. Сохи зарывать для сарая нельзя – все уйдут в землю. Они нашли такой выход из положения: сперва ставили плашмя каркас из четырёх бревён, потом вдабливали в него сохи и ставили, а под каркас клали обрезки и камни.
Когда наши предки строились, тут была “тайга”, разбойники были, дичь, даже медведи и всякие иные звери. И вот Пётр Первый заселил это место. В это время на наших сердобинских землях захотел поселиться барин. Одно из мест так теперь и называется – Барская лука: за Песчанкой, против правления колхоза имени Ворошилова. А строиться барин решил по этот берег Песчанки. Навозили его крестьяне строительного материала, поставили срубы, а наши предки всё у него развалили. Он опять построил – они опять разнесли в прах. И совсем его выгнали. И он, наверно, понял – тут не жить, и больше не приехал.
Итак, мы были не барские, землю делили по душам, а лес “по домам”, на двор. Но была казёнщина царская. Мы делили землю на души только на мужчин, на женщин не разрешали. И из Старого Славкина тоже барина прогнали, там тоже крестьяне были свободными, как и мы. А кругом были господа, баре. Когда наступила революция 1917 года, Ленин приказал разделить землю барскую, отдать крестьянам без всякого выкупа. Стали делить по приказу Ленина на мужчин и женщин поровну. Мы тоже переделили землю, дали и женщинам. Если, допустим, она выходит замуж, отец невесты отдаёт землю ей же.
Наши предки воевали. Прадедушка Егор – с Наполеоном, а его шурин, прозвали его Кавказским Иваном, воевал с Японией, брал Порт-Артур. Прадедушка Панфёр воевал с турками, выгонял их из Крыма. А еще раньше наши предки воевали с монголами, они дрались за Родину до последней капли крови, за Россию и за своё поколение, большое им спасибо и никак не надо их забывать. Вечная им память и царство небесное!
У прапрадеда Панфёра народились сын Егор и дочь Мария. У Егора народились два сына - Иван Большаки Иван Малый да три дочери - Акулина, Анна и Васёна. Жена (у Парфёра?) была Федосья из рода Якшамовых. У большака Ивана родились три дочери: Александра-большуха, Акулина и Арина. У малого Ивана народились два сына - Василий и Фёдор и дочери Дарья, Мария и Евдокия. Это от первой жены, от Барахтиной. А от второй жены, Агафьи, - она была шингальской (из соседнего села Шингал) - родились дочери Матрёна и Прасковья. Семья была большая, 16 человек, и все слушались одного Панфёра. Пахали они сохами, борона была деревянная, только зубья железные, большинство рожь жало серпами, только справные (богатые) косили косами. Молотили цепами. Дедушка Панфёр и обе его жены похоронены на старом кладбище. Царство им небесное! После смерти дедушки Панфёра надумали братья делиться. Это было в 1895 году. Большака Ивана поместили кряду (рядом), а малый Иван остался жить вместе с отцом Егором. Они поделили имение на три части, одну треть получил Иван большак, а две трети Иван Малый с отцом. Отец взял такую же часть, как и сыновья. Сообща сделали большаку дом. Еще большаку досталось по разделу взрослая лошадь, конь-трехлеток, 2 коровы, 20 овец, амбар сосновый, а Малому с отцом - 4 лошади, 4 коровы, 40 овец, другой амбар сосновый и еще небольшой амбар. Сад яблоневый разделили так: большаку оставили 30 деревьев, а малому с отцом - 70. Прадедушка Егор жил на огороде, у него была там маленькая избушка. Они были тружениками, очень заботливыми, работали по 16 часов в сутки, ходили в лаптях, сапоги надевали только по праздникам. Рубахи и портки носили самотканные - бабы пряли из конопли и сами ткали. Лошади стояли в конюшнях, а коров на зиму пускали в избу для дойки. Объягнившихся овец также пускали в избу и держали в избе, пока ягнята маленькие.
Дедушка Панфёр прожил 92 года, а дедушка Егор - 86 годов. Никто в нашем роду не курил, водку пили только на свадьбах и в другие большие праздники. Но сильно не напивались. Бога признавали и были очень добрыми, справедливыми и честными, чужого не возьмут. Помимо хлеборобства, занимались ремеслами: гнули дуги и коромысла. По зимам со всей волости к ним приезжали дуги и коромысла покупать.
В 1905 году дедушка Иван Малый ездил в Золотое, в питомник около села Лопатино, купил 100 деревьев яблонь себе и большаку, и стало в двух дворах 200 яблонь. С ним же ездили шабры (соседи) Родионычев Василий и Шимрин Иван Алимыч, которые тоже привезли по 100 черенков яблонь. Яблони поливали два раза в год: весной - чтобы ялоки росли крупные и чистые и сентябре - чтобы почва нагуляла. У них была плотина на ерике, и от нее они пускали воду по саду, по канавам, по которым вода по всему саду расходилась. Весной и осенью яблони окапывали. Траву в саду косили три раза за лето.
В году 1906-м или седьмом, до войны 1914 года, начал у нас Столыпин нарезать земельные участки каждому, кто пожелает. Добровольно, навечно, но против желания общества, народа. У нас в крестьянском обществе земли причиталось на душу, на мужчину, 3 десятины. У нас было 3 поля – яровое, ржаное и пар. А Столыпин стал нарезать на душу больше, по категориям, хорошей земли – в 2 раза больше, чем было принято в обществе, а если земля плохая - в 3 раза больше нарезал на душу. Ему (Столыпину) народ говорит: “Нарезай по-нашему, сколько мы нарезаем на душу. Нарезай (не ближние земли), а от границы Асметовки, от Липовки”. Потому что туда никто не шел. Но Столыпин делал все против воли народа. Почему он нарушал правила народа, больше давал земли а счет общины?
Добросовестные, совестливые не шли в “вечники” ни в какую, а некоторые нахалы стали одоьрять реформу. И Столыпин начал нарезать им земли около реки Сердобы, по реке Саполге, где у нас, у колхоза имени Ворошилова, была недавно ферма животноводческая - в яме, не доходя до Богомольного родника. Первыми сели Карякины, Михеевы по-уличному, – на горе, около леса, вдоль речки, вблизи Сердобы. Второй дом был поставлен в конце Емельянова оврага, на горе, около леса. Дальше построился Потапов Федор, на расстоянии 1 ½ километра также на горе, около леса. Дальше построился Лялягины – на горе, на краю леса, расстояние такое же друг от друга. Дальше построился Захарышкин (по-уличному), на горе, на краю леса, расстояние такое же друг от друга. Дальше построился (фамилия неразборчиво) – тоже на горе, на краю леса, вдоль реки.
Дальше поселились вдоль Елшанки, поворотя вдоль Елшанки два дома – фамилию хозяев забыл, на горе, около леса, отрезав речку Саполгу от общества-народа общинных земель. Еще лучше! Еще построили два дома - один у реки Сердобы, в 2-х километрах от Малой Сердобы, другой – по реке Саполге – отец Журлова Ивана. Иван Журлов еще жив, мы его называли Деверь, ему тогда было 12 годов, молодой был.
Потом было разрешение – можно продавать навечно землю, душевые наделы. Платили дорого, я забыл цену. Иной человек пьяница, продаст землю душевую навечно и пропьет, а дети и жена нищими остались навечно. Разве это законно? Очень неправильно. Но некоторые накупили земли, таким давали кредиты, нарезали на Гремячке - овраге на реке Саполге, - давали на душу 3 десятины. Мне запомнилось: Никита Потапов накупил землю. Навечно. Их два старика, детей не было, очень были жадные, о смерти не думали. А пришлось помереть страшно. Никиту раскулачили и выгнали из Сердобы. Он уехал в Энгельс, в Саратов, и там извозничал на лошади. Зимой поехал из Энгельса в Саратов через Волгу, а в одном месте не замерзла вода. Он туда и заехал на плавню и утонул вместе с лошадью. Вот и отжил! А навечно покупал землю. Его Бог наказал.
Начал Столыпин нарезать и вдоль речки Сердобы земли вечникам. Были вдоль речки луга до Панкратовки. Первыми там сели Овражновы, и дальше стали селиться. Реку отшибли от общества. Еще поселились два дома на Иткаринской дороге, от Песчанки недалеко. Один дом был – Тихоновы, а другой чей – забыл. Воры заехали к Тихоновым, постучались в дом, в дверь. Старик вышел. Они сказали: “Укажи нам дорогу!” Они его сразу убили и зашли в дом. Старуху и сноху Дарью привязали веревкой, а мальчик Гриша залез в шесток, ему было восемь годов. Большак сын был на войне 1914 года. Грабители все в дому ограбили, все забрали и уехали. После этого Тихоновы сразу сломали дом и перевезли в Сердобу.
Вот теперь оценку делай Столыпину. Земля была наша, народная, нам ее прадеды отвоевали, барина прогнали, а он приехал, стал командовать нашей землей, хозяйничать. Почему он не отрезалу помещиков, у Гагарина, у Устинова, у Салова, у Юматова и у других? А к нам приехал, крестьянам, и стал мутить народ, общество, делал вражду в народе. Народ очень озлобился. Чтобы друг с другом передрались? И побили бы многих. Если бы не революция 1917 года, Октябрьская революция, у нас была бы резня. Разве можно около реки Сердобы все заселять и воду отрезать, водопои? Мы бы и без Столыпина могли приблизить дальние земли от межи: поселили бы там поселки. Вот приблизили же наши старики дальние земли: 4 выселка сделали: Асметовку, Турзовку, Липовку и Шингал. Дали переселенцам землю как положено, поровну и лес дали. А Столыпин, стал больше давать земли на душу. Половине Сердобы не хватило бы земли. Тогда, что же, иди безземельные куда хочешь, на 4 стороны. Это тоже, как раскулачивание.
После революции вечники все разбежались. А которые в Сердобе остались, их раскулачили, и многие смотались в города.
Столыпин неправильно делал. Вот его и убили (в) 1916 году. Мне отец рассказывал – он служил в Киеве. Зашел человек к Столыпину в кабинет и застрелил в упор. Наверное за то, что насолил всему народу. Некоторые сегодня его хвалят: он-де правильно делал. Я это слышал по радио. Но это неправильно.
Я, Шайкин Андрей Васильевич, родился в 1900 году 16 октября. Вот прохождение моей жизни-истории. В 1905 году мне было 5 годов. Была в Сердобе забастовка в сентябре месяце. Была ярмарка. Вот ярмарку мужики разбили, разграбили, пошли в Сердобу разбивать винополку с вином.Стражники, казаки, чуть помню, скакали с моста, не могли с ними справиться – народу было очень много, и все вооружены, кто чем. Казаки отступили и ускакали. Бунтовщики, на мой взгляд, поступали неправильно. К доверие к крестьянам пролезли эсеры и командовали, чтобы опорочить социал-демократическую партию. Нам рассказывал Гудков Кузьма Калентьевич, он был революционером, что они, революционеры, собирались по ночам на Зотовой горе тайно. Вот к нам в Сердобу (рассказывал Гудков) пробрались эсеры в социал-демократическую партию и нам предложили выйти разбивать ярмарку и у богатых мужиков зажигать гумна, а хлеб – у тружеников. Вредили. После мы догадались: они направляли нас на это дело, чтобы нашу социал-демократическую партию опозорить. Мы их, эсеров, всех выгнали.
Пошел я в школу, мне было 8 годов. Учился очень хорошо, сдал испытания на похвальный лист. Учился в школе 3 года. Дедушка Иван сказал отцу: “Андрею хватит учиться, надо работать”. И вот начал я пасти лошадей, ездить в ночное, пахать, бороновать. В 1914 году началась война с Германией, отца и дядю взяли на войну. Дома остались старики, бабы и малыши. Мобилизовали часть лошадей. А дедушка Иван посев не убавлял: 10 десятин в каждом поле – яровом, озимом и пар, всего – 30 десятин. А убирали все вручную: жали, молотили цепами. Жали бабы и подростки: я начал жать и косить, когда мне исполнилось 14 лет. Было очень трудно.
У нашего отца Василия Ивановича было два сына: я и Степан. И у дяди Феди было два сына - Иван и Василий и дочь Мария. В 1914 году отец и дядя Федя ушли на войну. Отец служил до 1917 года, а дядя вернулся в 1916 году - был ранен в руку. Его отпустили из госпиталя в Самаре на полтора месяца домой. И он просрочил отпуск на два дня. И вот в декабре молотим мы в риге - дедушка, дядя и я. Мать, тетка - жена дяди Феди и мой младший брат Степан ворочали снопы. Часов в 11 к риге подъехал на лошади, в санках урядник Иван Петрович. Вошел в ригу, поздоровался и спрашивает дядю:
- Вы Шайкин Федор Иванович? Вы дезертир.
- Да, я просрочил два дня, но завтра поеду в часть.
- Вы должны поехать со мной, мы вас отправим этапом на фронт.
- Какой хозяин нашелся! Я и сам дорогу в часть знаю. Не поеду под конвоем!
Тогда урядник вынул шашку и стал ею угрожать. Но налетела коса на камень. Дядя бросил цеп и схватился за шашку урядника. Началась борьба, нам со стороны страшно было на нее глядеть. Дядя его осиляет, уже выволок урядника из риги и борются около ерика, а там овраг, дядя пятит урядника к оврагу и ругается:
- Красномордый! Напился крови крестьянской! Я два года провоевал, теперь иди ты повоюй!
Урядник видит, дело плохо - овраг рядом, оттолкнул дядю и к санкам. Сел и поскакал. Дядя говорит: "Если бы я у него шашку вырвал, я бы его зарубил". Быстро убежал на гору Порт-Артур, скрывался у тетки Дуни, у сестры своей, а потом в шабрах И так дотянул до Февральской революции 1917 года. А как дядя убежал на Порт-Артур, к нам заявились казаки, человек 15, урядник с ними верхом. Забежал в ригу:
- Старик, где буян?
- Не знаю, говорил, пойдет в город.
Казаки стали искать, тыкать пиками в солому. Везде искали. А дома крик, свиньи визжат, куры кудахчат. Взяли у нас казаки 3 овцы, свнью на 4 пуда и кур голов 15 - проголодались! Вели себя, как бандиты. Вот за это мы их и выгнали из России в Гражданскую войну.
В 1918 года наша семья надумала делиться. Тоже на три части: моему отцу Василию Ивановичу дали 1 лошадь и жеребенка-двухлетка, 2 коровы, 15 овец, дяде Феде дали лошадь и коня-двухлетка, 2 коровы, 15 овец и старую избу в четыре стены. Дедушке Ивану дали лошадь, корову, 5 овец. Изба у него была на огороде и там же небольшой дубовый амбар. Сад он никому не отдал, все 200 деревьев себе взял, также росли в саду вишня, слива, смородина, крыжовник, малина. Большая рига досталась нам с отцом, она у речки стояла. И дяде Феде построили ригу тоже у самой речки. И дедушке сделали небольшую ригу, поставили ее в конце сада. Делали всё вместе. Мы с отцом построили свою избу, выдвинув ее вперед, всё казалось, что мало у нас позьма.
В 1918 году меня взяли на Гражданскую войну. Когда Красная гвардия не справилась с белыми, Ленин отдал приказ: нужно создать регулярную Армию. Её создали в 1918 году 23 февраля. И вот меня забрали 15 июня 1918 года. Учили нас в Петровске, нас было 11 тысяч. Там стояли бараки, их сделали протяженностью в 4 квартала. Как едешь от Малой Сердобы к Петровску – от дороги и до леса стояли бараки. Мы тогда были Саратовской губернии Петровского уезда Малосердобинской волости. Дядю Федора назначили как революционера каптенармусом над всем военным лагерем в Петровске.
Из Петровска отправляли на фронт против Колчака, к Чапаеву, сначала солдат постарше. В 1919 году было очень тяжело Советской власти, нас окружили со всех сторон: Колчак с востока, генерал Юденич шел на Петроград, на юге был генерал Деникин, который Кавказ забрал и подошёл к Волге, к Царицыну, отрезая нефть на Кавказе. А тогда была нефть только в Баку.
В 1919 году нас осталось в Петровске 3500 солдат. И вот дошла очередь до нас. Нас направили на юг, на Деникина. Только остался в Петровске хозвзвод, конюха, которые убирали лошадей. В 1919 году в августе месяце мы поехали из Петровска, эшелон за эшелоном. Мы ехали на помощь 34-й дивизии, к Кирову Сергею Мироновичу, в нашей команде – 200 солдат. Дивизия стояла в Астрахани. Доехали мы до станции Красный Кут. По приказу, с Красного Кута поворотили на Чёрный Яр. Подехали к станции, к Волге, в тупик, стали перебираться на паромах через Волгу в Чёрный Яр, который на том берегу Волги. Перебрались, когда 34-я дивизия пришла в Чёрный Яр. Началось распределение по полкам, ротам и взводам. В наш 305-й полк попало много сердобинских. Едва успели распределить людей, как на нас напала кавалерия генерала Шкуро. Здесь произошло мое боевое крещение – страшный был бой, смертельный. У нас силы было мало, а у Шкуро больше. Мы устояли только благодаря тому, что перед нашими окопами стояло проволочное укрепление – 16 рядов. Потом нам дали в подкрепление две дивизии – 7-ю кавалерийскую и Дикую дивизию. Дали приказ перейти в контрнаступление. Накануне нам сообщили, что Ленин сказал речь: вы пошли в контрнаступление, это очень верно; нас кругом душат; только не забывайте: наша армия не карательная, а освободительная, и вы народ не обижайте. Если ты голоден (говорил Ленин) – спроси хлеба, если в селе остался священник – пусть служит, советую – сходи в церковь, это будет очень хорошо. Почему он нам так советовал? Дело в том, что, когда перед нами Красная гвардия дошла до Черного моря, а потом их погнали казаки, красногвардейцы там стали безобразничать, отбирать имущество. Я после узнал об этом, когда мы проходили теми же местами.
Не могу точно сказать, сколько верст от Черного Яра до Царицына, мне кажется – 90. Мы пошли в наступление (дата неразборчиво) октября 1919 года. А в Царицын пришли 1 января 1920 года. Два с половиной месяца шли до Царицына. Проходили мы села Салдники, Вязовку и другие. Бои очень сильные были. Враг никак не хотел отступать, тяжело нам было на этом фронте, трудно разбить белых. 40 тысяч легло нашего брата. Шкуро и Деникину не хотелось отступать, но пришлось. Помог Буденный. Он пришел от Камышина. В помощь Буденному 1500 бойцов добавили наших, саратовских.
Когда мы пришли на станцию Царицын, около Мамаева кургана, главное командование отдало нам приказ преследовать белых. На юг мы шли по Сальским степям. Буденный – впереди, он захватывал железнодорожные станции, и с нами связь держал, а мы – за ним. Так прошли мы Донскую область и вышли в Ставропольскую область, потом опять в Донскую. Вышли мы на станцию Торговую – ее сейчас называют Сальск. Вот здесь и столпилось много войска: части Буденного, кавалерийский отряд Курышкина и наша 34-я дивизия. Задумали кадеты разбить нас, оставили на Торговой 100 офицеров, а основные их силы как бы отступили. И вот нас разбили по квартирам. У нас в дому очень много солдат, полная изба набита. Ночью все спали, а мы с Бочкаревым не спали. Чуяло сердце! Что снаружи творится? Мы с ним все же решили выйти. Насилу прошли: в избе подряд лежали бойцы. Когда вышли к забору, слышим, началась стрельба. Не поймем, что творится. Бочкарев закурил. По улице ехал разведчик, и к нам: “Дай закурить!” Я его спросил: “Что творится?” Он говорит: “Белые сделали засаду, а сами пошли в контрнаступление. У нас вся кавалерия выступила им навстречу. У нас много кавалерии, и мы белую атаку отбили, они прогадали”.
Противник отступил, а поутру всю станцию оцепили и пошла повальная проверка. Наловили 87 офицеров, кадетов, которые в наших часовых стреляли в эту ночь. Мы наутро пошли дальше в наступление, а с офицерами расправилась чека.
Когда вышли, кто-то сказал: “Погодите, сейчас поедет Буденный!” Так пришлось мне его увидеть случайно. Герой был, ему в это время было 35 годов, а мне – 20. Шел эскадрон, кони белые, музыка с коней играла очень хорошо, кони плясали.
Буденный пошел на Ростов, а мы пошли на Азов, левее Ростова. Мы прошли Песчанск, Белоглинск, Покровку и вышли в балку. Тут наша кавалерия перерезала железнодорожный путь, в нашем расположении оказался белый бронепоезд. Наша рота его оцепила, он сильно отстреливался из пулеметов и орудий. Пришлось ждать, пока у него патроны и снаряды кончатся. Тогда мы его взяли в плен.
Выйдя в балку, мы поворотили на Тихорецк. Оказалось, под Тихорецком белые сосредоточили очень много войск. И вот нас против них направили. И мы там сразились. Из всех боев был бой! За один день Тихорецк 7 раз переходил из рук в руки. К вечеру мы их одолели, забрали Тихорецк полностью и пошли дальше, преследуя белых.
Мы наступали левее Краснодара, тогда его называли Екатеринославом, по царице Екатерине. Вышли мы в Терскую область, около Новороссийска. Вот тут и конец наступил Деникину, всех мы разбили. Те, что поумнее, уехали с Деникиным за границу, остальных мы забрали в плен. Нам помогала в этом зеленая армия – дезертиры собрались в горах и тоже наступали на белых. Так мы белых окружили и разбили.
Я и Иван Журлов заболели тифом, и нас отправили на станцию Торговую в лазарет. Лазареты располагались в избах, которые оказались без хозяев, в школах и учреждениях. Больные лежали на полу, на тряпье, вши заедали. Каждый день возили на кладбище мертвых. Говорили, что умерло до 13 тысяч человек. Здесь мы встретили земляка Пчелинцева Евдокима Васильевича, с моего года рождения, поступившего в лазарет прежде нас. Мы стали поправляться.
Как-то Евдокин пошел на станцию: “Может, увижу кого сердобинских!” И там прозяб, получил возвратный тиф и помер. Его зарыли на станции Торговой. А мы выздоровели с Журловым. Нас распределили по квартирам, во времянки. Мы в печке жарили гимнастерки, уничтожая вошь. Однажды Журлов пошел с казаком кубанцем в село. Казак перешел к нам, красным, служил у Буденного, жил он в соседней времянке. В селе набирали добровольцев, 2 эскадрона, на басмачей. Журлов и кубанец записались добровольцами. А басмачей было 12 тысяч и больше. Там наших порубили много около Бухары.
Журлов вернулся и говорит: “Шайкин, иди в канцелярию и тоже запишись”. Я ему сказал: “Не пойду. Буду ждать комиссию. Туда в Бухару сколько нашего брата угнали, и всех порубили, как капусту. Выпишись, я тебе советую”. А он мне говорит: “Все равно и через комиссию призовут на фронт. Врангель идет, Польша, Петлюра на Киев”. Не послушался меня Иван, и вот я его провожаю. Коней и обмундирование им дали хорошие, шашки, карабины, револьверы. Прошло 10 дней. Кубанец Миша шлет мне письмо: “Андрей Васильевич, я не нашел адреса Ивана Александровича и пишу тебе, чтобы ты сообщил его родителям: Иван погиб в неравном бою. Наших было мало, весь эскадрон порубили. А мне посчастливилось, я был в карауле у штаба. Басмачи их заманили в горы, окружили и всех порубили”. Я написал родителям Ивана, они мне ответили, очень горевали и плакали: "Почему ты не уговорил Ивана остаться"? Но он меня тогда не послушал. Наверное, быть тому, судьба.
Приходит ко мне командир взвода и говорит: “Шайкин, я тебя прошу: вы поедете в Ростов с Леоновым и пройдете там комиссию – ты по тифу, он – по глазам. Если пустят домой – поедете, а примут на службу – пойдете там в военный городок. Мы через неделю тоже поедем туда на комиссию. Вы же повезете красноармейца, он ошутоломел (сошел с ума), очень быйный сделался после тифа. Привезете его в Ростов и сдадите в сумасшедший дом”.
Дали нам место в вагоне, мы сумасшедшего связали и повезли. В Ростове на станции развязали его, а он у нас сбежал и начал всех подряд бить. Его милиция поймала, привела к нам, к вагону. Подошла машина, мы опять связали его и сдали в сумасшедший дом. Идем мы на комиссию, а я вижу, остановился эшелон. Я смотрю, бежит от эшелона мой товарищ, сосед Иван Митрофанович Журлов, 1901 года рождения. Мы с ним поздоровались. Поговорили, на станции 3-й звонок пробил, команда “садись в вагоны!” Он сказал: "Если тебя отпустят домой, расскажи моим родителям, ка мы с тобой встретились. Нас везут неизвестно на какой фронт", - и побежал к вагону. А я пошел на комиссию.
Меня приняли на службу и дали документ. Подхожу к первому же бараку - из него выбегают красноармейцы, мои товарищи: Бочкарев, Кривоножкин и Казанцев Матвей. Кричат: "Эх, здорово! Шайкин прибыл". Они направлялись на кухню. Я им говорю: "Возьмите и на мою долю котелок и принесите супу". Бочкарев вернулся в барак, взял там еще один котелок и принес мне супу и каши, а взводный дал пайку хлеба и забрал мои документы. Оказалось, все они тоже служили в нашей 34-й Кировской дивизии, только в другом полку. И вот я с ними в одном отделении.
Через 10 дней нас, 550 человек, сформировали (в отдельный полк?). В Ростове был большой военный городок, до большого оврага. После войны с немцами я еще раз побывал на этом месте с внучком Славой, когда прилетал в Ростов из Пензы. Сейчас там аэродром, постройки, а военный городок ликвидирован.
И вот мы прибыли на станцию, стояли 2 недели. Нас кормили очень хорошо. Дивизионные раболовы ловили рыбу в Дону около Азовского моря. Очень много наловили. Каждый день нам давали на двоих котелок мелкой рыбы и крупного леща также на двоих.
Пошли в поход, выдвинулись километров на шестьдесят в Таганрог. Полк был подчинен 9-й Краснознамённой дивизии. Стали нас распределять по ротам. Бочкарев Иван Егорович стал связистом, Казанцев Матвей Васильевич попал в хозвзвод как хороший сапожник. А мы с Кривоножкиным Петром Степановичем остались в одном отделении, в пехоте. Ждали приказа, ожидая высадки с моря десанта Врангеля. (На Россию) идет Польша, Петлюра к Киеву лезет, враг со всех сторон. И вот высадился десант в Ахтарске с Черного моря, 40 тысяч врангелевцев. Они хотели захватить Кубань, отрезать Кавказ и бакинскую нефть. Нас повезли на отражение десанта через Ростов на Кубань, где когда-то мы наступали на Деникина. Высадились из вагонов, стали окапываться. А неприятель от моря уже удалился в нашу сторону на 70 километров. Здесь мы с ним и сразились. У нас было войска много: 2 дивизии кавалерии, наша дивизия и при нашей дивизии 15 тысяч кавалерии, флотских было 10 тысяч, морской пехоты. В 90 километрах от моря мы остановили десант и погнали его обратно к морю купать его войска. Те, что поумнее, сбежали в эмиграцию, а подурнее – остались, разбежались по камышам. Он вдоль моря километров 90 тянулся. Места болотистые. Им Врангель сказал: «Я опять тут высажусь». Но не пришлось. Здесь все было заминировано. Мой дядя Гриня служил во флоте минером и мне потом рассказывал: «Вас угнали и наш флот ушел, а мы, минеры, еще месяц стояли, минировали берег и только после этого уехали в свою часть».
Но перед этим мы оцепили камыш и охраняли. Потом пошли в наступление. Войска было много. И вот к нам приехал главнокомандующий (председатель Реввоенсовета) республики Троцкий и мне пришлось его лично видеть. Нас построили, он проходил вдоль строя, нас поздравлял и наш полк: «Здорово, 81-й полк!» - «Здра…здра!..» Потом выступил с речью. Речь была очень долгой, оратор замечательный.
10 дней мы охраняли побережье. Когда сняли, нас повезли через Ростов в Крым на Врангеля. Не доехали до Гришиной (ошибка мемуариста) станции, сгрузизились и пошли на село Успенку, а потом поворотили на Мариновку. И тут мы сразились с Врангелем. Очень сильный был бой, никогда не забыть. Я считал:в один день бросалась на нас в атаку кавалерия 16 раз, хотела нас отрезать от своих. Но здесь ходили три бронепоезда, и неприятелю не удалось победить нас. Бились мы насмерть, но не отступили ни на шаг. В каждом окопе собрали после боя по ведру пустых гильз. Мы били залпами из ружей, из пулеметов «максим» и «кольт». Побили неприятеля много. Но на другой день мы отступили, так как ему удалось прорвать левый фланг. Бронепоезда ушли в тыл, а мы ночью пошли в наступление на Гуляйполе, где родина Махно. Когда шли по улице, нам показывали его дом – крайний около оврага, саманный. По профессии он учитель. Так сказали нам жители. Пошли дальше наступать на село Пологи, где население греки и всякие иные нации. Не дошли мы до него 5 километров, как белые прорвали левый фланг: 7-я кавалерийская дивизия не устояла. Белые заняли Гуляйполе, и нашу дивизию отрезали от обозов. Мы оказались в окружении, особенно наш 81-й полк и вся бригада – три полка. От нашего полка осталось 23 солдата.
И вот пропишу о себе, как мы спаслись – это чудо. Окружили нас, патронов нет. Пасмурно, вечер. Я бросился в заросли курослепа, Кривоножкин за мной. Проползли с километр, потом вставали и двигались вперед перебежками. На пути овраг глубокий, широкий. Мы сползли в него, а там еще трое красноармейцев, потом еще трое подошли., из них один командир взвода Семёнов. Покурили, посоветовались – я не курил сроду – и стали выбираться наверх. Немного прошли по равнине – заметили разведчика белых. Командир взвода сказал: «Сколько у кого есть сил, бежим в камыши». До них километра полтора. Разведчик нас заметил и ускакал. Взводный сказал: «Сейчас он им сообщит о нас, и они прискачут и нас порубят». Немного не добежали мы до камыша, как белые прискакали, стали искать нас, но мы успели спрятаться в камыш. Они уехали, мы дальше пошли широким ходом.
Ночь была светлая. Мы шли на восток по звездам левее Гуляйполя, где было много войска, поэтому кругом заставы. Пришли к водотёку, тут сырые места и трясина, вышли на шоссейную дорогу. Глядим – три дома стоят. От Гуляйполя 7 километров, заходить опасно: может, тут находятся кадеты? Но делать нечего: мы очень голодны, пришлось на все идти, даже рисковать жизнями. Послали одного узнать. Он пошел к крайнему дому, а мы наизготовке. Он постучал – вышел старик: «Кто тут?» Наш у него спрашивает: «Дедушка, в вашем хуторе есть кадеты?» Тот отвечает: «Нет, а в Гуляйполе полно». «Дедушка, дай нам хлеба, мы очень голодны». «Сколько вас?» «Восемь человек». «Сейчас сделаю». Нарезал восемь ломтей, дал чугунок картошки и соли. «Воды возьмете в колодезе». Мы просим: «Дедушка, покади нам дорогу на Устиновку, пожалуйста!» И он повел нас.
Километра четыре прошли с ним по дороге, которая вела в лес, и старик сказал: «Идите этой дорогой до леса, но в него не заходите, а поверните влево вдоль леса. Вправо не ходите, там кадеты. Дойдёте до просеки и пойдете по ней, она вас выведет к Устиновке».
Мы поблагодарили его, попрощались и пошли. Километра два прошли, сели, покушали, поблагодарили Бога и старика и пошли шибким ходом. Вышли на просеку, по ней вышли на край поля. Рассветало. Тут была линия нашей обороны. Свои нас тут же забрали «в плен» и повели в штаб полка. Там мы узнали, что наша дивизия разбита, а бригада – наполовину, а от 81-го полка осталось только 23 человека, считая нас. Двум бригадам помогли соседние части, поэтому половина бойцов осталась в живых, и они вышли из окружения. «Ваше полковое знамя вынесли из окружения политрук и с ним шесть бойцов. А дивизия ушла в тыл на пополнение, 25 километров от нас», - рассказали нам в штабе.
Вот прибыли мы в свою дивизию. Пришло новое пополнение, призыв 1901 года рождения – вятские и пермские. Две недели отдохнули и пошли вновь на переднюю линию добивать Врангеля, мстить за себя и погибших товарищей. Гуляйполе взяли быстро и погнали белых господ. Они отступали без оглядки. Дошли до Сиваша, где самые тяжелые места: трясина где три километра ширины, а где два с половиной. Местами весь полк может утонуть в трясине. Поблизости был лесок, возле него штаб, караулка и избенка, где остановились Фрунзе и Блюхер. Мне пришлось их видеть издали.
В это время к нам, красным, присоединился Махно. Много кавалерии, тачанки, пехота. Я стоял на карауле у складов, закрытых брезентом, вижу, идет товарищ. Я у него спрашиваю: «Почему столько войска?» Он мне говорит: «Махно присоединился». А от нашего взвода в этот день дежурил один боец в штабе командующего. И он рассказал, что явились в штаб четыре человека от Махно, один – его заместитель. «Я доложил Фрунзе о них», - рассказывал боец. Фрунзе приказал пропустить их. Они вошли и стали разговаривать с ним. Они говорят: «Мы здесь выросли, поэтому знаем места переправ через Сиваш». Фрунзе отвечает: «Ну, тогда переправляйтесь через Сиваш». Когда махновцы ушли, Фрунзе и Блюхер вышли наружу, Фрунзе и говорит Блюхеру: «Ты предусмотрел, куда нам бежать в случае измены махновцев? Видишь, сколько у него войска, а нас лишь один полк, основные силы разбросаны по всему берегу. Он может на нас напасть, он очень ненадежный». Об этом разговоре нам рассказал товарищ, который дежурил при штабе.
Но все закончилось хорошо. Махно переправился через Сиваш и зашел противнику в тыл. Он очень нам помог. Мы тоже стали перебираться. Проводником у нас был здешний старик. А то весь полк мог утонуть в трясине. Когда мы переправились через Сиваш, командир полка поблагодарил старика и спросил у него: "Чего тебе дать в подарок?" А один красноармеец кричит: "Товарищ командир, дай ему лошадь, у них в поселке всех лошадей отобрали белые и у него тоже". И командир полка приказал дать старику лошадь из обоза и дал ему документ, что никто не мог отобрать у него этот подарок, он его заслужил. После бойцы из хозвзвода рассказывали, что когда они проезжали через этот поселок, лошадь стояла у дома старика, а вокруг народу человек 50, старики и малыши. И говорят старику: "Все равно отберут лошадь". А тот показывает им документ и говорит: "Никто не отберет. Так сказал полковник, это лошадь его полка, и ее мне сам полковник дал". И все в поселке радовались этому.
Махно перешел в наступление с тыла и наша дивизия зашла с тыла. У Врангеля укрепления очень хорошие, 100 ходов сообщения и проволочное заграждение на 2 километра. Вот и пробей его оборону. Эти укрепление делали миллионеры, 4 державы - Франция, Америка, Италия, Германия. Все свое богатство русские капиталисты свезли в Крым и ждали, когда им казаки завоюют Россию. Ограбили всю Россию! На 305 кораблях увезли наши богатства за границу вместе со своими союзниками, когда стали удирать.
Вот Врангель побёг к морю и стали садиться на корабли. Некоторые прямо в море кидались. Про нас, красноармейцев, распространяли слухи, будто мы с рогами. Врангеля мы победили и стояли в Крыму до конца ноября 1920 года.
Как-то командир роты дает команду строиться. Построились, подъехало высшее командование: командир бригады, командир полка и комиссар. Пошли вдоль строя, дошли до меня: "Как фамилия?" - "Шайкин". - "Какой губернии?" - "Саратовской". - "Семейное положение?" - "Отец, мать и брат на 5 годов моложе меня". - "Холост?" - "Холост". "5 шагов вперед - марш!" Отобрали меня и Леонова из Тамбовской губернии и направили в канцелярию. Ротный говорит: "Не знаете, для чего вас вызвали? Было указание от Ленина: из каждой роты выбрать по красноармейцу и направить на высшие командные курсы в Киев, в кадетский корпус, где учились до революции юнкера, бывших помещиков сыновья. Шайкин, вы согласны?” – “Согласен”. – “Леонов, вы согласны?” – “Согласен”. – “Поедет из вас один на пять годов и больше. Давайте домашние адреса, мы напишем в сельсоветы насчет характеристик”.
Десять дней прошло, характеристики пришли с родины, у меня была характеристика очень хорошая. Я был середняк, он был бедняк – постарше меня на 2 года, оба были беспартийные. Я прошел комиссию, а он нет. И сразу меня готовят к отправке в город Киев. Вот я и прибыл в Киев, в кадетские корпуса. Началась разбивка по командам и казармам, по кабинетам – 4 человека в кабинет. 4 койки, 2 шкафа, каждый шкаф на двоих. Дали обмундирование: 2 комплекта, одно парадное, другое учебное [повседневное]. Чистота очень хорошая и дисциплина очень строгая. Пробыл я месяц. Учился на “хорошо” и заболел. Меня отправили в Киев, улица Крещатик, в военный госпиталь. Очень я сильно болел, думал – не выдержу, помру: горло опухло, простуженый сильно был. Лежал около месяца. И вот немного поправился, меня выписали из госпиталя, опять направили в школу, в кадетский корпус. Но у меня настроение отпало насчет учебы, и надумал отказаться от учебы: наверно, судьба по-своему ведет – не быть мне начальником. Когда меня вызвал в свой кабинет генерал школы и начал беседовать со мной, я ему сказал: “Больше учиться не могу. Я очень слабый и мне неохота учиться, настроение у меня отпало”. Он меня стал уговаривать: “Мы тебя учить станем по твоей слабости”. Я наотрез отказался. Тогда он согласился: “Только не обижайся”.
Я ему говорю: “Я сам отказался, зачем я буду обижаться? Вы меня направьте в мою часть, в 9-ю Краснознаменную дивизию”. Он сказал: “Ваша дивизия на Кавказе, на границе. А вот формируется 144-я этапная рота на Крещатике 600 человек, вот в нее и пойдешь. Будете помогать чекистам охранять границу около Слуцка и Бреста. И будете банды ликвидировать". Я согласился.
И вот я в команде 144-й этапной роты на улице Крещатике. Немного постояли, и нас стали отправлять на границу. Шел 1921 год. Разгрузились на станции Винница, а потом направились на Луцк. Нас подчинили дивизии, которая стояла на границе, занимая оборону до Бреста. Стали действовать. Две банды ликвидировали, пойманных бандитов отправляли в Киев или Одессу. Боёв было очень много. Враг, буржуазия, Антанта засылали к нам разведчиков и бандитов, но мы их всех выгнали. В конце 1921 года наш этап стали расформировывать, он стал не нужен, так как число банд сократилось. Нас отправили в Полтавскую губернию, в городишко Ромны. Там стояла 4-я кавалерийская дивизия, все бойцы кадровые. Молодых стали учить кавалерийской науке, а нас, 1900 года рождения и старше, направили в хозвзвод и скоро демобилизовали.
Воспоминания крестьянина Андрея Васильевича Шайкина
(Продолжение)
И вот я снова дома, занимаюсь сельской работой, хлебопашеством. В конце 1922 года я женился, пошли дети, девчонки народились: Таня-большуха, Паша, Маруся, Клава и жена Агафья – вот моя семья из шести человек. Детьми мы дорожили, они у нас росли хорошо, умные, послушные, учились только на «отлично».
По указу Ленина в стране начался нэп и восстановление хозяйства. Работали в единоличных хозяйствах на лошадях. Жить стало получше. Продналог выполнишь, остальное вези куда хочешь. Но вот подошел 1928 год, стал образовываться добровольный коллектив (товарищество по совместной обработке земли). В 1929 году возник колхоз, но в него зашло немного крестьян, только пролетарии. Кроме них, никто не шел в колхоз добровольно. Наступил 1930 год. И вот грянул гром: всех стали загонять в колхоз принудительно. И стал народ уезжать в города на все стороны. Которые грамотные – те еще в 1929 году уехали. Поэтому грамотных в колхоз совсем мало зашло. (Да и те как следует не работали), только ходили с папками, агитировали да загоняли в колхоз лучших тружеников.
Пошло раскулачивание. На каждого крестьянина накладывали дополнительный налог – такой большой, что его невозможно выплатить. И на скот полагался большой налог. А лозунг один: вступайте в колхоз добровольно! Очковтирательство! Наложили и на меня налог – большую сумму денег. Его нельзя было выполнить, даже если бы я продал две коровы. И вот я зашел в колхоз, отдал лошадь, серого мерина молодого – 4 года, сбрую, инвентарь, сани, фуру, колоду, полог, плуг, бороны – всё отобрали до ручки.
И попали мы под замок. Были мы свободными, а стали рабами. Я всё вспоминал покойного Ленина, потому что мы с ним воевали за Советскую власть народа. Если бы он был жив, такого издевательства не было бы. Он сделал бы по-другому, насильно не стал бы загонять в колхозы, он был очень умным. Но враги его сразили, поранили отравленными пулями, он прежде времени и помер.
Зимой я работал плотником, летом – пахарем. Всю землю поднимали на лошадях. Нам ничего не платили, только начисляли трудодни. Не знаю, кто это удумал, я все думаю – Ягода или Ежов. В центре командовали враги народа. И Сталин был врагом народа. Жали на область, область на район. Все ходили под дулом нагана, партийный и беспартийный. Весь хлеб отберут, а нам говорят: «Вы – хозяева». А «хозяевам» государство отпускало в три раза дороже, чем получало от нас, семена и комбикорм.
В колхозах можно было бы работать, если бы платили за работу. Но враги народа не давали народу ничего и морили его голодом. Стали раскулачивать, отправлять в концлагеря и Сибирь. Вот один случай. Насажали полную арестантскую людей и подогнали обоз для отправки. Среди них Федька Демидов и Подгорный из села Асмётовки. Они при единоличном хозяйстве восстановили мельницу на реке Сердобе. Их за это раскулачили и посадили в арестантскую. Когда их вывели, чтобы посадить на подводы, Федька как-то сумел убежать, а Подгорный побёг – его застрелили. Погиб человек ни за что. Таких случаев было много, все не опишешь.
В нашем колхозе сперва был председателем Клевцов, из рабочих, 25-тысячник. Заместителем у него был Кулаков Сергей Андреевич. Оба были партийными. Поработали два года – сняли. Назначили председателем Граблина Павла Егоровича, партийного, из села Бакуры. В марте 1932 года ему кто-то сказал про меня (как о добросовестном колхознике). Я его сроду не знал и он меня тоже. Я работал плотником на улице Кузнецовке в пристенке у Манышева Андрея делал «транспорт»: фуры, весь инвентарь. Вижу, пришел курьер Забелин Федор Иванович, мальчишка годов десяти, дает мне бумажку от Граблина: «Явиться в правление колхоза». Я зашел домой, разул лапти, надел чёсанки (с калошами), так как было сыровато, являюсь в правление. Граблин как раз собирает заседание. Поздоровался с ним, он и говорит: «Садись! Андрей Васильевич, я тебя хочу назначить своим заместителем по хозяйству». Я отвечаю: «Павел Егорович, я же малограмотный, а надо кассу вести, все деньги пойдут через мои руки. Надо приход-расход вести». А он отвечает: «Мне твоя грамота не очень-то нужна. У меня в правлении грамотных полно, только в хозяйственных делах не смыслят. Мне нужно хозяйство поднять, а ты – хозяйственный».
Граблин говорил, а я слушал: «Мы с тобой находимся в бывших домах кулаков. Они хотя и не кулаки, но их так назвали. А нам надо обзаводиться своим колхозным хозяйством. Нам с тобой предстоит сделать пять конюшен, при базе – избу и ригу для кормов. Корма – на замок. Нам нужно построить кирпичный завод для ручного изготовления кирпича. А то Королёвых (местных кирпичников) раскулачили, кирпича не стало. Будет колхоз кирпич продавать – у нас появится побочный доход. Нужно сделать маслянку (маслобойку), у нас будет масло, а от него тоже доход. Нужна чесалка (шерсточесалка). А то ее у старика Манышева отобрали, он весь свой горб на ней замучил, стал горбатым от работы, и за это его раскулачили. А мы сделаем к чесалке привод, лошадка будет вертеть, чесать шерсть – а нам опять доход. Еще нужно сделать ирригацию, ввести полив хотя бы на 100 гектарах. Будем сажать арбузы, дыни, капусту, огурцы, помидоры, и появятся у нас свое подсобное хозяйство и деньги. И вот когда мы это сделаем, тогда и будем грамотными. Ты сколько прошел учебы?» «Три года. Учился на «хорошо». «А я четыре года… Вот сошлись два грамотея! Давай с тобой колхоз «Первый путь» восстановим, чтобы он стал миллионером!»
И взялись мы по-настоящему за работу, всё сделали, как намечали. И колхозники очень хорошо работали, хотя им и не платили ничего. Но в войну всё разрушили, а после войны доломали.
В конце 1938 года я подал заявление об уходе из завхозов, очень стало трудно работать. Дети малые, ходят в школу, жена больная. Я день и ночь в колхозе, позьмо обрабатывать некому. А ведь только от него и кормились. Вместо меня назначили завхозом Гурьева Ивана Федоровича, а меня избрали председателем ревизионной комиссии. Потом меня послали в тракторный отряд. В конце 1939 года Гудков Василий Григорьевич не справился с учетом, вот меня и послали вместо него учетчиком. Бригадиром был Стрельников Петр Степанович. Мне в отряде нравилась работа. На должности учетчика я работал до августа 1941 года.
И вот наступил 1941 год. 29 августа мне принесли повестку явиться в военкомат. Привез нарочный повестку в полеводческий отряд. Мы стояли в Питленковой [местное название] в поле. Я расстроился. Вечером пошел домой. Даже забыл косу – лежала под будкой. Наверно, сердце чувствовало: мне очень будет мучение – плен. Поутру я пошел в военкомат. 29 августа 1941 года. Мне сказали: “30 августа вас будут отправлять на войну”. Я очень расстроился и не мог в себя прийти.
И вот меня провожают на войну. Я был без памяти. Я оставляю четыре девчонки и жену больную. Но ничего не поделаешь, Родину надо защищать, в рабы неохота идти и свое поколение позволить поработить.
Молотов выступил с речью к народу: “Дорогие товарищи! Враг напал на нас вероломно, безо всякого предупреждения. Враг силен и коварен и неумолим. Все на защиту Родины!”
Нас отправили в город Балашов. В это время всех гнали в Селиксу. 26– 27 августа были очень большие наборы, а нас небольшой был набор – 34 человека в город Балашов привезли. 18 дней поучили и на фронт поехали. Минометчики, 1500 человек.
Теперь я вам расскажу, как мы ехали и шли до передовой – вы ужаснетесь, какподготовился, а наше правительство ушами хлопало, глядело на подпись – подписали с Риббентропом [договор] о ненападении. Он [противник] порвал подпись и готовился, а наш Сталин глядел на подпись. И нельзя сказать про войну – расстреляют.
Доехали мы до станции Лиски, ехали мы на Харьков. Около Лисков эшелон встретил немецкий самолет, бомбил, но нам вреда не сделал, его сбили. А до фронта было 1000 километров. Не доехали до Харькова 30 километров, остановились, в селе – столовая. Всем эшелоном пошли в столовую, пообедали и сели в вагоны и поехали. После нас зашел следующий эшелон. Налетели немецкие самолеты и разбили всю столовую, отошло убитых и раненых на сорок процентов. А фронт в 800 километрах.
Из Харькова стали вывозить раненых – их всех добил, разбомбил противник. А мы к утру доехали благополучно до Харькова. Он (противник) бомбит Харьков, могуты нет! Нас с эшелона спрятали в кирпичные сараи. Там овраг и кустарник. Он нас и там нашел, очень сильно бомбил, были убитые и раненые. Оказывается, у него (противника) на окраине Харькова работал в подвале передатчик, откуда радист передавал (информацию о местонахождении красноармейских частей).
К вечеру пошли грузиться в вагоны – он и тут нас бомбил. Снова жертвы, раненые и убитые. Наконец, собрались, поехали на Ахтырку, до нее 25 (правильно – 100) километров. Не доехали до Ахтырки, рассвело, он опять прилетел и начал бомбить. Мы выпрыгнули из выгонов, по лесу разбежались, а эшелон, вагоны, были разбиты в щепки, наших много (немец) побил и поранил. А до фронта еще 700 километров! А он нас замучил, бомбит и бомбит. Наших же самолетов не видать.
Дальше мы шли пешком 600 километров до передовой. Дошли, пополнили дивизию. Там были и пограничники, и кадровые военные: «Пока мы ехали до фронта, немец нас замучил бомбежками». «Нас тоже замучил», - отвечали они. Дальше мы отступали 600 километров, всех измотал противник. Сталина проклинали. Он отдаст приказ задержать гитлеровцев, мы задержим, а он обойдёт, и мы в окружении, наших берет в плен. Он (немец) нам постоянно кричал: «Рус, огурчиков (снарядов) нет? Ну, держитесь теперь!» Могуты нету! У нас же ничего не было – ни танков, ни самолетов, ни снарядов. Вы уже узнали (из написанного мною), каково было на железных дорогах. Кто же их подвезет в таких условиях до линии фронта?
Трижды я выходил из окружения, а в четвертый раз не вышел, попал в плен под Харьковом. (Плена боялись). Бывало, придет приказ от Сталина: ни шагу назад, всех постреляю! Особый отдел – враги народа! – выведут из строя, выстроят в одну шеренгу человек десять, кого попало, и на наших глазах расстреляют. Показывали этим: всех постреляем, (если отступите)! Враг был Берия, а в особых отделах работали его помощники. Но (как выполнишь приказ?) Лбом противника не остановишь, нужно оружие, боеприпасы, а их нету. Пограничники рассказывали нам, что был приказ всю технику оставить на границе. А у кого она была, не давали заправлять горючим. Мы много техники оставили на границе и за это проклинали Сталина. Вот и отступали от границы 800 километров. Вот как подвел «вождь народов»!
Вот и для меня наступили мытарства, мучения от ненавистного врага-фашиста, страдания и голод, издевательства невыносимые!
А теперь я расскажу, как попал в плен к ненавистному врагу-фашисту около села Кутильвы Харьковской области. Заняли мы оборону в семи километрах от Кутильвы. Противник прорвал левый фланг и окружил нас, мы оказались в тылу немцев, в сорока километрах от своих. Это было мое четвертое окружение. (Причина их в том, что) наши войска отступали как попало. Командование про нашу роту совсем забыло. Мы послали связного – его убили или еще что с ним случилось, никто не знает. А мы все лежим в обороне. Ободняло. Едет легковая машина по шоссейной дороге, немецкое начальство. Мы ее обстреляли – она назад уехала в свой штаб, который находился в Кутильве. Село было занято немцами ночью. А мы все «воюем» в немецком тылу. И этот день пролежали, ночью послали разведчика. Он узнал, что в Кутильве штаб немецкий. И ротный Попов Михаил Федорович нам сказал: «Мы ротой не сможем выйти из окружения, так как находимся в глубине немецкой обороны. Давайте разбиваться на группы по три-четыре человека, товарищей подбирайте себе сами, и будем выходить из окружения». Я подошел к ротному, он спрашивает: «Как фамилия?» «Шайкин». «Сколько человек в вашей группе?» Я ему ответил: «Три человека: я, Манышев и Бочкарев». (Все из села Малая Сердоба). «Хорошо, вот теперь я буду рассказывать, как выйти из окружения, а вы смотрите на карту». Он открыл карту, фонариком светит: «Пойдете на восток по лесу, пройдете километров десять, дальше будет редкий кустарник, местами трясина, луга шириной километра три. Дальше пойдет сплошной лес до Ахтырки. Пройдя через него, вы и попадете к нашим».
Ротный пошел в группе из четырех человек: он, политрук, один земляк ротного и разведчик. А мы втроем. Начался дождь со снегом. Лезем по лесу. Вдруг Бочкарев потерялся. Кричать опасно – враг кругом. В это время на нас наткнулся товарищ, тоже отшибся от своих, звать Иваном. Мы его приняли к себе. На нас было хорошее обмундирование: новые шинели, новые зеленые плащ-палатки, хромовые сапоги. Подошли к тому месту, которое указал по карте ротный, посидели, отдохнули и снова вперед. Сперва ползли, потом пошли в рост. Никого из своих не слыхать, не видать. Вдруг началась стрельба по нас, прямо засыпало пулями. Ивана убили, а мы с Манышевыми остались живыми. Подбегают к нас пять немцев-эсэсовцев, злые, как собаки. Нас обезоружили, отобрали винтовки, гранаты, патроны, кричат: «Рус, капут! Убить их!» Но их начальник унтер-офицер сказал: «Никс капут, не надо убивать». И повели нас, один впереди, двое сзади с автоматами. Идти до их штаба далеко, до Кутильвы. Если бы не унтер-офицер, они бы нас не довели, убили бы. Привели нас в церковь, а там уже пленных человек 150 Там был и наш политрук. Но мы к нему не подошли, и он очень расстроился.
Утром нас выстроили в одну шеренгу у церкви, говорят: «Коммунисты, гвардия?» Уж очень хорошо мы были одеты и обуты. Начали нас разувать-раздевать, плащи сняли и сапоги хромовые. И оказались мы разувши, а идет дождь со снегом. Манышев был в ботинках, их немцы не стали снимать. И вот для тех, кто оказался без обуви, началась мука. Как скотину гнали нас и били прикладами.
Прошли 20 километров до какого-то села. Загнали в телятник. В нем грязь, только вдоль стен сухо. Снял я с ног тряпьё и полотенце, поджал ноги, шинелью завернул. Ноги синие. Дело плохо, смерть на носу. Но делать нечего, надо все переносить, духом не падать. Подошел ко мне Манышев Иван Григорьевич и толкует: «Андрей Васильевич, ты до Полтавы не дойдешь, погибнешь». Я отвечаю: «Ничего не сделаешь. Помру – отмучаюсь. Дело к этому идет. Я – нынче, вы – завтра. Немец всех истребит». Манышев мне говорит: «Андрей Васильевич, мне по нужде надо выйти". Я ему отвечаю: "Вон садись в грязь да оправляйся". - "Нет, мне надо выйти". Толкнулся в ворота, ему конвоир открыл: "Шайзо". По-нашему, "оправляйся". Он отошел, а тут избенка рядом,сад и старик стоит. Манышев ему и говорит: "Дедушка, дай калоши, у меня товарищ разувши". А старик говорит: "Я уж наплакался, на вас глядя, но вдруг супостат (конвоир) застрелит". Манышев отвечает: "Пускай меня убивает, только дай калоши". И старик тут же принес, наверное, были где-то рядом. Человек был хороший, дай ему Бог Царство Небесное, кости бы его никогда не гнили!" Вот мне Ванька (Манышев) принес калоши, а я у него спрашиваю: "Где ты взял?" - "Бог дал". И дал мне чулки, у него в запасе были последние. Я надел калоши и поблагодарил Бога, он мне помог, обул меня и мысли вложил Ивану - наружу выйти, и старик тут оказался, будто ждал, кто придет и попросит калоши. Это всё по-Божьи.
Утром нас погнали дальше на Полтаву. Прошли 10 километров. Село Григорьевка. Небольшое. С одной стороны шоссе стоит народ возле изб, как нас прикладами бьют и гонят разутых. Кто ослабнет, ляжет, его прикладами добьют. И вот одна женщина угадал среди пленных своего мужа. Бежит метрах в пяти от колонны: "Миша, Миша!.." А конвоир из автомата ее застрелил: к нам нельзя подходить ближе чем на 20 метров. Ее убили, а народ к ней не подходит, боится. Вот чего делал фашист! Разве ее нельзя было остановить? Она же не знала их правил и погибла.
Идем дальше на Полтаву. Конвой сбоку, спереди и сзади, с собаками, бьет прикладами, кошмар. Пришли. В Полтаве лагерь только что обосновался. Раньше, наверное, здесь были бараки, склады. Огорожен колючей проволокой. Стали нас морить голодом. Наварят горелой пшеницы и говорят: «Это вы жгли и ваш Сталин». А ее есть не то что человек – никакая скотина не будет. Но приходилось. Пошло гонение, тиранство. Через пять дней пригнали новую партию пленных, с ней прибыл и Бочкарев Андрей. Он нам рассказал, какие пережил страдания, их, как и нас, тоже гнали разутыми.
Подержали нас в этом лагере один месяц или три недели и стали отправлять в город Кременчуг на Днепре. Мы его проходили, когда отступали. Холод, мороз градусов 25, позёмка, снег. Намёрзлись сильно. Человек 600 помёрзло насмерть. На какой-то станции, когда эшелон остановился, мы заметили бурт свеклы. Андрей Бочкарев кинулся и успел три схватить три корня. Немец за ним, но мы с Манышевым успели схватить Андрея за руки и втащить в вагон. Немец хотел ударить прикладом, но промахнулся и попал по колесу, приклад разлетелся вдребезги. Если бы не мы, он Манышева убил бы.
Подъехали к станции в Кременчуг, встречает усиленный конвой по обе стороны, с овчарками. Лагерь большой, пленных тысяч 60. Колючая проволока в два ряда, в высоту метра три и посередине (между рядами?) витая колючая проволока. Кругом вышки, на которых по два немецких солдата и пулемет, метрах в 50-ти одна от другой. Между вышек ходят часовые с собаками. И вот немцы стали нас морить голодом и бить, издеваться, чтобы мы все погибли. В баню нас не водили 8 месяцев, развелась вошь ужасная. Наконец, немцы решили сводить нас в баню. Зима, холод. Помылись немного и кое-как. После бани нас загнали в нетопленый сарай, чтобы мы все заболели и помёрзли. Вот как издевались! После этой бани простудились и умерли 700 человек. Иван Манышев тоже умер от простуды. А мы с Бочкаревым пока живы, нас Бог оберегал. Иван незадолго до смерти говорил: «Андрей, если мы доживем до весны, надо обязательно бежать». Я ему отвечал: «Обязательно убежим». Наверное, у него сердце чуяло, что не доживет.
Каждое утро из бараков выносили 10-15 трупов. Наложим их на дровни поперёк и возим к ямам. Человек 16 двигали дровни, тянули веревками. Сами чуть теплые. Нас бьют прикладами. Подвезем, побросаем в яму, а другие пленные, что посильнее, рыли ямы, каждую на 500 трупов. Когда яма заполнится – ее закидают землей, а другая яма уже готова. И я оплошал и уже на нижние нары сил не имею залезть. Еще бы дня три, и меня бы отвезли в яму, но судьба ведет по-своему: не быть мне мертвому. Как-то Андрей Бочкарев стоял у двери и зашел конвоир с поваром. Говорит ему: «Ком» («пошли»)! И повели работать на кухню, и он работал там 15 дней. Познакомился с поваром, и он к нам в барак стал заходить. И меня подкрепили: тайком носили хлебца, суп в пол-литровой бутылке, картошку и другое. И я стал шевелиться.
В 1943 году Молотов обратился с речью к народам всего мира, говорил о том, как немцы издеваются над нашим народом, всех подряд уничтожают, даже мирных жителей, стариков и детей и пленных. В нашем лагере 47 тысяч пленных погибли, осталось 13 тысяч. Видно, на Гитлера повлияла речь Молотова, нас стали кормить получше, стали давать хлеба и конины.
5 тысяч пленных, в их числе меня, немцы перегнали за Днепр, в Крюково. Там был небольшой лагерь и при нем мастерские. Мы с Андреем Бочкаревым ремонтировали военные брички и выполняли другие работы. Окрепнув, мы решили во что бы то ни стало бежать. К нам приходили подпольщики, которые говорили, что сдались добровольно, для агитации пленных. Они были ученые, политработники. Говорили нам: надо меньше работать, дело идет к гибели, поэтому надо бежать. Если немец победит Россию, все равно он всех нас уничтожит. Вот и пришло наше время: пока живы и помереть уже не страшно, лишь не мучиться. Как-то в воскресенье, в пасмурный день мы на станции разгружали лесоматериал. Лес был недалеко, до него можно добежать. И к вечеру мы с Андреем бежали. Пусть убьют, зато отмучаемся. Прошли мы лесом от лагеря километров 50 на восток от Днепра, выбрались на край леса. Голодные, как волки. Надо добыть продукты. Подумали-подумали, решили зайти в крайний дом. Мы не знали, что в нем жил враг-предатель. Зашли, поздоровались. Он нам: «Садитесь, я вам всё дам, сознаю вашу участь». Дал поесть супу, картошки, хлеба. Потом говорит: «Я вам с собой дам». А тем временем послал дочь-девку к полицаям. Только мы покушали, заходят двое полицаев, злые, как собаки: «Руки вверх!» Обыскали нас, думали, что у нас есть оружие. А хозяин улыбается: отличился перед немцами, обнаружил добычу. Подошла автомашина, нам надели на руки и на ноги цепи, повезли. Народ собрался, горюет. Старухи говорят: «Милые солдатики, к кому же вы зашли? К предателю».
Привезли нас в свой лагерь, развязали цепи, построили пленных в одну шеренгу, нас поставили перед ними. Подошел комендант лагеря, что-то заговорил по-немецки. Борис, переводчик, перевел, что за побег нам дадут по 15 розог и 15 суток карцера. Стали нас палачи сечь, все удары считал сам фашист-комендант. Мы стали больными, все в крови. Нам бы лежать, а в карцере ни сесть, ни лечь, только стоя. Питание: кружка воды и крошка хлеба. Но судьба и тут по-своему вела. Борис, переводчик, оказался хорошим человеком. Родом он был из большого города, мать русская, отец немец. По-немецки он говорил хорошо, а душа у него была русская. Он нас очень жалел.
Борису комендант доверял ключи. И он приносил нам баланду, хлеб и мазь для натирания. И мы остались живы и даже немного поправились. Вот как его забыть? Никак нельзя! И мы ему помогли, когда нас освободили, вы дальше об это
Воспоминания крестьянина Андрея Васильевича Шайкина
© Полубояров Михаил Сергеевич, 2007-2008 годы, Москва
ПРЕДИСЛОВИЕ
Андрей Васильевич Шайкин родился в 1900 году в селе Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенской области) в семье крестьянина среднего достатка. Из знаменитых земляков Шайкина широко известны уроженцы Малосердобинского района Лидия Андреевна Русланова и писатель Федор Васильевич Гладков. Предки Шайкина в переписных книгах числились служилыми людьми по прибору Сердобинской слободы, прибывшими для защиты города Петровска по указу Петра Первого от 5 (15) ноября 1696 года. Поначалу первопоселенцы числились конными казаками, служба которых проходила на дальних и ближних караулах, что-то вроде современных пограничных дозоров. После восстания под руководством Кондратия Булавина, затронувшего верхнее течение Хопра и Медведицы, служилых людей по прибору велели именовать пахотными солдатами, а с конца 18 века - государственными крестьянами. По сравнению с помещичьими, они находились в привилегированном положении и жили относительно богато. Нелюбовь к помещикам сохранялась долго, чувствуется она и на страницах воспоминаний Шайкина. Как отзвуки вражды времен генерального межевания, когда споры малосердобинских крестьян с окрестными помещиками о границах землевладений доходили до петербургских судебных палат.
Малосердобинская волость была одним из эпицентров аграрного движения осенью 1905 года. Здесь действовала боевая дружина, разъезжавшая по окрестным волостям и открыто поджигавшая помещичьи имения. На территории нынешнего Малосердобинского района после осени 1905 года не сохранилось ни одной помещичьей усадьбы. А.В. Шайкин не одобрял их действий - поджигатели уничтожали плоды тяжелого крестьянского труда. Вместе с тем он с большой неприязнью относился к деятельности П.А. Столыпина. В период проведения крестьянской реформы Шайкин был подростком. Поэтому его оценки, скорее, не собственные, они принадлежат старшим родственникам и соседям. Их значимость в том, что они не навязаны пропагандой, но сохранили дух и смысл суждений русских крестьян по поводу Столыпинщины. "Мы хотим великую Россию", - заявлял Столыпин. Но в 20 веке не было великих государств, развивавших экономику на аграрной основе. Это путь колониальных государств. Нужно было развивать промышленность, используя сельский пролетариат в качестве рабочей силы. По такому пути развивался Запад. Поэтому реформа Столыпина служила откровенно политическим целям - раздробить, перессорить крестьянство. И оно, судя по мемуарам Шайкина, это понимало. Столыпин для русской деревни был олицетворением злодейства отнюдь не за то, что вешал революционеров.
Вызывает интерес отношение автора воспоминаний к Ленину, Сталину другим вождям СССР. Первый для него - любимый вождь, второй - враг народа. Андрей Васильевич никогда не был ни комсомольцем, ни коммунистом, поэтому св политической предвзятости его обвинить невозможно. Жестокость Ленина обусловлена ожесточением гражданской войны. Она закончилась - и русский крестьянин получил свободу, какую не имел никогда. Жестокость Сталина в мирное время оправдать невозможно. В том числе по отношению к русскому крестьянству (кавказцев почти не раскулачивали и голода в Грузии не было). Невозможно оправдать убийство товарищей по партии, раскулачивание бывших красноармейцев - в Малой Сердобе их сослали в холодные края почти поголовно. Крестьянская мораль осуждала подобные действия. Для нее товарищество святое понятие. И еще - Родина. Своеобразную характеристику патриотизма мы находим у А.В. Шайкина в воспоминаниях о Великой Отечественной войне: "Если я на Сталина обиделся за то, что нас он загонял в колхоз принудительно, я должен Родину сдать и идти в рабы и все поколение отдать в порабощение? Сегодя Сталин, завтра Х-ярин, нынче Горбачев, завтра Лихачев, а Родину сдать и быть рабом - это невозможно, лучше помереть".
В целом воспоминания А.В. Шайкина - это взгляд изнутри на великие исторические события. Особая их ценность в том, что он не выпячивает собственных заслуг, похвальба для него дело совершенно чуждое. Мы видим лишь гордость за честно прожитую жизнь, за то, что детей воспитал достойными людьми, за то, что у него много внуков, и они живут хорошо. Это для него главное, а не фронтовые подвиги. И еще важна доброта людская: о добрых поступках он рассказывает с особой теплотой.
На публикуемой фотографии Андрей Васильевич изображен рядом со старшей дочерью Татьяной Андреевной Казачковой (фотография размещена в альбоме "Русские люди" сообщества), тоже участницей Великой Отечественной войны. Задачей ее воинской части было вслед за наступающей Красной Армией въезжать на железнодорожные станции и восстанавливать пути и прочее станционное хозяйство. Немцы жестоко бомбили ремонтные поезда.Татьяне Андреевне повезло, многие однополчане погибли под бомбами, а она, как и Андрей Васильевич, дошла до Берлина. Сейчас Татьяна Андреевна в Пензе воспитывает правнуков. Лет ей уже немало, но она сохранила жизнелюбие и бодрость, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на ее долю.
Живые, прекрасные русские лица!
Воспоминания крестьянина Андрея Васильевича Шайкина
Где у нас были господа? Барин в селе Огаревке, в селе Марьевка – барин Салов; где поселок Алексеевский, – Юматов; в Трескине было 2 барина; в “Пятилетке” был барин; село Круглое – барыня; в селе Камышинке – Гагарин; в селе Екатериновке, около Жуковки, был барин Устинов. И вот нашим предкам пришлось сделать 4 поселка (для защиты от экспансии помещиков): первый – село Липовка. И наделили переселенцев землей как положено и дали леса в Орешкином углу. Основали село Шингал – дали земли и леса в отроге. Основали село Турзовку – дали земли и леса. Основали село Асмётовку: наделили землей и дали леса на Воробьевой Поляне; его так и называют – Асметовский лес. А земля наша уходила за эти села на 6 и 8 километров. Старики боялись, что барин может отнять землю, вот и заселяли дальние поля.
Когда Сердоба основалась? Мне говорили отец и дедушка, что она начинала строится на Горах, около леса – место называется Кирпичиха. Первая церковь была в лесу. Была сделана крепость из леса и камней. На первых поселенцев нападали крымские татары, но они их отбили и отогнали.Одна из улиц на горах называется Драгунка, на ней стоял драгунский полк. Мне говорили старики, что когда Сердоба начинала строиться, царь Петр Первый послал стрелецкий полк для заселения. У нас в селе есть и фамилия Стрельниковы.
С Гор наш прапрадедушка Панфер первым перешел вниз и поселился около водотока – Ерика, на границе Кузнецовки и Тюнбая, ему понравилось это место. И задумал он рассадить сад плодовый. Посадил 100 деревьев – яблони, вишня, калина , малина, крыжовник, прорыл водоток, и ерик побежал прямиком в реку. А то тек вдоль реки, по задам и выходил устьем около дома Федьки Мочалова. Когда дедушка Панфёр прорыл ерик и сделал мосточик, люди назвали его мосток Дужниковым, по уличному прозвищу дедушки, потому что он гнул дуги. В это время на месте, где дедушка построился, еще не было никакой улицы: ни Шимровки, ни Кузнецовки, ни Тюнбая.
От прапрадеда Панфера народились сын Егор и дочь Мария и три дочери – Акулина, Анна, Васена. От прадедушки Егора народились два сына, обоих назвали Иванами. От большака Ивана народились три дочери – Александра, Акулина и Арина. От малого Ивана народились два сына – Василий, Федор и три дочери – Дарья, Мария, Евдокия от первой жены (первая жена была в девичестве Барахтина). Он овдовел, женился вторично на шингальской, звали ее Агафья, от неё были девки Матрёна и Прасковья.
От сына Фёдора народились два сына – Иван и Василий; их обоих убили в эту (Великую Отечественную) войну; и народилась дочь Мария. От сына Василия народились Андрей (то есть я) и Степан, а также дочь Анна. И вот теперь мне 90 годов, а Степану 85.
Мне говорили отец и дедушка: когда строились внизу, была очень “жидкая” земля – трясина. Сохи зарывать для сарая нельзя – все уйдут в землю. Они нашли такой выход из положения: сперва ставили плашмя каркас из четырёх бревён, потом вдабливали в него сохи и ставили, а под каркас клали обрезки и камни.
Когда наши предки строились, тут была “тайга”, разбойники были, дичь, даже медведи и всякие иные звери. И вот Пётр Первый заселил это место. В это время на наших сердобинских землях захотел поселиться барин. Одно из мест так теперь и называется – Барская лука: за Песчанкой, против правления колхоза имени Ворошилова. А строиться барин решил по этот берег Песчанки. Навозили его крестьяне строительного материала, поставили срубы, а наши предки всё у него развалили. Он опять построил – они опять разнесли в прах. И совсем его выгнали. И он, наверно, понял – тут не жить, и больше не приехал.
Итак, мы были не барские, землю делили по душам, а лес “по домам”, на двор. Но была казёнщина царская. Мы делили землю на души только на мужчин, на женщин не разрешали. И из Старого Славкина тоже барина прогнали, там тоже крестьяне были свободными, как и мы. А кругом были господа, баре. Когда наступила революция 1917 года, Ленин приказал разделить землю барскую, отдать крестьянам без всякого выкупа. Стали делить по приказу Ленина на мужчин и женщин поровну. Мы тоже переделили землю, дали и женщинам. Если, допустим, она выходит замуж, отец невесты отдаёт землю ей же.
Наши предки воевали. Прадедушка Егор – с Наполеоном, а его шурин, прозвали его Кавказским Иваном, воевал с Японией, брал Порт-Артур. Прадедушка Панфёр воевал с турками, выгонял их из Крыма. А еще раньше наши предки воевали с монголами, они дрались за Родину до последней капли крови, за Россию и за своё поколение, большое им спасибо и никак не надо их забывать. Вечная им память и царство небесное!
У прапрадеда Панфёра народились сын Егор и дочь Мария. У Егора народились два сына - Иван Большаки Иван Малый да три дочери - Акулина, Анна и Васёна. Жена (у Парфёра?) была Федосья из рода Якшамовых. У большака Ивана родились три дочери: Александра-большуха, Акулина и Арина. У малого Ивана народились два сына - Василий и Фёдор и дочери Дарья, Мария и Евдокия. Это от первой жены, от Барахтиной. А от второй жены, Агафьи, - она была шингальской (из соседнего села Шингал) - родились дочери Матрёна и Прасковья. Семья была большая, 16 человек, и все слушались одного Панфёра. Пахали они сохами, борона была деревянная, только зубья железные, большинство рожь жало серпами, только справные (богатые) косили косами. Молотили цепами. Дедушка Панфёр и обе его жены похоронены на старом кладбище. Царство им небесное! После смерти дедушки Панфёра надумали братья делиться. Это было в 1895 году. Большака Ивана поместили кряду (рядом), а малый Иван остался жить вместе с отцом Егором. Они поделили имение на три части, одну треть получил Иван большак, а две трети Иван Малый с отцом. Отец взял такую же часть, как и сыновья. Сообща сделали большаку дом. Еще большаку досталось по разделу взрослая лошадь, конь-трехлеток, 2 коровы, 20 овец, амбар сосновый, а Малому с отцом - 4 лошади, 4 коровы, 40 овец, другой амбар сосновый и еще небольшой амбар. Сад яблоневый разделили так: большаку оставили 30 деревьев, а малому с отцом - 70. Прадедушка Егор жил на огороде, у него была там маленькая избушка. Они были тружениками, очень заботливыми, работали по 16 часов в сутки, ходили в лаптях, сапоги надевали только по праздникам. Рубахи и портки носили самотканные - бабы пряли из конопли и сами ткали. Лошади стояли в конюшнях, а коров на зиму пускали в избу для дойки. Объягнившихся овец также пускали в избу и держали в избе, пока ягнята маленькие.
Дедушка Панфёр прожил 92 года, а дедушка Егор - 86 годов. Никто в нашем роду не курил, водку пили только на свадьбах и в другие большие праздники. Но сильно не напивались. Бога признавали и были очень добрыми, справедливыми и честными, чужого не возьмут. Помимо хлеборобства, занимались ремеслами: гнули дуги и коромысла. По зимам со всей волости к ним приезжали дуги и коромысла покупать.
В 1905 году дедушка Иван Малый ездил в Золотое, в питомник около села Лопатино, купил 100 деревьев яблонь себе и большаку, и стало в двух дворах 200 яблонь. С ним же ездили шабры (соседи) Родионычев Василий и Шимрин Иван Алимыч, которые тоже привезли по 100 черенков яблонь. Яблони поливали два раза в год: весной - чтобы ялоки росли крупные и чистые и сентябре - чтобы почва нагуляла. У них была плотина на ерике, и от нее они пускали воду по саду, по канавам, по которым вода по всему саду расходилась. Весной и осенью яблони окапывали. Траву в саду косили три раза за лето.
В году 1906-м или седьмом, до войны 1914 года, начал у нас Столыпин нарезать земельные участки каждому, кто пожелает. Добровольно, навечно, но против желания общества, народа. У нас в крестьянском обществе земли причиталось на душу, на мужчину, 3 десятины. У нас было 3 поля – яровое, ржаное и пар. А Столыпин стал нарезать на душу больше, по категориям, хорошей земли – в 2 раза больше, чем было принято в обществе, а если земля плохая - в 3 раза больше нарезал на душу. Ему (Столыпину) народ говорит: “Нарезай по-нашему, сколько мы нарезаем на душу. Нарезай (не ближние земли), а от границы Асметовки, от Липовки”. Потому что туда никто не шел. Но Столыпин делал все против воли народа. Почему он нарушал правила народа, больше давал земли а счет общины?
Добросовестные, совестливые не шли в “вечники” ни в какую, а некоторые нахалы стали одоьрять реформу. И Столыпин начал нарезать им земли около реки Сердобы, по реке Саполге, где у нас, у колхоза имени Ворошилова, была недавно ферма животноводческая - в яме, не доходя до Богомольного родника. Первыми сели Карякины, Михеевы по-уличному, – на горе, около леса, вдоль речки, вблизи Сердобы. Второй дом был поставлен в конце Емельянова оврага, на горе, около леса. Дальше построился Потапов Федор, на расстоянии 1 ½ километра также на горе, около леса. Дальше построился Лялягины – на горе, на краю леса, расстояние такое же друг от друга. Дальше построился Захарышкин (по-уличному), на горе, на краю леса, расстояние такое же друг от друга. Дальше построился (фамилия неразборчиво) – тоже на горе, на краю леса, вдоль реки.
Дальше поселились вдоль Елшанки, поворотя вдоль Елшанки два дома – фамилию хозяев забыл, на горе, около леса, отрезав речку Саполгу от общества-народа общинных земель. Еще лучше! Еще построили два дома - один у реки Сердобы, в 2-х километрах от Малой Сердобы, другой – по реке Саполге – отец Журлова Ивана. Иван Журлов еще жив, мы его называли Деверь, ему тогда было 12 годов, молодой был.
Потом было разрешение – можно продавать навечно землю, душевые наделы. Платили дорого, я забыл цену. Иной человек пьяница, продаст землю душевую навечно и пропьет, а дети и жена нищими остались навечно. Разве это законно? Очень неправильно. Но некоторые накупили земли, таким давали кредиты, нарезали на Гремячке - овраге на реке Саполге, - давали на душу 3 десятины. Мне запомнилось: Никита Потапов накупил землю. Навечно. Их два старика, детей не было, очень были жадные, о смерти не думали. А пришлось помереть страшно. Никиту раскулачили и выгнали из Сердобы. Он уехал в Энгельс, в Саратов, и там извозничал на лошади. Зимой поехал из Энгельса в Саратов через Волгу, а в одном месте не замерзла вода. Он туда и заехал на плавню и утонул вместе с лошадью. Вот и отжил! А навечно покупал землю. Его Бог наказал.
Начал Столыпин нарезать и вдоль речки Сердобы земли вечникам. Были вдоль речки луга до Панкратовки. Первыми там сели Овражновы, и дальше стали селиться. Реку отшибли от общества. Еще поселились два дома на Иткаринской дороге, от Песчанки недалеко. Один дом был – Тихоновы, а другой чей – забыл. Воры заехали к Тихоновым, постучались в дом, в дверь. Старик вышел. Они сказали: “Укажи нам дорогу!” Они его сразу убили и зашли в дом. Старуху и сноху Дарью привязали веревкой, а мальчик Гриша залез в шесток, ему было восемь годов. Большак сын был на войне 1914 года. Грабители все в дому ограбили, все забрали и уехали. После этого Тихоновы сразу сломали дом и перевезли в Сердобу.
Вот теперь оценку делай Столыпину. Земля была наша, народная, нам ее прадеды отвоевали, барина прогнали, а он приехал, стал командовать нашей землей, хозяйничать. Почему он не отрезалу помещиков, у Гагарина, у Устинова, у Салова, у Юматова и у других? А к нам приехал, крестьянам, и стал мутить народ, общество, делал вражду в народе. Народ очень озлобился. Чтобы друг с другом передрались? И побили бы многих. Если бы не революция 1917 года, Октябрьская революция, у нас была бы резня. Разве можно около реки Сердобы все заселять и воду отрезать, водопои? Мы бы и без Столыпина могли приблизить дальние земли от межи: поселили бы там поселки. Вот приблизили же наши старики дальние земли: 4 выселка сделали: Асметовку, Турзовку, Липовку и Шингал. Дали переселенцам землю как положено, поровну и лес дали. А Столыпин, стал больше давать земли на душу. Половине Сердобы не хватило бы земли. Тогда, что же, иди безземельные куда хочешь, на 4 стороны. Это тоже, как раскулачивание.
После революции вечники все разбежались. А которые в Сердобе остались, их раскулачили, и многие смотались в города.
Столыпин неправильно делал. Вот его и убили (в) 1916 году. Мне отец рассказывал – он служил в Киеве. Зашел человек к Столыпину в кабинет и застрелил в упор. Наверное за то, что насолил всему народу. Некоторые сегодня его хвалят: он-де правильно делал. Я это слышал по радио. Но это неправильно.
Я, Шайкин Андрей Васильевич, родился в 1900 году 16 октября. Вот прохождение моей жизни-истории. В 1905 году мне было 5 годов. Была в Сердобе забастовка в сентябре месяце. Была ярмарка. Вот ярмарку мужики разбили, разграбили, пошли в Сердобу разбивать винополку с вином.Стражники, казаки, чуть помню, скакали с моста, не могли с ними справиться – народу было очень много, и все вооружены, кто чем. Казаки отступили и ускакали. Бунтовщики, на мой взгляд, поступали неправильно. К доверие к крестьянам пролезли эсеры и командовали, чтобы опорочить социал-демократическую партию. Нам рассказывал Гудков Кузьма Калентьевич, он был революционером, что они, революционеры, собирались по ночам на Зотовой горе тайно. Вот к нам в Сердобу (рассказывал Гудков) пробрались эсеры в социал-демократическую партию и нам предложили выйти разбивать ярмарку и у богатых мужиков зажигать гумна, а хлеб – у тружеников. Вредили. После мы догадались: они направляли нас на это дело, чтобы нашу социал-демократическую партию опозорить. Мы их, эсеров, всех выгнали.
Пошел я в школу, мне было 8 годов. Учился очень хорошо, сдал испытания на похвальный лист. Учился в школе 3 года. Дедушка Иван сказал отцу: “Андрею хватит учиться, надо работать”. И вот начал я пасти лошадей, ездить в ночное, пахать, бороновать. В 1914 году началась война с Германией, отца и дядю взяли на войну. Дома остались старики, бабы и малыши. Мобилизовали часть лошадей. А дедушка Иван посев не убавлял: 10 десятин в каждом поле – яровом, озимом и пар, всего – 30 десятин. А убирали все вручную: жали, молотили цепами. Жали бабы и подростки: я начал жать и косить, когда мне исполнилось 14 лет. Было очень трудно.
У нашего отца Василия Ивановича было два сына: я и Степан. И у дяди Феди было два сына - Иван и Василий и дочь Мария. В 1914 году отец и дядя Федя ушли на войну. Отец служил до 1917 года, а дядя вернулся в 1916 году - был ранен в руку. Его отпустили из госпиталя в Самаре на полтора месяца домой. И он просрочил отпуск на два дня. И вот в декабре молотим мы в риге - дедушка, дядя и я. Мать, тетка - жена дяди Феди и мой младший брат Степан ворочали снопы. Часов в 11 к риге подъехал на лошади, в санках урядник Иван Петрович. Вошел в ригу, поздоровался и спрашивает дядю:
- Вы Шайкин Федор Иванович? Вы дезертир.
- Да, я просрочил два дня, но завтра поеду в часть.
- Вы должны поехать со мной, мы вас отправим этапом на фронт.
- Какой хозяин нашелся! Я и сам дорогу в часть знаю. Не поеду под конвоем!
Тогда урядник вынул шашку и стал ею угрожать. Но налетела коса на камень. Дядя бросил цеп и схватился за шашку урядника. Началась борьба, нам со стороны страшно было на нее глядеть. Дядя его осиляет, уже выволок урядника из риги и борются около ерика, а там овраг, дядя пятит урядника к оврагу и ругается:
- Красномордый! Напился крови крестьянской! Я два года провоевал, теперь иди ты повоюй!
Урядник видит, дело плохо - овраг рядом, оттолкнул дядю и к санкам. Сел и поскакал. Дядя говорит: "Если бы я у него шашку вырвал, я бы его зарубил". Быстро убежал на гору Порт-Артур, скрывался у тетки Дуни, у сестры своей, а потом в шабрах И так дотянул до Февральской революции 1917 года. А как дядя убежал на Порт-Артур, к нам заявились казаки, человек 15, урядник с ними верхом. Забежал в ригу:
- Старик, где буян?
- Не знаю, говорил, пойдет в город.
Казаки стали искать, тыкать пиками в солому. Везде искали. А дома крик, свиньи визжат, куры кудахчат. Взяли у нас казаки 3 овцы, свнью на 4 пуда и кур голов 15 - проголодались! Вели себя, как бандиты. Вот за это мы их и выгнали из России в Гражданскую войну.
В 1918 года наша семья надумала делиться. Тоже на три части: моему отцу Василию Ивановичу дали 1 лошадь и жеребенка-двухлетка, 2 коровы, 15 овец, дяде Феде дали лошадь и коня-двухлетка, 2 коровы, 15 овец и старую избу в четыре стены. Дедушке Ивану дали лошадь, корову, 5 овец. Изба у него была на огороде и там же небольшой дубовый амбар. Сад он никому не отдал, все 200 деревьев себе взял, также росли в саду вишня, слива, смородина, крыжовник, малина. Большая рига досталась нам с отцом, она у речки стояла. И дяде Феде построили ригу тоже у самой речки. И дедушке сделали небольшую ригу, поставили ее в конце сада. Делали всё вместе. Мы с отцом построили свою избу, выдвинув ее вперед, всё казалось, что мало у нас позьма.
В 1918 году меня взяли на Гражданскую войну. Когда Красная гвардия не справилась с белыми, Ленин отдал приказ: нужно создать регулярную Армию. Её создали в 1918 году 23 февраля. И вот меня забрали 15 июня 1918 года. Учили нас в Петровске, нас было 11 тысяч. Там стояли бараки, их сделали протяженностью в 4 квартала. Как едешь от Малой Сердобы к Петровску – от дороги и до леса стояли бараки. Мы тогда были Саратовской губернии Петровского уезда Малосердобинской волости. Дядю Федора назначили как революционера каптенармусом над всем военным лагерем в Петровске.
Из Петровска отправляли на фронт против Колчака, к Чапаеву, сначала солдат постарше. В 1919 году было очень тяжело Советской власти, нас окружили со всех сторон: Колчак с востока, генерал Юденич шел на Петроград, на юге был генерал Деникин, который Кавказ забрал и подошёл к Волге, к Царицыну, отрезая нефть на Кавказе. А тогда была нефть только в Баку.
В 1919 году нас осталось в Петровске 3500 солдат. И вот дошла очередь до нас. Нас направили на юг, на Деникина. Только остался в Петровске хозвзвод, конюха, которые убирали лошадей. В 1919 году в августе месяце мы поехали из Петровска, эшелон за эшелоном. Мы ехали на помощь 34-й дивизии, к Кирову Сергею Мироновичу, в нашей команде – 200 солдат. Дивизия стояла в Астрахани. Доехали мы до станции Красный Кут. По приказу, с Красного Кута поворотили на Чёрный Яр. Подехали к станции, к Волге, в тупик, стали перебираться на паромах через Волгу в Чёрный Яр, который на том берегу Волги. Перебрались, когда 34-я дивизия пришла в Чёрный Яр. Началось распределение по полкам, ротам и взводам. В наш 305-й полк попало много сердобинских. Едва успели распределить людей, как на нас напала кавалерия генерала Шкуро. Здесь произошло мое боевое крещение – страшный был бой, смертельный. У нас силы было мало, а у Шкуро больше. Мы устояли только благодаря тому, что перед нашими окопами стояло проволочное укрепление – 16 рядов. Потом нам дали в подкрепление две дивизии – 7-ю кавалерийскую и Дикую дивизию. Дали приказ перейти в контрнаступление. Накануне нам сообщили, что Ленин сказал речь: вы пошли в контрнаступление, это очень верно; нас кругом душат; только не забывайте: наша армия не карательная, а освободительная, и вы народ не обижайте. Если ты голоден (говорил Ленин) – спроси хлеба, если в селе остался священник – пусть служит, советую – сходи в церковь, это будет очень хорошо. Почему он нам так советовал? Дело в том, что, когда перед нами Красная гвардия дошла до Черного моря, а потом их погнали казаки, красногвардейцы там стали безобразничать, отбирать имущество. Я после узнал об этом, когда мы проходили теми же местами.
Не могу точно сказать, сколько верст от Черного Яра до Царицына, мне кажется – 90. Мы пошли в наступление (дата неразборчиво) октября 1919 года. А в Царицын пришли 1 января 1920 года. Два с половиной месяца шли до Царицына. Проходили мы села Салдники, Вязовку и другие. Бои очень сильные были. Враг никак не хотел отступать, тяжело нам было на этом фронте, трудно разбить белых. 40 тысяч легло нашего брата. Шкуро и Деникину не хотелось отступать, но пришлось. Помог Буденный. Он пришел от Камышина. В помощь Буденному 1500 бойцов добавили наших, саратовских.
Когда мы пришли на станцию Царицын, около Мамаева кургана, главное командование отдало нам приказ преследовать белых. На юг мы шли по Сальским степям. Буденный – впереди, он захватывал железнодорожные станции, и с нами связь держал, а мы – за ним. Так прошли мы Донскую область и вышли в Ставропольскую область, потом опять в Донскую. Вышли мы на станцию Торговую – ее сейчас называют Сальск. Вот здесь и столпилось много войска: части Буденного, кавалерийский отряд Курышкина и наша 34-я дивизия. Задумали кадеты разбить нас, оставили на Торговой 100 офицеров, а основные их силы как бы отступили. И вот нас разбили по квартирам. У нас в дому очень много солдат, полная изба набита. Ночью все спали, а мы с Бочкаревым не спали. Чуяло сердце! Что снаружи творится? Мы с ним все же решили выйти. Насилу прошли: в избе подряд лежали бойцы. Когда вышли к забору, слышим, началась стрельба. Не поймем, что творится. Бочкарев закурил. По улице ехал разведчик, и к нам: “Дай закурить!” Я его спросил: “Что творится?” Он говорит: “Белые сделали засаду, а сами пошли в контрнаступление. У нас вся кавалерия выступила им навстречу. У нас много кавалерии, и мы белую атаку отбили, они прогадали”.
Противник отступил, а поутру всю станцию оцепили и пошла повальная проверка. Наловили 87 офицеров, кадетов, которые в наших часовых стреляли в эту ночь. Мы наутро пошли дальше в наступление, а с офицерами расправилась чека.
Когда вышли, кто-то сказал: “Погодите, сейчас поедет Буденный!” Так пришлось мне его увидеть случайно. Герой был, ему в это время было 35 годов, а мне – 20. Шел эскадрон, кони белые, музыка с коней играла очень хорошо, кони плясали.
Буденный пошел на Ростов, а мы пошли на Азов, левее Ростова. Мы прошли Песчанск, Белоглинск, Покровку и вышли в балку. Тут наша кавалерия перерезала железнодорожный путь, в нашем расположении оказался белый бронепоезд. Наша рота его оцепила, он сильно отстреливался из пулеметов и орудий. Пришлось ждать, пока у него патроны и снаряды кончатся. Тогда мы его взяли в плен.
Выйдя в балку, мы поворотили на Тихорецк. Оказалось, под Тихорецком белые сосредоточили очень много войск. И вот нас против них направили. И мы там сразились. Из всех боев был бой! За один день Тихорецк 7 раз переходил из рук в руки. К вечеру мы их одолели, забрали Тихорецк полностью и пошли дальше, преследуя белых.
Мы наступали левее Краснодара, тогда его называли Екатеринославом, по царице Екатерине. Вышли мы в Терскую область, около Новороссийска. Вот тут и конец наступил Деникину, всех мы разбили. Те, что поумнее, уехали с Деникиным за границу, остальных мы забрали в плен. Нам помогала в этом зеленая армия – дезертиры собрались в горах и тоже наступали на белых. Так мы белых окружили и разбили.
Я и Иван Журлов заболели тифом, и нас отправили на станцию Торговую в лазарет. Лазареты располагались в избах, которые оказались без хозяев, в школах и учреждениях. Больные лежали на полу, на тряпье, вши заедали. Каждый день возили на кладбище мертвых. Говорили, что умерло до 13 тысяч человек. Здесь мы встретили земляка Пчелинцева Евдокима Васильевича, с моего года рождения, поступившего в лазарет прежде нас. Мы стали поправляться.
Как-то Евдокин пошел на станцию: “Может, увижу кого сердобинских!” И там прозяб, получил возвратный тиф и помер. Его зарыли на станции Торговой. А мы выздоровели с Журловым. Нас распределили по квартирам, во времянки. Мы в печке жарили гимнастерки, уничтожая вошь. Однажды Журлов пошел с казаком кубанцем в село. Казак перешел к нам, красным, служил у Буденного, жил он в соседней времянке. В селе набирали добровольцев, 2 эскадрона, на басмачей. Журлов и кубанец записались добровольцами. А басмачей было 12 тысяч и больше. Там наших порубили много около Бухары.
Журлов вернулся и говорит: “Шайкин, иди в канцелярию и тоже запишись”. Я ему сказал: “Не пойду. Буду ждать комиссию. Туда в Бухару сколько нашего брата угнали, и всех порубили, как капусту. Выпишись, я тебе советую”. А он мне говорит: “Все равно и через комиссию призовут на фронт. Врангель идет, Польша, Петлюра на Киев”. Не послушался меня Иван, и вот я его провожаю. Коней и обмундирование им дали хорошие, шашки, карабины, револьверы. Прошло 10 дней. Кубанец Миша шлет мне письмо: “Андрей Васильевич, я не нашел адреса Ивана Александровича и пишу тебе, чтобы ты сообщил его родителям: Иван погиб в неравном бою. Наших было мало, весь эскадрон порубили. А мне посчастливилось, я был в карауле у штаба. Басмачи их заманили в горы, окружили и всех порубили”. Я написал родителям Ивана, они мне ответили, очень горевали и плакали: "Почему ты не уговорил Ивана остаться"? Но он меня тогда не послушал. Наверное, быть тому, судьба.
Приходит ко мне командир взвода и говорит: “Шайкин, я тебя прошу: вы поедете в Ростов с Леоновым и пройдете там комиссию – ты по тифу, он – по глазам. Если пустят домой – поедете, а примут на службу – пойдете там в военный городок. Мы через неделю тоже поедем туда на комиссию. Вы же повезете красноармейца, он ошутоломел (сошел с ума), очень быйный сделался после тифа. Привезете его в Ростов и сдадите в сумасшедший дом”.
Дали нам место в вагоне, мы сумасшедшего связали и повезли. В Ростове на станции развязали его, а он у нас сбежал и начал всех подряд бить. Его милиция поймала, привела к нам, к вагону. Подошла машина, мы опять связали его и сдали в сумасшедший дом. Идем мы на комиссию, а я вижу, остановился эшелон. Я смотрю, бежит от эшелона мой товарищ, сосед Иван Митрофанович Журлов, 1901 года рождения. Мы с ним поздоровались. Поговорили, на станции 3-й звонок пробил, команда “садись в вагоны!” Он сказал: "Если тебя отпустят домой, расскажи моим родителям, ка мы с тобой встретились. Нас везут неизвестно на какой фронт", - и побежал к вагону. А я пошел на комиссию.
Меня приняли на службу и дали документ. Подхожу к первому же бараку - из него выбегают красноармейцы, мои товарищи: Бочкарев, Кривоножкин и Казанцев Матвей. Кричат: "Эх, здорово! Шайкин прибыл". Они направлялись на кухню. Я им говорю: "Возьмите и на мою долю котелок и принесите супу". Бочкарев вернулся в барак, взял там еще один котелок и принес мне супу и каши, а взводный дал пайку хлеба и забрал мои документы. Оказалось, все они тоже служили в нашей 34-й Кировской дивизии, только в другом полку. И вот я с ними в одном отделении.
Через 10 дней нас, 550 человек, сформировали (в отдельный полк?). В Ростове был большой военный городок, до большого оврага. После войны с немцами я еще раз побывал на этом месте с внучком Славой, когда прилетал в Ростов из Пензы. Сейчас там аэродром, постройки, а военный городок ликвидирован.
И вот мы прибыли на станцию, стояли 2 недели. Нас кормили очень хорошо. Дивизионные раболовы ловили рыбу в Дону около Азовского моря. Очень много наловили. Каждый день нам давали на двоих котелок мелкой рыбы и крупного леща также на двоих.
Пошли в поход, выдвинулись километров на шестьдесят в Таганрог. Полк был подчинен 9-й Краснознамённой дивизии. Стали нас распределять по ротам. Бочкарев Иван Егорович стал связистом, Казанцев Матвей Васильевич попал в хозвзвод как хороший сапожник. А мы с Кривоножкиным Петром Степановичем остались в одном отделении, в пехоте. Ждали приказа, ожидая высадки с моря десанта Врангеля. (На Россию) идет Польша, Петлюра к Киеву лезет, враг со всех сторон. И вот высадился десант в Ахтарске с Черного моря, 40 тысяч врангелевцев. Они хотели захватить Кубань, отрезать Кавказ и бакинскую нефть. Нас повезли на отражение десанта через Ростов на Кубань, где когда-то мы наступали на Деникина. Высадились из вагонов, стали окапываться. А неприятель от моря уже удалился в нашу сторону на 70 километров. Здесь мы с ним и сразились. У нас было войска много: 2 дивизии кавалерии, наша дивизия и при нашей дивизии 15 тысяч кавалерии, флотских было 10 тысяч, морской пехоты. В 90 километрах от моря мы остановили десант и погнали его обратно к морю купать его войска. Те, что поумнее, сбежали в эмиграцию, а подурнее – остались, разбежались по камышам. Он вдоль моря километров 90 тянулся. Места болотистые. Им Врангель сказал: «Я опять тут высажусь». Но не пришлось. Здесь все было заминировано. Мой дядя Гриня служил во флоте минером и мне потом рассказывал: «Вас угнали и наш флот ушел, а мы, минеры, еще месяц стояли, минировали берег и только после этого уехали в свою часть».
Но перед этим мы оцепили камыш и охраняли. Потом пошли в наступление. Войска было много. И вот к нам приехал главнокомандующий (председатель Реввоенсовета) республики Троцкий и мне пришлось его лично видеть. Нас построили, он проходил вдоль строя, нас поздравлял и наш полк: «Здорово, 81-й полк!» - «Здра…здра!..» Потом выступил с речью. Речь была очень долгой, оратор замечательный.
10 дней мы охраняли побережье. Когда сняли, нас повезли через Ростов в Крым на Врангеля. Не доехали до Гришиной (ошибка мемуариста) станции, сгрузизились и пошли на село Успенку, а потом поворотили на Мариновку. И тут мы сразились с Врангелем. Очень сильный был бой, никогда не забыть. Я считал:в один день бросалась на нас в атаку кавалерия 16 раз, хотела нас отрезать от своих. Но здесь ходили три бронепоезда, и неприятелю не удалось победить нас. Бились мы насмерть, но не отступили ни на шаг. В каждом окопе собрали после боя по ведру пустых гильз. Мы били залпами из ружей, из пулеметов «максим» и «кольт». Побили неприятеля много. Но на другой день мы отступили, так как ему удалось прорвать левый фланг. Бронепоезда ушли в тыл, а мы ночью пошли в наступление на Гуляйполе, где родина Махно. Когда шли по улице, нам показывали его дом – крайний около оврага, саманный. По профессии он учитель. Так сказали нам жители. Пошли дальше наступать на село Пологи, где население греки и всякие иные нации. Не дошли мы до него 5 километров, как белые прорвали левый фланг: 7-я кавалерийская дивизия не устояла. Белые заняли Гуляйполе, и нашу дивизию отрезали от обозов. Мы оказались в окружении, особенно наш 81-й полк и вся бригада – три полка. От нашего полка осталось 23 солдата.
И вот пропишу о себе, как мы спаслись – это чудо. Окружили нас, патронов нет. Пасмурно, вечер. Я бросился в заросли курослепа, Кривоножкин за мной. Проползли с километр, потом вставали и двигались вперед перебежками. На пути овраг глубокий, широкий. Мы сползли в него, а там еще трое красноармейцев, потом еще трое подошли., из них один командир взвода Семёнов. Покурили, посоветовались – я не курил сроду – и стали выбираться наверх. Немного прошли по равнине – заметили разведчика белых. Командир взвода сказал: «Сколько у кого есть сил, бежим в камыши». До них километра полтора. Разведчик нас заметил и ускакал. Взводный сказал: «Сейчас он им сообщит о нас, и они прискачут и нас порубят». Немного не добежали мы до камыша, как белые прискакали, стали искать нас, но мы успели спрятаться в камыш. Они уехали, мы дальше пошли широким ходом.
Ночь была светлая. Мы шли на восток по звездам левее Гуляйполя, где было много войска, поэтому кругом заставы. Пришли к водотёку, тут сырые места и трясина, вышли на шоссейную дорогу. Глядим – три дома стоят. От Гуляйполя 7 километров, заходить опасно: может, тут находятся кадеты? Но делать нечего: мы очень голодны, пришлось на все идти, даже рисковать жизнями. Послали одного узнать. Он пошел к крайнему дому, а мы наизготовке. Он постучал – вышел старик: «Кто тут?» Наш у него спрашивает: «Дедушка, в вашем хуторе есть кадеты?» Тот отвечает: «Нет, а в Гуляйполе полно». «Дедушка, дай нам хлеба, мы очень голодны». «Сколько вас?» «Восемь человек». «Сейчас сделаю». Нарезал восемь ломтей, дал чугунок картошки и соли. «Воды возьмете в колодезе». Мы просим: «Дедушка, покади нам дорогу на Устиновку, пожалуйста!» И он повел нас.
Километра четыре прошли с ним по дороге, которая вела в лес, и старик сказал: «Идите этой дорогой до леса, но в него не заходите, а поверните влево вдоль леса. Вправо не ходите, там кадеты. Дойдёте до просеки и пойдете по ней, она вас выведет к Устиновке».
Мы поблагодарили его, попрощались и пошли. Километра два прошли, сели, покушали, поблагодарили Бога и старика и пошли шибким ходом. Вышли на просеку, по ней вышли на край поля. Рассветало. Тут была линия нашей обороны. Свои нас тут же забрали «в плен» и повели в штаб полка. Там мы узнали, что наша дивизия разбита, а бригада – наполовину, а от 81-го полка осталось только 23 человека, считая нас. Двум бригадам помогли соседние части, поэтому половина бойцов осталась в живых, и они вышли из окружения. «Ваше полковое знамя вынесли из окружения политрук и с ним шесть бойцов. А дивизия ушла в тыл на пополнение, 25 километров от нас», - рассказали нам в штабе.
Вот прибыли мы в свою дивизию. Пришло новое пополнение, призыв 1901 года рождения – вятские и пермские. Две недели отдохнули и пошли вновь на переднюю линию добивать Врангеля, мстить за себя и погибших товарищей. Гуляйполе взяли быстро и погнали белых господ. Они отступали без оглядки. Дошли до Сиваша, где самые тяжелые места: трясина где три километра ширины, а где два с половиной. Местами весь полк может утонуть в трясине. Поблизости был лесок, возле него штаб, караулка и избенка, где остановились Фрунзе и Блюхер. Мне пришлось их видеть издали.
В это время к нам, красным, присоединился Махно. Много кавалерии, тачанки, пехота. Я стоял на карауле у складов, закрытых брезентом, вижу, идет товарищ. Я у него спрашиваю: «Почему столько войска?» Он мне говорит: «Махно присоединился». А от нашего взвода в этот день дежурил один боец в штабе командующего. И он рассказал, что явились в штаб четыре человека от Махно, один – его заместитель. «Я доложил Фрунзе о них», - рассказывал боец. Фрунзе приказал пропустить их. Они вошли и стали разговаривать с ним. Они говорят: «Мы здесь выросли, поэтому знаем места переправ через Сиваш». Фрунзе отвечает: «Ну, тогда переправляйтесь через Сиваш». Когда махновцы ушли, Фрунзе и Блюхер вышли наружу, Фрунзе и говорит Блюхеру: «Ты предусмотрел, куда нам бежать в случае измены махновцев? Видишь, сколько у него войска, а нас лишь один полк, основные силы разбросаны по всему берегу. Он может на нас напасть, он очень ненадежный». Об этом разговоре нам рассказал товарищ, который дежурил при штабе.
Но все закончилось хорошо. Махно переправился через Сиваш и зашел противнику в тыл. Он очень нам помог. Мы тоже стали перебираться. Проводником у нас был здешний старик. А то весь полк мог утонуть в трясине. Когда мы переправились через Сиваш, командир полка поблагодарил старика и спросил у него: "Чего тебе дать в подарок?" А один красноармеец кричит: "Товарищ командир, дай ему лошадь, у них в поселке всех лошадей отобрали белые и у него тоже". И командир полка приказал дать старику лошадь из обоза и дал ему документ, что никто не мог отобрать у него этот подарок, он его заслужил. После бойцы из хозвзвода рассказывали, что когда они проезжали через этот поселок, лошадь стояла у дома старика, а вокруг народу человек 50, старики и малыши. И говорят старику: "Все равно отберут лошадь". А тот показывает им документ и говорит: "Никто не отберет. Так сказал полковник, это лошадь его полка, и ее мне сам полковник дал". И все в поселке радовались этому.
Махно перешел в наступление с тыла и наша дивизия зашла с тыла. У Врангеля укрепления очень хорошие, 100 ходов сообщения и проволочное заграждение на 2 километра. Вот и пробей его оборону. Эти укрепление делали миллионеры, 4 державы - Франция, Америка, Италия, Германия. Все свое богатство русские капиталисты свезли в Крым и ждали, когда им казаки завоюют Россию. Ограбили всю Россию! На 305 кораблях увезли наши богатства за границу вместе со своими союзниками, когда стали удирать.
Вот Врангель побёг к морю и стали садиться на корабли. Некоторые прямо в море кидались. Про нас, красноармейцев, распространяли слухи, будто мы с рогами. Врангеля мы победили и стояли в Крыму до конца ноября 1920 года.
Как-то командир роты дает команду строиться. Построились, подъехало высшее командование: командир бригады, командир полка и комиссар. Пошли вдоль строя, дошли до меня: "Как фамилия?" - "Шайкин". - "Какой губернии?" - "Саратовской". - "Семейное положение?" - "Отец, мать и брат на 5 годов моложе меня". - "Холост?" - "Холост". "5 шагов вперед - марш!" Отобрали меня и Леонова из Тамбовской губернии и направили в канцелярию. Ротный говорит: "Не знаете, для чего вас вызвали? Было указание от Ленина: из каждой роты выбрать по красноармейцу и направить на высшие командные курсы в Киев, в кадетский корпус, где учились до революции юнкера, бывших помещиков сыновья. Шайкин, вы согласны?” – “Согласен”. – “Леонов, вы согласны?” – “Согласен”. – “Поедет из вас один на пять годов и больше. Давайте домашние адреса, мы напишем в сельсоветы насчет характеристик”.
Десять дней прошло, характеристики пришли с родины, у меня была характеристика очень хорошая. Я был середняк, он был бедняк – постарше меня на 2 года, оба были беспартийные. Я прошел комиссию, а он нет. И сразу меня готовят к отправке в город Киев. Вот я и прибыл в Киев, в кадетские корпуса. Началась разбивка по командам и казармам, по кабинетам – 4 человека в кабинет. 4 койки, 2 шкафа, каждый шкаф на двоих. Дали обмундирование: 2 комплекта, одно парадное, другое учебное [повседневное]. Чистота очень хорошая и дисциплина очень строгая. Пробыл я месяц. Учился на “хорошо” и заболел. Меня отправили в Киев, улица Крещатик, в военный госпиталь. Очень я сильно болел, думал – не выдержу, помру: горло опухло, простуженый сильно был. Лежал около месяца. И вот немного поправился, меня выписали из госпиталя, опять направили в школу, в кадетский корпус. Но у меня настроение отпало насчет учебы, и надумал отказаться от учебы: наверно, судьба по-своему ведет – не быть мне начальником. Когда меня вызвал в свой кабинет генерал школы и начал беседовать со мной, я ему сказал: “Больше учиться не могу. Я очень слабый и мне неохота учиться, настроение у меня отпало”. Он меня стал уговаривать: “Мы тебя учить станем по твоей слабости”. Я наотрез отказался. Тогда он согласился: “Только не обижайся”.
Я ему говорю: “Я сам отказался, зачем я буду обижаться? Вы меня направьте в мою часть, в 9-ю Краснознаменную дивизию”. Он сказал: “Ваша дивизия на Кавказе, на границе. А вот формируется 144-я этапная рота на Крещатике 600 человек, вот в нее и пойдешь. Будете помогать чекистам охранять границу около Слуцка и Бреста. И будете банды ликвидировать". Я согласился.
И вот я в команде 144-й этапной роты на улице Крещатике. Немного постояли, и нас стали отправлять на границу. Шел 1921 год. Разгрузились на станции Винница, а потом направились на Луцк. Нас подчинили дивизии, которая стояла на границе, занимая оборону до Бреста. Стали действовать. Две банды ликвидировали, пойманных бандитов отправляли в Киев или Одессу. Боёв было очень много. Враг, буржуазия, Антанта засылали к нам разведчиков и бандитов, но мы их всех выгнали. В конце 1921 года наш этап стали расформировывать, он стал не нужен, так как число банд сократилось. Нас отправили в Полтавскую губернию, в городишко Ромны. Там стояла 4-я кавалерийская дивизия, все бойцы кадровые. Молодых стали учить кавалерийской науке, а нас, 1900 года рождения и старше, направили в хозвзвод и скоро демобилизовали.
Воспоминания крестьянина Андрея Васильевича Шайкина
(Продолжение)
И вот я снова дома, занимаюсь сельской работой, хлебопашеством. В конце 1922 года я женился, пошли дети, девчонки народились: Таня-большуха, Паша, Маруся, Клава и жена Агафья – вот моя семья из шести человек. Детьми мы дорожили, они у нас росли хорошо, умные, послушные, учились только на «отлично».
По указу Ленина в стране начался нэп и восстановление хозяйства. Работали в единоличных хозяйствах на лошадях. Жить стало получше. Продналог выполнишь, остальное вези куда хочешь. Но вот подошел 1928 год, стал образовываться добровольный коллектив (товарищество по совместной обработке земли). В 1929 году возник колхоз, но в него зашло немного крестьян, только пролетарии. Кроме них, никто не шел в колхоз добровольно. Наступил 1930 год. И вот грянул гром: всех стали загонять в колхоз принудительно. И стал народ уезжать в города на все стороны. Которые грамотные – те еще в 1929 году уехали. Поэтому грамотных в колхоз совсем мало зашло. (Да и те как следует не работали), только ходили с папками, агитировали да загоняли в колхоз лучших тружеников.
Пошло раскулачивание. На каждого крестьянина накладывали дополнительный налог – такой большой, что его невозможно выплатить. И на скот полагался большой налог. А лозунг один: вступайте в колхоз добровольно! Очковтирательство! Наложили и на меня налог – большую сумму денег. Его нельзя было выполнить, даже если бы я продал две коровы. И вот я зашел в колхоз, отдал лошадь, серого мерина молодого – 4 года, сбрую, инвентарь, сани, фуру, колоду, полог, плуг, бороны – всё отобрали до ручки.
И попали мы под замок. Были мы свободными, а стали рабами. Я всё вспоминал покойного Ленина, потому что мы с ним воевали за Советскую власть народа. Если бы он был жив, такого издевательства не было бы. Он сделал бы по-другому, насильно не стал бы загонять в колхозы, он был очень умным. Но враги его сразили, поранили отравленными пулями, он прежде времени и помер.
Зимой я работал плотником, летом – пахарем. Всю землю поднимали на лошадях. Нам ничего не платили, только начисляли трудодни. Не знаю, кто это удумал, я все думаю – Ягода или Ежов. В центре командовали враги народа. И Сталин был врагом народа. Жали на область, область на район. Все ходили под дулом нагана, партийный и беспартийный. Весь хлеб отберут, а нам говорят: «Вы – хозяева». А «хозяевам» государство отпускало в три раза дороже, чем получало от нас, семена и комбикорм.
В колхозах можно было бы работать, если бы платили за работу. Но враги народа не давали народу ничего и морили его голодом. Стали раскулачивать, отправлять в концлагеря и Сибирь. Вот один случай. Насажали полную арестантскую людей и подогнали обоз для отправки. Среди них Федька Демидов и Подгорный из села Асмётовки. Они при единоличном хозяйстве восстановили мельницу на реке Сердобе. Их за это раскулачили и посадили в арестантскую. Когда их вывели, чтобы посадить на подводы, Федька как-то сумел убежать, а Подгорный побёг – его застрелили. Погиб человек ни за что. Таких случаев было много, все не опишешь.
В нашем колхозе сперва был председателем Клевцов, из рабочих, 25-тысячник. Заместителем у него был Кулаков Сергей Андреевич. Оба были партийными. Поработали два года – сняли. Назначили председателем Граблина Павла Егоровича, партийного, из села Бакуры. В марте 1932 года ему кто-то сказал про меня (как о добросовестном колхознике). Я его сроду не знал и он меня тоже. Я работал плотником на улице Кузнецовке в пристенке у Манышева Андрея делал «транспорт»: фуры, весь инвентарь. Вижу, пришел курьер Забелин Федор Иванович, мальчишка годов десяти, дает мне бумажку от Граблина: «Явиться в правление колхоза». Я зашел домой, разул лапти, надел чёсанки (с калошами), так как было сыровато, являюсь в правление. Граблин как раз собирает заседание. Поздоровался с ним, он и говорит: «Садись! Андрей Васильевич, я тебя хочу назначить своим заместителем по хозяйству». Я отвечаю: «Павел Егорович, я же малограмотный, а надо кассу вести, все деньги пойдут через мои руки. Надо приход-расход вести». А он отвечает: «Мне твоя грамота не очень-то нужна. У меня в правлении грамотных полно, только в хозяйственных делах не смыслят. Мне нужно хозяйство поднять, а ты – хозяйственный».
Граблин говорил, а я слушал: «Мы с тобой находимся в бывших домах кулаков. Они хотя и не кулаки, но их так назвали. А нам надо обзаводиться своим колхозным хозяйством. Нам с тобой предстоит сделать пять конюшен, при базе – избу и ригу для кормов. Корма – на замок. Нам нужно построить кирпичный завод для ручного изготовления кирпича. А то Королёвых (местных кирпичников) раскулачили, кирпича не стало. Будет колхоз кирпич продавать – у нас появится побочный доход. Нужно сделать маслянку (маслобойку), у нас будет масло, а от него тоже доход. Нужна чесалка (шерсточесалка). А то ее у старика Манышева отобрали, он весь свой горб на ней замучил, стал горбатым от работы, и за это его раскулачили. А мы сделаем к чесалке привод, лошадка будет вертеть, чесать шерсть – а нам опять доход. Еще нужно сделать ирригацию, ввести полив хотя бы на 100 гектарах. Будем сажать арбузы, дыни, капусту, огурцы, помидоры, и появятся у нас свое подсобное хозяйство и деньги. И вот когда мы это сделаем, тогда и будем грамотными. Ты сколько прошел учебы?» «Три года. Учился на «хорошо». «А я четыре года… Вот сошлись два грамотея! Давай с тобой колхоз «Первый путь» восстановим, чтобы он стал миллионером!»
И взялись мы по-настоящему за работу, всё сделали, как намечали. И колхозники очень хорошо работали, хотя им и не платили ничего. Но в войну всё разрушили, а после войны доломали.
В конце 1938 года я подал заявление об уходе из завхозов, очень стало трудно работать. Дети малые, ходят в школу, жена больная. Я день и ночь в колхозе, позьмо обрабатывать некому. А ведь только от него и кормились. Вместо меня назначили завхозом Гурьева Ивана Федоровича, а меня избрали председателем ревизионной комиссии. Потом меня послали в тракторный отряд. В конце 1939 года Гудков Василий Григорьевич не справился с учетом, вот меня и послали вместо него учетчиком. Бригадиром был Стрельников Петр Степанович. Мне в отряде нравилась работа. На должности учетчика я работал до августа 1941 года.
И вот наступил 1941 год. 29 августа мне принесли повестку явиться в военкомат. Привез нарочный повестку в полеводческий отряд. Мы стояли в Питленковой [местное название] в поле. Я расстроился. Вечером пошел домой. Даже забыл косу – лежала под будкой. Наверно, сердце чувствовало: мне очень будет мучение – плен. Поутру я пошел в военкомат. 29 августа 1941 года. Мне сказали: “30 августа вас будут отправлять на войну”. Я очень расстроился и не мог в себя прийти.
И вот меня провожают на войну. Я был без памяти. Я оставляю четыре девчонки и жену больную. Но ничего не поделаешь, Родину надо защищать, в рабы неохота идти и свое поколение позволить поработить.
Молотов выступил с речью к народу: “Дорогие товарищи! Враг напал на нас вероломно, безо всякого предупреждения. Враг силен и коварен и неумолим. Все на защиту Родины!”
Нас отправили в город Балашов. В это время всех гнали в Селиксу. 26– 27 августа были очень большие наборы, а нас небольшой был набор – 34 человека в город Балашов привезли. 18 дней поучили и на фронт поехали. Минометчики, 1500 человек.
Теперь я вам расскажу, как мы ехали и шли до передовой – вы ужаснетесь, какподготовился, а наше правительство ушами хлопало, глядело на подпись – подписали с Риббентропом [договор] о ненападении. Он [противник] порвал подпись и готовился, а наш Сталин глядел на подпись. И нельзя сказать про войну – расстреляют.
Доехали мы до станции Лиски, ехали мы на Харьков. Около Лисков эшелон встретил немецкий самолет, бомбил, но нам вреда не сделал, его сбили. А до фронта было 1000 километров. Не доехали до Харькова 30 километров, остановились, в селе – столовая. Всем эшелоном пошли в столовую, пообедали и сели в вагоны и поехали. После нас зашел следующий эшелон. Налетели немецкие самолеты и разбили всю столовую, отошло убитых и раненых на сорок процентов. А фронт в 800 километрах.
Из Харькова стали вывозить раненых – их всех добил, разбомбил противник. А мы к утру доехали благополучно до Харькова. Он (противник) бомбит Харьков, могуты нет! Нас с эшелона спрятали в кирпичные сараи. Там овраг и кустарник. Он нас и там нашел, очень сильно бомбил, были убитые и раненые. Оказывается, у него (противника) на окраине Харькова работал в подвале передатчик, откуда радист передавал (информацию о местонахождении красноармейских частей).
К вечеру пошли грузиться в вагоны – он и тут нас бомбил. Снова жертвы, раненые и убитые. Наконец, собрались, поехали на Ахтырку, до нее 25 (правильно – 100) километров. Не доехали до Ахтырки, рассвело, он опять прилетел и начал бомбить. Мы выпрыгнули из выгонов, по лесу разбежались, а эшелон, вагоны, были разбиты в щепки, наших много (немец) побил и поранил. А до фронта еще 700 километров! А он нас замучил, бомбит и бомбит. Наших же самолетов не видать.
Дальше мы шли пешком 600 километров до передовой. Дошли, пополнили дивизию. Там были и пограничники, и кадровые военные: «Пока мы ехали до фронта, немец нас замучил бомбежками». «Нас тоже замучил», - отвечали они. Дальше мы отступали 600 километров, всех измотал противник. Сталина проклинали. Он отдаст приказ задержать гитлеровцев, мы задержим, а он обойдёт, и мы в окружении, наших берет в плен. Он (немец) нам постоянно кричал: «Рус, огурчиков (снарядов) нет? Ну, держитесь теперь!» Могуты нету! У нас же ничего не было – ни танков, ни самолетов, ни снарядов. Вы уже узнали (из написанного мною), каково было на железных дорогах. Кто же их подвезет в таких условиях до линии фронта?
Трижды я выходил из окружения, а в четвертый раз не вышел, попал в плен под Харьковом. (Плена боялись). Бывало, придет приказ от Сталина: ни шагу назад, всех постреляю! Особый отдел – враги народа! – выведут из строя, выстроят в одну шеренгу человек десять, кого попало, и на наших глазах расстреляют. Показывали этим: всех постреляем, (если отступите)! Враг был Берия, а в особых отделах работали его помощники. Но (как выполнишь приказ?) Лбом противника не остановишь, нужно оружие, боеприпасы, а их нету. Пограничники рассказывали нам, что был приказ всю технику оставить на границе. А у кого она была, не давали заправлять горючим. Мы много техники оставили на границе и за это проклинали Сталина. Вот и отступали от границы 800 километров. Вот как подвел «вождь народов»!
Вот и для меня наступили мытарства, мучения от ненавистного врага-фашиста, страдания и голод, издевательства невыносимые!
А теперь я расскажу, как попал в плен к ненавистному врагу-фашисту около села Кутильвы Харьковской области. Заняли мы оборону в семи километрах от Кутильвы. Противник прорвал левый фланг и окружил нас, мы оказались в тылу немцев, в сорока километрах от своих. Это было мое четвертое окружение. (Причина их в том, что) наши войска отступали как попало. Командование про нашу роту совсем забыло. Мы послали связного – его убили или еще что с ним случилось, никто не знает. А мы все лежим в обороне. Ободняло. Едет легковая машина по шоссейной дороге, немецкое начальство. Мы ее обстреляли – она назад уехала в свой штаб, который находился в Кутильве. Село было занято немцами ночью. А мы все «воюем» в немецком тылу. И этот день пролежали, ночью послали разведчика. Он узнал, что в Кутильве штаб немецкий. И ротный Попов Михаил Федорович нам сказал: «Мы ротой не сможем выйти из окружения, так как находимся в глубине немецкой обороны. Давайте разбиваться на группы по три-четыре человека, товарищей подбирайте себе сами, и будем выходить из окружения». Я подошел к ротному, он спрашивает: «Как фамилия?» «Шайкин». «Сколько человек в вашей группе?» Я ему ответил: «Три человека: я, Манышев и Бочкарев». (Все из села Малая Сердоба). «Хорошо, вот теперь я буду рассказывать, как выйти из окружения, а вы смотрите на карту». Он открыл карту, фонариком светит: «Пойдете на восток по лесу, пройдете километров десять, дальше будет редкий кустарник, местами трясина, луга шириной километра три. Дальше пойдет сплошной лес до Ахтырки. Пройдя через него, вы и попадете к нашим».
Ротный пошел в группе из четырех человек: он, политрук, один земляк ротного и разведчик. А мы втроем. Начался дождь со снегом. Лезем по лесу. Вдруг Бочкарев потерялся. Кричать опасно – враг кругом. В это время на нас наткнулся товарищ, тоже отшибся от своих, звать Иваном. Мы его приняли к себе. На нас было хорошее обмундирование: новые шинели, новые зеленые плащ-палатки, хромовые сапоги. Подошли к тому месту, которое указал по карте ротный, посидели, отдохнули и снова вперед. Сперва ползли, потом пошли в рост. Никого из своих не слыхать, не видать. Вдруг началась стрельба по нас, прямо засыпало пулями. Ивана убили, а мы с Манышевыми остались живыми. Подбегают к нас пять немцев-эсэсовцев, злые, как собаки. Нас обезоружили, отобрали винтовки, гранаты, патроны, кричат: «Рус, капут! Убить их!» Но их начальник унтер-офицер сказал: «Никс капут, не надо убивать». И повели нас, один впереди, двое сзади с автоматами. Идти до их штаба далеко, до Кутильвы. Если бы не унтер-офицер, они бы нас не довели, убили бы. Привели нас в церковь, а там уже пленных человек 150 Там был и наш политрук. Но мы к нему не подошли, и он очень расстроился.
Утром нас выстроили в одну шеренгу у церкви, говорят: «Коммунисты, гвардия?» Уж очень хорошо мы были одеты и обуты. Начали нас разувать-раздевать, плащи сняли и сапоги хромовые. И оказались мы разувши, а идет дождь со снегом. Манышев был в ботинках, их немцы не стали снимать. И вот для тех, кто оказался без обуви, началась мука. Как скотину гнали нас и били прикладами.
Прошли 20 километров до какого-то села. Загнали в телятник. В нем грязь, только вдоль стен сухо. Снял я с ног тряпьё и полотенце, поджал ноги, шинелью завернул. Ноги синие. Дело плохо, смерть на носу. Но делать нечего, надо все переносить, духом не падать. Подошел ко мне Манышев Иван Григорьевич и толкует: «Андрей Васильевич, ты до Полтавы не дойдешь, погибнешь». Я отвечаю: «Ничего не сделаешь. Помру – отмучаюсь. Дело к этому идет. Я – нынче, вы – завтра. Немец всех истребит». Манышев мне говорит: «Андрей Васильевич, мне по нужде надо выйти". Я ему отвечаю: "Вон садись в грязь да оправляйся". - "Нет, мне надо выйти". Толкнулся в ворота, ему конвоир открыл: "Шайзо". По-нашему, "оправляйся". Он отошел, а тут избенка рядом,сад и старик стоит. Манышев ему и говорит: "Дедушка, дай калоши, у меня товарищ разувши". А старик говорит: "Я уж наплакался, на вас глядя, но вдруг супостат (конвоир) застрелит". Манышев отвечает: "Пускай меня убивает, только дай калоши". И старик тут же принес, наверное, были где-то рядом. Человек был хороший, дай ему Бог Царство Небесное, кости бы его никогда не гнили!" Вот мне Ванька (Манышев) принес калоши, а я у него спрашиваю: "Где ты взял?" - "Бог дал". И дал мне чулки, у него в запасе были последние. Я надел калоши и поблагодарил Бога, он мне помог, обул меня и мысли вложил Ивану - наружу выйти, и старик тут оказался, будто ждал, кто придет и попросит калоши. Это всё по-Божьи.
Утром нас погнали дальше на Полтаву. Прошли 10 километров. Село Григорьевка. Небольшое. С одной стороны шоссе стоит народ возле изб, как нас прикладами бьют и гонят разутых. Кто ослабнет, ляжет, его прикладами добьют. И вот одна женщина угадал среди пленных своего мужа. Бежит метрах в пяти от колонны: "Миша, Миша!.." А конвоир из автомата ее застрелил: к нам нельзя подходить ближе чем на 20 метров. Ее убили, а народ к ней не подходит, боится. Вот чего делал фашист! Разве ее нельзя было остановить? Она же не знала их правил и погибла.
Идем дальше на Полтаву. Конвой сбоку, спереди и сзади, с собаками, бьет прикладами, кошмар. Пришли. В Полтаве лагерь только что обосновался. Раньше, наверное, здесь были бараки, склады. Огорожен колючей проволокой. Стали нас морить голодом. Наварят горелой пшеницы и говорят: «Это вы жгли и ваш Сталин». А ее есть не то что человек – никакая скотина не будет. Но приходилось. Пошло гонение, тиранство. Через пять дней пригнали новую партию пленных, с ней прибыл и Бочкарев Андрей. Он нам рассказал, какие пережил страдания, их, как и нас, тоже гнали разутыми.
Подержали нас в этом лагере один месяц или три недели и стали отправлять в город Кременчуг на Днепре. Мы его проходили, когда отступали. Холод, мороз градусов 25, позёмка, снег. Намёрзлись сильно. Человек 600 помёрзло насмерть. На какой-то станции, когда эшелон остановился, мы заметили бурт свеклы. Андрей Бочкарев кинулся и успел три схватить три корня. Немец за ним, но мы с Манышевым успели схватить Андрея за руки и втащить в вагон. Немец хотел ударить прикладом, но промахнулся и попал по колесу, приклад разлетелся вдребезги. Если бы не мы, он Манышева убил бы.
Подъехали к станции в Кременчуг, встречает усиленный конвой по обе стороны, с овчарками. Лагерь большой, пленных тысяч 60. Колючая проволока в два ряда, в высоту метра три и посередине (между рядами?) витая колючая проволока. Кругом вышки, на которых по два немецких солдата и пулемет, метрах в 50-ти одна от другой. Между вышек ходят часовые с собаками. И вот немцы стали нас морить голодом и бить, издеваться, чтобы мы все погибли. В баню нас не водили 8 месяцев, развелась вошь ужасная. Наконец, немцы решили сводить нас в баню. Зима, холод. Помылись немного и кое-как. После бани нас загнали в нетопленый сарай, чтобы мы все заболели и помёрзли. Вот как издевались! После этой бани простудились и умерли 700 человек. Иван Манышев тоже умер от простуды. А мы с Бочкаревым пока живы, нас Бог оберегал. Иван незадолго до смерти говорил: «Андрей, если мы доживем до весны, надо обязательно бежать». Я ему отвечал: «Обязательно убежим». Наверное, у него сердце чуяло, что не доживет.
Каждое утро из бараков выносили 10-15 трупов. Наложим их на дровни поперёк и возим к ямам. Человек 16 двигали дровни, тянули веревками. Сами чуть теплые. Нас бьют прикладами. Подвезем, побросаем в яму, а другие пленные, что посильнее, рыли ямы, каждую на 500 трупов. Когда яма заполнится – ее закидают землей, а другая яма уже готова. И я оплошал и уже на нижние нары сил не имею залезть. Еще бы дня три, и меня бы отвезли в яму, но судьба ведет по-своему: не быть мне мертвому. Как-то Андрей Бочкарев стоял у двери и зашел конвоир с поваром. Говорит ему: «Ком» («пошли»)! И повели работать на кухню, и он работал там 15 дней. Познакомился с поваром, и он к нам в барак стал заходить. И меня подкрепили: тайком носили хлебца, суп в пол-литровой бутылке, картошку и другое. И я стал шевелиться.
В 1943 году Молотов обратился с речью к народам всего мира, говорил о том, как немцы издеваются над нашим народом, всех подряд уничтожают, даже мирных жителей, стариков и детей и пленных. В нашем лагере 47 тысяч пленных погибли, осталось 13 тысяч. Видно, на Гитлера повлияла речь Молотова, нас стали кормить получше, стали давать хлеба и конины.
5 тысяч пленных, в их числе меня, немцы перегнали за Днепр, в Крюково. Там был небольшой лагерь и при нем мастерские. Мы с Андреем Бочкаревым ремонтировали военные брички и выполняли другие работы. Окрепнув, мы решили во что бы то ни стало бежать. К нам приходили подпольщики, которые говорили, что сдались добровольно, для агитации пленных. Они были ученые, политработники. Говорили нам: надо меньше работать, дело идет к гибели, поэтому надо бежать. Если немец победит Россию, все равно он всех нас уничтожит. Вот и пришло наше время: пока живы и помереть уже не страшно, лишь не мучиться. Как-то в воскресенье, в пасмурный день мы на станции разгружали лесоматериал. Лес был недалеко, до него можно добежать. И к вечеру мы с Андреем бежали. Пусть убьют, зато отмучаемся. Прошли мы лесом от лагеря километров 50 на восток от Днепра, выбрались на край леса. Голодные, как волки. Надо добыть продукты. Подумали-подумали, решили зайти в крайний дом. Мы не знали, что в нем жил враг-предатель. Зашли, поздоровались. Он нам: «Садитесь, я вам всё дам, сознаю вашу участь». Дал поесть супу, картошки, хлеба. Потом говорит: «Я вам с собой дам». А тем временем послал дочь-девку к полицаям. Только мы покушали, заходят двое полицаев, злые, как собаки: «Руки вверх!» Обыскали нас, думали, что у нас есть оружие. А хозяин улыбается: отличился перед немцами, обнаружил добычу. Подошла автомашина, нам надели на руки и на ноги цепи, повезли. Народ собрался, горюет. Старухи говорят: «Милые солдатики, к кому же вы зашли? К предателю».
Привезли нас в свой лагерь, развязали цепи, построили пленных в одну шеренгу, нас поставили перед ними. Подошел комендант лагеря, что-то заговорил по-немецки. Борис, переводчик, перевел, что за побег нам дадут по 15 розог и 15 суток карцера. Стали нас палачи сечь, все удары считал сам фашист-комендант. Мы стали больными, все в крови. Нам бы лежать, а в карцере ни сесть, ни лечь, только стоя. Питание: кружка воды и крошка хлеба. Но судьба и тут по-своему вела. Борис, переводчик, оказался хорошим человеком. Родом он был из большого города, мать русская, отец немец. По-немецки он говорил хорошо, а душа у него была русская. Он нас очень жалел.
Борису комендант доверял ключи. И он приносил нам баланду, хлеб и мазь для натирания. И мы остались живы и даже немного поправились. Вот как его забыть? Никак нельзя! И мы ему помогли, когда нас освободили, вы дальше об это
Дмитрий Терехов,
16-01-2011 22:09
(ссылка)
Итоги 2010 года (аналитический материал) Часть 1
Кажется, только вчера был 2001-й
год, начало XXI века и
нового тысячелетия, а вот не успели даже оглянуться, а 10 лет уже как не
бывало. 10 лет в жизни человека – солидный срок, а в жизни страны и нации –
одно мгновение. Впрочем, сейчас и история страны сжимается, время идёт быстрее.
Вот прошёл последний год т.н. «нулевых» годов XXI века, пролетел, просвистел, как пуля
у виска. Что ж, самое время подвести его итоги…
Итоги года сейчас подводят
многие. Популярный стал жанр… Но все они интересные, потому, что трактовка
одних и тех же событий у всех разная и акценты расставлены с точки зрения
интересов той общности или заказчика, которого каждый автор представляет. Вот
тут прочитал итоги 2010 года в интерпретации Юлии Латыниной, озвученные на радиостанции
«Эхо Москвы». Это итоги года с позиции лютых врагов России и русского народа.
Хороший анализ, много фактов отмечено, но только не с позиции интересов нашей
страны и нашего народа, а позиций прямо противоположных, хотя Латынина,
конечно, в этом не признаётся.
Я же хотел дать свой анализ и
своё видение итогов 2010 года, как я это понимаю и как ощущаю интересы именно
русского народа и русского государства. Кому интересно, почитайте, а кого с
самого начала от такой трактовки тошнит, бросьте. Чего нервы зря портить… Итак.
2010 год начался с победы, точнее
сразу трёх побед Владимира Чагина в трёх этапах гонки Париж-Дакар, которые
удивили всех участников соревнований. Впервые в истории «Дакара»
на третий день гонки грузовик вошел в десятку в абсолютном зачете.

Владимир Чагин – победитель
«Дакара-2010»
Если не считать этой победы, то в
первой половине месяца, когда принято праздновать всей страной буквально до
посинения (кстати, это уже превращается в некое безумие – с 25 декабря до 15
января вся страна стоит на ушах, не говоря уже о безделии, на всё это
накладывается повальное пьянство, часть из которого кстати говоря приходится на
последнюю неделю Рождественского поста – с этим надо что-то делать), ничего
особенного не происходило. Первое, казалось бы, совсем малозначительное событие
– посещения Путиным 14 января птицефабрики и молочной фермы в Петербургской
области. Впрочем нам интересен не сам этот визит, а сделанные в ходе него
заявления, в высшей степени интересные. Путин сказал, что через 5 лет Россия
выйдет на полное самообеспечение мясом птицы и более того, начнёт
экспортировать курятину. За последние годы уже удалось снизить зависимость от
импорта птицы в 2 раза (!) с 50% от потребностей населения до 25%. Так что это
заявление следует признать вполне разумным и реальным. А если вспомнить, что в
2009 году Россия вышла ещё и на 3-е место в мире по экспорту зерна, обогнав США
(так, на секундочку…), то стоит отметить прямо скажем существенные сдвиги в
сельском хозяйстве в лучшую сторону.
Правда, нельзя тут же не
вспомнить, что в середине года, в связи с аномальной жарой, погибла
значительная часть урожая 2010 года, и это победоносное шествие нашего
агрокомплекса было несколько смазано, но на самом деле, это всего лишь
временный откат. Наверстаем…
17 января произошло поистине
судьбоносное событие - первый тур выборов Президента на Украине. Победил
Янукович с 35% голосов, на втором мест – Тимошенко – 25%, на третьем Тигипко –
13%. Ющенко получил 5% голосов (политика с такой фамилией на Украине больше
нет). Любопытно, что Ющенко под занавес своего правления вручил своим указом
звезду Героя Украины Степану Бандере. Второй тур выборов был назначен на 7
февраля.
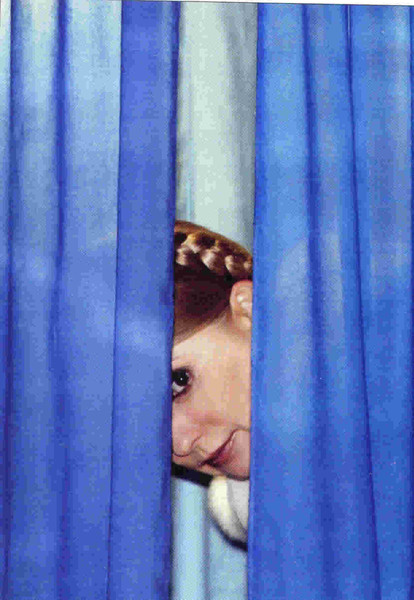
Значение этого события даже не
поддаётся оценке. [ читать дальше → ]
Метки: Итоги 2010 года, выборы, Украина, взрывы, метро, олимпиада, домен РФ, Дакар, спорт, террористы
Александр Корнилов,
13-12-2010 07:32
(ссылка)
Мнение Антона из Екатеринбурга о современной молодежи.
Добрый день. Меня зовут Антон, я из Екатеринбурга. Нашел ссылку на ваш ресурс в обсуждении темы о Зеленокумских разборках и инциденте в нашем городе с вашим земляком. Испытываю двоякие чувства.С одной стороны я вижу, что мусульмане, пишущие здесь, — люди разумные и вменяемые, это приятно.С другой стороны, зашкаливающая степень шовинизма, представленная в наших СМИ и соответствующие настроения среди русских вызывает глубокую печаль. Те, молодые чеченцы, что попадают в сводки новостей, формируют неверное отношение к вашему народу. Очень много русских реально думают, что ВСЕ чеченцы — зажравшиеся кремлевскими деньгами звери, насилующие русских девок, танцующие лезгинку и палящие из травматики. Зайдите на сайте Луркоморе в раздел Нохчо и вы увидите каким предстает весь Кавказ в глазах русских. Никто не пишет, что на Кавказе есть вменяемые чеченцы-мусульмане.Более того, у нас в городе летом целую неделю орудовала тюменская шпана (18-24 года) на тонированных тачках, чьи родили оказались депутатами из Тюмени. И вели они себя так же как рисуют в наших СМИ чеченцев. Так выходит, что расовое деление не верно в корне, и в стебле. А все беспорядки провоцирует безнаказанные чинуши и их детишки.К тому же тут писали, что русские — бараны. Я с вами соглашусь. Мое поколение 20-25 лет — это еще одно потерянное поколение. Мы живем чтоб потреблять и радоваться жизни и мы толерантны и терпимы ко всему и прежде всего к тому, что у нас отняли цель жизни.У нашего поколения нет основы и начала, на которое мы могли бы опереться. У вас есть религия. То что сегодня собой представляет РПЦ — это ветвь государственной власти, которая занимается самопиаром. За последние 4 года в центре Екатеринбурга построено и заложено столько церквей, что на них едва хватит прихожан. В то время, как больше 100 000 сирот не могут получить нормального образования и воспитания. Мы позволили отобрать у нас выборность губернаторов и мэров. По телеку нам показывают тупые сериалы и юмористические шоу. Впечатление такое, что нас готовят на убой.
Александр Корнилов,
13-12-2010 05:55
(ссылка)
Бисмарк о русских.
* Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
* Русские долго запрягают, но быстро едут.
* Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.
* Он как всегда с улыбкой примадонны на устах и с ледяным компрессом на сердце (о канцлере Российской империи Горчакове).
* предположительно: Если Вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко
Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени.
Отто фон Бисмарк
Александр Корнилов,
27-11-2010 04:12
(ссылка)
Cчастье быть русским.
http://pravaya.ru/column/6055
Егор Холмогоров
26 декабря 2005 г.
Cчастье быть русским
Без специфического для каждого народа эмоционального переживания своей национальности, без определенной эстетики Родины, и сам народ не существует
«Мы русские – какой восторг!» — в этом афоризме Суворова проще и понятней всего выражено то переживание, которое и делает, собственно, русского русским. Патриотизм и любовь к родине – это не научная, не нравственная, не политическая категория — это категория, прежде всего, эмоционально-эстетическая. Без специфического для каждого народа эмоционального переживания своей национальности, без определенной эстетики Родины, и сам народ не существует – ни как био-социальный организм – этнос, ни как историческая нация.
Между тем, эстетика переживания русскости, которой в ХХ веке неоднократно наносились чувствительные удары, оказалась к началу нашего столетия практически утраченной. Наша национальная культура разбилась на поп-культуру, которая не может считаться русской даже формально, и патриотическую «субкультуру». Причем даже в патриотических кругах националистическая идеология может сочетаться c эстетической и эмоциональной безвкусицей по отношению к России. В специфической националистической субкультуре нет ничего плохого. Более того, беда русской культуры состояла в том, что патриотические элементы так и не сложились в ней в единое ядро, к которому должен быть привержен каждый настоящий патриот. Однако патриотическая субкультура и патриотический миф должны быть ядром культуры, а не её маргиналией, как это получается сейчас.
Вкус к Родине
Поэтому в центре личного и коллективного действия всех русских, заинтересованных в том, чтобы и их дети оставались русскими, должно стать воспитание вкуса к Родине. В самих себе, в близких, в детях и внуках. Образ России должен формироваться из самых сильных и ярких переживаний своего, родного и близкого. В то время как сейчас, благодаря интенсивно разрушающим национальную оболочку «психологическим вирусам» вокруг смысла «Родина» концентрируются только худшие переживания и воспоминания – боль, унижение, страх, обида, чувство грязи и серости. И напротив, все лучшие эмоции, если и затрагивают Россию, то считаются частью только личного опыта — «мне повезло видеть и пережить такое».
Эстетика национального должна быть восстановлена у русских через переживание природы и культуры, архитектурных памятников и музыки всех эпох, через восстановление культуры русского жеста и русской речи. К русским должны вернуться специфические цвет, звук, ощущение, вкус и запах. Да. Именно запах. Вы можете сказать «чем пахнет Россия»? Если, конечно, отбросить шуточки туалетных остряков с ТВ. А ведь это странно, что мы не имеем ни малейшего понятия о том, как именно «там Русью пахнет». Несомненно, что написавшему это Пушкину представлялась определенная система запахов, которые у него ассоциируются с «русским духом». Хотя в разучиваемых нами в детстве стихах Джанни Родари мы все читали, что «только бездельник не пахнет ничем» мы, тем не менее, приняли мысль, что русский может либо не пахнуть, либо пахнуть плохо. У современных русских положительное переживание запаха полностью утрачено.
Да только ли запаха? Мы с некоторым трудом определим русский вкус, застрянем на русском ощущении, с большим трудом выдавим из себя пару банальностей о русских звуках и намертво застрянем на русском цвете. Скорее всего, дальше красного и (совсем отдельно, вне символической семантики, — белого) дело не пойдет. Но уже с оттенками красного будут трудности.
Сегодня наша национальная специфика стерта даже на уровне элементарных психо-физиологических раздражений. Причем это происходит именно в последние годы. Даже в советский период у русских, несмотря на приписанную нам ложную идентификацию, сводящую нас к великороссам, была определенная специфическая эстетика, хотя бы на контрасте с другими членами семьи «пятнадцати сестер». И чувство полноты Родины – СССР переживалось, по крайней мере, в культурно-насыщенный период «застоя», переживалось и через противопоставление и через единство русских с остальными. Сегодня, вписанные в сетку общечеловечных «людей без свойств», русские практически лишены каких-либо национально-специфичных переживаний, просто не знают, где их найти. А без них никакого вкуса к Родине, тем более хорошего вкуса, иметь нельзя. Тем более, без этого невозможно добиться «восторга» быть русским.
Между тем, только на этом восторге, только на действительно сильном и позитивном переживании своей принадлежности к русским, наша нация сможет одолеть свои теперешние беды и разделения. Причем разделения не только формальными границами, но и внутреннего разделения, вносимого большими и малыми сепаратизмами. Сегодня ни у кого практически не существует поводов, чтобы жалеть о том, что он не русский. И напротив, существует масса причин и поводов, чтобы даже самый стопроцентный русский захотел бы перекинуть свою идентичность в казахи, или, хотя бы, в казаки (про которых тоже заявить, что это отнюдь не русские). Ситуация по своему благородная, но все-таки жутковатая, — быть в положении, когда никому не захочется к тебе «примазаться». Для подвижника это нормально, для нации – нет.
И уже в самой России плодятся и множатся психологические расколы, люди старательно выискивают в себе частицы драгоценной «нерусской крови», лелеют и вскармливают их — «я немножко поляк», я «слегка эстонец», на худой конец обнаруживается тщательно отскобленный «ингерманландец», «ижорец» или анекдотический «вятич». В мире не осталось, кажется, ни одной русской радости, который почувствует себя лишенным тот, кто русским себя не считает. Именно поэтому русским, в своей среде, в своем культурном творчестве, самореализации, созидании, необходимо создавать большие и малые культурные и эмоциональные строения с надписью у входа «только для русских».
Почему полезно иметь секреты
Мы слишком и долго и слишком старательно делали свою культуру общечеловеческой, стараясь первенствовать именно в том, что признается всеми. Ни для одной великой нации этого нехарактерно. У всех есть своеобразные чудачества, вроде «бейсбола», которых чужакам не понять. Русским из «непонятного» приписывается только «загадочная душа», но ее загадочность ни в каком ритуале не материализуется. Даже водка – и то это не «русский напиток», а часть коктейля «водка с мартини взболтать, но не смешивать». Чайковский – это тот, кому Бетховен должен передать новость – «катиться». Пушкин – чудак, поэму которого комментировал месье Nabokoff, Романовы, это династия, из которой происходят легендарные Rasputin и Анастасия. Даже Константин Леонтьев, поэт особости, проповедник защиты Россией своего необщего лица – византизма, и тот, по иронии процесса русского растворения, оказался «русским Ницше» и «предтечей Шпенглера».
Нерастворимое ядро русской культуры слишком глубоко, слишком сокровенно, чтобы быть постигнуто хотя бы нами самими, а остальное все пущено в общечеловеческое растворение. Русским пора научиться посвящать свою работу, свое творчество, вдохновение, труд и успех другим русским. И посвящать других русских (и более никого) в свои тайны. Пора обзавестись хотя бы парой национальных «чудачеств», не открывающихся никому, кроме своих. Чудачеств, быть может, неудобных в практической жизни, но формирующих чувство сопричастности. До тех же пор, пока все русское, любой восторг, любое теплое чувство к «своему», будет пускаться в расход для всечеловека, всечеловек будет пускать в расход нас.
Следовало бы сделать что-то для России, а не для «мира», с тем, чтобы мир ощутил хотя бы минимальные неудобства от того, что он не Россия. Последний раз такое переживание европейцы испытывали едва ли не при царе Алексее Михайловиче, когда из всех европейцев только русские знали путь в Персию и им пользовались. Раз в несколько лет англичане и голландцы посылали к царю посольства с щедрыми дарами, уговаривая поделиться ценной информацией на благо европейского процветания, но пришлось дождаться тотальной европеизации России, чтобы эта просьба была исполнена. С тех пор, настоящих секретов у русских не было. Осталось только умение перемигиваться, о котором некогда гениально писал Розанов: "Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком… И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем". Но эта культура перемигивания от того и развилась, что любое слово, уже в которое облечена тайна, тут же становится «общечеловеческим достоянием». А в обкраденном русском языке почти не осталось слов-загадок, если не считать таковыми, конечно, «вошедшие во все языки без перевода» речекряки «perestroyka», «glastnost», «Gorbachev»… Тут не захочешь – начнешь перемигиваться.
Восторг быть русским, нужный сейчас как никогда, это и больше и меньше, чем «державное чувство». Это почти детское дыхание, спертое знанием тайны, это обладание теми ощущениями, которых не поделить ни с кем, кроме своих, — ощущениями наивными, сладостными, но и постыдными в том смысле, что разделить их с кем-либо из чужих не даст простое чувство стыда. Нужно собирать большие и малые кусочки того, из чего можно сложить образ русской тайны, образ недоступного никому больше переживания себя. И лишь тогда, когда эта тайна сложится, ее чувство внутри перейдет в распространяемый вовне восторг быть русским — одновременно и пугающий и притягивающий. Восторг, которым разрушаются царства и создаются империи.
Икона и топор
Тайна быть русским и восторг быть русским. Это первое, что нам нужно обрести, чтобы быть сегодня самими собой. Но только русскую тайну и русские тайны ни в коем случае не следует путать с «загадочной русской душой», — отвратительной концепцией, изобретенной в Европе, чтобы дурачить русских.
Подобное, впрочем, проделывалось не только с Японией. В 1978 году в Лондоне вышла книга ученого палестинского происхождения Эдуарда Саида «Ориентализм», полностью перевернувшая науку о Востоке. В этой книге, может быть, не всегда обоснованно, но зато предельно жестко, ученый доказывал — весь «Восток» с его неподвижностью, созерцательностью, мистикой и экзотической загадкой выдуман европейскими учеными в эпоху колониализма. Выдуман для того, чтобы представить дело так, будто жителям Востока (в который, кстати, объединили такие совершенно непохожие миры как Ислам, Индия, Китай и другие) чужды стремление к техническому прогрессу, к свободе и равноправию. По сути «ориентализм» стал отражением древнего мнения греков о варварах, как о «рабах по природе».
После работ Саида говорить об «ориентализме» стало попросту неприлично. В американских университетах преподавателям даже не рекомендуется употреблять слово «oriental», только «eastern». Конечно, вместе с водой, наверняка, выплеснули и ребенка. Для западной науки от этого очередного приступа толерантности было, возможно, больше вреда. Но вот для самих жителей Востока, прежде всего – Ближнего, интересы которых и защищал Саид, проистекла одна сплошная польза. Унизительный для них «ориентализм» во взгляде на исламский и другие тамошние миры начали преодолевать.
России не помешал бы свой Эдуард Саид, который решительно бы расправился с аналогичным колонизаторским мифом о «загадке русской души», принципиально не похожей на душу европейского человека. Этот «русизм» (введем такой нелепый термин в противоположность русскости) рисует «русскую загадку» широкими мазками — тут вам и мечтательность, и совестливость, и повышенная «духовность», и, в то же время, расслабленность и «широта души», которая хоть и нараспашку, но не познаваема в какой-то своей безбрежной глубине. Нам вся эта патока льстит, и мы, волей-неволей, начинаем ей поддаваться и повторять вслед за исследователями «русизма», как в известном анекдоте: «Я, когда напьюсь, – такая загадочная, такая загадочная…».
Кстати, теоретизирования вокруг «высокодуховного» русского пьянства – из той же оперы. Увидеть в нем не болезнь, проистекающую, частично, из определенных исторических условий, а частично культивируемую враждебной волей, а некую особую «духовность» понадобилось именно для того, чтобы русские из–за бутылки не вылезали. Классическую формулу такого «русизма» дал в своей самой известной книге главный американский специалист по России — Джеймс Биллингтон: «Икона и топор». Мол, русские, то создают прекраснейшие, пронизанные неземным светом иконы, и на них истово молятся, то хватаются за топор и начинают крушить друг друга, рубить иконы в щепки и бросаться на окружающих. Такая вот «широкая душа». Между тем, дерево для иконы приготовляется с помощью топора. С помощью того же инструмента на Руси испокон веков рубили храмы без единого гвоздя. Но этого прочтения топора, как символа русского созидания, а не разрушения, русизм, разумеется, не принимает. Тогда ведь никакой «загадки» не будет.
Загадочная и мятущаяся, разорванная противоречиями «русская душа» нужна Западу прежде всего как кривое зеркало, которое можно подставить России, когда она особенно опасна, и вынудить её убраться из «цивилизованных» земель в свою сокровенную глушь. Эта цель европейской политики в отношении России была сформулирована еще в средневековье, когда державу московитов пытались отделить от Европы и даже выхода к морю Ливонский Орден, Польша и другие сродные структуры. Когда с Петром Великим Россия вышла на мировой державный простор, загнать русских назад «Заможай» стало навязчивой идеей многих европейских политиков.
Все, наверное, помнят фильм «Гардемарины вперед», в котором отважные друзья скачут, дерутся, рискуют и интригуют и за свое счастье, и во благо России. Интрига, вокруг которой закручивается весь сюжет, запускается неким графом де Брольи, — корифеем французской тайной дипломатии XVIII века, подчинившим политику Франции одной единственной идее — убрать русских из Европы. Де Брольи писал: «Что до России, то мы причислили её к рангу европейских держав только затем, чтобы исключить потом из этого ранга и отказать ей даже в праве помышлять о европейских делах… Необходимо устранить все обстоятельства, которые могли бы ей дать возможность играть какую-либо роль в Европе… Пусть она впадет в летаргический сон, из которого её будут пробуждать только внутренние смуты, задолго и тщательно подготовленные нами. Постоянно возбуждая эти смуты, мы помешаем правительству Московитов помышлять о внешней политике…».
Сходных взглядов придерживался и другой француз – Жан-Жак Руссо, проповедник идеи «естественного человека». Он считал, что Россия, которая сейчас стремится покорить Европу, сама будет покорена татарами. Руссо был последовательным русофобом в течение всей своей жизни, сочинял проекты конституции для Польши, ругал Петра, который «испортил» русских цивилизацией. И именно по руссоистским лекалам были скроены и догмы «русизма» о неотмирном мечтательном народе, который против собственной воли был вынужден войти в большую историю и играть в ней важную роль, в то время как его подлинное желание – предаваться духовным созерцаниям и ничего более.
Не трудно заметить, что, смотрясь на себя в это кривое зеркало, мы и сами начали придерживаться о себе того же ложного мнения. А вместе с этим мнением, прощать себе расхлябанность, душевную и нравственную размытость, безволие и мечтательность, считая это не своими пороками, а неотъемлемыми чертами «национального характера» и «русской загадки». Мнимая «загадка», противоположная подлинной русской тайне и русским секретам, стала инструментом колониального порабощения нашей души и нашей воли.
Ничего общего с «русизмом» подлинная русскость не имеет. Это не мечтательный сентиментализм, а, напротив, практицизм и воля к деятельности. Это исключительная целеустремленность, подчиненная ясному знанию, что именно мы хотим. Это не мистицизм, но мистика, то есть не поиски загадок и тайн, а умение прорваться к небесной реальности и жить уже в ней. Чтобы понять, насколько отличается подлинный русский дух от «загадочной русской души», достаточно вспомнить два великих исторических процесса, коими созидалась великая Россия — освоение северо-восточных земель русским монашеством, заселение и обработка тысяч километров лесов в зоне «очень рискованного земледелия». Там, где Соловецкие монахи ухитрялись выращивать дыни, а главное, не забывали становиться при этом святыми. Другой исторический процесс — создание засечных черт на южных рубежах Московского государства в XVI-XVII веках, планомерное наступление на Степь — подвиг куда больший, чем строительство трудолюбивыми китайцами Великой Стены. Стена была разовым деянием, Засечная Черта требовала постоянных усилий по своему поддержанию. Стена была чисто материальным препятствием, Засечная Черта была сложнейшим социальным и военным механизмом, действовавшим на отражение угрозы. Наконец, Стена так и не дала Китаю защиты. В то время как Засечная Черта оградила Русь от набегов и стала первым шагом того пути, который всего в несколько десятилетий привел Россию из Донских степей на границы Китая.
Так что главная тайна русских состоит в том, что никакой «загадочной русской души» не существует. Хотя, пожалуй, для нашей пользы было бы хорошо, чтобы на Западе в нее верили. Для того, чтобы успешно противостоять врагу иногда полезно спрятаться в своеобразную «когнитивную тень», то есть не разрушать ошибочных представлений противника о себе. Если ты деятелен, пусть он думает, что ты ленив. Если ты милосерден, пусть он лучше пугает сам себя твоей жестокостью. Когда находишься в такой «тени» противник вынужден неправильно, перпендикулярно твоей собственной логике, понимать твои действия и принимать, соответственно, неверные решения. Скольких разочарований стоила, например, Гитлеру уверенность немцев в том, что русские все как один ждут-не дождутся крушения коммунизма, и уж точно не будут его защищать до последнего. А скольких обманула вера в то, что подлинный русский тип – это Платон Каратаев пополам с Обломовым? Показывать врагу свое искаженное изображение полезно. Но только в том случае, если сам в него не веришь и им не обольщаешься.
Так чем же пахнет Россия?
Но вернемся к вопросу: «Чем пахнет Россия?» Есть ли у нас переживание России на уровне ощущений? Оказывается, есть. И его возможно пробудить, если дать себе труд подумать, а главное почувствовать. Я задал этот вопрос своим знакомым и получил множество ответов — один ярче другого.
«Очень четкий, ни с чем не спутываемый, запах дыма из труб в деревне, из натапливаемых дровами домов. И еще — запах сжигаемой травы весной, а также — сжигаемых листьев осенью. Запах железнодорожного полотна, который сразу рождает мысль о бесконечных дорогах и путешествиях, когда можно долго-долго ехать по своей стране. Еще — запах теплого весеннего ветра зимой, в конце февраля или начале марта, когда кругом еще снега. Или еще — запах талого снега, талой воды».
«Морошка. Новые, только что разрезанные книги. Древесина. И свежесрубленная, и старая. Мокрые булыжники на дороге. Штукатурка. Свежие, только собранные с грядок огурцы и лук. Запах дизельного топлива вперемешку с летней пылью на контрасте с очень чистым воздухом маленьких русских городов. Запах мандаринов, слабо различимый из-за простуды. Тающий воск. Специальный запах, исходящий от старых икон. В музейных залах, предназначенных для их обозрения, он явственный. Ну и в намоленных церквах тоже. Оружейная сталь. Мех».
«Когда земля по весне оттаивать начинает — сумашедшие запахи! Голова кружится и кровь играет. А лес сосновый в жаркую погоду! Запах речной воды... Нагретого железа пароходной палубы... Горячих шпал и запаха креозота... Сухого сена и девичьей кожи...»
«Зимой: снегом, дровами, дымом, елкой, воротником шубы. Летом: земляникой, георгинами, разбитой переносицей, спинкой переднего сиденья авто, выбитыми передними зубами, кровью, рекой. Осенью: визгом свиньи, которую режут на зиму, паленой щетиной… снова зима... уже не запах, визуальное... окно, снежная равнина, звездное, подернутое морозной дымкой небо, далекие огоньки...»
«Креозотом (веществом, которым пропитывают деревянные шпалы). Очень люблю этот запах. Еще есть очень специфический запах, которым пахнут новые станции московского метро в течение нескольких лет после открытия (потом выветривается). Тоже очень характерный русский-московский запах».
«Помнится, читал как-то вполне научную статью о том, что такое "русский дух" для финно-угорских народов. Автор исследовал сказки финно-угорских народов, проживающих в Поволжье и сделал вывод, что "русский дух" пахнет... дегтем. Этот запах часто упоминается в сказках как характернейшая черта пришлых русских переселенцев. Непривычный резкий характерный запах дегтя шокировал финно-угорских жителей, которые до появления русских не знали, что такое сапоги и что такое деготь».
«Ещё Россия пахнет осенью и весной. Запах осени — палые листья, вообще запах осеннего леса совершенно неповторим и уникален. Запах весны — не знаю, что это, может быть оттаивающая земля, но его тоже ни с чем не спутаешь. И его приход всегда чётко ощущается, в один прекрасный день в конце марта — начале апреля выходишь на улицу — и вот оно! Вчера ещё не было — а сегодня пришло. Как правило, сопровождается легким ветерком. И ещё Россия пахнет грибами! И новыми станциями метро и железнодорожными шпалами!»
«Для меня моя Россия пахнет Новым годом и домом — елкой, чем-то сладким, мандариновым, немного — пылью от книг; моя Россия пахнет влагой — после грозы. И дымом — от сжигаемой травы весной, легкий запах дыма, который мне всегда казался таким странным — в открытые окна майской ночи, когда смотришь салют на День Победы».
«В конце февраля, когда ветер становится различимо тёплым... Мокрая кора? Стареющая не первый год краска на оградах?..»
«Моя Россия (в силу проживания в Москве) пахнет метро. Только не тем, что внизу, нынче там пахнет бомжами, а в городе, есть такие штуки, наверно это вентиляционные шахты, выходящие на поверхность, у них теплый и приятный запах, особенно зимой, когда у них можно погреться. Еще Россия пахнет липой, в силу того, что это дерево растет перед окном и в период цветения пахнет просто обалденно. Что еще: асфальт, елка вкупе с мандаринами, ромашка, свежескошенная трава, яблоки».
«Смесь горячего металла, дешевого табака и свежего ветра. Труднопредставимое сочетание сам понимаю, но именно так и есть».
Меня в этих ответах поразил, прежде всего, постоянно встречающий образ запаха шпал, железной дороги, поезда, который неожиданно появляется посреди переживаний природы и природных запахов. Россия пахнет бескрайним пространством, пронизанным и собранным металлом поездов. Деревянная шпала – это своеобразная точка равновесия между природой (дерево) и техникой (назначение), своеобразный синтез двух координат русского пространства – бескрайней природы и упорядочивающей техники.
Рассыпанное, чисто природное пространство еще не является Россией, это просто земля. Чисто техническое пространство – это уже не Россия, оно лишено национальной окраски. И лишь там. Где природа охвачена техникой, а техника вобрана в природу, там для нас собирается Россия из свежего ветра, горячего металла и терпкого дыма. Чтобы пережить Россию, нужно действительно хотя бы раз пройти летом несколько километров по шпалам куда-то пропавшей пригородной электрички. Пройти, периодически отходя на обочину и хитрым глазком вылавливая пару-тройку робко краснеющих земляничек. И это чувство пережитой на вкус и на запах России, наполнит грудь тем самым восторгом, через который только и созидается в душе чувство принадлежности к народу.
Восторг быть русским — это и восторг от взлетающих в космос ракет, и восторг от дедовских и прадедовских фронтовых орденов, и благоговение перед иконой, и перед штыком суворовского «чудо богатыря», побеждающего любую смерть под командой своего чудо-полководца. Это восторг перед белым шатром колокольни вдруг резко отделяющейся от белого фона зимней равнины. Это восторг от вкуса черного, настоящего ржаного хлеба или от его соседки булки, вместе говорящих о труде и заслуженном трудом достатке. Через эти переживания, через плотный поток впечатлений и совершается то воспитание чувств, которые все вместе и складываются в одно чувство – чувство Родины и принадлежности к ней. К высшему счастью – счастью быть русским.
Егор Холмогоров
26 декабря 2005 г.
Cчастье быть русским
Без специфического для каждого народа эмоционального переживания своей национальности, без определенной эстетики Родины, и сам народ не существует
«Мы русские – какой восторг!» — в этом афоризме Суворова проще и понятней всего выражено то переживание, которое и делает, собственно, русского русским. Патриотизм и любовь к родине – это не научная, не нравственная, не политическая категория — это категория, прежде всего, эмоционально-эстетическая. Без специфического для каждого народа эмоционального переживания своей национальности, без определенной эстетики Родины, и сам народ не существует – ни как био-социальный организм – этнос, ни как историческая нация.
Между тем, эстетика переживания русскости, которой в ХХ веке неоднократно наносились чувствительные удары, оказалась к началу нашего столетия практически утраченной. Наша национальная культура разбилась на поп-культуру, которая не может считаться русской даже формально, и патриотическую «субкультуру». Причем даже в патриотических кругах националистическая идеология может сочетаться c эстетической и эмоциональной безвкусицей по отношению к России. В специфической националистической субкультуре нет ничего плохого. Более того, беда русской культуры состояла в том, что патриотические элементы так и не сложились в ней в единое ядро, к которому должен быть привержен каждый настоящий патриот. Однако патриотическая субкультура и патриотический миф должны быть ядром культуры, а не её маргиналией, как это получается сейчас.
Вкус к Родине
Поэтому в центре личного и коллективного действия всех русских, заинтересованных в том, чтобы и их дети оставались русскими, должно стать воспитание вкуса к Родине. В самих себе, в близких, в детях и внуках. Образ России должен формироваться из самых сильных и ярких переживаний своего, родного и близкого. В то время как сейчас, благодаря интенсивно разрушающим национальную оболочку «психологическим вирусам» вокруг смысла «Родина» концентрируются только худшие переживания и воспоминания – боль, унижение, страх, обида, чувство грязи и серости. И напротив, все лучшие эмоции, если и затрагивают Россию, то считаются частью только личного опыта — «мне повезло видеть и пережить такое».
Эстетика национального должна быть восстановлена у русских через переживание природы и культуры, архитектурных памятников и музыки всех эпох, через восстановление культуры русского жеста и русской речи. К русским должны вернуться специфические цвет, звук, ощущение, вкус и запах. Да. Именно запах. Вы можете сказать «чем пахнет Россия»? Если, конечно, отбросить шуточки туалетных остряков с ТВ. А ведь это странно, что мы не имеем ни малейшего понятия о том, как именно «там Русью пахнет». Несомненно, что написавшему это Пушкину представлялась определенная система запахов, которые у него ассоциируются с «русским духом». Хотя в разучиваемых нами в детстве стихах Джанни Родари мы все читали, что «только бездельник не пахнет ничем» мы, тем не менее, приняли мысль, что русский может либо не пахнуть, либо пахнуть плохо. У современных русских положительное переживание запаха полностью утрачено.
Да только ли запаха? Мы с некоторым трудом определим русский вкус, застрянем на русском ощущении, с большим трудом выдавим из себя пару банальностей о русских звуках и намертво застрянем на русском цвете. Скорее всего, дальше красного и (совсем отдельно, вне символической семантики, — белого) дело не пойдет. Но уже с оттенками красного будут трудности.
Сегодня наша национальная специфика стерта даже на уровне элементарных психо-физиологических раздражений. Причем это происходит именно в последние годы. Даже в советский период у русских, несмотря на приписанную нам ложную идентификацию, сводящую нас к великороссам, была определенная специфическая эстетика, хотя бы на контрасте с другими членами семьи «пятнадцати сестер». И чувство полноты Родины – СССР переживалось, по крайней мере, в культурно-насыщенный период «застоя», переживалось и через противопоставление и через единство русских с остальными. Сегодня, вписанные в сетку общечеловечных «людей без свойств», русские практически лишены каких-либо национально-специфичных переживаний, просто не знают, где их найти. А без них никакого вкуса к Родине, тем более хорошего вкуса, иметь нельзя. Тем более, без этого невозможно добиться «восторга» быть русским.
Между тем, только на этом восторге, только на действительно сильном и позитивном переживании своей принадлежности к русским, наша нация сможет одолеть свои теперешние беды и разделения. Причем разделения не только формальными границами, но и внутреннего разделения, вносимого большими и малыми сепаратизмами. Сегодня ни у кого практически не существует поводов, чтобы жалеть о том, что он не русский. И напротив, существует масса причин и поводов, чтобы даже самый стопроцентный русский захотел бы перекинуть свою идентичность в казахи, или, хотя бы, в казаки (про которых тоже заявить, что это отнюдь не русские). Ситуация по своему благородная, но все-таки жутковатая, — быть в положении, когда никому не захочется к тебе «примазаться». Для подвижника это нормально, для нации – нет.
И уже в самой России плодятся и множатся психологические расколы, люди старательно выискивают в себе частицы драгоценной «нерусской крови», лелеют и вскармливают их — «я немножко поляк», я «слегка эстонец», на худой конец обнаруживается тщательно отскобленный «ингерманландец», «ижорец» или анекдотический «вятич». В мире не осталось, кажется, ни одной русской радости, который почувствует себя лишенным тот, кто русским себя не считает. Именно поэтому русским, в своей среде, в своем культурном творчестве, самореализации, созидании, необходимо создавать большие и малые культурные и эмоциональные строения с надписью у входа «только для русских».
Почему полезно иметь секреты
Мы слишком и долго и слишком старательно делали свою культуру общечеловеческой, стараясь первенствовать именно в том, что признается всеми. Ни для одной великой нации этого нехарактерно. У всех есть своеобразные чудачества, вроде «бейсбола», которых чужакам не понять. Русским из «непонятного» приписывается только «загадочная душа», но ее загадочность ни в каком ритуале не материализуется. Даже водка – и то это не «русский напиток», а часть коктейля «водка с мартини взболтать, но не смешивать». Чайковский – это тот, кому Бетховен должен передать новость – «катиться». Пушкин – чудак, поэму которого комментировал месье Nabokoff, Романовы, это династия, из которой происходят легендарные Rasputin и Анастасия. Даже Константин Леонтьев, поэт особости, проповедник защиты Россией своего необщего лица – византизма, и тот, по иронии процесса русского растворения, оказался «русским Ницше» и «предтечей Шпенглера».
Нерастворимое ядро русской культуры слишком глубоко, слишком сокровенно, чтобы быть постигнуто хотя бы нами самими, а остальное все пущено в общечеловеческое растворение. Русским пора научиться посвящать свою работу, свое творчество, вдохновение, труд и успех другим русским. И посвящать других русских (и более никого) в свои тайны. Пора обзавестись хотя бы парой национальных «чудачеств», не открывающихся никому, кроме своих. Чудачеств, быть может, неудобных в практической жизни, но формирующих чувство сопричастности. До тех же пор, пока все русское, любой восторг, любое теплое чувство к «своему», будет пускаться в расход для всечеловека, всечеловек будет пускать в расход нас.
Следовало бы сделать что-то для России, а не для «мира», с тем, чтобы мир ощутил хотя бы минимальные неудобства от того, что он не Россия. Последний раз такое переживание европейцы испытывали едва ли не при царе Алексее Михайловиче, когда из всех европейцев только русские знали путь в Персию и им пользовались. Раз в несколько лет англичане и голландцы посылали к царю посольства с щедрыми дарами, уговаривая поделиться ценной информацией на благо европейского процветания, но пришлось дождаться тотальной европеизации России, чтобы эта просьба была исполнена. С тех пор, настоящих секретов у русских не было. Осталось только умение перемигиваться, о котором некогда гениально писал Розанов: "Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком… И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем". Но эта культура перемигивания от того и развилась, что любое слово, уже в которое облечена тайна, тут же становится «общечеловеческим достоянием». А в обкраденном русском языке почти не осталось слов-загадок, если не считать таковыми, конечно, «вошедшие во все языки без перевода» речекряки «perestroyka», «glastnost», «Gorbachev»… Тут не захочешь – начнешь перемигиваться.
Восторг быть русским, нужный сейчас как никогда, это и больше и меньше, чем «державное чувство». Это почти детское дыхание, спертое знанием тайны, это обладание теми ощущениями, которых не поделить ни с кем, кроме своих, — ощущениями наивными, сладостными, но и постыдными в том смысле, что разделить их с кем-либо из чужих не даст простое чувство стыда. Нужно собирать большие и малые кусочки того, из чего можно сложить образ русской тайны, образ недоступного никому больше переживания себя. И лишь тогда, когда эта тайна сложится, ее чувство внутри перейдет в распространяемый вовне восторг быть русским — одновременно и пугающий и притягивающий. Восторг, которым разрушаются царства и создаются империи.
Икона и топор
Тайна быть русским и восторг быть русским. Это первое, что нам нужно обрести, чтобы быть сегодня самими собой. Но только русскую тайну и русские тайны ни в коем случае не следует путать с «загадочной русской душой», — отвратительной концепцией, изобретенной в Европе, чтобы дурачить русских.
Подобное, впрочем, проделывалось не только с Японией. В 1978 году в Лондоне вышла книга ученого палестинского происхождения Эдуарда Саида «Ориентализм», полностью перевернувшая науку о Востоке. В этой книге, может быть, не всегда обоснованно, но зато предельно жестко, ученый доказывал — весь «Восток» с его неподвижностью, созерцательностью, мистикой и экзотической загадкой выдуман европейскими учеными в эпоху колониализма. Выдуман для того, чтобы представить дело так, будто жителям Востока (в который, кстати, объединили такие совершенно непохожие миры как Ислам, Индия, Китай и другие) чужды стремление к техническому прогрессу, к свободе и равноправию. По сути «ориентализм» стал отражением древнего мнения греков о варварах, как о «рабах по природе».
После работ Саида говорить об «ориентализме» стало попросту неприлично. В американских университетах преподавателям даже не рекомендуется употреблять слово «oriental», только «eastern». Конечно, вместе с водой, наверняка, выплеснули и ребенка. Для западной науки от этого очередного приступа толерантности было, возможно, больше вреда. Но вот для самих жителей Востока, прежде всего – Ближнего, интересы которых и защищал Саид, проистекла одна сплошная польза. Унизительный для них «ориентализм» во взгляде на исламский и другие тамошние миры начали преодолевать.
России не помешал бы свой Эдуард Саид, который решительно бы расправился с аналогичным колонизаторским мифом о «загадке русской души», принципиально не похожей на душу европейского человека. Этот «русизм» (введем такой нелепый термин в противоположность русскости) рисует «русскую загадку» широкими мазками — тут вам и мечтательность, и совестливость, и повышенная «духовность», и, в то же время, расслабленность и «широта души», которая хоть и нараспашку, но не познаваема в какой-то своей безбрежной глубине. Нам вся эта патока льстит, и мы, волей-неволей, начинаем ей поддаваться и повторять вслед за исследователями «русизма», как в известном анекдоте: «Я, когда напьюсь, – такая загадочная, такая загадочная…».
Кстати, теоретизирования вокруг «высокодуховного» русского пьянства – из той же оперы. Увидеть в нем не болезнь, проистекающую, частично, из определенных исторических условий, а частично культивируемую враждебной волей, а некую особую «духовность» понадобилось именно для того, чтобы русские из–за бутылки не вылезали. Классическую формулу такого «русизма» дал в своей самой известной книге главный американский специалист по России — Джеймс Биллингтон: «Икона и топор». Мол, русские, то создают прекраснейшие, пронизанные неземным светом иконы, и на них истово молятся, то хватаются за топор и начинают крушить друг друга, рубить иконы в щепки и бросаться на окружающих. Такая вот «широкая душа». Между тем, дерево для иконы приготовляется с помощью топора. С помощью того же инструмента на Руси испокон веков рубили храмы без единого гвоздя. Но этого прочтения топора, как символа русского созидания, а не разрушения, русизм, разумеется, не принимает. Тогда ведь никакой «загадки» не будет.
Загадочная и мятущаяся, разорванная противоречиями «русская душа» нужна Западу прежде всего как кривое зеркало, которое можно подставить России, когда она особенно опасна, и вынудить её убраться из «цивилизованных» земель в свою сокровенную глушь. Эта цель европейской политики в отношении России была сформулирована еще в средневековье, когда державу московитов пытались отделить от Европы и даже выхода к морю Ливонский Орден, Польша и другие сродные структуры. Когда с Петром Великим Россия вышла на мировой державный простор, загнать русских назад «Заможай» стало навязчивой идеей многих европейских политиков.
Все, наверное, помнят фильм «Гардемарины вперед», в котором отважные друзья скачут, дерутся, рискуют и интригуют и за свое счастье, и во благо России. Интрига, вокруг которой закручивается весь сюжет, запускается неким графом де Брольи, — корифеем французской тайной дипломатии XVIII века, подчинившим политику Франции одной единственной идее — убрать русских из Европы. Де Брольи писал: «Что до России, то мы причислили её к рангу европейских держав только затем, чтобы исключить потом из этого ранга и отказать ей даже в праве помышлять о европейских делах… Необходимо устранить все обстоятельства, которые могли бы ей дать возможность играть какую-либо роль в Европе… Пусть она впадет в летаргический сон, из которого её будут пробуждать только внутренние смуты, задолго и тщательно подготовленные нами. Постоянно возбуждая эти смуты, мы помешаем правительству Московитов помышлять о внешней политике…».
Сходных взглядов придерживался и другой француз – Жан-Жак Руссо, проповедник идеи «естественного человека». Он считал, что Россия, которая сейчас стремится покорить Европу, сама будет покорена татарами. Руссо был последовательным русофобом в течение всей своей жизни, сочинял проекты конституции для Польши, ругал Петра, который «испортил» русских цивилизацией. И именно по руссоистским лекалам были скроены и догмы «русизма» о неотмирном мечтательном народе, который против собственной воли был вынужден войти в большую историю и играть в ней важную роль, в то время как его подлинное желание – предаваться духовным созерцаниям и ничего более.
Не трудно заметить, что, смотрясь на себя в это кривое зеркало, мы и сами начали придерживаться о себе того же ложного мнения. А вместе с этим мнением, прощать себе расхлябанность, душевную и нравственную размытость, безволие и мечтательность, считая это не своими пороками, а неотъемлемыми чертами «национального характера» и «русской загадки». Мнимая «загадка», противоположная подлинной русской тайне и русским секретам, стала инструментом колониального порабощения нашей души и нашей воли.
Ничего общего с «русизмом» подлинная русскость не имеет. Это не мечтательный сентиментализм, а, напротив, практицизм и воля к деятельности. Это исключительная целеустремленность, подчиненная ясному знанию, что именно мы хотим. Это не мистицизм, но мистика, то есть не поиски загадок и тайн, а умение прорваться к небесной реальности и жить уже в ней. Чтобы понять, насколько отличается подлинный русский дух от «загадочной русской души», достаточно вспомнить два великих исторических процесса, коими созидалась великая Россия — освоение северо-восточных земель русским монашеством, заселение и обработка тысяч километров лесов в зоне «очень рискованного земледелия». Там, где Соловецкие монахи ухитрялись выращивать дыни, а главное, не забывали становиться при этом святыми. Другой исторический процесс — создание засечных черт на южных рубежах Московского государства в XVI-XVII веках, планомерное наступление на Степь — подвиг куда больший, чем строительство трудолюбивыми китайцами Великой Стены. Стена была разовым деянием, Засечная Черта требовала постоянных усилий по своему поддержанию. Стена была чисто материальным препятствием, Засечная Черта была сложнейшим социальным и военным механизмом, действовавшим на отражение угрозы. Наконец, Стена так и не дала Китаю защиты. В то время как Засечная Черта оградила Русь от набегов и стала первым шагом того пути, который всего в несколько десятилетий привел Россию из Донских степей на границы Китая.
Так что главная тайна русских состоит в том, что никакой «загадочной русской души» не существует. Хотя, пожалуй, для нашей пользы было бы хорошо, чтобы на Западе в нее верили. Для того, чтобы успешно противостоять врагу иногда полезно спрятаться в своеобразную «когнитивную тень», то есть не разрушать ошибочных представлений противника о себе. Если ты деятелен, пусть он думает, что ты ленив. Если ты милосерден, пусть он лучше пугает сам себя твоей жестокостью. Когда находишься в такой «тени» противник вынужден неправильно, перпендикулярно твоей собственной логике, понимать твои действия и принимать, соответственно, неверные решения. Скольких разочарований стоила, например, Гитлеру уверенность немцев в том, что русские все как один ждут-не дождутся крушения коммунизма, и уж точно не будут его защищать до последнего. А скольких обманула вера в то, что подлинный русский тип – это Платон Каратаев пополам с Обломовым? Показывать врагу свое искаженное изображение полезно. Но только в том случае, если сам в него не веришь и им не обольщаешься.
Так чем же пахнет Россия?
Но вернемся к вопросу: «Чем пахнет Россия?» Есть ли у нас переживание России на уровне ощущений? Оказывается, есть. И его возможно пробудить, если дать себе труд подумать, а главное почувствовать. Я задал этот вопрос своим знакомым и получил множество ответов — один ярче другого.
«Очень четкий, ни с чем не спутываемый, запах дыма из труб в деревне, из натапливаемых дровами домов. И еще — запах сжигаемой травы весной, а также — сжигаемых листьев осенью. Запах железнодорожного полотна, который сразу рождает мысль о бесконечных дорогах и путешествиях, когда можно долго-долго ехать по своей стране. Еще — запах теплого весеннего ветра зимой, в конце февраля или начале марта, когда кругом еще снега. Или еще — запах талого снега, талой воды».
«Морошка. Новые, только что разрезанные книги. Древесина. И свежесрубленная, и старая. Мокрые булыжники на дороге. Штукатурка. Свежие, только собранные с грядок огурцы и лук. Запах дизельного топлива вперемешку с летней пылью на контрасте с очень чистым воздухом маленьких русских городов. Запах мандаринов, слабо различимый из-за простуды. Тающий воск. Специальный запах, исходящий от старых икон. В музейных залах, предназначенных для их обозрения, он явственный. Ну и в намоленных церквах тоже. Оружейная сталь. Мех».
«Когда земля по весне оттаивать начинает — сумашедшие запахи! Голова кружится и кровь играет. А лес сосновый в жаркую погоду! Запах речной воды... Нагретого железа пароходной палубы... Горячих шпал и запаха креозота... Сухого сена и девичьей кожи...»
«Зимой: снегом, дровами, дымом, елкой, воротником шубы. Летом: земляникой, георгинами, разбитой переносицей, спинкой переднего сиденья авто, выбитыми передними зубами, кровью, рекой. Осенью: визгом свиньи, которую режут на зиму, паленой щетиной… снова зима... уже не запах, визуальное... окно, снежная равнина, звездное, подернутое морозной дымкой небо, далекие огоньки...»
«Креозотом (веществом, которым пропитывают деревянные шпалы). Очень люблю этот запах. Еще есть очень специфический запах, которым пахнут новые станции московского метро в течение нескольких лет после открытия (потом выветривается). Тоже очень характерный русский-московский запах».
«Помнится, читал как-то вполне научную статью о том, что такое "русский дух" для финно-угорских народов. Автор исследовал сказки финно-угорских народов, проживающих в Поволжье и сделал вывод, что "русский дух" пахнет... дегтем. Этот запах часто упоминается в сказках как характернейшая черта пришлых русских переселенцев. Непривычный резкий характерный запах дегтя шокировал финно-угорских жителей, которые до появления русских не знали, что такое сапоги и что такое деготь».
«Ещё Россия пахнет осенью и весной. Запах осени — палые листья, вообще запах осеннего леса совершенно неповторим и уникален. Запах весны — не знаю, что это, может быть оттаивающая земля, но его тоже ни с чем не спутаешь. И его приход всегда чётко ощущается, в один прекрасный день в конце марта — начале апреля выходишь на улицу — и вот оно! Вчера ещё не было — а сегодня пришло. Как правило, сопровождается легким ветерком. И ещё Россия пахнет грибами! И новыми станциями метро и железнодорожными шпалами!»
«Для меня моя Россия пахнет Новым годом и домом — елкой, чем-то сладким, мандариновым, немного — пылью от книг; моя Россия пахнет влагой — после грозы. И дымом — от сжигаемой травы весной, легкий запах дыма, который мне всегда казался таким странным — в открытые окна майской ночи, когда смотришь салют на День Победы».
«В конце февраля, когда ветер становится различимо тёплым... Мокрая кора? Стареющая не первый год краска на оградах?..»
«Моя Россия (в силу проживания в Москве) пахнет метро. Только не тем, что внизу, нынче там пахнет бомжами, а в городе, есть такие штуки, наверно это вентиляционные шахты, выходящие на поверхность, у них теплый и приятный запах, особенно зимой, когда у них можно погреться. Еще Россия пахнет липой, в силу того, что это дерево растет перед окном и в период цветения пахнет просто обалденно. Что еще: асфальт, елка вкупе с мандаринами, ромашка, свежескошенная трава, яблоки».
«Смесь горячего металла, дешевого табака и свежего ветра. Труднопредставимое сочетание сам понимаю, но именно так и есть».
Меня в этих ответах поразил, прежде всего, постоянно встречающий образ запаха шпал, железной дороги, поезда, который неожиданно появляется посреди переживаний природы и природных запахов. Россия пахнет бескрайним пространством, пронизанным и собранным металлом поездов. Деревянная шпала – это своеобразная точка равновесия между природой (дерево) и техникой (назначение), своеобразный синтез двух координат русского пространства – бескрайней природы и упорядочивающей техники.
Рассыпанное, чисто природное пространство еще не является Россией, это просто земля. Чисто техническое пространство – это уже не Россия, оно лишено национальной окраски. И лишь там. Где природа охвачена техникой, а техника вобрана в природу, там для нас собирается Россия из свежего ветра, горячего металла и терпкого дыма. Чтобы пережить Россию, нужно действительно хотя бы раз пройти летом несколько километров по шпалам куда-то пропавшей пригородной электрички. Пройти, периодически отходя на обочину и хитрым глазком вылавливая пару-тройку робко краснеющих земляничек. И это чувство пережитой на вкус и на запах России, наполнит грудь тем самым восторгом, через который только и созидается в душе чувство принадлежности к народу.
Восторг быть русским — это и восторг от взлетающих в космос ракет, и восторг от дедовских и прадедовских фронтовых орденов, и благоговение перед иконой, и перед штыком суворовского «чудо богатыря», побеждающего любую смерть под командой своего чудо-полководца. Это восторг перед белым шатром колокольни вдруг резко отделяющейся от белого фона зимней равнины. Это восторг от вкуса черного, настоящего ржаного хлеба или от его соседки булки, вместе говорящих о труде и заслуженном трудом достатке. Через эти переживания, через плотный поток впечатлений и совершается то воспитание чувств, которые все вместе и складываются в одно чувство – чувство Родины и принадлежности к ней. К высшему счастью – счастью быть русским.
Александр Корнилов,
27-11-2010 02:44
(ссылка)
Аналитическая записка о русских людях, работающих в Германии.
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ и СД
III управление
Берлин, 15 апреля 1943 г.
СВ II, Принц-Альбрехтштрассе, 8.
Секретно!
Экз. N 74
Лично - Доложить немедленно!
Сообщения из империи N 376
III. Представления населения о России:
результаты использования в империи советских военнопленных и остарбайтеров.
До начала открытых враждебных действий против Советского Союза 22 июня 1941 г. немецкий народ за совсем небольшим исключением знал о Советском Со?юзе, о его социальной и экономической структуре, о культурной жизни только из печати, кинофильмов, выступлений пропагандистов и тенденциозной литературы.
Подавляющее большинство немецкого народа видело поэтому в Советском Союзе антигуманную и бездуховную систему насилия и представляло себе советских людей как обреченную, полуголодную отупевшую массу.
На сотни тысяч направленных сюда остарбайтеров и военнопленных немцы смотрели как на живых свидетелей большевистской системы, в результате чего прежний образ России и созданные пропагандой представления о советском челове?ке могли пересматриваться. Согласно многочисленным докладам с мест, сильно расширились и углубились различия во мнениях немцев всех слоев. Население, как и прежде находясь под влиянием ведущих средств информации, убеждено в необхо?димости войны против советского режима и никак не склонно ставить себя при сравнении с советскими русскими на одну ступень с этими представителями восточных народов. Во время все повторяющихся, иногда весьма оживленных дискуссий очень часто высказываются мнения, что люди из Советского Союза лучше, по крайней мере не так плохи, как об этом думали, делаются выводы о жизни в Советском Союзе, а также возникают определенные возражения против созданных германской пропагандой представлений. Так, уже по прибытии первых эшелонов с остарбайтерами у многих немцев вызвало удивление хорошее состояние их упитанности (особенно у гражданских рабочих). Нередко можно было услышать такие высказывания:
«Они совсем не выглядят голодающими. Наоборот, у них еще толстые щеки и они, должно быть, жили хорошо».
Между прочим, руководитель одного государственного органа здравоохранения после осмотра остарбайтеров заявил:
«Меня фактически изумил хороший внешний вид работниц с востока. Наибольшее удивление вызвали зубы работниц, так как до сих пор я еще не обнаружил ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, должно быть, уделяют много внимания поддержанию зубов в порядке. Во многих отношениях мы, пожалуй, были информированы не совсем точно или же не были оповещены об обстановке со стороны высших инстанций» (г. Дортмунд).
Сомнения в прежних представлениях о России вызвали у немцев особенно следующие наблюдения.
1. Большевистская безбожность и религиозность остарбайтеров
У нас всегда указывалось на то, что большевизм искоренил религию, проявлял нетерпимость к церкви, религиозным верованиям. В то же время в империю в ходе привлечения на работу остарбайтеров с территорий, находившихся ранее под властью Советов, прибыло бесчисленное количество людей, которые, что бросается в глаза, имеют при себе маленькие распятия, портреты богоматери или иконы. Особенно это замечается в католических районах империи. Кроме того, у этих остарбайтеров, особенно у женщин, часто проявляется глубокая, врожденная религиозность. Из этого немецкое население заключает, что при советской системе, которая боролась с религией, люди вполне имели возможность проявлять свою веру. Вот что говорится по этому поводу в одном из докладов, поступивших из крестьянских районов, приле?гающих к Лигницу:
«Всеобщее мнение по сравнению с прежним сильно изменилось. Как утверждают, все, что нам говорилось о большевизме и безбожности. преувеличено. Все это только пропаганда. Согласно рассказам находящихся здесь советских гражданских рабочих, в России имеется еще много церквей, где можно беспрепятственно молиться».
Одна работница из этого же района сказала:
«Я думала, что у русских нет религии, однако они даже молятся».
Из Бреслау один начальник отдела учета доложил:
«Остарбайтеры должны у меня регистрироваться для заведения на них карточек. При этом они почти всегда заявляют о своей принадлежности к православной церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует безбожье и пропаганди?руется атеизм, они объясняют, что это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и других крупных промышленных центрах, в меньшей степени - в Ленинграде. В сельской местности советские русские являются очень религиозными. Почти каждый из опрошенных русских доказывал свою христианскую веру тем, что имел с собой небольшую цепочку с маленьким крестиком. Кроме того, они сказали, что, вероятно, молодые остарбайтеры были частично причастны к атеистическому движению, но вообще о безбожии в Советской России не может быть и речи. Это была лишь пропаганда».
Об одном наглядном примере сообщили из Франкфурта-на-Одере. Здесь могли наблюдать, что, когда молодые остарбайтеры сквернословили, старшие упрекали их в грехе, и это не вызывало гнева. В связи с православным Рождеством многие немцы также убедились, что религиозные праздники все еще отмечаются в Советском Союзе. Елки украшаются религиозными картинками с крестами, поются при этом рождественские песни. В докладе из Райхенберга приводятся высказывания немцев по этому поводу: «Все возможное делается для проведения этих праздников. Их не могли бы устроить лучше даже немецкие рабочие».
Из Галле также сообщается:
«Религиозные воззрения остарбайтеров лучше всего проявлялись в то время, когда разбирались дела об их виновности в совершении мелких преступлений и проступков, таких, как кража картофеля и т.п. Глубокие религиозные чувства прорывались в страхе перед соответствующим строгим наказанием, когда почти все без исключения наказанные остарбайтеры обращались с заверениями к богу, давали от его имени обещание никогда больше не допускать чего-нибудь подобного. И действительно, можно утверждать, что остарбайтеры, которые давали заверения со ссыл?ками на бога, во всех случаях соблюдали свои обещания и не совершали больше наказуемых поступков».
В том же сообщении говорится:
«Кроме того, о религиозности можно судить по тому факту, что мужчины и женщины из числа остарбайтеров в свободное время почти совсем не стремились посетить кафе или рестораны, а шли в церкви или располагались около них».
Еще один пример, который подтверждается и докладами со всех частей империи, был сообщен из лагеря остарбайтеров в округе Верден, где под руководство модного богомольца каждый вечер проводятся совместные моления. Среди нашего верующего населения отмечается, что в разное время в Германии государство и партия не совсем дружелюбно относились к церкви и что отношение советской системы к проблемам религии наверняка подобно тому, которое принято у нас партией и государством.
2. Интеллект - техническая осведомленность
Истребление русской интеллигенции и одурманивание масс было также важной темой в трактовке большевизма. В германской пропаганде советский человек выступал как тупое эксплуатируемое существо, как так называемый «рабочий робот». Немецкий сотрудник на основе выполняемой остарбайтерами работы и их мастерства ежедневно часто убеждался в прямо противоположном. В многочисленных докладах сообщается, что направленные на военные предприятия остарбайтеры своей технической осведомленностью прямо озадачивали немецких рабочих (Бремен, Райхенберг, Штеттин, Франкфурт-на-Одере, Берлин, Галле, Дортмунд, Киль и Бейреут). Один рабочий из Бейреута в этой связи сказал:
«Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых. Но я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и совсем не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе 2 русских, чем 5 итальянцев»...
Во многих докладах отмечается, что рабочий из бывших советских областей обнаруживает особую осведомленность во всех технических устройствах. Так, немец на собственном опыте не раз убеждался, что остарбайтер, обходящийся при выполнении работы самыми примитивными средствами, может устранить поломки любого рода в моторах и т.д. Различные примеры подобного рода приводятся в докладе, поступившем из Франкфурта-на-Одере:
«В одном имении советский военно-пленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали что делать: в короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача повреждение, которое не было еще замечено немцами, обслуживающими тягач».
В Ландсберге-на-Варте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство которых происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин. Но этот инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких сотрудников.
Директор одной силезской льнопрядильни (г. Глагау) по поводу использования остарбайтеров заявил следующее: «Направленные сюда остарбайтеры сразу же демонстрируют техническую осведомленность и не нуждаются в более длительном обучении, чем немцы».
Остарбайтеры умеют еще из «всякой дряни» изготовить что-либо стоящее, например, из старых обручей сделать ложки, ножи и т.д. Из одной мастерской по изготовлению рогожи сообщают, что плетельные машины, давно нуждающи?еся в ремонте, с помощью примитивных средств были приведены остарбайтерами снова в действие. И это было сделано так хорошо, как будто этим занимался специалист.
Из бросающегося в глаза большого числа студентов среди остарбайтеров немецкое население приходит к заключению, что уровень образования в Советском Союзе не такой уж низкий, как у нас часто это изображалось. Немецкие рабочие, которые имели возможность наблюдать техническое мастерство остарбайтеров на производстве, полагают, что в Германию, по всей вероятности, попадают не самые лучшие из русских, так как большевики своих наиболее квалифицированных рабо?чих с крупных предприятий направили за Урал. Во всем этом многие немцы находят определенное объяснение тому неслыханному количеству вооружения у противника, о котором нам стали сообщать в ходе войны на востоке. Уже само большое число хорошего и сложного оружия свидетельствует о наличии квалифицированных инженеров и специалистов. Люди, которые привели Советский Союз к таким достижениям в военном производстве, должны обладать несомненным техническим мас?терством.
3. Неграмотность и наблюдаемый уровень образования
Раньше широкие круги немецкого населения придерживались мнения, что в Советском Союзе людей отличает неграмотность и низкий уровень образования. Использование остарбайтеров породило теперь противоречия, которые часто приводили немцев в замешательство. Так, во всех докладах с мест утверждается, что неграмотные составляют совсем небольшой процент. В письме одного дипломированного инженера, который руководил фабрикой на Украине, например, сообщалось, что на его предприятии из 1800 сотрудников только трое были неграмотными (г. Райхенберг). Подобные выводы следуют также из приводимых ниже примеров.
«По мнению многих немцев, нынешнее советское школьное образование значительно лучше, чем было во времена царизма. Сравнение мастерства русских и немецких сельскохозяйственных рабочих зачастую оказывается в пользу советских» (г. Штеттин).
«Особое изумление вызвало широко распространенное знание немецкого языка, который изучается даже в сельских неполных средних школах» (г. Франкфурт-на-Одере).
«Студентка из Ленинграда изучала русскую и немецкую литературу, она может играть на пианино и владеет многими языками, в том числе бегло говорит по-немецки...» (г. Бреслау).
«Я чуть совсем не опозорился, - сказал один подмастерье, - когда задал русскому небольшую арифметическую задачу. Мне пришлось напрячь все свои знания, чтобы не отстать от него...» (г. Бремен).
«Многие считают, что большевизм вывел русских из ограниченности» (г. Берлин).
«Интерес к образованию у них средний. В первую очередь молодые русские хорошо знакомы с печатной продукцией, говорят даже по-немецки и просят дать им брошюры и книги, по которым они могли бы дальше изучать немецкий язык. Свои фамилии они четко пишут не только кириллицей, но и латинским шрифтом. Они стремятся добыть любой клочок бумаги и используют любую возможность получить информацию. Я установил, что русские в своих местах проживания изготавливают из картона и других материалов для развлечения различные игры, в том числе даже шахматы» (г. Франкфурт-на-Одере).
4. Семейные чувства и нравственность
В германской пропаганде много говорилось о том, что большевистская система ликвидировала семью, эту зародышевую ячейку государства. В представленных из различных частей империи докладах единодушно утверждается, что именно среди остарбайтеров сохраняются ясно выраженные семейные чувства и наблюдается хорошая нравственность. Лишь у советских военнопленных это выражено в меньшей степени, что, возможно, объясняется тем, что во время длительной военной службы они были оторваны от своих семей. В докладе из Лигница говорится:
«Остарбайтеры очень много пишут и получают много писем. Они проявляют много заботы о своих родных, особенно в периоды германского отступления. Они покупают много писчей бумаги и различных предметов для подарков. Торговый представитель одной фабрики сказал: Я думал, у русских нет семьи, но одна девушка все время спрашивает, не может ли ее брат работать у нас. Сейчас он работает по соседству. Один отец постоянно справляется о своей дочери, которая тоже должна находиться в Германии. Одна женщина хочет установить памятник своему умершему мужу. Русские часто фотографируются, чтобы послать снимки своим родным. Один русский сильно плакал из-за того, как он рассказывал, что его с женой направили сюда, а четверо их детей вынуждены были остаться дома...»
Представления нашего населения о семейных чувствах большевиков прямо противоположны тому, что об этом говорила наша пропаганда. Русские проявляют большую заботу о своих родных, и у них там существуют упорядоченные семейные отношения. При любом удобном случае они общаются между собою. Существуют тесные связи между родителями, детьми, их бабушками и дедушками.
В Берлине две домашние прислуги из числа русских убежали домой, оставив хозяйке следующее письмо: «Мы являемся детьми и всем сердцем хотим быть со своими матерями. И если у Вас есть сердце матери (а оно у вас тоже есть), то, думая о собственных детях, Вы можете представить наше состояние, у Вас должно появиться сострадание к нам и Вы поймете, что мы расстались со сравнительно благополучной жизнью, так как на лучшую здесь русские рассчитывать не могут, и решили пойти на мучения, голод, холод и, возможно, смерть только для того, чтобы оказаться в собственном доме... Мы остались должны Вам некоторые вещи, которые Вы нам дали. Мы предпочли оставить их у себя. Без них нам было бы легче и лучше, но у нас нет ни кусочка хлеба, и мы могли бы обменять вещи на еду. Когда мы прибудем домой, наши родные выразят Вам тройную благодарность не только за Ваши вещи, но также за Ваше доброе отношение... Нет, лучше нам не будет, и мы бы Вас никогда не покинули, но наша цель - добраться домой».
В этой связи из Берлина сообщили о случае, который немецкие сотрудники приводят в качестве примера того, что для остарбайтеров характерно также чувство товарищества:
«Начальник лагеря при заводе «Дойчен Асбест-Цемент А.Г.», выступая перед остарбайтерами, сказал, что они должны трудиться с еще большим прилежанием. Один из остарбайтеров выкрикнул: «Тогда мы должны получать больше еды». Начальник лагеря потребовал, чтобы выкрикнувший встал. Сначала никто на это не отреагировал, но затем поднялось около 80 мужчин и 50 женщин».
Часто у многих немцев вызывают также удивление русские работницы своей личной чистоплотностью и той любовью, с которой они украшают свой кров. Немцы этого от них не ожидали.
В сексуальном отношении остарбайтеры, особенно женщины, проявляют здоровую сдержанность. Например, на заводе «Лаутаверк» (г. Зентенберг) появилось 9 новорожденных и еще 50 ожидается. Все, кроме двух, являются детьми супружеских пар. И хотя в одной комнате спят от 6 до 8 семей, не наблюдается общей распущенности.
О подобном положении сообщают и из Киля:
«Вообще русская женщина в сексуальном отношении совсем не соответствует представлениям германской пропаганды. Половое распутство ей совсем неизвестно.
В различных округах население рассказывает, что при проведении общего медицинского осмотра восточных работниц у всех девушек была установлена еще сохранив?шаяся девственность».
Эти данные подтверждаются докладом из Бреслау:
«Фабрика кинопленки «Вольфен» сообщает, что при проведении на предприятии медосмотра было установлено, что 90% восточных работниц в возрасте с 17 до29 лет были целомудренными. По мнению разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни».
5. Советские методы господства и наказания
Исключительно большая роль в пропаганде отводится ГПУ. Особенно сильно на представления немецкого населения воздействовали принудительные ссылки в Сибирь и расстрелы. Немецкие предприниматели и рабочие были очень удивлены, когда германский трудовой фронт повторно указал на то, что среди остарбайтеров нет таких, кто бы подвергался у себя в стране наказанию. Что касается насильственных методов ГПУ, которые наша пропаганда надеялась во многом еще подтвердить, то, ко всеобщему изумлению, в больших лагерях не обнаружено ни одного случая, чтобы родных остарбайтеров принудительно ссылали, арестовывали или расстреливали. Часть населения проявляет скептицизм по этому поводу и полагает, что в Советском Союзе не так уж плохо обстоит дело с принудительными работами и террором, как об этом всегда утверждалось, что действия ГПУ не определяют основ?ную часть жизни в Советском Союзе, как об этом думали раньше.
Благодаря такого рода наблюдениям, о которых сообщается в докладах с мест, представления о Советском Союзе и его людях сильно изменились. Все эти единичные наблюдения, которые воспринимаются как противоречащие прежней пропаганде, порождают много раздумий. Там, где антибольшевистская пропаганда продолжала действовать с помощью старых и известных аргументов, она уже больше не вызывала интереса и веры, как это было перед началом и в первый период германо-советской войны. Высказываются пожелания, чтобы давалась по возможности реальная картина повседневной русской жизни, ее людей и т.д. Отдельные спокойно размышляющие немцы считают, что необязательно судить о Советском Союзе в целом по ост-арбайтерам, так как они, например, в религиозном отношении действуют здесь значительно свободнее, чем в Советском Союзе, где на них оказывалось давление. Однако изменений, которые уже произошли в связи с прибывшими в империю людьми, недостаточно для того, чтобы ликвидировать все возникшие со?мнения в прежних представлениях о России, не говоря уже о том, что очень часто подобные размышления не имеют места.
Bundesarchiv Koblenz. Reichssicherheitshauptamt.
R 58/182. Meldungen aus dera Reich Nr. 376.15.4.43. S. 8-17.
Перевод и публикация кандидата исторических наук Анатолия Якушевского, «Источник», N3, 1995 г.
БЕЗОПАСНОСТИ и СД
III управление
Берлин, 15 апреля 1943 г.
СВ II, Принц-Альбрехтштрассе, 8.
Секретно!
Экз. N 74
Лично - Доложить немедленно!
Сообщения из империи N 376
III. Представления населения о России:
результаты использования в империи советских военнопленных и остарбайтеров.
До начала открытых враждебных действий против Советского Союза 22 июня 1941 г. немецкий народ за совсем небольшим исключением знал о Советском Со?юзе, о его социальной и экономической структуре, о культурной жизни только из печати, кинофильмов, выступлений пропагандистов и тенденциозной литературы.
Подавляющее большинство немецкого народа видело поэтому в Советском Союзе антигуманную и бездуховную систему насилия и представляло себе советских людей как обреченную, полуголодную отупевшую массу.
На сотни тысяч направленных сюда остарбайтеров и военнопленных немцы смотрели как на живых свидетелей большевистской системы, в результате чего прежний образ России и созданные пропагандой представления о советском челове?ке могли пересматриваться. Согласно многочисленным докладам с мест, сильно расширились и углубились различия во мнениях немцев всех слоев. Население, как и прежде находясь под влиянием ведущих средств информации, убеждено в необхо?димости войны против советского режима и никак не склонно ставить себя при сравнении с советскими русскими на одну ступень с этими представителями восточных народов. Во время все повторяющихся, иногда весьма оживленных дискуссий очень часто высказываются мнения, что люди из Советского Союза лучше, по крайней мере не так плохи, как об этом думали, делаются выводы о жизни в Советском Союзе, а также возникают определенные возражения против созданных германской пропагандой представлений. Так, уже по прибытии первых эшелонов с остарбайтерами у многих немцев вызвало удивление хорошее состояние их упитанности (особенно у гражданских рабочих). Нередко можно было услышать такие высказывания:
«Они совсем не выглядят голодающими. Наоборот, у них еще толстые щеки и они, должно быть, жили хорошо».
Между прочим, руководитель одного государственного органа здравоохранения после осмотра остарбайтеров заявил:
«Меня фактически изумил хороший внешний вид работниц с востока. Наибольшее удивление вызвали зубы работниц, так как до сих пор я еще не обнаружил ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, должно быть, уделяют много внимания поддержанию зубов в порядке. Во многих отношениях мы, пожалуй, были информированы не совсем точно или же не были оповещены об обстановке со стороны высших инстанций» (г. Дортмунд).
Сомнения в прежних представлениях о России вызвали у немцев особенно следующие наблюдения.
1. Большевистская безбожность и религиозность остарбайтеров
У нас всегда указывалось на то, что большевизм искоренил религию, проявлял нетерпимость к церкви, религиозным верованиям. В то же время в империю в ходе привлечения на работу остарбайтеров с территорий, находившихся ранее под властью Советов, прибыло бесчисленное количество людей, которые, что бросается в глаза, имеют при себе маленькие распятия, портреты богоматери или иконы. Особенно это замечается в католических районах империи. Кроме того, у этих остарбайтеров, особенно у женщин, часто проявляется глубокая, врожденная религиозность. Из этого немецкое население заключает, что при советской системе, которая боролась с религией, люди вполне имели возможность проявлять свою веру. Вот что говорится по этому поводу в одном из докладов, поступивших из крестьянских районов, приле?гающих к Лигницу:
«Всеобщее мнение по сравнению с прежним сильно изменилось. Как утверждают, все, что нам говорилось о большевизме и безбожности. преувеличено. Все это только пропаганда. Согласно рассказам находящихся здесь советских гражданских рабочих, в России имеется еще много церквей, где можно беспрепятственно молиться».
Одна работница из этого же района сказала:
«Я думала, что у русских нет религии, однако они даже молятся».
Из Бреслау один начальник отдела учета доложил:
«Остарбайтеры должны у меня регистрироваться для заведения на них карточек. При этом они почти всегда заявляют о своей принадлежности к православной церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует безбожье и пропаганди?руется атеизм, они объясняют, что это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и других крупных промышленных центрах, в меньшей степени - в Ленинграде. В сельской местности советские русские являются очень религиозными. Почти каждый из опрошенных русских доказывал свою христианскую веру тем, что имел с собой небольшую цепочку с маленьким крестиком. Кроме того, они сказали, что, вероятно, молодые остарбайтеры были частично причастны к атеистическому движению, но вообще о безбожии в Советской России не может быть и речи. Это была лишь пропаганда».
Об одном наглядном примере сообщили из Франкфурта-на-Одере. Здесь могли наблюдать, что, когда молодые остарбайтеры сквернословили, старшие упрекали их в грехе, и это не вызывало гнева. В связи с православным Рождеством многие немцы также убедились, что религиозные праздники все еще отмечаются в Советском Союзе. Елки украшаются религиозными картинками с крестами, поются при этом рождественские песни. В докладе из Райхенберга приводятся высказывания немцев по этому поводу: «Все возможное делается для проведения этих праздников. Их не могли бы устроить лучше даже немецкие рабочие».
Из Галле также сообщается:
«Религиозные воззрения остарбайтеров лучше всего проявлялись в то время, когда разбирались дела об их виновности в совершении мелких преступлений и проступков, таких, как кража картофеля и т.п. Глубокие религиозные чувства прорывались в страхе перед соответствующим строгим наказанием, когда почти все без исключения наказанные остарбайтеры обращались с заверениями к богу, давали от его имени обещание никогда больше не допускать чего-нибудь подобного. И действительно, можно утверждать, что остарбайтеры, которые давали заверения со ссыл?ками на бога, во всех случаях соблюдали свои обещания и не совершали больше наказуемых поступков».
В том же сообщении говорится:
«Кроме того, о религиозности можно судить по тому факту, что мужчины и женщины из числа остарбайтеров в свободное время почти совсем не стремились посетить кафе или рестораны, а шли в церкви или располагались около них».
Еще один пример, который подтверждается и докладами со всех частей империи, был сообщен из лагеря остарбайтеров в округе Верден, где под руководство модного богомольца каждый вечер проводятся совместные моления. Среди нашего верующего населения отмечается, что в разное время в Германии государство и партия не совсем дружелюбно относились к церкви и что отношение советской системы к проблемам религии наверняка подобно тому, которое принято у нас партией и государством.
2. Интеллект - техническая осведомленность
Истребление русской интеллигенции и одурманивание масс было также важной темой в трактовке большевизма. В германской пропаганде советский человек выступал как тупое эксплуатируемое существо, как так называемый «рабочий робот». Немецкий сотрудник на основе выполняемой остарбайтерами работы и их мастерства ежедневно часто убеждался в прямо противоположном. В многочисленных докладах сообщается, что направленные на военные предприятия остарбайтеры своей технической осведомленностью прямо озадачивали немецких рабочих (Бремен, Райхенберг, Штеттин, Франкфурт-на-Одере, Берлин, Галле, Дортмунд, Киль и Бейреут). Один рабочий из Бейреута в этой связи сказал:
«Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых. Но я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и совсем не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе 2 русских, чем 5 итальянцев»...
Во многих докладах отмечается, что рабочий из бывших советских областей обнаруживает особую осведомленность во всех технических устройствах. Так, немец на собственном опыте не раз убеждался, что остарбайтер, обходящийся при выполнении работы самыми примитивными средствами, может устранить поломки любого рода в моторах и т.д. Различные примеры подобного рода приводятся в докладе, поступившем из Франкфурта-на-Одере:
«В одном имении советский военно-пленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали что делать: в короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача повреждение, которое не было еще замечено немцами, обслуживающими тягач».
В Ландсберге-на-Варте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство которых происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин. Но этот инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких сотрудников.
Директор одной силезской льнопрядильни (г. Глагау) по поводу использования остарбайтеров заявил следующее: «Направленные сюда остарбайтеры сразу же демонстрируют техническую осведомленность и не нуждаются в более длительном обучении, чем немцы».
Остарбайтеры умеют еще из «всякой дряни» изготовить что-либо стоящее, например, из старых обручей сделать ложки, ножи и т.д. Из одной мастерской по изготовлению рогожи сообщают, что плетельные машины, давно нуждающи?еся в ремонте, с помощью примитивных средств были приведены остарбайтерами снова в действие. И это было сделано так хорошо, как будто этим занимался специалист.
Из бросающегося в глаза большого числа студентов среди остарбайтеров немецкое население приходит к заключению, что уровень образования в Советском Союзе не такой уж низкий, как у нас часто это изображалось. Немецкие рабочие, которые имели возможность наблюдать техническое мастерство остарбайтеров на производстве, полагают, что в Германию, по всей вероятности, попадают не самые лучшие из русских, так как большевики своих наиболее квалифицированных рабо?чих с крупных предприятий направили за Урал. Во всем этом многие немцы находят определенное объяснение тому неслыханному количеству вооружения у противника, о котором нам стали сообщать в ходе войны на востоке. Уже само большое число хорошего и сложного оружия свидетельствует о наличии квалифицированных инженеров и специалистов. Люди, которые привели Советский Союз к таким достижениям в военном производстве, должны обладать несомненным техническим мас?терством.
3. Неграмотность и наблюдаемый уровень образования
Раньше широкие круги немецкого населения придерживались мнения, что в Советском Союзе людей отличает неграмотность и низкий уровень образования. Использование остарбайтеров породило теперь противоречия, которые часто приводили немцев в замешательство. Так, во всех докладах с мест утверждается, что неграмотные составляют совсем небольшой процент. В письме одного дипломированного инженера, который руководил фабрикой на Украине, например, сообщалось, что на его предприятии из 1800 сотрудников только трое были неграмотными (г. Райхенберг). Подобные выводы следуют также из приводимых ниже примеров.
«По мнению многих немцев, нынешнее советское школьное образование значительно лучше, чем было во времена царизма. Сравнение мастерства русских и немецких сельскохозяйственных рабочих зачастую оказывается в пользу советских» (г. Штеттин).
«Особое изумление вызвало широко распространенное знание немецкого языка, который изучается даже в сельских неполных средних школах» (г. Франкфурт-на-Одере).
«Студентка из Ленинграда изучала русскую и немецкую литературу, она может играть на пианино и владеет многими языками, в том числе бегло говорит по-немецки...» (г. Бреслау).
«Я чуть совсем не опозорился, - сказал один подмастерье, - когда задал русскому небольшую арифметическую задачу. Мне пришлось напрячь все свои знания, чтобы не отстать от него...» (г. Бремен).
«Многие считают, что большевизм вывел русских из ограниченности» (г. Берлин).
«Интерес к образованию у них средний. В первую очередь молодые русские хорошо знакомы с печатной продукцией, говорят даже по-немецки и просят дать им брошюры и книги, по которым они могли бы дальше изучать немецкий язык. Свои фамилии они четко пишут не только кириллицей, но и латинским шрифтом. Они стремятся добыть любой клочок бумаги и используют любую возможность получить информацию. Я установил, что русские в своих местах проживания изготавливают из картона и других материалов для развлечения различные игры, в том числе даже шахматы» (г. Франкфурт-на-Одере).
4. Семейные чувства и нравственность
В германской пропаганде много говорилось о том, что большевистская система ликвидировала семью, эту зародышевую ячейку государства. В представленных из различных частей империи докладах единодушно утверждается, что именно среди остарбайтеров сохраняются ясно выраженные семейные чувства и наблюдается хорошая нравственность. Лишь у советских военнопленных это выражено в меньшей степени, что, возможно, объясняется тем, что во время длительной военной службы они были оторваны от своих семей. В докладе из Лигница говорится:
«Остарбайтеры очень много пишут и получают много писем. Они проявляют много заботы о своих родных, особенно в периоды германского отступления. Они покупают много писчей бумаги и различных предметов для подарков. Торговый представитель одной фабрики сказал: Я думал, у русских нет семьи, но одна девушка все время спрашивает, не может ли ее брат работать у нас. Сейчас он работает по соседству. Один отец постоянно справляется о своей дочери, которая тоже должна находиться в Германии. Одна женщина хочет установить памятник своему умершему мужу. Русские часто фотографируются, чтобы послать снимки своим родным. Один русский сильно плакал из-за того, как он рассказывал, что его с женой направили сюда, а четверо их детей вынуждены были остаться дома...»
Представления нашего населения о семейных чувствах большевиков прямо противоположны тому, что об этом говорила наша пропаганда. Русские проявляют большую заботу о своих родных, и у них там существуют упорядоченные семейные отношения. При любом удобном случае они общаются между собою. Существуют тесные связи между родителями, детьми, их бабушками и дедушками.
В Берлине две домашние прислуги из числа русских убежали домой, оставив хозяйке следующее письмо: «Мы являемся детьми и всем сердцем хотим быть со своими матерями. И если у Вас есть сердце матери (а оно у вас тоже есть), то, думая о собственных детях, Вы можете представить наше состояние, у Вас должно появиться сострадание к нам и Вы поймете, что мы расстались со сравнительно благополучной жизнью, так как на лучшую здесь русские рассчитывать не могут, и решили пойти на мучения, голод, холод и, возможно, смерть только для того, чтобы оказаться в собственном доме... Мы остались должны Вам некоторые вещи, которые Вы нам дали. Мы предпочли оставить их у себя. Без них нам было бы легче и лучше, но у нас нет ни кусочка хлеба, и мы могли бы обменять вещи на еду. Когда мы прибудем домой, наши родные выразят Вам тройную благодарность не только за Ваши вещи, но также за Ваше доброе отношение... Нет, лучше нам не будет, и мы бы Вас никогда не покинули, но наша цель - добраться домой».
В этой связи из Берлина сообщили о случае, который немецкие сотрудники приводят в качестве примера того, что для остарбайтеров характерно также чувство товарищества:
«Начальник лагеря при заводе «Дойчен Асбест-Цемент А.Г.», выступая перед остарбайтерами, сказал, что они должны трудиться с еще большим прилежанием. Один из остарбайтеров выкрикнул: «Тогда мы должны получать больше еды». Начальник лагеря потребовал, чтобы выкрикнувший встал. Сначала никто на это не отреагировал, но затем поднялось около 80 мужчин и 50 женщин».
Часто у многих немцев вызывают также удивление русские работницы своей личной чистоплотностью и той любовью, с которой они украшают свой кров. Немцы этого от них не ожидали.
В сексуальном отношении остарбайтеры, особенно женщины, проявляют здоровую сдержанность. Например, на заводе «Лаутаверк» (г. Зентенберг) появилось 9 новорожденных и еще 50 ожидается. Все, кроме двух, являются детьми супружеских пар. И хотя в одной комнате спят от 6 до 8 семей, не наблюдается общей распущенности.
О подобном положении сообщают и из Киля:
«Вообще русская женщина в сексуальном отношении совсем не соответствует представлениям германской пропаганды. Половое распутство ей совсем неизвестно.
В различных округах население рассказывает, что при проведении общего медицинского осмотра восточных работниц у всех девушек была установлена еще сохранив?шаяся девственность».
Эти данные подтверждаются докладом из Бреслау:
«Фабрика кинопленки «Вольфен» сообщает, что при проведении на предприятии медосмотра было установлено, что 90% восточных работниц в возрасте с 17 до29 лет были целомудренными. По мнению разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни».
5. Советские методы господства и наказания
Исключительно большая роль в пропаганде отводится ГПУ. Особенно сильно на представления немецкого населения воздействовали принудительные ссылки в Сибирь и расстрелы. Немецкие предприниматели и рабочие были очень удивлены, когда германский трудовой фронт повторно указал на то, что среди остарбайтеров нет таких, кто бы подвергался у себя в стране наказанию. Что касается насильственных методов ГПУ, которые наша пропаганда надеялась во многом еще подтвердить, то, ко всеобщему изумлению, в больших лагерях не обнаружено ни одного случая, чтобы родных остарбайтеров принудительно ссылали, арестовывали или расстреливали. Часть населения проявляет скептицизм по этому поводу и полагает, что в Советском Союзе не так уж плохо обстоит дело с принудительными работами и террором, как об этом всегда утверждалось, что действия ГПУ не определяют основ?ную часть жизни в Советском Союзе, как об этом думали раньше.
Благодаря такого рода наблюдениям, о которых сообщается в докладах с мест, представления о Советском Союзе и его людях сильно изменились. Все эти единичные наблюдения, которые воспринимаются как противоречащие прежней пропаганде, порождают много раздумий. Там, где антибольшевистская пропаганда продолжала действовать с помощью старых и известных аргументов, она уже больше не вызывала интереса и веры, как это было перед началом и в первый период германо-советской войны. Высказываются пожелания, чтобы давалась по возможности реальная картина повседневной русской жизни, ее людей и т.д. Отдельные спокойно размышляющие немцы считают, что необязательно судить о Советском Союзе в целом по ост-арбайтерам, так как они, например, в религиозном отношении действуют здесь значительно свободнее, чем в Советском Союзе, где на них оказывалось давление. Однако изменений, которые уже произошли в связи с прибывшими в империю людьми, недостаточно для того, чтобы ликвидировать все возникшие со?мнения в прежних представлениях о России, не говоря уже о том, что очень часто подобные размышления не имеют места.
Bundesarchiv Koblenz. Reichssicherheitshauptamt.
R 58/182. Meldungen aus dera Reich Nr. 376.15.4.43. S. 8-17.
Перевод и публикация кандидата исторических наук Анатолия Якушевского, «Источник», N3, 1995 г.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу


