Алексей Камратов,
05-10-2011 18:04
(ссылка)
Почти поэма. Автор Олег Ершов
Олег Ершов
К дому очень больно рано
Подкатила вдруг охрана,
А в средине их промеж,
Президентский был кортеж,
Домик тот зовется виллой.
Вот невесту поселил он
До женитьбы там пожить,
А чтоб деве не тужить,
По приказу президента
Сделали внутри агенты
Райский сердцу уголок:
В звездах ярких потолок,
Вместо пола там трава,
Речка с красного вина,
Вместо стен там голограмма,
В общем, супер панорама!
Дом ни дом, а просто рай.
Президент звонить давай
Ей на теледомофон.
«Вот и я» – промямлил он.
«Кто там? Что еще за дрянь,
Звонит мне в такую рань?» -
Пятый крикнул элемент.
«Это я, твой президент, -
Проскулил глава страны. -
Что так долго спите, вы?
На небе уж виден свет,
Посмотри на амулет,
Я с собою твой привез».
Начал президент, в серьез:
«Дверь скорее мне открой,
Побеседуем с тобой!
Ну, открой скорей, блудница!» -
«Что не терпится жениться?
И, зевнув, она сказала,-
Хорошо». Тихонько встала,
На себя надев халат,
Молвит: «Ты как Хаз Булат
Нет терпенья никакого,
Или дела нет другого
Поднимать людей со сна?»
Так сердилася она,
А сама все ж дверь открыла,
Президента запустила.
Тут заметил президент,
Бога Пятый элемент
Был без грима и без краски,
Без какой-то либо маски,
И халат на голо тело,
У него внутри вскипело
От таких больших страстей,
Потянулся сразу к ней,
Чтобы время не терять
Стал он лести ей кидать:
«Боже мой, как ты красива,
А душою как игрива,
Губы, волосы и грудь,
Брови, тело…» И чуть-чуть
Он приблизился к губам,
А она ему: «Вы – хам!
Хоть и очень я нежна,
Но еще вам не жена,
Оттолкнув его рукой,
Президент ей: «Я же твой
Выполнил в три дня каприз,
Вот, гляди-ка, твой сюрприз!»
Подает ей амулет,
А она сказала: «Нет!»
Говорит ему, играя:
«Ты забыл, кто я такая!
Я напомню, не секрет:
Я дочь Бога, так что – нет!
А коль дочка не согласна,
Нечего уж к ней стучаться!
Я прикинула тут с виду:
Вот сейчас я замуж выйду,
Вам полвека – мне семнадцать…» -
«Да чего ж тут удивляться, -
Президент заметил ей, -
Много так живет семей!» -
«Да, семей живет так много,
Но у них своя дорога,
Они вместе молодеют,
Так живут, потом стареют,
Все же позже умирают,
Мы же – нет, - она вздыхает,
Мы бессмертны, вы и я,
Вот представьте-ка: семья,
Тыщу лет одно и то же!
Вы ни капли не моложе,
Я же вечно молода,
Так зачем же все тогда?» -
«Пошутили, посмеялись,
Все ж почти мы обвенчались, -
Президент свое ей слово, -
И для свадьбы все готово,
Завтра… Гости… Стол накрыт».
А она опять навзрыд:
«Что же глупый вы такой?
Вы ж уже не молодой!
И давайте диалог
Мы закончим…» - «Я бы мог
Сделать пластику лица,
И такое без конца
Хирургией все менять,
Я прошу меня понять!»
Президент тут заметался,
Все же к ней опять прижался,
И, сползая к полу вниз:
«Я же твой любой каприз
В жизни буду исполнять!
Все ж позволь тебя обнять».
И, целуя руки ей,
Тихо молвил: «Ну, скорей,
Подскажи же, как мне быть,
Как тебя мне покорить?
Хоть пока и не жена,
Все ж ты очень мне нужна,
Я с тоски умру один,
Вечный в мире господин…
Ты согласна или нет?» -
«В общем – да! – Взяв амулет, -
Только, чур, не пререкаться!
Прежде, чем с тобой венчаться, -
Тихо молвила краса,
Опустив в траву глаза, -
Вот еще один каприз:
Завтра спустишься ты вниз,
В бункер, тот, что под землей,
Что построен, был тобой,
Где хранится смерть твоя». –
«Но прости, краса моя, -
Президент ей возразил, -
Смерть я в бункер водрузил,
Даже вовсе не затем,
Чтоб сойти с ума совсем!
Я пока еще в рассудке!» -
«У тебя всего лишь сутки, -
Мисс Вселенной продолжала,
А сама в руке зажала
Свой горящий амулет, -
Слышишь, завтра же в обед
В бункер спустишься ты сам,
Там пробудешь полчаса,
Будешь голый совершенно». –
«Так замерзну я, наверно, -
Вновь заметил президент.
«Не замерзнешь ты, в момент,
Как закроешь плотно дверь,
Ты почувствуешь, поверь,
В своем теле пустоту,
Смерть, она ведь на посту,
Враз она в тебя войдет
И начнет обратный счет,
Один год – одна минута,
Тридцать лет для баламута
Означает полчаса,
В зеркале увидишь сам,
На кого ты стал похож!
К дому очень больно рано
Подкатила вдруг охрана,
А в средине их промеж,
Президентский был кортеж,
Домик тот зовется виллой.
Вот невесту поселил он
До женитьбы там пожить,
А чтоб деве не тужить,
По приказу президента
Сделали внутри агенты
Райский сердцу уголок:
В звездах ярких потолок,
Вместо пола там трава,
Речка с красного вина,
Вместо стен там голограмма,
В общем, супер панорама!
Дом ни дом, а просто рай.
Президент звонить давай
Ей на теледомофон.
«Вот и я» – промямлил он.
«Кто там? Что еще за дрянь,
Звонит мне в такую рань?» -
Пятый крикнул элемент.
«Это я, твой президент, -
Проскулил глава страны. -
Что так долго спите, вы?
На небе уж виден свет,
Посмотри на амулет,
Я с собою твой привез».
Начал президент, в серьез:
«Дверь скорее мне открой,
Побеседуем с тобой!
Ну, открой скорей, блудница!» -
«Что не терпится жениться?
И, зевнув, она сказала,-
Хорошо». Тихонько встала,
На себя надев халат,
Молвит: «Ты как Хаз Булат
Нет терпенья никакого,
Или дела нет другого
Поднимать людей со сна?»
Так сердилася она,
А сама все ж дверь открыла,
Президента запустила.
Тут заметил президент,
Бога Пятый элемент
Был без грима и без краски,
Без какой-то либо маски,
И халат на голо тело,
У него внутри вскипело
От таких больших страстей,
Потянулся сразу к ней,
Чтобы время не терять
Стал он лести ей кидать:
«Боже мой, как ты красива,
А душою как игрива,
Губы, волосы и грудь,
Брови, тело…» И чуть-чуть
Он приблизился к губам,
А она ему: «Вы – хам!
Хоть и очень я нежна,
Но еще вам не жена,
Оттолкнув его рукой,
Президент ей: «Я же твой
Выполнил в три дня каприз,
Вот, гляди-ка, твой сюрприз!»
Подает ей амулет,
А она сказала: «Нет!»
Говорит ему, играя:
«Ты забыл, кто я такая!
Я напомню, не секрет:
Я дочь Бога, так что – нет!
А коль дочка не согласна,
Нечего уж к ней стучаться!
Я прикинула тут с виду:
Вот сейчас я замуж выйду,
Вам полвека – мне семнадцать…» -
«Да чего ж тут удивляться, -
Президент заметил ей, -
Много так живет семей!» -
«Да, семей живет так много,
Но у них своя дорога,
Они вместе молодеют,
Так живут, потом стареют,
Все же позже умирают,
Мы же – нет, - она вздыхает,
Мы бессмертны, вы и я,
Вот представьте-ка: семья,
Тыщу лет одно и то же!
Вы ни капли не моложе,
Я же вечно молода,
Так зачем же все тогда?» -
«Пошутили, посмеялись,
Все ж почти мы обвенчались, -
Президент свое ей слово, -
И для свадьбы все готово,
Завтра… Гости… Стол накрыт».
А она опять навзрыд:
«Что же глупый вы такой?
Вы ж уже не молодой!
И давайте диалог
Мы закончим…» - «Я бы мог
Сделать пластику лица,
И такое без конца
Хирургией все менять,
Я прошу меня понять!»
Президент тут заметался,
Все же к ней опять прижался,
И, сползая к полу вниз:
«Я же твой любой каприз
В жизни буду исполнять!
Все ж позволь тебя обнять».
И, целуя руки ей,
Тихо молвил: «Ну, скорей,
Подскажи же, как мне быть,
Как тебя мне покорить?
Хоть пока и не жена,
Все ж ты очень мне нужна,
Я с тоски умру один,
Вечный в мире господин…
Ты согласна или нет?» -
«В общем – да! – Взяв амулет, -
Только, чур, не пререкаться!
Прежде, чем с тобой венчаться, -
Тихо молвила краса,
Опустив в траву глаза, -
Вот еще один каприз:
Завтра спустишься ты вниз,
В бункер, тот, что под землей,
Что построен, был тобой,
Где хранится смерть твоя». –
«Но прости, краса моя, -
Президент ей возразил, -
Смерть я в бункер водрузил,
Даже вовсе не затем,
Чтоб сойти с ума совсем!
Я пока еще в рассудке!» -
«У тебя всего лишь сутки, -
Мисс Вселенной продолжала,
А сама в руке зажала
Свой горящий амулет, -
Слышишь, завтра же в обед
В бункер спустишься ты сам,
Там пробудешь полчаса,
Будешь голый совершенно». –
«Так замерзну я, наверно, -
Вновь заметил президент.
«Не замерзнешь ты, в момент,
Как закроешь плотно дверь,
Ты почувствуешь, поверь,
В своем теле пустоту,
Смерть, она ведь на посту,
Враз она в тебя войдет
И начнет обратный счет,
Один год – одна минута,
Тридцать лет для баламута
Означает полчаса,
В зеркале увидишь сам,
На кого ты стал похож!
Метки: олег ершов
Алексей Камратов,
22-09-2011 19:06
(ссылка)
Книга 1-я "Бесы-кони" романа "Мир над бездной"(условно)
РАО Авторское свидетельство №18615 от 06.09.2011г.
АЛЕКСЕЙ КАМРАТОВ.
МИР НАД БЕЗДНОЙ
Роман
Книга первая «Бесы-кони»
Оглавление
О книге и авторе
Пролог
Глава 1. Побег. Июнь 1952
Глава 2. Встреча. Сентябрь 1969
Глава 3. Замок. Май 1945 года
Глава 4. Погоня. Июнь 1952 года
Глава 5. Мачеха. Октябрь 1969 года
Глава 6. Нападение. Май 1945 года
Глава 7. Расстрел. Июнь 1952 года
Глава 8. Правда. Октябрь 1969 года
Глава 9. Обман. Июнь 1945 года
Глава 10. Гари. Июль 1952 года
Глава 11. Исповедь. Октябрь 1969 года
Глава 12. Расписка. Июнь 1945 года
Глава 13. Зеленогорск. Октябрь 1969 года
Глава 14. Ленинград. 1946–1949 годы
Глава 15. Сибирь. 1953–1969 годы
Глава 16. Сестрорецк. Октябрь 1969 года
Глава 17. Разведка. Ноябрь 1944 года
Глава 18. Эпиграф. Октябрь 1969 года
Эпилог
Примечания
О книге и авторе
Предложение от Алексея Камратова прочитать его роман и написать на него рецензию меня немного смутило - не по литературной мы с ним части. Мы больше с ним специалисты по нефте и газотрубопроводам, да обустройствам месторождений и строительствам новых городов, а тут вдруг роман. Но прочитав присланную мне первую книгу "Бесы-кони" ещё не оконченного романа, я решил написать к ней предисловие.
О книге. Я солидарен с редактором Ольгой Пьяных в кратком описании первой книги «Бесы-кони», но не всего романа с условным названием «Мир над бездной», а именно: « Действие первой книги романа охватывает период конца Великой Отечественной войны, годы послевоенных репрессий и 70-е гг. XX века. Автор делает попытку показать напряженную внутреннюю жизнь героев, двух поколений отцов и детей. Запутанные нити человеческих отношений ведут к переосмыслению совершенных поступков. На примере главного героя капитана Никифорова можно оценить величие души человека, испытавшего радость любви и горечь потерь близких людей. Ни жестокость военного лихолетья, ни суровые дни, проведенные в Севураллаге, ни предательство не смогли сломать его личность». Далее – во второй книге «Судьба олигарха» три поколения героев романа вместе идут через испытание тяжелым временем перестройки страны и к сожалению не все его проходят... Уходит романтика из сознания молодёжи, ломаются характеры людей, пышным букетом расцветает бандитизм, национализм, коррупция и соответствующие этому злу последствия в государственном масштабе.
Сегодня мы говорим о книге ещё не всем знакомой, но уже достаточно известной в узких кругах читателей. Книга «Бесы-кони» была прочитана в электронном варианте членами «Российского читательского клуба» и рекомендована к изданию. Я приведу несколько из двухсот с лишним комментариев тех читателей, которые голосовали за издание книги. Думаю, их мнение о книге будет интересно будущим читателям. Стилистику и орфографию комментариев я не исправлял, фамилии авторов из этических соображений не указываю.
- «Читается на одном дыхании, легко. Она не просто интересна, но безусловно нужна и полезна. После прочтения первой книги «Бесы-кони» появляется желание прочитать её продолжение вторую книгу «Судьба олигарха». На мой взгляд, автору удалось заинтересовать, зацепить читателя за живое, а это главное».
- «Реальность военных событий. Без прикрас, но описаны жизненно. Язык повествования прост, но красочен. Мне понравилось».
- «По историям людей, проживших такую жизнь, по событиям, которые так интересны, можно фильмы снимать. Сопереживаешь за прошедшее время, которое отдаёт людям важные моменты, чтобы помнить и понять, как всё это было!»
- «Прочитал книгу - понравилась. Что-то есть такое, что заставило поверить в написанное. Для старшего поколения будет интересно».
- «Понравилось, читается "на одном дыхании". Интересно, читая проникаешься в суть происходящего, а это многого стоит. Хочу купить эту книгу, она должна быть. Спасибо»
- « Книга видится глубокой по содержанию, читается легко, язык прост, события узнаваемы! Узнала также новые слова жаргонного сленга, что тоже хорошо, так как и в жизни встречаются такие слова. Надо знать, не для употребления естественно. Название у книги тоже хорошее! Благодарю за прочтение книги»
- «Это не просто роман - это наша история... Книга достойна грифа "Лучшие книги России"!»
- «Читая, не замечаешь лишнего, не спотыкаешься, а скользишь и скользишь за героями и боишься, что скоро конец книги, а хочется ещё читать...»
- «Мне так понравилась эта книга, что я прочла ее в запой. Не отрываясь. С тех самых пор я с книгой не расстаюсь – переписала на диск. Я к чему все это говорю. У моего поколения совсем иные взгляды и понимание жизни по сравнению с прошлым поколением. Предки выросли с Достоевским и Чеховым. А сейчас, зайди в книжный магазин: Детективы, Боевики, Секс и т.д.»
- «Хочу заметить, что книгу А.Г. Камратова многие друзья автора читали задолго до выставления её в Интернете. В том числе и я. Эту книгу прочитала два года назад, и она мне очень понравилась. Читала с большим интересом и очень хотела продолжения романа: интересны судьбы людей, воевавших, столько перенесших в годы войны, и нелегкие повороты в их судьбе уже в мирное время. В книге подняты вопросы порядочности, чести, совести. А какая линия любви: настоящей, прошедшей непростой путь. Эту книгу хочется перечитывать. И так интересно, что будет дальше, как сложится жизнь героев романа. Хочется иметь эту книгу в своей домашней библиотеке».
- «Очень хороший, сочный русский язык, да и сюжет не тривиален. С удовольствием куплю эту книгу».
Далее, как говорится, мои комментарии излишни. Я буду говорить об авторе. Человек, проживший на Тюменском Севере год-два и, не выдержав суровых условий, уезжал, больше туда не возвращался. Выдержавший три года - оставался на всю жизнь. Только сильные люди обустраивали Север Западной Сибири. Одним из них и был Алексей Камратов - сначала простой инженер-геофизик, сейсмик, ходящий по профилям на нефтеносных площадях под Нижневартовском. (Ходить по профилям - это равносильно походу в тыл противника напрямую, не взирая на болота, мошкару, или сорокаградусный мороз.) Затем, как строитель-трубопроводчик, обустраивал нефтегазоносные месторождения крайнего Севера и там с ноля построил города: Ноябрьск, Муравленко и Губкинский. Алексей Григорьевич в последней своей должности директора Ноябрьского отделения Дирекции по строительству трубопроводов и наземных сооружений Западной Сибири в системе Миннефтегазстроя уделял много внимания стороне социального и культурного развития населения. Сам активно участвовал в литературных семинарах Тюменской области, а в Новосибирске вместе с братьями Г. и А. Заволокиными создал коллектив "Играй гармонь". В разгар перестройки переехал в Москву и, невзирая на тяжелые условия разгосударствления министерских структур, продолжал вести свою творческую работу, параллельно создавая производственные и общественные предприятия нового государственного направления. Будучи членом комиссии по проблемам устойчивого развития России при ГД ФС РФ, создал в Новосибирске Финансово-промышленную группу "Сибирь". В 2003 году по просьбе депутата Государственной Думы Героя социалистического труда академика РАН Залиханова М.Ч. переехал работать в Москву, где был избран Председателем Правления ПО "Народный Союз", который и возглавляет по сей день.
Я желаю Алексею успехов и новых творческих удач.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.Шмаль
Пролог
«Газик» летел по бетонке, рассекая чахлую поросль сосняка, торчавшую вкривь и вкось из бугристого мшаника, стлавшегося по обочинам. Казалось, сосенки-уродцы штрихами пытались зачеркнуть все, что росло, цвело и дышало на убогой северной земле. Квадраты бетонки – серые плиты, уложенные на корку вечной мерзлоты, льдинами скользили под колеса.
– Вадик, быстрее. Поднажми еще. Опоздаем ведь, якуня-ваня.
Бородатый Вадик, в профиль, напоминавший Хемингуэя, хмыкнув что-то неопределенное, прибавил газу. Стрелка спидометра подкатила к девяноста километрам. Впереди замаячила платформа «Урагана», загородившая более половины дороги. Ещё был день, но быстрая полярная ночь уже гасила его. Плохая видимость размазывала силуэт впереди идущей машины. Вадик, не сбавляя скорости, пошел на обгон, и …перед глазами выросла тупая морда «Татры». В голове мгновенно отреагировало: «Влево!», а руки автоматически продолжили поворот руля, начатый при обгоне. «Татра» врезалась в правый угол кабины, где сидел пассажир.
Через полтора часа после катастрофы бригада шоферов «Урагана» привезла пострадавших в больницу заполярного городка. Шофер сейсмопартии Бубич с несколькими сложными переломами, находился в бессознательном состоянии. Пассажир – пожилой мужчина, был мертв. Единственным документом, подтверждающим его личность, была радиограмма на имя Никифорова Олега Алексеевича. Дежурный врач, принимавший пострадавших, прочитав текст, помотал головой и сказал сестре-хозяйке тете Даше, аккуратно складывавшей вещи принятых людей:
– Не повезло этому Никифорову. Жену с сыном нашел, а сам. До чего же неблагодарна судьба человеческая.
Глава 1. Побег. Июнь 1952 года
Мокрая трава и низкие ветки черемухи хлестали по лицу, цеплялись за ватник и кирзовые сапоги, если можно так назвать подвязанные к кирзовым голенищам плетеные из лыка полубашмаки, полулапти.
– Еще чуть-чуть, Эдик. Осторожней! Толкни правее. Стоп!
Впереди открылась узкая полоска воды. Ветки черемухи и ивняка ласково касались ее быстротечной глади. Река делала крутой поворот и, оттолкнувшись от противоположного берега, стремительно убегала за мыс. Боны*, ограждавшие запретную зону со стороны реки, трехкилометровым пунктиром убегали вниз по течению и терялись за последней охранной вышкой. Правая вышка пряталась в верховье реки за поворотом. С неё часовой не мог видеть этот небольшой участок прибрежной полоски, заросшей кустами. Вот именно с этого пятачка – своеобразной мертвой зоны для обзора, и решили выскочить на вольную стремнину бывший дивизионный разведчик капитан Никифоров – зэк под номером 426412, и двадцатилетний доходяга Эдик Роост – по делу значившийся пособником фашистов и врагом народа.
Лето набирало силу, и побег в такое время по лесам и открывшимся болотам Северного Урала здравомыслящие зэки и энкавэдешники считали сумасшествием. На это и рассчитывал Никифоров. В прошлом году, когда бешеное половодье где-то в верхах у слияния Сосьвы и Лозьвы смыло и выбросило в сплав несколько штабелей заготовленной древесины, Никифоров вместе с бригадой стояли на разборе затора и выручали молевой* лес, загоняя его в боновое заграждение. Там, эквилибрируя на бревнах и растаскивая их багром, он и заметил перевернутую долбленку, прижатую двумя сосновыми баланами* к мысу на повороте. Баланы пустил по течению, а долбленку аккуратно завел под кусты и застопорил между двух коряг. Через пару дней, когда на бирже – огромной, тянущейся вдоль реки лесоперерабатывающей промзоне, страсти с разборкой заторов поутихли, лодка была вытащена на берег. Затем, замаскированная под старую колоду, надежно спрятана в кустах. Год с лишним Никифоров и Эдик готовились к побегу.
Терять было нечего. У обоих по двадцать пять с прицепом, поражением в правах и прочими атрибутами уголовной аттестации. Один – изменник Родины, враг народа, другой – фашистский выкормыш, как называл его хозяин зоны майор Хорев. Никто не возмущался. Для многих обитателей Севураллага подобная характеристика была обычной. И саму зону называли фашисткой, хотя и была она чуть разбавлена и ворами*, и суками*, насмерть воевавшими друг с другом. Для всех людей, живущих на воле вне зоны, дальнейшая судьба всех эти зэков всё равно была предрешена – рано или поздно «на тот свет». Только сами зэки думали по-другому. Олегу Никифорову – бывшему боевому капитану разведчику, шел 33-й год от рождения, зэку № 426412 шел шестой год срока. Доходяге Эдику, по документам Эдгару, – сыну бывшего обкомовского работника из Белоруссии, эстонцу по национальности, мальчишке по общему развитию и мужчине по лагерному опыту – седьмой год зоны давался легче, чем предыдущие, – появилась надежда. Она пришла в лице угловатого, мрачного мужика, с которым он встретился у лепилы – лагерного фельдшера. Это было в декабре. Стояли страшные морозы. Раскатывать с берега штабеля бревен и вязать из них плоты на льду реки, которую как трубу, продувал пронизывающий ветер, редко кому было под силу. Бригада, в которой работал Эдгар, из-за невыполнения нормы выработки за вчерашний день, сегодня сидела на пониженной пайке – двести грамм черняшки* и баланда, типа кипятка, сдобренного двумя крупинками перловки. Бригада ходила под отдельный конвой. Баланду варил бригадный повар – шестерка* Карзубого. Сам Карзубый на работу не ходил, был в законе, но дружил с нарядчиком* и бугром* и регулярно отмечался в табеле по выходу. Бригаде повар варил из кислой капусты щи, в которых хоть нос полощи, но ничего не вынюхаешь и не выловишь, а бугру с двумя его шестерками жарил картошечку на тех самых жалких граммах постного масла всей дневной нормы бригады. Мужики не трепыхались, имели горький опыт. Однажды один из «фашистов» плеснул баландой бригадиру в морду, и уже где-то перед съемом, этот герой-«фашист» был раздавлен огромным баланом, нечаянно сорвавшимся с торца штабеля.
Мороз, голод, сволочная жизнь толкали слабовольных людей на помойку. Они выпрашивали на кухне объедки, картофельную шелуху, с риском получить пинка рылись в бочках с отходами, приготовленными для дальнейшей отправки свиньям лагерного начальства. И, конечно, догладывали кости поселковых собак, случайно забежавших в зону работ, пойманных и съеденных избранным блатным обществом.
Другие шли в «шестерки» к блатным. Третьи зарабатывали педерастией. Эдик нашел другой выход. Положив на сосновый горб бревна левую руку, примерился и хладнокровно рубанул топором. Пять скрюченных пальцев остались судорожно впиваться в бурую кору старой сосны. Подойдя к гревшимся у костра на берегу конвойным, Эдик показал им перетянутую проволокой кровоточащую культю и попросил отправить его в жилую зону. Ответ сержанта – начальника конвоя (молодого вологодского парня) был естественным и совсем не неожиданным: «Пшел, гад, пока пулю не схлопотал!». И чтобы не было сомнений, передернул затвор автомата. Затем дал команду охране уменьшить площадь охраняемого объекта, и часовые переставили два березовых кола – условную линию охраны – с берега на запорошенный снегом лед реки. Костер, у которого грелись зэки, в основном бригадир с шестерками, остался вне зоны охраны. А это означало, что оставшиеся до съема полтора часа у бригады не будет костра. Шестерки били Эдика недолго, но этого было достаточно. Вечером в полубессознательном состоянии парня притащили в медбарак к фельдшеру. Федор Федорович – зэк со стажем, из тех интеллигентов-марксистов, которых в тридцатых годах пачками отправляли по дальним командировкам или в небытие. Свое дело знал отлично. Хирург, московский профессор был лепилой экстра класса. Правда, лейтенант медицинской службы, начальник медчасти лагеря, человек, так сказать отсидевший войну в лагерях и даже имевший за это какие-то правительственные награды, делал Федору Федоровичу изредка замечания и давал советы. Но это бывало, когда он выходил из очередного запоя и все претензии в основном относил к непомерному расходу лекарств, бинтов и особенно спирта, которым гражданин начальник сам чрезмерно баловался и угощал друзей из лагерного начальства. Когда принесли Эдика, Профессор (так звали Федора Федоровича все зэки и охрана лагеря) делал перевязку Никифорову. Военная рана давала о себе знать и от непосильного физического труда иногда открывалась. Опытный хирург удивлялся и искренне радовался за своих коллег-хирургов, сделавших Никифорову такую неординарную операцию. Немногословный заключенный был ему симпатичен, и он часто приглашал его на осмотр. Грязь и кровь лагерей, мерзость и унижения не размазали по годам, не убили человеческое начало в сердце Федора Федоровича. Его смешная беленькая бородка, добрые глаза и детские веснушки на носу внушали доверие. Молчаливо, не обременяя друг друга вопросами, эти два человека знали что-то такое про каждого, что дано знать только сильным людям, перешедшим на фронте грань земного общения.
Выставив из комнатушки мужиков, хлопотавших над Эдиком, Профессор попросил Никифорова остаться и помочь ему в перевязке парня. Как и что делали с ним эти люди, что и о чем они говорили – Эдик отчетливо не помнил. Но главное – он не попал в карцер за членовредительство.
Через три дня он был переведен на биржу в бригаду, где каталем* работал Никифоров. И до тех пор пока не зажила культя, работал на легком труде: убирал с эстакады хвойный лапник, древесный мусор и опилы, складировал в штабеля отроны – обрезки веток и верхушек стволов. К сильному и мрачному каталю Эдик привязался крепко по-сыновьи и называл его только по имени и отчеству. Блатная хартия, да и все мужики на зоне звали Никифорова Мурым. Мурый – сам себе на уме, хитрый, хмурый, тяжелый по характеру человек. Это погоняло* он привез с собой с пересылки, а также еще и славу мужика, которого трогать не безопасно. Таких в зоне называли: «сам по себе» или «ломом подпоясанный».
И вот теперь они вдвоем выталкивают лодку из схрона. Все обговорено, все подготовлено. Окончательную подготовку провели месяца за четыре – где-то с конца февраля, когда Эдик снял руку с перевязи и мог использовать ее в работе. Отстругали весло-правило и шест. Вещички и харч собирали потихоньку, незаметно от пронырливых глаз стукачей. Никифоров за шерстяные, домашней вязки носки выменял у каптера кусок рваной полосатой шторы – якобы на портянки, и обрывок красного ситца – остаток какого-то транспаранта – якобы на перевязь для культи. У этого рябого красномордого каптера достать можно было все: от иголки до бального платья. Но шмотки, которые крутились и игрались в карты, были уже мечеными, и простая покупка или их обмен на что-то сразу же станут известны лагерному оперу*. Никифоров не хотел рисковать, и сам выкроил и сшил юбку с косынкой. Весь камуфляж вблизи смотрелся смешно и наивно, на расстоянии, переодетый в эти тряпки Эдик, мог сойти за вполне приличную девушку, возвращающуюся с покоса.
В лодку положили мешочек с харчами, топор, багор с коротким багровищем, крепкую веревку. Все это завалили большой охапкой душистого сена. Никифоров достал из-за голенища тряпицу, развернул и показал содержимое Эдику.
– Смотри! Фронтовые. Раненный летчик в госпитале подарил. Берегу. Теперь пригодятся.
На широкой ладони зайчиком блеснул циферблат штурманских часов.
– Вот здорово! Алексеич, дак они с компасом!
– Точно. И водозащитные.
Аккуратно завернул часы в тряпицу и положил снова за голенище сапога.
– Теперь пора. Дневная проверка кончилась. Карточки с биржи унесли. Ну, брат, подвязывай свои атрибуты.
Лодка уже нетерпеливо покачивалась, норовясь носом выдвинуться на стремнину. Никифоров крепко держал ее за корму. Эдик, веером разложив юбку на коленях, тщательно умостился на носу очень неустойчивой лодки. Поправил парик с сивой косой, сплетенной из пересохшей травы, и надвинул на глаза красную косынку. Никифоров, ловко усевшись на корму, оттолкнулся от коряги и скомандовал: «Запевай!»
Лодка стремительно вынырнула из кустов на стремнину. Эдик запел звонким, чуть хрипловатым голосом, что для многих, курящих в те времена женщин – было почти естественным тембром:
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
И грустную песню заводит –
О Родине что-то поет.
Лодка выплыла из-за поворота и под противоположным крутым берегом покатила вниз, глубоко оседая под весом людей и небольшой копенки сена, распустившей свои пряди вдоль бортов по иссиня черной воде. Слева проплывала настороженная биржа, ее инвалидные эстакады, неподъемные для багров штабеля, убогое оборудование и вышки, вышки. Со стороны реки, работавшие на эстакадах люди, уже казались чужими и далекими. Все уплывало за корму. Приближалась последняя, нависшая над рекой, угловая вышка. Метров двадцать, а может быть чуть меньше, отделяло лодку от вышки, когда Никифоров, предупреждая интерес часового, рупором приставив руки ко рту, закричал:
– Петрунько, это не ты там кемаришь?!
Он знал из рассказов зэков, что есть в роте охраны сержант Петрунько, который получил недавно отпускные за убитого на лесоповале побегушника.
– Приходи в гости сегодня! Мы с Нинкой бражку завели! Это я – Андрей Семин!
Семин был одним из вольнонаемных мастеров: сквалыга и стукач, бывший гэпэушник, проштрафившийся перед войной и сосланный на вольные хлеба в эти не столь отдаленные места. С вышки ответил голос на высокой певучей ноте с азиатским акцентом:
– Валяй, валяй! Пей свой бражка с Нинка! Я не Петрунька! Валяй, валяй!
Последние слова часового уже остались позади, эхом отразившиеся от противоположного крутого лесного берега. Незаметно проплыли мимо пристани, у которой на приколе стоял сломанный катер-буксир. Промелькнули дома поселка, клином уходящие вдоль оврага в лесную глухомань. Приближалась отдельная точка, на которой работала бывшая бригада Эдика. Там часовые сидели на берегу реки и внимательно следили, чтобы зэки, работавшие на разборке костра – в кучу свалившегося под берег штабеля пиловочника, не умыкнули под боны- брёвна, ограничивающие охранную зону на реке. Беглецов спасало то, что они уже прошли основной участок – биржу, и могли следовать по реке, как жители поселка. А что до телогреек, то их носили все: и вольные, и зэки. Да, и у Эдика, вдруг, прорезался голос. Он запел какие-то залихватские частушки на белорусском языке. За что удостоился благожелательного прощального жеста автоматчика, стоявшего на обрыве берега. И все. Дальше вставали глухие стены берегов, заросшие густыми хвойными и смешанными лесами. Впереди была суровая и неподкупная тайга.
Никифоров разработал маршрут движения до самых мелочей. Первый рывок на пятьдесят километров по течению реки они должны были сделать за четыре часа – время до съема с работы и вечерней проверки на бирже по карточкам. Далее – в протоке топят лодку и, резко свернув влево, уходят в сторону поселка Гари. Карта, которую Никифоров в течение последних двух лет мысленно составил себе со слов вольнонаемных приемщиков леса и мастеров, и зэков, уже ходивших в бега, стояла в глазах и как бы дразнила наименованиями незнакомого жилья – оплота Севураллага: Сосьва, Пелым, Киня, Рынта, Туман и, конечно, Гари – поселок с перекрестком путей, ведущих к свободе.
А что такое свобода? Олег не считал себя осужденным, не злился на Родину, так неблагодарно отметившую его за ратные дела на войне. И сейчас он, мысленно разговаривая с собой, думал: «Свобода!? А на фронте она была? Да, была – я мог рвать глотку фашисту. Мог идти под пули, вспоминая маму, крича «За Сталина!». Мог хоронить друзей, ненавидеть трусов, любому перед атакой в глаза сказать самую жестокую правду. Мог. Была свобода совести. Делали общее дело – освобождали Родину. И, вдруг, тупик: холодные стальные глаза, в каждом видим врага, сажаем, расстреливаем. Кого?! Соседа по окопу, брата по оружию? Отца кормильца? Мать, не дождавшуюся сына? За что?! За окопную правду, за благополучие лощеных партийных товарищей и их холуев – тыловых интендантских крыс? За колосок для пухнущего от голода ребенка? И куда?! – В тюрьмы, в лагеря, на лесоповал, на канал, в шахту – могилу под землей…»
Никифоров заскрипел зубами и приглушил стон, невольно вырвавшийся из опаленной жаждой глотки, стон свободы, радость маленькой победы. Улыбнулся удивленному Эдику и подмигнул:
– Выноси хозяйство на берег. Будем, брат партизан, лодку топить.
Немного попрыгали, размяв ноги после четырехчасового сидения в неудобной лодчонке, и замаскировав следы выхода на берег, ходко двинулись на запад. Первый привал и первый костер организовали глубокой ночью в пещерке под нависшими корнями почти падающего в овраг старого кедра.
Июнь, июль – на северном Урале самое неудобное для лагерных побегов время.
Болота разморозились – не пройдешь. Клюквы зимней уже нет, летняя ягода еще не поспела. Дичь пуглива и голодна. Уголовникам для побегов – был не сезон. Никифоров не был уголовником, он был профессионалом разведчиком. Он шел зная цель и маршрут до неё. Шёл назад к людям со своей правдой. В тоже время он остерегался нелюдей из внутренней охраны, натасканных на убийства безоружных беглецов. Они имели все: оружие, питание, сильные ноги, огромное желание получить внеочередной отпуск домой. И всегда были уверены, что их «дело правое – враг должен быть разбит!» А капитан Никифоров имел только четырехлетний опыт фронтового разведчика, жажду справедливости, и стремление помочь рядом шагавшему мальчишке - доходяге инвалиду.
У маленького костерка, вокруг которого стояла глубокая мохнатая темнота пещерки и на выходе из неё обвисших корневищ кедра, прошла первая на воле трапеза: кружка кипятка с заваренными листьями брусники и по куску твердого, как камень, сухаря. Рядом в малиннике изредка щелкала какая-то птица, вклинивая свои призывы в дальнее уханье совы. Олег лежал навзничь на спине у входа в пещерку, положив под голову руки, и пытался найти на небосводе ту – одну единственную, известную только ему с Юлей звездочку, но тщетно. Густая облачность закрыла небесный купол и давила землю душной предгрозовой прелостью.
– Эдик, постарайся уснуть. В четыре утра пойдем.
– Не могу. Нет, я не боюсь. Пусть застрелят. Я собак боюсь. С детства боюсь. У товарища моего отца были сын Костька и овчарка Джемма. Мы втроем играли и придумали игру в снайперов – кто попадет в нос Джеммы из детского пружинного пистолета палочкой с резиновой нашлепкой на конце. Костька промазал, а я попал. Джемма бросилась на меня и прокусила кисть левой руки. Показал бы, да уже и кисти самой нет. Как вспомню ее злую морду…. Поэтому боюсь собак.
– Вообще-то собаки добрые животные. Хозяева их страшней. А кем был хозяин – друг твоего отца?
Эдик поворочался, поправил телогрейку и тяжело вздохнул:
– Олег Алексеевич, вы, наверно, меня тоже за врага народа считаете? А я ведь в партизанах был. Правда, провалялся всю зиму в землянке с больными легкими. Потом на кухне помогал, письма раненым писал – я ведь чуть-чуть не закончил пятый класс, листовки иногда переписывал. И вообще…. Не враг я и отец мой не фашист. А тот подлец, у которого Костька и Джемма – фашист. Перед войной он управлял делами в областном ГПУ, потом формировал подполье. Через полгода фашисты все подполье расстреляли. Перед приходом Красной армии, снова появился у нас в отряде. Отец посадил его под арест и объявил изменником. Свидетелем предательства того подлеца был наш хлопец, работавший под полицая в городе. Партизанский суд состояться не успел. На отряд навалились регулярные части немецких войск, окружили – и все. Спаслось мало людей. Мамка там тоже погибла. Когда пришли наши, отец вывел остатки отряда из леса. И тут его и меня арестовали. Дескать, мы – немецкие шпионы и отряд специально под разгром подвели. Мы по национальности эстонцы, но всю жизнь прожили в Белоруссии. Отец – старый большевик, прошел всю гражданскую политкомиссаром. Затем по ранению ушел в хозяйственники, стал парторгом мукомольного завода. Был членом обкома. Всю войну партизанил, командовал отрядом…
Эдик поперхнулся дымом от костра, закашлял.
– Проклятый дым. Пробовал в лагере курить, не смог. Слава богу, хоть махорку не пришлось добывать. Вы, Олег Алексеевич, наверное из староверов – тоже не курите.
– Я не старовер. Не курю и все. Считаю глупостью – гробить здоровье за просто так. А вообще то, дыма без огня не бывает. Кто-то же обвинил твоего отца в предательстве?
– Кто? Не поверите. Это падло* удрало из-под ареста во время бомбежки отряда. Драпанул за линию фронта. Сказался героем-подпольщиком. Предъявил свои партийные и прочие ксивы* – сберег же гад! И вошел в город с частями нашей армии в форме майора «Смерша». А хлопчик тот, который был у нас свидетелем его фашистского пособничества, перед приходом наших погиб в перестрелке. Тот падло и его обгадил – назвал полицаем и посмертно вымарал грязью всю его семью. Партизан, оставшихся из состава отряда, по военным частям разбросали. Нас с отцом отконвоировали в город. Слово в защиту отца сказать было некому. Правда, приходил один человек в следственную часть дивизии, стоявшей в городе. До войны он инструктором в комсомоле работал, а в войну в соседней области партизанил. Знал отца по обкому. Обратился к комдиву с просьбой об отце и что-то говорил о нем оправдательное. Ничего не получилось – крутилось военное колесо. Война все списала. Отца расстреляли. Я получил клеймо предателя, а мне тогда и пятнадцати лет не исполнилось. Завернули на полную катушку.
Эдик умолк. Повернулся на бок. Палочкой поворошил угольки в костре. Искорки светлячками порхнули вверх и исчезли.
– Я, Олег Алексеевич, с вами пошел, зная, что есть только один шанс, который я должен использовать. Мне от жизни уже ничего не надо. Я в ней труп. Хочу одного – найти, хоть из-под земли достать этого подлеца и удавить вместе с его Джеммой.
Никифоров молчал. Горечь переполняла его сердце. Казалось, и места ей там уже нет – столько этой горечи было. Казалось, его тягучая смрадность раздавит, задушит плоть, прервет дыхание. Человек смотрел в небо – густое, вязкое, черное и безмерное. Человек искал. И нашел. В правом углу, почти над невидимой линией горизонта, блеснула одна, одна единственная, ни одному человеку на Земле незнакомая его далекая звезда.
Глава 2. Встреча. Сентябрь 1969 года
Чернец осмотрелся вокруг: посетителей в ресторане было немного, но, судя по табличкам с интригующими словами «Стол не обслуживается», понял, что зал будет скоро забит посетителями. Продолжая разговор, издалека начатый Уваровым, ответил:
– Извини, друг, твоя «Святая» или ранний Пикассо мне больше по вкусу, нежели жалкие потуги этого обрусевшего в третьем колене отпрыска немецких бюргеров.
– Не скажите, Герд. У моего молодого друга живая рука, его письмо дышит простотой, а палитра…
– Бросьте. Я ломаного гроша не дал бы за всю его, извините за выражение, мазню.
Сыто откинувшись в кресле, Чернец с улыбкой, так не вязавшейся с аскетическим выражением его лица, добавил:
– Гриша! Уважаемый Григорий Михайлович! Все мы к старости стараемся обзавестись гениальными учениками, дабы, хоть бочком, но пропихнуться за чужой счет в историю земли русской. Не обижайся старина, иллюзии не в моем вкусе. Гениальный художник может создать только свою школу. В нашей стране это невозможно – другие гении не позволят-с.
В минутной паузе, глядя на Чернеца, Уваров вспомнил где-то слышанный афоризм: «Аскетизм, как цель, есть величайшая нелепость, он есть покров ханжи и лицемерия…» А относится ли подобное к нему? – подумал он, продолжая вспоминать цитату. – Нет. «Настоящий аскетизм является к человеку сам собой, как морщины на лбу, как следствие глубочайших переживаний».
– Жизнь покажет – возможно, иль не возможно, уважаемый Герд Васильевич.
– Да, прости. Краем уха слышал в определенных кругах о твоем любовном романе. И как самочка? В теле?
Уваров, поперхнувшись, прикрыл рот салфеткой. От злости на самого себя за дурацкую стеснительность, которая всегда довлела над ним в неожиданных разговорных инсинуациях, на замедленную реакцию противоборства с пошлостью и цинизмом, преподносимых этим лощеным Гердом, этим доморощенным аристократом с повадками гориллы. Он готов был вспылить, закричать, но сдержался. Чернец был нужен ему. Уваров знал, что Герд Чернец – литературный критик «толстого» журнала, высоко котирует художника Уварова в кругу людей искусства. Сам же Уваров с незапамятных времен питал к нему особую неприязнь, но ссоры с ним не хотел. Сегодня он пригласил Чернеца в ресторан на это, так пошло начавшееся, рандеву, по личному делу, как бывшего друга и однополчанина.
– Я знаю, Герд, что ты хочешь сказать.
Уваров, старательно изображая хозяина стола, разлил по рюмкам коньяк и не заметил, что перешел с Гердом на «ты».
– Да, самочка, как ты выразился, – молодая, энергичная женщина, моложе меня на много, до чрезвычайности много лет. Нонсенс? Отнюдь. Моя бывшая жена Юля, Юлия Андреевна, любви которой ты домогался еще в те времена, ничего не имеет против моей новой подруги жизни. Вы, имею в виду общество, тем более не имеете права на осуждение моих личных поступков. Моя жена Вероника – искусствовед, родственная душа моей профессии художника. Наконец…. А впрочем, чем ты не застрахован от подобного альянса? Холост. Импозантен. Достаточно умен. И главное – платежеспособен. Прямо-таки готовая добыча для современных девиц, вскормленных на ниве битломании, романтики стихов Евтушенко и успехов фарма и гинекологии.
Чернец саркастически усмехнулся:
– Зря, Уваров. Я толстокож. Меня не укусишь. Ты в десятки раз платежеспособнее и, в этом плане, заманчивее меня. Что же касается любви, то… помню, когда ты написал и выставил свою картину «Разведка боем», я понял, что потерял Юлю. А что до сексуального своего удовлетворения, в какой бы социальной форме оно не выражалось, то скажу по секрету: я доволен. Давай не будем топтаться в памяти и давить друг другу ноги старыми воспоминаниями. По какому поводу мы здесь: день рождения, смерть ребенка двоюродной сестры или диспут на тему: «Антипатии и их возрастной ценз»? Надеюсь, что-то другое?
– Разумеется.
Уваров, обдумывая выход со своей просьбой, медленно разлил по рюмкам бодрящий напиток солнечной Армении. Неожиданно встал и пошел к оркестру, только что окончившего играть веселую «Летку-еньку». Пошептался с одним из музыкантов – увесистым мужчиной, более похожим на казака времен Стеньки Разина, чем на скрипача, и с внутренним удовлетворением, явно проступившем на его лице, вернулся к столику. Грузно сев в кресло, пробормотал:
– Не умею купчикам подражать. Духу что-ли того – старого, русского не хватает. Дать на «чай» за труд и то не умею.
Оркестр заиграл. Приятный тенор, чуть-чуть с раскатистым еврейским «эр», запел «Смуглянку».
– Твое здоровье!
Уваров выплеснул в рот коньяк, продемонстрировав лихую удаль старого выпивохи, чему Чернец искренне удивился, зная обратное. Вид Уварова: хорошо скроенный серый костюм, без складок облегавший кругленькое тело, темная рубашка и шикарный полосатый галстук – говорил о его более серьезных намерениях чем пьяная вечеринка в ресторане.
«Нет, не зря старый помазок заказал «Смуглянку», любимую песню Юли, пластинку с которой она свято берегла», – подумал Чернец. Безмолвно выпив и, едва для смака надкусив дольку лимона, спросил:
– Что ты хочешь от меня? К чему весь этот фарс, Гриша? Ты ушел от Юли, но продолжаешь играть роль доброго папы? При чем здесь «Смуглянка» через двадцать три года? Или ты по-прежнему считаешь меня участником неблаговидной игры, из которой сам же меня и пнул?
– Нет, Герд.
Уваров всем корпусом поддавшись вперед, как бы принимая вызов противника, четко, по словам продиктовал:
– Ни ты, ни я из этой игры не выйдем по гроб жизни своей. Ты знаешь – свое, я – свое…
И как бы испытывая удовлетворение от высказанного, стал уютно втискиваться маленьким пухлым телом в округлую спинку кресла. «Так умащиваются старенькие хомячки в своих тепленьких норках», – подумал Чернец.
– Олег вырос. В нынешнем году он заканчивает геологоразведочный факультет, а пути господни неисповедимы в нашем Союзе – куда направят, туда и поедет. Кроме этого, ты знаешь, он увлечен литературой. Пишет стихи. Много пишет. Ему надо помочь. Литературные связи – не по моей части. Вот вкратце и все. Последние слова Уварова совпали с высокой финальной нотой, красиво взятой ресторанным певцом.
– Хорошо, Гриша. Я понял. Только хочу кое о чем предупредить – опять же, исходя из наших фронтовых дружеских отношений. Ты знаком с окружением своей пассии? Всё забываю, кажется, ее зовут Вероника. Не так ли?
– Да, и притом, очень хорошо знаком.
– Ни о чем не говорит тебе имя Эдгар? Иногда его называют «Беспалым». Очень интересный товарищ по части импорта-экспорта всего, что плохо лежит в нашей стране.
Уваров, вынырнув из глубины кресла, и приподняв, как дирижер, указательный палец левой руки, четко декларируя каждое слово, ответил:
– Да. В студенческие годы она была знакома с молодым человеком по имени Эдгар – раз. Они давно разошлись и не имеют друг к другу никакого отношения – два. И три – все, что касается Вероники и нашей с ней жизни – моя забота. Пожалуйста, – Уваров сделал насмешливую умоляющую гримасу, – не пекитесь о моем благополучии, товарищи-друзья-однополчане. Я давно вырос из фронтовых пеленок и могу разобраться в людях, – сложив ладошки на груди, он в позе херувима снова утонул в кресле.
– А мы не печемся, Гриша. Твое почти гениальное чело, а где-то частями и тело, постоянно накрывает завеса таинственности. Мое дело – предупредить. Смотри, не перемудри. Я не оправдываю поведение Юлии Андреевны в последние годы. Но ты сам дал ей повод уйти от тебя. Сам отстранил ее от своей жизни. Что касается перспектив вашего сына, мы еще раз обговорим с тобой по телефону. Постараюсь подготовить ему встречу с интересным человеком. Давай в ближайшие дни соберемся у Миткевичей. Заодно, старый шалун, познакомишь нас с молодой женой.
Чернец посмотрел на часы, давая понять, что встреча окончена.
– Мне пора, Гриша. Да, кстати тебе большой привет от Ивана Курского. Объявился курилка. Звонил. Работает в Москве. Но об этом мы обстоятельно поговорим у Миткевичей. - и вышел навстречу, тут же поднявшемуся из-за стола, Уварову, обнял его и, дружески хлопнув по плечу, шепнул на ухо: «Подумай о Беспалом. До встречи».
В распахнутых дверях ресторана Чернец величавым жестом положил в руку швейцара «красненькую» и так же величаво сел в моментально подъехавшую черную «Волгу».
Зеленые бархатные кресла располагали к тихой доверительной беседе. Запотевший бокал шампанского и пирамида мороженого обрамлённая вычурными круглыми башенками из шоколадок, и втиснутая в объемный фужер, поддерживали обстановку солидной красоты и покоя в уютном кафе на Невском. Сведущие ленинградцы говорят, что из-за зеленого цвета интерьера его прозвали «Лягушатником». Эдгар предупредил Веронику, что будет ждать ее в девятнадцать часов в их любимом кафе. Та была пунктуальна и с ходу, не успев еще устроиться за столиком, сказала:
– Мы договорились Эдгар, встречаться только в экстренных случаях. В чем дело?
– Дорогая, не бери меня на понт*. Знаю, что ты уже расписалась с нашим красавцем, но это еще не дает тебе права грубить мне, товарищ Уварова. Через одного моего приятеля из красивого города Талинна пришло экстренное предложение. Кому-то в Южной Америке очень захотелось иметь в своей коллекции картину твоего дражайшего супруга «Святая». Сумма оглашена очень высокая. Что вы на это, мадам, скажите? Понял. Как всегда – не продается.
С восторгом глядя в зеленые глаза, сверкающие на правильном овале лица рыжеволосой красавицы, сошедшей с полотна художника времен эпохи Возрождения, он ласково погладил ее ручку, вернее – лайковую кожу ее белой перчатки, своей правой рукой. Его левая рука – протез, обтянутый черной кожаной перчаткой, лежала на столике и резко контрастировала с перчаткой ее руки.
– Присядь. Выпей шампанского. Пломбир, как видишь – твой любимый. Время у тебя есть. Поговорим, дорогая.
В творческих Союзах художников и писателей СССР давно поговаривали о некой группе скупщиков произведений талантливых мастеров, получивших имя и признание за рубежом. Легально продать за границу свои произведения, уже имевшие широкую огласку и известность на Западе, советским авторам было практически невозможно. Аферы по перепродаже раритетов проводились через изворотливых дельцов, владеющих документами экспертов и оценщиков министерства культуры. Одну из таких групп нелегально организовал в Ленинграде и возглавил Эдгар Роост – человек со средним техническим образованием, по специальности полиграфист, но с неординарными способностями по организации мошеннических сделок и неплохими связями в кругах искусства за рубежом. Правда вопросы, касающиеся связей за кордоном, решал не он, а кто-то из его друзей прибалтийцев. Об этом знали только единицы людей из его узкого круга. Вероника, как специалист-искусствовед, и была одной из лошадок его рабочей конюшни. Еще будучи студенткой института культуры, на первом курсе она познакомилась и вышла замуж за симпатичного парня, энергии и жажде жизни которого позавидовал бы любой человек. Семейной жизнью они наслаждались недолго и на третьем курсе, как говорят – не сойдясь характерами, развелись. Но заложенная за период их совместной жизни, идея, а далее: творческое воплощение этой идеи – перекупка и спекуляция чужими произведениями искусства, жестко контролируемая со стороны преступного мира – продолжала работать. В сферу интересов этой преступной группы и попала картина «Святая». Новой женой не безызвестного автора и была та самая Вероника: красивая рыжеволосая женщина – любительница мороженого с шампанским вином.
Глава 3. Замок. Май 1945 года
Один из многих, разбросанных по всей Польше старинных замков, милым гнездышком прилепился к откосу высокого холма, густо заросшего древними вязами, кустарником и другой всевозможной растительностью, которая цвела и благоуха на благодатной земле. Буйство, разнообразие красок радовало и удивляло. Заканчивалась весна 1945 года.
Капитан Никифоров, стройный, черноволосый парубок, как его с любовью называли украинские девчата, сбросив гимнастерку, босиком, до колен засучив штаны, гонял голубей на крыше деревянной пристройки, и по-разбойничьи свистя, неистово крутил над головой шестом – погонялой.
Бабка Ядзя – старая служанка пана управляющего, сбежавшего с фашистами куда-то на запад, искоса поглядывая на русского взбалмошного пана офицера, общипывала здоровенного гуся, которого, как сказал старшина Мельник «вбыло шальной пулей». А пули уже с неделю не тревожили это божественное местечко.
Подставляя ладони, шириной с лопату, под струи родниковой, обжигающе холодной воды, бившей ключом из недр холма и сбегавшей во двор замка по замшелому деревянному желобу-колоде, старшина Мельник степенно, не проливая ни капли, разливал жгучую влагу по волосатой ширококостной груди и крестясь громко крякал от удовольствия. На что бабка Ядзя реагировала по-своему, повторяя после очередного кряканья старшины:
– Матка боска, Езус Мария! – и возмущенно притопывала ногой.
Из узенького окна-бойницы за мальчишеским занятием русского капитана наблюдала пани Эльжбета, урожденная Белевич. Хозяйка замка – она категорически отказалась покинуть его до прихода Советской Армии, несмотря на упорные уговоры оберста Думке, квартировавшего здесь со своей частью. Оберст не тщился надеждами уговорить благородную пани и брал у нее почти все, чем может отблагодарить женщина истосковавшегося по женским утехам солдата. В течение полутора месяцев пани ежедневно принимала в своей постели казенные нежности полудряхлого, слюнявого медвежонка Вили, как он рекомендовал себя называть – просто, по-семейному. Отвращения к нему не было. Была пустота, глупая потеря драгоценных минут жизни. А пани Эльжбета их очень ценила и в свои тридцать восемь лет выглядела недурно. Так, по крайней мере, ей казалось самой. Бурную молодость она не брала в счет. А зря. Тихие морщинки уже заметно тронули ее дебелое тело, въелась дряхлая желтизна в кожу лица. Но не об этом думала пани. Во дворе, гоняя голубей, бегая по крыше, весело хохотал жизнерадостный (ах, какой темперамент!) молодой, красивый пан офицер. Игривые мысли пани спутала медсестра Юлька. «Солдатская пробка» – так ее по злой женской ревности мысленно окрестила родовитая пани. Девушка подбежала к пристройке и, что-то весело крича, призывно махнула капитану рукой. Тот, отложив шест и прихватив гимнастерку, портупею с пистолетом и сапоги, лихо прыгнул с крыши в стожок сена, скатившись под ноги хохочущей девушке. Юля протянула ему обе руки, предлагая в помощь всю свою девичью юную красоту и такую солнечную улыбку, от которой даже просветлело морщинистое, как печеное яблоко, лицо бабки Ядзи.
Когда молодые люди, убегая наперегонки, скрылись в зарослях орешника, невидимая иголочка пронзила сердце пани Эльжбеты и застряла ноющей, не отдающей себе отчета сладко болью под пышной, вдруг глубоко вздохнувшей грудью.
В просторной гостиной, обставленной старинной темной резной мебелью и увешанной рогатыми головами оленей, отдыхали трое: Гриша Пузырь, герр Долговязый (так ротные шутники звали молодых разведчиков Уварова и Чернеца за их комплекцию и за странное имя второго – Герд) и младший сержант Богомолов. Первые двое уже не считались новичками в военном деле, но желание подробнее узнать, запечатлеть в памяти боевые эпизоды, делало их благодарными слушателями. Постоянным лектором был, угощавший немцев по своему рецепту, как он выражался – свинцовыми котлетами «по-сталинградски» и «по-курски», пензяк из крестьян, балагур и острослов, хитрющий разведчик Богомолов. О себе он говорил так: «Моя фамилия русская, а вон у фрицев на пузе написано «Gott mit uns» – бог, мол, с ними, а я им всю войну втолковываю: не с вами, а со мной – по родству, чай, фамилия выдана. Они, все одно, не согласные. Бог мой, я с них за войну столько шкур спустил, а они мою ни единой пулей не царапнули. Чай, и думай теперь – с кем Бог?». А когда кому-либо надоедали его побасенки или рассказы, сочиненные на трудных дорогах военных будней, Яков Богомолов отшучивался: «Лапша наша, уши ваши – хоть на ус мотай, хоть на уши вяжи, хоть до зорь слушай, а хоть за ложь скушай». И молчали неискушенные новички и посмеивались бывалые солдаты. Звали его все по-родственному, как зовут близких: кумовьев, сватов на русской деревне – Богомолыч. А Гриша и Герд или Гера, как звали его многие, перекраивая имя на русский манер, не расставались с карандашами и блокнотами. Первый перерисовал туда всех ребят из группы разведки, второй описал все пути-дороги, пройденные дивизией. Оба были внештатными военкорами дивизионной газеты «За Родину». Особое место в их рисунках и записях и, конечно, в душе занимала Юлечка Семенова – милая медсестричка из санбата, полюбившая их командира капитана Никифорова. Как они ему завидовали! Двадцатилетние парни мечтали о поступлении в художественное училище и в университет, а капитан перед войной уже окончил горный институт. Они боготворили легкую, как бабочка, веселую Юлечку, а он заставил капитулировать ее сердце окончательно и бесповоротно. Как они ему завидовали.
– Скажи, Богомолыч, а действительно под Пятихаткой наш кэп заставил гитлеровского танкиста в немецкую самоходку шарахнуть? – спросил Гриша, увидев убегающих в орешник Юлечку и капитана.
Богомолов улыбнулся, подняв вверх указательный, прокуренный до черноты, палец, как знак высшей правды своих слов:
– Когда Колю Панова, он у тогдашнего старшего лейтенанта Никифорова на связи был, убили эти свинячьи выблядки, наш командир для ориентиру в обстановке сам пополз к соседям. А кругом! Боже праведный! Это теперь я аду не боюсь, повидал: и как живьем людей жарят, и как на кусочки рвут.
Многозначительно приподняв лохматую бровь, языком аккуратно подклеив клочок газеты с рассыпающейся у конца махорочной закрутки, продолжил:
– А с танками было просто. Их там кишмя кишело: где наш, где ихний – хрен разберешь. Командир-то, выскочив из овражка, где мы остались впятером, успел нырнуть под колючку и прямо-таки грудями в «Тигра» уперся. Ну, чай так, держи приветик – и под брюхо этой гадине гранату. Да, видать, угодил в самый пупок. «Тигр» круть на месте и, со злости чай, своей же самоходке и врезал. А когда энта шантрапа из дырявой банки выпрыгивать стала…
Богомолыч на полуслове резко оборвал свой рассказ. Совсем близко в орешнике, куда ушли капитан с девушкой, щелкнул пистолетный выстрел, другой и застрекотал «шмайсер».
Чернец, не раздумывая выскочил в настежь открытое окно. Уваров, вытаскивая автомат из-за широкого резного полукресла – полутрона, немного замешкался. Он выбежал вслед за Богомолычем, который зигзагами уже перебегал обширный двор, на ходу вставляя диск с патронами в свой старенький ППШ.
К орешнику со всех сторон бежали и старшина Мельник, и трое Иванов, в нательных рубашках выскочившие из-под амбарного навеса, где отдыхали после ночного патрулирования. Осторожно, цепью окружили заросшую первыми ромашками поляну. У неглубокой старой воронки под кустом шиповника на корточках сидел капитан и обыскивал распластанного на земле мужчину. Обросший густой щетиной человек в штатской одежде на первый взгляд не был похож на военного. Только «шмайсер», лежащий под правой рукой, наводил на эту мысль. Юлечки рядом с капитаном не было. Вытащив из подкладки френча убитого человека бумажку серого цвета, Никифоров пошевелил губами, а затем прочитал вслух:
– СС «Викинг», – чуть подумав, продолжил: – Эк, куда занесло герра Шульце!
Приподнявшись, отряхивая с колен прилипшие комочки дерна и сухие стебли прошлогодней травы, добавил:
– А переодевался-то зачем? Чего боялся? – и, уже обращаясь ко всем разведчикам, окружившим его плотным кольцом, улыбнулся: – Все в порядке хлопцы. Одного не пойму – зачем он шел за мной от самого санбата. Я его еще триста метров назад заметил, думал – местный кто. Окликнул. А он в кусты прыг и автомат из-под полы френча тянет. К стыду своему сознаюсь – не хотел я его убивать – Победа всё-таки. Нарочно первым выстрелом в галок шуганул. А он очередью огрызнулся. Ну, и вот… Земсков, помоги старшине Мельникову убрать его, куда-нибудь с глаз подальше.
Как-будто ничего не произошло, капитан Никифоров направился к замку, насвистывая любимую мелодию «Смуглянки».
Пятый день отдыхали ребята Никифорова – особая группа дивизионной разведки. Ни приказов, ни вызовов. Пятый день ждали заветного приказа – домой. Война кончилась. Каждый мысленно жил завтрашним днем. До ближайшего командного пункта, расквартированного в небольшом городке, по размытой паводком проселочной дороге было километров десять. В двадцати минутах хода от замка в поместье богатого шляхтича, сбежавшего от расправы польских патриотов располагался санбат. Свое местонахождение он выдавал только большим красным крестом на белом полотнище, растянутом на крыше большой каменной конюшни. Основная часть раненых была эвакуирована в стационарный госпиталь, или на Родину. Медперсонал в связи с эвакуацией тоже сократился: кто уехал по вызову, кто был переведен на работу с местным населением.
Олегу казалось, что он совсем недавно познакомился с Юлей. Да, разве для первого «люблю» есть границы? Почти мгновенно пролетевшие восемь месяцев их дружбы: по-детски чистой, чуточку неловкой, далекой от бытующей в тылу формулы фронтовой любви – заметно изменили бесшабашный характер одного из лучших разведчиков дивизии. Любовь! Человека красит только любовь, от первой любви к женщине – маме, кончая любовью к миру, Родине и просто любому существу подобному себе. Всё остальное, противоположное любви: злость, ненависть, жадность - уродует мир, ведет к его гибели.
Об этой красивой любви Юли и Олега знали почти все: и разведчики, и медперсонал санбата, и даже дивизионное командование. Знали или догадывались об их планах на будущее. Для любви война кончилась при первой их встрече.
Родители Олега погибли при бомбежке Смоленска в начале войны. И что-то другое, более высокое, родственное и душевное испытывал он к Юле – воспитаннице детдома, сбежавшей в пургу войны, смертельного хаоса семнадцатилетней девчонкой. Их любили все: будь-то замкнутый, вечно занятый работой хирург Иван Силыч, потерявший жену и дочь-первоклашку под Херсоном, хохотуньи медсестры – подружки Люда и Ганна, тайно влюбленные в Олега, или Богомолыч с Мельниковым, считавшие Олега своим воспитанником, сыном. И буквально каждый знавший эту влюбленную пару, старался чем-то помочь, оградить их первую весеннюю любовь от неожиданностей войны и ее трудных повседневных забот.
А приказа не было. Пятый день разведчики резались в подкидного за огромным дубовым столом в шикарной гостиной замка. Пили потихоньку спирт, который умудрялся доставать у красавицы-хохлушки фельдшера Полины Игнатьевны могучий старшина Мельник. Ходили к девчатам в санбат, что официально считалось патрулированием, охраной дороги от замка до усадьбы – единственной коммуникации пригодной для проезда машин с раненными и выздоравливающими солдатами.
За открытыми окнами гостиной, широким полукругом врезавшейся в центральное крыло замка, полыхала весна, благоухая всеми порами земли, застоявшейся в холоде зимы, оттаявшей от ужаса войны. Ночной аромат усиливал мирную тишину.
Герд, хрустко потянувшись, встал из-за стола после очередной проигранной партии.
– Везет на дурака, – беззлобно хмыкнул Иван Тамбовский, один из трех Иванов пришедших в группу два года назад по одному набору, но из разных полковых разведок. Три Ивана: тамбовский, курский и омский подружились – водой не разольешь. По дивизии ходили легенды о боевых подвигах трех родных братьев близнецов, трех Иванах, названных так родителями, чтобы не выделять любимчиков. На деле было далеко не так сказочно. У каждого из них была своя фамилия, свой родной город, по названиям которых их и величали товарищи разведчики. Но в легендах много было правды. Подвиги имели место в трудных буднях группы капитана Никифорова. Награды были у каждого: у сержантов – трех Иванов – по две «Славы», у старшины Мельника за «языка», вытащенного тепленьким прямо из штаба одной из Гудериановских бригад под Курском – орден Ленина, а у младшего сержанта Богомолыча, когда он при всем параде, и места пустого на груди не найдешь. Не обошла слава стороной и молодых разведчиков, добивавшихся места под ее лучами усердной исполнительностью, горячим стремлением восполнить пробел первых двух пропущенных военных лет. Каждый имел по ордену Красной Звезды и по медали «За отвагу». И как ни странно, группа за два с хвостиком года тяжелой, изнурительной игры со смертью не понесла ощутимых потерь. Фотография погибшего Панова, всегда висевшая в изголовье капитана Никифорова, была своеобразной памяткой о мужской фронтовой дружбе, щитом от будущих потерь, охранным амулетом группы. Невидимая ниточка связала людей разных возрастов, характеров и привычек в одну крепкую семью со своими профессиональными тайнами, боевыми традициями и закономерным чувством локтя, присутствующего в минуты смертельной опасности. На шутки в своем кругу обижаться было не принято.
Герд, расстегнув верхние пуговицы гимнастерки, завалился на могучий кожаный диван и, улыбаясь лепному ангелочку, пытавшемуся слететь с расписного потолка на грешную землю, бросил в адрес играющих:
– Вино, карты и женщины – удел слабых людей. Слабости надо уметь подавлять в их пагубном начале.
– О, наш юный герр Ланге* философ! Завидую его будущему: пьет клюквенный морс, играет на арфе и любит бабу, наплодившую ему детишек от соседа, – парировал Иван Тамбовский, и глубоко затянувшись остатком тощей трофейной сигареты, щелчком выбросил ее в окно. – Козыри черви. У кого шестерка?
Игру продолжали четверо: громко сопевший при удачной сдаче Богомолыч, невозмутимый Мельник и два Ивана. Иван Курский листал томик Джека Лондона Петербургского издания 1912 года, невесть откуда оказавшегося в библиотеке пани. В неверном свете стеариновой свечи, оплывшей в бронзовый подсвечник, профиль Ивана из-за его длинного, острого носа был похож на грифа методично клюющего свою жертву.
В патруле находились Гриша Уваров и, приехавший в полдень из города, рядовой Сысоля, по разрешению капитана отлучавшийся туда за покупкой подарков для своих мал мала меньших сестренок, ждущих его в Челябинске. В полночь, до которой оставалось не более полутора часов, их сменяли Богомолыч с Чернецом.
Чернец, в душе обидевшийся на реплику Ивана Тамбовского, отвернулся лицом к спинке дивана и, смежив веки, пытался вздремнуть. Майский жук, с перепуга влетевший на свет в открытое окно, сделал глубокий вираж над столом, плюхнулся на нос гипсового бюста пана Белевича, стоявшего в нише стены. Из окна сладко тянуло парным теплом ночного воздуха.
В уютной комнатке – скромной спальне для гостей, о чем любезно сообщила капитану пани Эльжбета, стоял тот же терпкий аромат весны. Олег нежно, как струны мелодичного инструмента, перебирал в памяти слова Юли: «Люблю! Люблю, милый! Сказка моя сероглазая! Неужели все кончилось: кровь, грязь, слезы? Неужели мы живы? У нас будет мальчик… и девочка. Мы им ничего не расскажем, правда? Ничего не расскажем, ничегошеньки! Войны не было. Были я и ты – милый, любимый мой!». Перед глазами Олега всплывали качающиеся картинки: волнистые, летящие по ветру белой поземкой мягкие волосы Юли, ее чувственные, спелые и яркие, как вишни, горячие губы, и крыльями взлетавшие тонкие девичьи руки… И глаза! Синие-синие, с неуемной нежностью вобравшие в себя его взгляд, мечту и любовь.
Плывя в сиреневом таинстве нахлынувших чувств, Олег не услышал осторожных шагов по галерее и не заметил, как пани Эльжбета, войдя в полутьму комнаты, застыла у дверей.
– Пан офицер!
Вязкий шепот пани подбросил Никифорова, лежавшего на не разобранной постели, и заставил потянуться за пистолетом, лежавшем в изголовье на ночном столике, заставленным баночками с кремами, снотворными снадобьями и прочей парфюмерной ерундой.
– Проше, пан офицер, пожалуйста, извините. Бардзо проше. Вы испугались?
– Привычка, пани Белевич, не больше, – Олег, суетясь, недоумевая по поводу прихода этой замаринованной красавицы, как выразился старшина Мельник при первом знакомстве с хозяйкой, начал надевать старенькую портупею.
– Не надо, пан Олег!
Пани произнесла фразу с неожиданно красивым ударением и мягким шипящим звуком. И, как бы накладывая запрет на поспешное, суетливое одевание, приподняла руку, оголившуюся до плеча из-под крыла шелкового кимоно.
– Что не надо? – капитан застыл.
Неторопливый бархатный свет падал из окна на спину Никифорова, и пани не могла заметить выражение его лица, остававшегося в тени, но чутко уловила нотки раздражения в голосе.
– Оставьте этот страшный пистолет. Я и так боюсь вас. Зачем же вы еще больше хотите напугать меня, – пани Эльжбета довольно сносно говорила по-русски, а незначительные паузы между слов, секундный поиск их, придавали ее речи своеобразную окраску, притягательный лиризм, таинственность.
– Я такой большой заяц!
Олег улыбнулся двоякому смыслу построенной фразы для выражения слова трусиха, которое она хотела сказать.
– Большой заяц?
Смеющиеся глаза капитана с ног до головы окинули вылепленную по всем канонам искусства художников эпохи Возрождения фигуру женщины, одетую в легкое, застегнутое до подбородка, шелковое одеяние. «В такой поздний час?.. Не на исповедь же», – подумал он.
– Чем могу быть полезен, пани? Я слушаю.
Олег положил пистолет на столик.
Пани Эльжбета, сделав шаг вперед, вдруг охнув, стала медленно оседать на пол. Никифоров инстинктивно подхватил ее под руки, почувствовав ладонями горячее колыхание упругих, налитых здоровьем, женских грудей. Мгновение постояв в нерешительности, приподнял обмякшую женщину и осторожно попытался перенести ее на кровать. Кровать жалобно скрипнула.
– Пани! Пани Эльжбета, что с вами?
Нагнувшись над ней, капитан слегка потрепал ее за подбородок. Пани шевельнулась, издав стонущий невнятный звук. Пола кимоно соскользнула с опущенной на пол ноги, бесстыдно оголив ее кричащую красоту. Олег, горестно застонав, схватился за голову. Снова нагнулся над лежащей рембрандовской красавицей и стал трясти за плечи. Пани открыла глаза полные тумана и еще чего-то такого, отчего у Олега ноги в коленях стали ватными и перехватило дыхание.
– Пани Эльжбета, что вам дать? Воды? Лекарство, какое? – нерешительно спросил он.
– Воздух! Мне… дышать! Расстегните… – и опять с тяжелым вздохом закрыла глаза.
Олег, больше повинуясь благородному чувству спасения человека, чем противоборствующему чувству предстоящего обмана, аккуратно расстегнул верхнюю пуговицу-кнопку кимоно. И чуть не ахнул, увидев, как при мощном выдохе у пани расстегнулись две последние пуговицы. Голубой лунный луч из окна, как прожектор высветил под шелком кимоно два спелых яблока необычной величины с дрожащими от неожиданного появления на свет кофейно-коричневыми зернышками сосков и обрисовал все прелести еще довольно-таки молодого женского тела. Еще больше растерявшись и, чувствуя, что лицо и уши наливаются кипятком, Никифоров попытался запахнуть, прикрыть скользящим шелком обнаженное тело. Но трясущиеся от неловкости и злости руки, невольно касались глянцевой белой кожи, что вызывало еще большую беспомощность капитана. Он не услышал топота сапог по лестнице, не увидел вбежавшего Чернеца.
– Товарищ капитан! В санбате немцы!
Словно огромная сила отбросила Никифорова на середину комнаты. Чернец, увидев обнаженную женщину, остолбенел и, пятясь к двери, запинаясь пробормотал:
– Прибежал Уваров… Сысолю убили. Фашисты там…– в санбате. Юля тоже там. Мы внизу… Мы готовы, товарищ капитан, – и исчез в пролете галереи.
Ошарашенный известием, не замечая приподнявшейся с кровати пани, схватив портупею с пистолетом, Олег, сломя голову бросился вслед за Чернецом.
В гостиной на растерянный вид Чернеца никто не обратил внимания. Лишь один Ваня Тамбовский, распихивая по карманам патроны от трофейного вальтера, коротко спросил: «Где капитан?»
-Там с пани, того….
На что Тамбовский процедил сквозь зубы: «Врешь, долговязый. Смотри!» - поднес к лицу Герда увесистый кулак, покрытый, как медвежья лапа, рыжим густым волосом.
Чернец не успел ответить на выпад Ивана Тамбовского, готовым было сорваться с губ обидным криком, как в гостиную вбежал капитан. Он был без фуражки, с растрепанной шевелюрой густых, черных как вороново крыло волос, в расстегнутой до пояса гимнастерке, с пистолетом в одной и портупеей в другой руке. Не обратив ни малейшего внимания на подозрительные взгляды товарищей, скомандовал:
– Старшина Мельник, в штаб! Доложите там обстановку. Остальные, за мной!
И зная, что приказ будет выполнен безо всяких оговорок, выдернул автомат из-за спинки кресла, притолкнутого к нише с бюстом старого пана и пулей вылетел во двор, на ходу одевая портупею.
Один за другим, кто через окно, кто через дверь, разведчики покинули замок.
Глава 4. Погоня. Июнь 1952 года
Ночевали недолго. Эдгар пытался заснуть, но разве можно назвать сном мучительную тягомотину череды коротких провалов в забытьё и мгновенных всплесков сознания после каждого лесного звука: птичьи вскрики, хруст ветвей, всхлипы и завывания. Никифоров вообще не засыпал. Думал. В воспаленных глазах проснувшегося напарника прочитал вопрос: «Что дальше?»
– Все в порядке, партизан. Я тут, пока ты витал в царстве Морфея, лесной чаек сварганил из шиповника. Подзаправимся и в путь.
Горячая кружка отдавала тепло ладоням. Чай поднимал внутри теплую волну, снимал остатки промозглого сна. Размоченный сухарь и пучок черемши утолили голод. Перекусили молча. Молча поднялись, подправили, подтянули веревочки и ремешки. Попрыгали, проверили на звук свою сиротскую амуницию. У Эдика чуть звякнула в наволочке ложка о кружку. Он тут же быстро замотал их по отдельности в портянку и снова тщательно уложил в наволочку. Его тощая, высокая нескладная фигура на фоне голубого лесного тумана смотрелась, как прыгающий неестественных размеров кузнечик в театре теней. Солнце зацепило верхнюю кромку тумана и позолотило верхушки сосен.
– Идешь вслед за мной. Не отставай! До полудня надо пропахать около двадцати километров, – скомандовал Никифоров и, чуть ссутулившись и выставив левое плечо, пошел вперед.
День обещал быть теплым и не ветреным. Начали шустрить стрекозы. Туман рассеялся, открыл берег, и лишь его длинная ватная полоска тянулась вдоль излучины. Свернули в чашу леса и по тропинке, вытоптанной зверьем, вдруг вышли на участок редколесья, далеко просматривавшегося впереди. Прибавили ходу, почти, побежали.
От легкого бега Эдику стало комфортнее – отстали мошка и комары, укусы которых тяжело переносил. Минут через десять бег стал пыткой. Сердце выпрыгивало из груди, пот заливал глаза, воздух накалился и сушил глотку.
– Терпи, партизан. Еще чуток, – Никифоров, оборачиваясь, подбадривал Эдика, чувствуя, что сам потихоньку сдает.
Раскаленный шар солнца медленно поднимался, похохатывая (???) над бегущими.
Но длинная коса редколесья уже кончалась. Впереди густел спасительный ельник.
Отдых был до невозможности коротким. Эдику казалось, что тело ему неподвластно, что оно органически слилось с мягкой периной бледно-зеленого мшаника и жадно пьет его живительную прохладу. Пировавшие комары и мошка уже не замечались.
– Думаю, если нас попытаются перехватить, то ближайший пост уже недалеко.
Старуха говорил, что рядом с триангуляционной вышкой на пост можно нарваться. Это отсюда километров шесть-семь.
– Да, но Старуха с Кишкой попались, когда шли в сторону Гари. Мы туда же идем?! Это же крышка! Их здесь хлопнули.
Эдик вскочил, возбужденно замахал руками. И куда делась его усталость.
– Вы же знаете, что Старуха чудом выжил. Измазал себя кровью из раны, и притворился убитым. Говорят, терпел почти сутки соседство с мертвым Кишкой, пока не прилетела комиссия из Сосьвы. Он им навстречу и поднялся живым. Тут у них и козыри биты – при комиссии не пристрелишь. Живой остался, а нас не пощадят.
– Тише, партизан! Надо быть хитрее. Они наверняка выловили нашу лодчонку и бросились в тайгу, а не вниз по реке. Там же, думаю, и расставили свои основные посты. Людей у них п
АЛЕКСЕЙ КАМРАТОВ.
МИР НАД БЕЗДНОЙ
Роман
Книга первая «Бесы-кони»
Оглавление
О книге и авторе
Пролог
Глава 1. Побег. Июнь 1952
Глава 2. Встреча. Сентябрь 1969
Глава 3. Замок. Май 1945 года
Глава 4. Погоня. Июнь 1952 года
Глава 5. Мачеха. Октябрь 1969 года
Глава 6. Нападение. Май 1945 года
Глава 7. Расстрел. Июнь 1952 года
Глава 8. Правда. Октябрь 1969 года
Глава 9. Обман. Июнь 1945 года
Глава 10. Гари. Июль 1952 года
Глава 11. Исповедь. Октябрь 1969 года
Глава 12. Расписка. Июнь 1945 года
Глава 13. Зеленогорск. Октябрь 1969 года
Глава 14. Ленинград. 1946–1949 годы
Глава 15. Сибирь. 1953–1969 годы
Глава 16. Сестрорецк. Октябрь 1969 года
Глава 17. Разведка. Ноябрь 1944 года
Глава 18. Эпиграф. Октябрь 1969 года
Эпилог
Примечания
О книге и авторе
Предложение от Алексея Камратова прочитать его роман и написать на него рецензию меня немного смутило - не по литературной мы с ним части. Мы больше с ним специалисты по нефте и газотрубопроводам, да обустройствам месторождений и строительствам новых городов, а тут вдруг роман. Но прочитав присланную мне первую книгу "Бесы-кони" ещё не оконченного романа, я решил написать к ней предисловие.
О книге. Я солидарен с редактором Ольгой Пьяных в кратком описании первой книги «Бесы-кони», но не всего романа с условным названием «Мир над бездной», а именно: « Действие первой книги романа охватывает период конца Великой Отечественной войны, годы послевоенных репрессий и 70-е гг. XX века. Автор делает попытку показать напряженную внутреннюю жизнь героев, двух поколений отцов и детей. Запутанные нити человеческих отношений ведут к переосмыслению совершенных поступков. На примере главного героя капитана Никифорова можно оценить величие души человека, испытавшего радость любви и горечь потерь близких людей. Ни жестокость военного лихолетья, ни суровые дни, проведенные в Севураллаге, ни предательство не смогли сломать его личность». Далее – во второй книге «Судьба олигарха» три поколения героев романа вместе идут через испытание тяжелым временем перестройки страны и к сожалению не все его проходят... Уходит романтика из сознания молодёжи, ломаются характеры людей, пышным букетом расцветает бандитизм, национализм, коррупция и соответствующие этому злу последствия в государственном масштабе.
Сегодня мы говорим о книге ещё не всем знакомой, но уже достаточно известной в узких кругах читателей. Книга «Бесы-кони» была прочитана в электронном варианте членами «Российского читательского клуба» и рекомендована к изданию. Я приведу несколько из двухсот с лишним комментариев тех читателей, которые голосовали за издание книги. Думаю, их мнение о книге будет интересно будущим читателям. Стилистику и орфографию комментариев я не исправлял, фамилии авторов из этических соображений не указываю.
- «Читается на одном дыхании, легко. Она не просто интересна, но безусловно нужна и полезна. После прочтения первой книги «Бесы-кони» появляется желание прочитать её продолжение вторую книгу «Судьба олигарха». На мой взгляд, автору удалось заинтересовать, зацепить читателя за живое, а это главное».
- «Реальность военных событий. Без прикрас, но описаны жизненно. Язык повествования прост, но красочен. Мне понравилось».
- «По историям людей, проживших такую жизнь, по событиям, которые так интересны, можно фильмы снимать. Сопереживаешь за прошедшее время, которое отдаёт людям важные моменты, чтобы помнить и понять, как всё это было!»
- «Прочитал книгу - понравилась. Что-то есть такое, что заставило поверить в написанное. Для старшего поколения будет интересно».
- «Понравилось, читается "на одном дыхании". Интересно, читая проникаешься в суть происходящего, а это многого стоит. Хочу купить эту книгу, она должна быть. Спасибо»
- « Книга видится глубокой по содержанию, читается легко, язык прост, события узнаваемы! Узнала также новые слова жаргонного сленга, что тоже хорошо, так как и в жизни встречаются такие слова. Надо знать, не для употребления естественно. Название у книги тоже хорошее! Благодарю за прочтение книги»
- «Это не просто роман - это наша история... Книга достойна грифа "Лучшие книги России"!»
- «Читая, не замечаешь лишнего, не спотыкаешься, а скользишь и скользишь за героями и боишься, что скоро конец книги, а хочется ещё читать...»
- «Мне так понравилась эта книга, что я прочла ее в запой. Не отрываясь. С тех самых пор я с книгой не расстаюсь – переписала на диск. Я к чему все это говорю. У моего поколения совсем иные взгляды и понимание жизни по сравнению с прошлым поколением. Предки выросли с Достоевским и Чеховым. А сейчас, зайди в книжный магазин: Детективы, Боевики, Секс и т.д.»
- «Хочу заметить, что книгу А.Г. Камратова многие друзья автора читали задолго до выставления её в Интернете. В том числе и я. Эту книгу прочитала два года назад, и она мне очень понравилась. Читала с большим интересом и очень хотела продолжения романа: интересны судьбы людей, воевавших, столько перенесших в годы войны, и нелегкие повороты в их судьбе уже в мирное время. В книге подняты вопросы порядочности, чести, совести. А какая линия любви: настоящей, прошедшей непростой путь. Эту книгу хочется перечитывать. И так интересно, что будет дальше, как сложится жизнь героев романа. Хочется иметь эту книгу в своей домашней библиотеке».
- «Очень хороший, сочный русский язык, да и сюжет не тривиален. С удовольствием куплю эту книгу».
Далее, как говорится, мои комментарии излишни. Я буду говорить об авторе. Человек, проживший на Тюменском Севере год-два и, не выдержав суровых условий, уезжал, больше туда не возвращался. Выдержавший три года - оставался на всю жизнь. Только сильные люди обустраивали Север Западной Сибири. Одним из них и был Алексей Камратов - сначала простой инженер-геофизик, сейсмик, ходящий по профилям на нефтеносных площадях под Нижневартовском. (Ходить по профилям - это равносильно походу в тыл противника напрямую, не взирая на болота, мошкару, или сорокаградусный мороз.) Затем, как строитель-трубопроводчик, обустраивал нефтегазоносные месторождения крайнего Севера и там с ноля построил города: Ноябрьск, Муравленко и Губкинский. Алексей Григорьевич в последней своей должности директора Ноябрьского отделения Дирекции по строительству трубопроводов и наземных сооружений Западной Сибири в системе Миннефтегазстроя уделял много внимания стороне социального и культурного развития населения. Сам активно участвовал в литературных семинарах Тюменской области, а в Новосибирске вместе с братьями Г. и А. Заволокиными создал коллектив "Играй гармонь". В разгар перестройки переехал в Москву и, невзирая на тяжелые условия разгосударствления министерских структур, продолжал вести свою творческую работу, параллельно создавая производственные и общественные предприятия нового государственного направления. Будучи членом комиссии по проблемам устойчивого развития России при ГД ФС РФ, создал в Новосибирске Финансово-промышленную группу "Сибирь". В 2003 году по просьбе депутата Государственной Думы Героя социалистического труда академика РАН Залиханова М.Ч. переехал работать в Москву, где был избран Председателем Правления ПО "Народный Союз", который и возглавляет по сей день.
Я желаю Алексею успехов и новых творческих удач.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.Шмаль
Пролог
«Газик» летел по бетонке, рассекая чахлую поросль сосняка, торчавшую вкривь и вкось из бугристого мшаника, стлавшегося по обочинам. Казалось, сосенки-уродцы штрихами пытались зачеркнуть все, что росло, цвело и дышало на убогой северной земле. Квадраты бетонки – серые плиты, уложенные на корку вечной мерзлоты, льдинами скользили под колеса.
– Вадик, быстрее. Поднажми еще. Опоздаем ведь, якуня-ваня.
Бородатый Вадик, в профиль, напоминавший Хемингуэя, хмыкнув что-то неопределенное, прибавил газу. Стрелка спидометра подкатила к девяноста километрам. Впереди замаячила платформа «Урагана», загородившая более половины дороги. Ещё был день, но быстрая полярная ночь уже гасила его. Плохая видимость размазывала силуэт впереди идущей машины. Вадик, не сбавляя скорости, пошел на обгон, и …перед глазами выросла тупая морда «Татры». В голове мгновенно отреагировало: «Влево!», а руки автоматически продолжили поворот руля, начатый при обгоне. «Татра» врезалась в правый угол кабины, где сидел пассажир.
Через полтора часа после катастрофы бригада шоферов «Урагана» привезла пострадавших в больницу заполярного городка. Шофер сейсмопартии Бубич с несколькими сложными переломами, находился в бессознательном состоянии. Пассажир – пожилой мужчина, был мертв. Единственным документом, подтверждающим его личность, была радиограмма на имя Никифорова Олега Алексеевича. Дежурный врач, принимавший пострадавших, прочитав текст, помотал головой и сказал сестре-хозяйке тете Даше, аккуратно складывавшей вещи принятых людей:
– Не повезло этому Никифорову. Жену с сыном нашел, а сам. До чего же неблагодарна судьба человеческая.
Глава 1. Побег. Июнь 1952 года
Мокрая трава и низкие ветки черемухи хлестали по лицу, цеплялись за ватник и кирзовые сапоги, если можно так назвать подвязанные к кирзовым голенищам плетеные из лыка полубашмаки, полулапти.
– Еще чуть-чуть, Эдик. Осторожней! Толкни правее. Стоп!
Впереди открылась узкая полоска воды. Ветки черемухи и ивняка ласково касались ее быстротечной глади. Река делала крутой поворот и, оттолкнувшись от противоположного берега, стремительно убегала за мыс. Боны*, ограждавшие запретную зону со стороны реки, трехкилометровым пунктиром убегали вниз по течению и терялись за последней охранной вышкой. Правая вышка пряталась в верховье реки за поворотом. С неё часовой не мог видеть этот небольшой участок прибрежной полоски, заросшей кустами. Вот именно с этого пятачка – своеобразной мертвой зоны для обзора, и решили выскочить на вольную стремнину бывший дивизионный разведчик капитан Никифоров – зэк под номером 426412, и двадцатилетний доходяга Эдик Роост – по делу значившийся пособником фашистов и врагом народа.
Лето набирало силу, и побег в такое время по лесам и открывшимся болотам Северного Урала здравомыслящие зэки и энкавэдешники считали сумасшествием. На это и рассчитывал Никифоров. В прошлом году, когда бешеное половодье где-то в верхах у слияния Сосьвы и Лозьвы смыло и выбросило в сплав несколько штабелей заготовленной древесины, Никифоров вместе с бригадой стояли на разборе затора и выручали молевой* лес, загоняя его в боновое заграждение. Там, эквилибрируя на бревнах и растаскивая их багром, он и заметил перевернутую долбленку, прижатую двумя сосновыми баланами* к мысу на повороте. Баланы пустил по течению, а долбленку аккуратно завел под кусты и застопорил между двух коряг. Через пару дней, когда на бирже – огромной, тянущейся вдоль реки лесоперерабатывающей промзоне, страсти с разборкой заторов поутихли, лодка была вытащена на берег. Затем, замаскированная под старую колоду, надежно спрятана в кустах. Год с лишним Никифоров и Эдик готовились к побегу.
Терять было нечего. У обоих по двадцать пять с прицепом, поражением в правах и прочими атрибутами уголовной аттестации. Один – изменник Родины, враг народа, другой – фашистский выкормыш, как называл его хозяин зоны майор Хорев. Никто не возмущался. Для многих обитателей Севураллага подобная характеристика была обычной. И саму зону называли фашисткой, хотя и была она чуть разбавлена и ворами*, и суками*, насмерть воевавшими друг с другом. Для всех людей, живущих на воле вне зоны, дальнейшая судьба всех эти зэков всё равно была предрешена – рано или поздно «на тот свет». Только сами зэки думали по-другому. Олегу Никифорову – бывшему боевому капитану разведчику, шел 33-й год от рождения, зэку № 426412 шел шестой год срока. Доходяге Эдику, по документам Эдгару, – сыну бывшего обкомовского работника из Белоруссии, эстонцу по национальности, мальчишке по общему развитию и мужчине по лагерному опыту – седьмой год зоны давался легче, чем предыдущие, – появилась надежда. Она пришла в лице угловатого, мрачного мужика, с которым он встретился у лепилы – лагерного фельдшера. Это было в декабре. Стояли страшные морозы. Раскатывать с берега штабеля бревен и вязать из них плоты на льду реки, которую как трубу, продувал пронизывающий ветер, редко кому было под силу. Бригада, в которой работал Эдгар, из-за невыполнения нормы выработки за вчерашний день, сегодня сидела на пониженной пайке – двести грамм черняшки* и баланда, типа кипятка, сдобренного двумя крупинками перловки. Бригада ходила под отдельный конвой. Баланду варил бригадный повар – шестерка* Карзубого. Сам Карзубый на работу не ходил, был в законе, но дружил с нарядчиком* и бугром* и регулярно отмечался в табеле по выходу. Бригаде повар варил из кислой капусты щи, в которых хоть нос полощи, но ничего не вынюхаешь и не выловишь, а бугру с двумя его шестерками жарил картошечку на тех самых жалких граммах постного масла всей дневной нормы бригады. Мужики не трепыхались, имели горький опыт. Однажды один из «фашистов» плеснул баландой бригадиру в морду, и уже где-то перед съемом, этот герой-«фашист» был раздавлен огромным баланом, нечаянно сорвавшимся с торца штабеля.
Мороз, голод, сволочная жизнь толкали слабовольных людей на помойку. Они выпрашивали на кухне объедки, картофельную шелуху, с риском получить пинка рылись в бочках с отходами, приготовленными для дальнейшей отправки свиньям лагерного начальства. И, конечно, догладывали кости поселковых собак, случайно забежавших в зону работ, пойманных и съеденных избранным блатным обществом.
Другие шли в «шестерки» к блатным. Третьи зарабатывали педерастией. Эдик нашел другой выход. Положив на сосновый горб бревна левую руку, примерился и хладнокровно рубанул топором. Пять скрюченных пальцев остались судорожно впиваться в бурую кору старой сосны. Подойдя к гревшимся у костра на берегу конвойным, Эдик показал им перетянутую проволокой кровоточащую культю и попросил отправить его в жилую зону. Ответ сержанта – начальника конвоя (молодого вологодского парня) был естественным и совсем не неожиданным: «Пшел, гад, пока пулю не схлопотал!». И чтобы не было сомнений, передернул затвор автомата. Затем дал команду охране уменьшить площадь охраняемого объекта, и часовые переставили два березовых кола – условную линию охраны – с берега на запорошенный снегом лед реки. Костер, у которого грелись зэки, в основном бригадир с шестерками, остался вне зоны охраны. А это означало, что оставшиеся до съема полтора часа у бригады не будет костра. Шестерки били Эдика недолго, но этого было достаточно. Вечером в полубессознательном состоянии парня притащили в медбарак к фельдшеру. Федор Федорович – зэк со стажем, из тех интеллигентов-марксистов, которых в тридцатых годах пачками отправляли по дальним командировкам или в небытие. Свое дело знал отлично. Хирург, московский профессор был лепилой экстра класса. Правда, лейтенант медицинской службы, начальник медчасти лагеря, человек, так сказать отсидевший войну в лагерях и даже имевший за это какие-то правительственные награды, делал Федору Федоровичу изредка замечания и давал советы. Но это бывало, когда он выходил из очередного запоя и все претензии в основном относил к непомерному расходу лекарств, бинтов и особенно спирта, которым гражданин начальник сам чрезмерно баловался и угощал друзей из лагерного начальства. Когда принесли Эдика, Профессор (так звали Федора Федоровича все зэки и охрана лагеря) делал перевязку Никифорову. Военная рана давала о себе знать и от непосильного физического труда иногда открывалась. Опытный хирург удивлялся и искренне радовался за своих коллег-хирургов, сделавших Никифорову такую неординарную операцию. Немногословный заключенный был ему симпатичен, и он часто приглашал его на осмотр. Грязь и кровь лагерей, мерзость и унижения не размазали по годам, не убили человеческое начало в сердце Федора Федоровича. Его смешная беленькая бородка, добрые глаза и детские веснушки на носу внушали доверие. Молчаливо, не обременяя друг друга вопросами, эти два человека знали что-то такое про каждого, что дано знать только сильным людям, перешедшим на фронте грань земного общения.
Выставив из комнатушки мужиков, хлопотавших над Эдиком, Профессор попросил Никифорова остаться и помочь ему в перевязке парня. Как и что делали с ним эти люди, что и о чем они говорили – Эдик отчетливо не помнил. Но главное – он не попал в карцер за членовредительство.
Через три дня он был переведен на биржу в бригаду, где каталем* работал Никифоров. И до тех пор пока не зажила культя, работал на легком труде: убирал с эстакады хвойный лапник, древесный мусор и опилы, складировал в штабеля отроны – обрезки веток и верхушек стволов. К сильному и мрачному каталю Эдик привязался крепко по-сыновьи и называл его только по имени и отчеству. Блатная хартия, да и все мужики на зоне звали Никифорова Мурым. Мурый – сам себе на уме, хитрый, хмурый, тяжелый по характеру человек. Это погоняло* он привез с собой с пересылки, а также еще и славу мужика, которого трогать не безопасно. Таких в зоне называли: «сам по себе» или «ломом подпоясанный».
И вот теперь они вдвоем выталкивают лодку из схрона. Все обговорено, все подготовлено. Окончательную подготовку провели месяца за четыре – где-то с конца февраля, когда Эдик снял руку с перевязи и мог использовать ее в работе. Отстругали весло-правило и шест. Вещички и харч собирали потихоньку, незаметно от пронырливых глаз стукачей. Никифоров за шерстяные, домашней вязки носки выменял у каптера кусок рваной полосатой шторы – якобы на портянки, и обрывок красного ситца – остаток какого-то транспаранта – якобы на перевязь для культи. У этого рябого красномордого каптера достать можно было все: от иголки до бального платья. Но шмотки, которые крутились и игрались в карты, были уже мечеными, и простая покупка или их обмен на что-то сразу же станут известны лагерному оперу*. Никифоров не хотел рисковать, и сам выкроил и сшил юбку с косынкой. Весь камуфляж вблизи смотрелся смешно и наивно, на расстоянии, переодетый в эти тряпки Эдик, мог сойти за вполне приличную девушку, возвращающуюся с покоса.
В лодку положили мешочек с харчами, топор, багор с коротким багровищем, крепкую веревку. Все это завалили большой охапкой душистого сена. Никифоров достал из-за голенища тряпицу, развернул и показал содержимое Эдику.
– Смотри! Фронтовые. Раненный летчик в госпитале подарил. Берегу. Теперь пригодятся.
На широкой ладони зайчиком блеснул циферблат штурманских часов.
– Вот здорово! Алексеич, дак они с компасом!
– Точно. И водозащитные.
Аккуратно завернул часы в тряпицу и положил снова за голенище сапога.
– Теперь пора. Дневная проверка кончилась. Карточки с биржи унесли. Ну, брат, подвязывай свои атрибуты.
Лодка уже нетерпеливо покачивалась, норовясь носом выдвинуться на стремнину. Никифоров крепко держал ее за корму. Эдик, веером разложив юбку на коленях, тщательно умостился на носу очень неустойчивой лодки. Поправил парик с сивой косой, сплетенной из пересохшей травы, и надвинул на глаза красную косынку. Никифоров, ловко усевшись на корму, оттолкнулся от коряги и скомандовал: «Запевай!»
Лодка стремительно вынырнула из кустов на стремнину. Эдик запел звонким, чуть хрипловатым голосом, что для многих, курящих в те времена женщин – было почти естественным тембром:
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
И грустную песню заводит –
О Родине что-то поет.
Лодка выплыла из-за поворота и под противоположным крутым берегом покатила вниз, глубоко оседая под весом людей и небольшой копенки сена, распустившей свои пряди вдоль бортов по иссиня черной воде. Слева проплывала настороженная биржа, ее инвалидные эстакады, неподъемные для багров штабеля, убогое оборудование и вышки, вышки. Со стороны реки, работавшие на эстакадах люди, уже казались чужими и далекими. Все уплывало за корму. Приближалась последняя, нависшая над рекой, угловая вышка. Метров двадцать, а может быть чуть меньше, отделяло лодку от вышки, когда Никифоров, предупреждая интерес часового, рупором приставив руки ко рту, закричал:
– Петрунько, это не ты там кемаришь?!
Он знал из рассказов зэков, что есть в роте охраны сержант Петрунько, который получил недавно отпускные за убитого на лесоповале побегушника.
– Приходи в гости сегодня! Мы с Нинкой бражку завели! Это я – Андрей Семин!
Семин был одним из вольнонаемных мастеров: сквалыга и стукач, бывший гэпэушник, проштрафившийся перед войной и сосланный на вольные хлеба в эти не столь отдаленные места. С вышки ответил голос на высокой певучей ноте с азиатским акцентом:
– Валяй, валяй! Пей свой бражка с Нинка! Я не Петрунька! Валяй, валяй!
Последние слова часового уже остались позади, эхом отразившиеся от противоположного крутого лесного берега. Незаметно проплыли мимо пристани, у которой на приколе стоял сломанный катер-буксир. Промелькнули дома поселка, клином уходящие вдоль оврага в лесную глухомань. Приближалась отдельная точка, на которой работала бывшая бригада Эдика. Там часовые сидели на берегу реки и внимательно следили, чтобы зэки, работавшие на разборке костра – в кучу свалившегося под берег штабеля пиловочника, не умыкнули под боны- брёвна, ограничивающие охранную зону на реке. Беглецов спасало то, что они уже прошли основной участок – биржу, и могли следовать по реке, как жители поселка. А что до телогреек, то их носили все: и вольные, и зэки. Да, и у Эдика, вдруг, прорезался голос. Он запел какие-то залихватские частушки на белорусском языке. За что удостоился благожелательного прощального жеста автоматчика, стоявшего на обрыве берега. И все. Дальше вставали глухие стены берегов, заросшие густыми хвойными и смешанными лесами. Впереди была суровая и неподкупная тайга.
Никифоров разработал маршрут движения до самых мелочей. Первый рывок на пятьдесят километров по течению реки они должны были сделать за четыре часа – время до съема с работы и вечерней проверки на бирже по карточкам. Далее – в протоке топят лодку и, резко свернув влево, уходят в сторону поселка Гари. Карта, которую Никифоров в течение последних двух лет мысленно составил себе со слов вольнонаемных приемщиков леса и мастеров, и зэков, уже ходивших в бега, стояла в глазах и как бы дразнила наименованиями незнакомого жилья – оплота Севураллага: Сосьва, Пелым, Киня, Рынта, Туман и, конечно, Гари – поселок с перекрестком путей, ведущих к свободе.
А что такое свобода? Олег не считал себя осужденным, не злился на Родину, так неблагодарно отметившую его за ратные дела на войне. И сейчас он, мысленно разговаривая с собой, думал: «Свобода!? А на фронте она была? Да, была – я мог рвать глотку фашисту. Мог идти под пули, вспоминая маму, крича «За Сталина!». Мог хоронить друзей, ненавидеть трусов, любому перед атакой в глаза сказать самую жестокую правду. Мог. Была свобода совести. Делали общее дело – освобождали Родину. И, вдруг, тупик: холодные стальные глаза, в каждом видим врага, сажаем, расстреливаем. Кого?! Соседа по окопу, брата по оружию? Отца кормильца? Мать, не дождавшуюся сына? За что?! За окопную правду, за благополучие лощеных партийных товарищей и их холуев – тыловых интендантских крыс? За колосок для пухнущего от голода ребенка? И куда?! – В тюрьмы, в лагеря, на лесоповал, на канал, в шахту – могилу под землей…»
Никифоров заскрипел зубами и приглушил стон, невольно вырвавшийся из опаленной жаждой глотки, стон свободы, радость маленькой победы. Улыбнулся удивленному Эдику и подмигнул:
– Выноси хозяйство на берег. Будем, брат партизан, лодку топить.
Немного попрыгали, размяв ноги после четырехчасового сидения в неудобной лодчонке, и замаскировав следы выхода на берег, ходко двинулись на запад. Первый привал и первый костер организовали глубокой ночью в пещерке под нависшими корнями почти падающего в овраг старого кедра.
Июнь, июль – на северном Урале самое неудобное для лагерных побегов время.
Болота разморозились – не пройдешь. Клюквы зимней уже нет, летняя ягода еще не поспела. Дичь пуглива и голодна. Уголовникам для побегов – был не сезон. Никифоров не был уголовником, он был профессионалом разведчиком. Он шел зная цель и маршрут до неё. Шёл назад к людям со своей правдой. В тоже время он остерегался нелюдей из внутренней охраны, натасканных на убийства безоружных беглецов. Они имели все: оружие, питание, сильные ноги, огромное желание получить внеочередной отпуск домой. И всегда были уверены, что их «дело правое – враг должен быть разбит!» А капитан Никифоров имел только четырехлетний опыт фронтового разведчика, жажду справедливости, и стремление помочь рядом шагавшему мальчишке - доходяге инвалиду.
У маленького костерка, вокруг которого стояла глубокая мохнатая темнота пещерки и на выходе из неё обвисших корневищ кедра, прошла первая на воле трапеза: кружка кипятка с заваренными листьями брусники и по куску твердого, как камень, сухаря. Рядом в малиннике изредка щелкала какая-то птица, вклинивая свои призывы в дальнее уханье совы. Олег лежал навзничь на спине у входа в пещерку, положив под голову руки, и пытался найти на небосводе ту – одну единственную, известную только ему с Юлей звездочку, но тщетно. Густая облачность закрыла небесный купол и давила землю душной предгрозовой прелостью.
– Эдик, постарайся уснуть. В четыре утра пойдем.
– Не могу. Нет, я не боюсь. Пусть застрелят. Я собак боюсь. С детства боюсь. У товарища моего отца были сын Костька и овчарка Джемма. Мы втроем играли и придумали игру в снайперов – кто попадет в нос Джеммы из детского пружинного пистолета палочкой с резиновой нашлепкой на конце. Костька промазал, а я попал. Джемма бросилась на меня и прокусила кисть левой руки. Показал бы, да уже и кисти самой нет. Как вспомню ее злую морду…. Поэтому боюсь собак.
– Вообще-то собаки добрые животные. Хозяева их страшней. А кем был хозяин – друг твоего отца?
Эдик поворочался, поправил телогрейку и тяжело вздохнул:
– Олег Алексеевич, вы, наверно, меня тоже за врага народа считаете? А я ведь в партизанах был. Правда, провалялся всю зиму в землянке с больными легкими. Потом на кухне помогал, письма раненым писал – я ведь чуть-чуть не закончил пятый класс, листовки иногда переписывал. И вообще…. Не враг я и отец мой не фашист. А тот подлец, у которого Костька и Джемма – фашист. Перед войной он управлял делами в областном ГПУ, потом формировал подполье. Через полгода фашисты все подполье расстреляли. Перед приходом Красной армии, снова появился у нас в отряде. Отец посадил его под арест и объявил изменником. Свидетелем предательства того подлеца был наш хлопец, работавший под полицая в городе. Партизанский суд состояться не успел. На отряд навалились регулярные части немецких войск, окружили – и все. Спаслось мало людей. Мамка там тоже погибла. Когда пришли наши, отец вывел остатки отряда из леса. И тут его и меня арестовали. Дескать, мы – немецкие шпионы и отряд специально под разгром подвели. Мы по национальности эстонцы, но всю жизнь прожили в Белоруссии. Отец – старый большевик, прошел всю гражданскую политкомиссаром. Затем по ранению ушел в хозяйственники, стал парторгом мукомольного завода. Был членом обкома. Всю войну партизанил, командовал отрядом…
Эдик поперхнулся дымом от костра, закашлял.
– Проклятый дым. Пробовал в лагере курить, не смог. Слава богу, хоть махорку не пришлось добывать. Вы, Олег Алексеевич, наверное из староверов – тоже не курите.
– Я не старовер. Не курю и все. Считаю глупостью – гробить здоровье за просто так. А вообще то, дыма без огня не бывает. Кто-то же обвинил твоего отца в предательстве?
– Кто? Не поверите. Это падло* удрало из-под ареста во время бомбежки отряда. Драпанул за линию фронта. Сказался героем-подпольщиком. Предъявил свои партийные и прочие ксивы* – сберег же гад! И вошел в город с частями нашей армии в форме майора «Смерша». А хлопчик тот, который был у нас свидетелем его фашистского пособничества, перед приходом наших погиб в перестрелке. Тот падло и его обгадил – назвал полицаем и посмертно вымарал грязью всю его семью. Партизан, оставшихся из состава отряда, по военным частям разбросали. Нас с отцом отконвоировали в город. Слово в защиту отца сказать было некому. Правда, приходил один человек в следственную часть дивизии, стоявшей в городе. До войны он инструктором в комсомоле работал, а в войну в соседней области партизанил. Знал отца по обкому. Обратился к комдиву с просьбой об отце и что-то говорил о нем оправдательное. Ничего не получилось – крутилось военное колесо. Война все списала. Отца расстреляли. Я получил клеймо предателя, а мне тогда и пятнадцати лет не исполнилось. Завернули на полную катушку.
Эдик умолк. Повернулся на бок. Палочкой поворошил угольки в костре. Искорки светлячками порхнули вверх и исчезли.
– Я, Олег Алексеевич, с вами пошел, зная, что есть только один шанс, который я должен использовать. Мне от жизни уже ничего не надо. Я в ней труп. Хочу одного – найти, хоть из-под земли достать этого подлеца и удавить вместе с его Джеммой.
Никифоров молчал. Горечь переполняла его сердце. Казалось, и места ей там уже нет – столько этой горечи было. Казалось, его тягучая смрадность раздавит, задушит плоть, прервет дыхание. Человек смотрел в небо – густое, вязкое, черное и безмерное. Человек искал. И нашел. В правом углу, почти над невидимой линией горизонта, блеснула одна, одна единственная, ни одному человеку на Земле незнакомая его далекая звезда.
Глава 2. Встреча. Сентябрь 1969 года
Чернец осмотрелся вокруг: посетителей в ресторане было немного, но, судя по табличкам с интригующими словами «Стол не обслуживается», понял, что зал будет скоро забит посетителями. Продолжая разговор, издалека начатый Уваровым, ответил:
– Извини, друг, твоя «Святая» или ранний Пикассо мне больше по вкусу, нежели жалкие потуги этого обрусевшего в третьем колене отпрыска немецких бюргеров.
– Не скажите, Герд. У моего молодого друга живая рука, его письмо дышит простотой, а палитра…
– Бросьте. Я ломаного гроша не дал бы за всю его, извините за выражение, мазню.
Сыто откинувшись в кресле, Чернец с улыбкой, так не вязавшейся с аскетическим выражением его лица, добавил:
– Гриша! Уважаемый Григорий Михайлович! Все мы к старости стараемся обзавестись гениальными учениками, дабы, хоть бочком, но пропихнуться за чужой счет в историю земли русской. Не обижайся старина, иллюзии не в моем вкусе. Гениальный художник может создать только свою школу. В нашей стране это невозможно – другие гении не позволят-с.
В минутной паузе, глядя на Чернеца, Уваров вспомнил где-то слышанный афоризм: «Аскетизм, как цель, есть величайшая нелепость, он есть покров ханжи и лицемерия…» А относится ли подобное к нему? – подумал он, продолжая вспоминать цитату. – Нет. «Настоящий аскетизм является к человеку сам собой, как морщины на лбу, как следствие глубочайших переживаний».
– Жизнь покажет – возможно, иль не возможно, уважаемый Герд Васильевич.
– Да, прости. Краем уха слышал в определенных кругах о твоем любовном романе. И как самочка? В теле?
Уваров, поперхнувшись, прикрыл рот салфеткой. От злости на самого себя за дурацкую стеснительность, которая всегда довлела над ним в неожиданных разговорных инсинуациях, на замедленную реакцию противоборства с пошлостью и цинизмом, преподносимых этим лощеным Гердом, этим доморощенным аристократом с повадками гориллы. Он готов был вспылить, закричать, но сдержался. Чернец был нужен ему. Уваров знал, что Герд Чернец – литературный критик «толстого» журнала, высоко котирует художника Уварова в кругу людей искусства. Сам же Уваров с незапамятных времен питал к нему особую неприязнь, но ссоры с ним не хотел. Сегодня он пригласил Чернеца в ресторан на это, так пошло начавшееся, рандеву, по личному делу, как бывшего друга и однополчанина.
– Я знаю, Герд, что ты хочешь сказать.
Уваров, старательно изображая хозяина стола, разлил по рюмкам коньяк и не заметил, что перешел с Гердом на «ты».
– Да, самочка, как ты выразился, – молодая, энергичная женщина, моложе меня на много, до чрезвычайности много лет. Нонсенс? Отнюдь. Моя бывшая жена Юля, Юлия Андреевна, любви которой ты домогался еще в те времена, ничего не имеет против моей новой подруги жизни. Вы, имею в виду общество, тем более не имеете права на осуждение моих личных поступков. Моя жена Вероника – искусствовед, родственная душа моей профессии художника. Наконец…. А впрочем, чем ты не застрахован от подобного альянса? Холост. Импозантен. Достаточно умен. И главное – платежеспособен. Прямо-таки готовая добыча для современных девиц, вскормленных на ниве битломании, романтики стихов Евтушенко и успехов фарма и гинекологии.
Чернец саркастически усмехнулся:
– Зря, Уваров. Я толстокож. Меня не укусишь. Ты в десятки раз платежеспособнее и, в этом плане, заманчивее меня. Что же касается любви, то… помню, когда ты написал и выставил свою картину «Разведка боем», я понял, что потерял Юлю. А что до сексуального своего удовлетворения, в какой бы социальной форме оно не выражалось, то скажу по секрету: я доволен. Давай не будем топтаться в памяти и давить друг другу ноги старыми воспоминаниями. По какому поводу мы здесь: день рождения, смерть ребенка двоюродной сестры или диспут на тему: «Антипатии и их возрастной ценз»? Надеюсь, что-то другое?
– Разумеется.
Уваров, обдумывая выход со своей просьбой, медленно разлил по рюмкам бодрящий напиток солнечной Армении. Неожиданно встал и пошел к оркестру, только что окончившего играть веселую «Летку-еньку». Пошептался с одним из музыкантов – увесистым мужчиной, более похожим на казака времен Стеньки Разина, чем на скрипача, и с внутренним удовлетворением, явно проступившем на его лице, вернулся к столику. Грузно сев в кресло, пробормотал:
– Не умею купчикам подражать. Духу что-ли того – старого, русского не хватает. Дать на «чай» за труд и то не умею.
Оркестр заиграл. Приятный тенор, чуть-чуть с раскатистым еврейским «эр», запел «Смуглянку».
– Твое здоровье!
Уваров выплеснул в рот коньяк, продемонстрировав лихую удаль старого выпивохи, чему Чернец искренне удивился, зная обратное. Вид Уварова: хорошо скроенный серый костюм, без складок облегавший кругленькое тело, темная рубашка и шикарный полосатый галстук – говорил о его более серьезных намерениях чем пьяная вечеринка в ресторане.
«Нет, не зря старый помазок заказал «Смуглянку», любимую песню Юли, пластинку с которой она свято берегла», – подумал Чернец. Безмолвно выпив и, едва для смака надкусив дольку лимона, спросил:
– Что ты хочешь от меня? К чему весь этот фарс, Гриша? Ты ушел от Юли, но продолжаешь играть роль доброго папы? При чем здесь «Смуглянка» через двадцать три года? Или ты по-прежнему считаешь меня участником неблаговидной игры, из которой сам же меня и пнул?
– Нет, Герд.
Уваров всем корпусом поддавшись вперед, как бы принимая вызов противника, четко, по словам продиктовал:
– Ни ты, ни я из этой игры не выйдем по гроб жизни своей. Ты знаешь – свое, я – свое…
И как бы испытывая удовлетворение от высказанного, стал уютно втискиваться маленьким пухлым телом в округлую спинку кресла. «Так умащиваются старенькие хомячки в своих тепленьких норках», – подумал Чернец.
– Олег вырос. В нынешнем году он заканчивает геологоразведочный факультет, а пути господни неисповедимы в нашем Союзе – куда направят, туда и поедет. Кроме этого, ты знаешь, он увлечен литературой. Пишет стихи. Много пишет. Ему надо помочь. Литературные связи – не по моей части. Вот вкратце и все. Последние слова Уварова совпали с высокой финальной нотой, красиво взятой ресторанным певцом.
– Хорошо, Гриша. Я понял. Только хочу кое о чем предупредить – опять же, исходя из наших фронтовых дружеских отношений. Ты знаком с окружением своей пассии? Всё забываю, кажется, ее зовут Вероника. Не так ли?
– Да, и притом, очень хорошо знаком.
– Ни о чем не говорит тебе имя Эдгар? Иногда его называют «Беспалым». Очень интересный товарищ по части импорта-экспорта всего, что плохо лежит в нашей стране.
Уваров, вынырнув из глубины кресла, и приподняв, как дирижер, указательный палец левой руки, четко декларируя каждое слово, ответил:
– Да. В студенческие годы она была знакома с молодым человеком по имени Эдгар – раз. Они давно разошлись и не имеют друг к другу никакого отношения – два. И три – все, что касается Вероники и нашей с ней жизни – моя забота. Пожалуйста, – Уваров сделал насмешливую умоляющую гримасу, – не пекитесь о моем благополучии, товарищи-друзья-однополчане. Я давно вырос из фронтовых пеленок и могу разобраться в людях, – сложив ладошки на груди, он в позе херувима снова утонул в кресле.
– А мы не печемся, Гриша. Твое почти гениальное чело, а где-то частями и тело, постоянно накрывает завеса таинственности. Мое дело – предупредить. Смотри, не перемудри. Я не оправдываю поведение Юлии Андреевны в последние годы. Но ты сам дал ей повод уйти от тебя. Сам отстранил ее от своей жизни. Что касается перспектив вашего сына, мы еще раз обговорим с тобой по телефону. Постараюсь подготовить ему встречу с интересным человеком. Давай в ближайшие дни соберемся у Миткевичей. Заодно, старый шалун, познакомишь нас с молодой женой.
Чернец посмотрел на часы, давая понять, что встреча окончена.
– Мне пора, Гриша. Да, кстати тебе большой привет от Ивана Курского. Объявился курилка. Звонил. Работает в Москве. Но об этом мы обстоятельно поговорим у Миткевичей. - и вышел навстречу, тут же поднявшемуся из-за стола, Уварову, обнял его и, дружески хлопнув по плечу, шепнул на ухо: «Подумай о Беспалом. До встречи».
В распахнутых дверях ресторана Чернец величавым жестом положил в руку швейцара «красненькую» и так же величаво сел в моментально подъехавшую черную «Волгу».
Зеленые бархатные кресла располагали к тихой доверительной беседе. Запотевший бокал шампанского и пирамида мороженого обрамлённая вычурными круглыми башенками из шоколадок, и втиснутая в объемный фужер, поддерживали обстановку солидной красоты и покоя в уютном кафе на Невском. Сведущие ленинградцы говорят, что из-за зеленого цвета интерьера его прозвали «Лягушатником». Эдгар предупредил Веронику, что будет ждать ее в девятнадцать часов в их любимом кафе. Та была пунктуальна и с ходу, не успев еще устроиться за столиком, сказала:
– Мы договорились Эдгар, встречаться только в экстренных случаях. В чем дело?
– Дорогая, не бери меня на понт*. Знаю, что ты уже расписалась с нашим красавцем, но это еще не дает тебе права грубить мне, товарищ Уварова. Через одного моего приятеля из красивого города Талинна пришло экстренное предложение. Кому-то в Южной Америке очень захотелось иметь в своей коллекции картину твоего дражайшего супруга «Святая». Сумма оглашена очень высокая. Что вы на это, мадам, скажите? Понял. Как всегда – не продается.
С восторгом глядя в зеленые глаза, сверкающие на правильном овале лица рыжеволосой красавицы, сошедшей с полотна художника времен эпохи Возрождения, он ласково погладил ее ручку, вернее – лайковую кожу ее белой перчатки, своей правой рукой. Его левая рука – протез, обтянутый черной кожаной перчаткой, лежала на столике и резко контрастировала с перчаткой ее руки.
– Присядь. Выпей шампанского. Пломбир, как видишь – твой любимый. Время у тебя есть. Поговорим, дорогая.
В творческих Союзах художников и писателей СССР давно поговаривали о некой группе скупщиков произведений талантливых мастеров, получивших имя и признание за рубежом. Легально продать за границу свои произведения, уже имевшие широкую огласку и известность на Западе, советским авторам было практически невозможно. Аферы по перепродаже раритетов проводились через изворотливых дельцов, владеющих документами экспертов и оценщиков министерства культуры. Одну из таких групп нелегально организовал в Ленинграде и возглавил Эдгар Роост – человек со средним техническим образованием, по специальности полиграфист, но с неординарными способностями по организации мошеннических сделок и неплохими связями в кругах искусства за рубежом. Правда вопросы, касающиеся связей за кордоном, решал не он, а кто-то из его друзей прибалтийцев. Об этом знали только единицы людей из его узкого круга. Вероника, как специалист-искусствовед, и была одной из лошадок его рабочей конюшни. Еще будучи студенткой института культуры, на первом курсе она познакомилась и вышла замуж за симпатичного парня, энергии и жажде жизни которого позавидовал бы любой человек. Семейной жизнью они наслаждались недолго и на третьем курсе, как говорят – не сойдясь характерами, развелись. Но заложенная за период их совместной жизни, идея, а далее: творческое воплощение этой идеи – перекупка и спекуляция чужими произведениями искусства, жестко контролируемая со стороны преступного мира – продолжала работать. В сферу интересов этой преступной группы и попала картина «Святая». Новой женой не безызвестного автора и была та самая Вероника: красивая рыжеволосая женщина – любительница мороженого с шампанским вином.
Глава 3. Замок. Май 1945 года
Один из многих, разбросанных по всей Польше старинных замков, милым гнездышком прилепился к откосу высокого холма, густо заросшего древними вязами, кустарником и другой всевозможной растительностью, которая цвела и благоуха на благодатной земле. Буйство, разнообразие красок радовало и удивляло. Заканчивалась весна 1945 года.
Капитан Никифоров, стройный, черноволосый парубок, как его с любовью называли украинские девчата, сбросив гимнастерку, босиком, до колен засучив штаны, гонял голубей на крыше деревянной пристройки, и по-разбойничьи свистя, неистово крутил над головой шестом – погонялой.
Бабка Ядзя – старая служанка пана управляющего, сбежавшего с фашистами куда-то на запад, искоса поглядывая на русского взбалмошного пана офицера, общипывала здоровенного гуся, которого, как сказал старшина Мельник «вбыло шальной пулей». А пули уже с неделю не тревожили это божественное местечко.
Подставляя ладони, шириной с лопату, под струи родниковой, обжигающе холодной воды, бившей ключом из недр холма и сбегавшей во двор замка по замшелому деревянному желобу-колоде, старшина Мельник степенно, не проливая ни капли, разливал жгучую влагу по волосатой ширококостной груди и крестясь громко крякал от удовольствия. На что бабка Ядзя реагировала по-своему, повторяя после очередного кряканья старшины:
– Матка боска, Езус Мария! – и возмущенно притопывала ногой.
Из узенького окна-бойницы за мальчишеским занятием русского капитана наблюдала пани Эльжбета, урожденная Белевич. Хозяйка замка – она категорически отказалась покинуть его до прихода Советской Армии, несмотря на упорные уговоры оберста Думке, квартировавшего здесь со своей частью. Оберст не тщился надеждами уговорить благородную пани и брал у нее почти все, чем может отблагодарить женщина истосковавшегося по женским утехам солдата. В течение полутора месяцев пани ежедневно принимала в своей постели казенные нежности полудряхлого, слюнявого медвежонка Вили, как он рекомендовал себя называть – просто, по-семейному. Отвращения к нему не было. Была пустота, глупая потеря драгоценных минут жизни. А пани Эльжбета их очень ценила и в свои тридцать восемь лет выглядела недурно. Так, по крайней мере, ей казалось самой. Бурную молодость она не брала в счет. А зря. Тихие морщинки уже заметно тронули ее дебелое тело, въелась дряхлая желтизна в кожу лица. Но не об этом думала пани. Во дворе, гоняя голубей, бегая по крыше, весело хохотал жизнерадостный (ах, какой темперамент!) молодой, красивый пан офицер. Игривые мысли пани спутала медсестра Юлька. «Солдатская пробка» – так ее по злой женской ревности мысленно окрестила родовитая пани. Девушка подбежала к пристройке и, что-то весело крича, призывно махнула капитану рукой. Тот, отложив шест и прихватив гимнастерку, портупею с пистолетом и сапоги, лихо прыгнул с крыши в стожок сена, скатившись под ноги хохочущей девушке. Юля протянула ему обе руки, предлагая в помощь всю свою девичью юную красоту и такую солнечную улыбку, от которой даже просветлело морщинистое, как печеное яблоко, лицо бабки Ядзи.
Когда молодые люди, убегая наперегонки, скрылись в зарослях орешника, невидимая иголочка пронзила сердце пани Эльжбеты и застряла ноющей, не отдающей себе отчета сладко болью под пышной, вдруг глубоко вздохнувшей грудью.
В просторной гостиной, обставленной старинной темной резной мебелью и увешанной рогатыми головами оленей, отдыхали трое: Гриша Пузырь, герр Долговязый (так ротные шутники звали молодых разведчиков Уварова и Чернеца за их комплекцию и за странное имя второго – Герд) и младший сержант Богомолов. Первые двое уже не считались новичками в военном деле, но желание подробнее узнать, запечатлеть в памяти боевые эпизоды, делало их благодарными слушателями. Постоянным лектором был, угощавший немцев по своему рецепту, как он выражался – свинцовыми котлетами «по-сталинградски» и «по-курски», пензяк из крестьян, балагур и острослов, хитрющий разведчик Богомолов. О себе он говорил так: «Моя фамилия русская, а вон у фрицев на пузе написано «Gott mit uns» – бог, мол, с ними, а я им всю войну втолковываю: не с вами, а со мной – по родству, чай, фамилия выдана. Они, все одно, не согласные. Бог мой, я с них за войну столько шкур спустил, а они мою ни единой пулей не царапнули. Чай, и думай теперь – с кем Бог?». А когда кому-либо надоедали его побасенки или рассказы, сочиненные на трудных дорогах военных будней, Яков Богомолов отшучивался: «Лапша наша, уши ваши – хоть на ус мотай, хоть на уши вяжи, хоть до зорь слушай, а хоть за ложь скушай». И молчали неискушенные новички и посмеивались бывалые солдаты. Звали его все по-родственному, как зовут близких: кумовьев, сватов на русской деревне – Богомолыч. А Гриша и Герд или Гера, как звали его многие, перекраивая имя на русский манер, не расставались с карандашами и блокнотами. Первый перерисовал туда всех ребят из группы разведки, второй описал все пути-дороги, пройденные дивизией. Оба были внештатными военкорами дивизионной газеты «За Родину». Особое место в их рисунках и записях и, конечно, в душе занимала Юлечка Семенова – милая медсестричка из санбата, полюбившая их командира капитана Никифорова. Как они ему завидовали! Двадцатилетние парни мечтали о поступлении в художественное училище и в университет, а капитан перед войной уже окончил горный институт. Они боготворили легкую, как бабочка, веселую Юлечку, а он заставил капитулировать ее сердце окончательно и бесповоротно. Как они ему завидовали.
– Скажи, Богомолыч, а действительно под Пятихаткой наш кэп заставил гитлеровского танкиста в немецкую самоходку шарахнуть? – спросил Гриша, увидев убегающих в орешник Юлечку и капитана.
Богомолов улыбнулся, подняв вверх указательный, прокуренный до черноты, палец, как знак высшей правды своих слов:
– Когда Колю Панова, он у тогдашнего старшего лейтенанта Никифорова на связи был, убили эти свинячьи выблядки, наш командир для ориентиру в обстановке сам пополз к соседям. А кругом! Боже праведный! Это теперь я аду не боюсь, повидал: и как живьем людей жарят, и как на кусочки рвут.
Многозначительно приподняв лохматую бровь, языком аккуратно подклеив клочок газеты с рассыпающейся у конца махорочной закрутки, продолжил:
– А с танками было просто. Их там кишмя кишело: где наш, где ихний – хрен разберешь. Командир-то, выскочив из овражка, где мы остались впятером, успел нырнуть под колючку и прямо-таки грудями в «Тигра» уперся. Ну, чай так, держи приветик – и под брюхо этой гадине гранату. Да, видать, угодил в самый пупок. «Тигр» круть на месте и, со злости чай, своей же самоходке и врезал. А когда энта шантрапа из дырявой банки выпрыгивать стала…
Богомолыч на полуслове резко оборвал свой рассказ. Совсем близко в орешнике, куда ушли капитан с девушкой, щелкнул пистолетный выстрел, другой и застрекотал «шмайсер».
Чернец, не раздумывая выскочил в настежь открытое окно. Уваров, вытаскивая автомат из-за широкого резного полукресла – полутрона, немного замешкался. Он выбежал вслед за Богомолычем, который зигзагами уже перебегал обширный двор, на ходу вставляя диск с патронами в свой старенький ППШ.
К орешнику со всех сторон бежали и старшина Мельник, и трое Иванов, в нательных рубашках выскочившие из-под амбарного навеса, где отдыхали после ночного патрулирования. Осторожно, цепью окружили заросшую первыми ромашками поляну. У неглубокой старой воронки под кустом шиповника на корточках сидел капитан и обыскивал распластанного на земле мужчину. Обросший густой щетиной человек в штатской одежде на первый взгляд не был похож на военного. Только «шмайсер», лежащий под правой рукой, наводил на эту мысль. Юлечки рядом с капитаном не было. Вытащив из подкладки френча убитого человека бумажку серого цвета, Никифоров пошевелил губами, а затем прочитал вслух:
– СС «Викинг», – чуть подумав, продолжил: – Эк, куда занесло герра Шульце!
Приподнявшись, отряхивая с колен прилипшие комочки дерна и сухие стебли прошлогодней травы, добавил:
– А переодевался-то зачем? Чего боялся? – и, уже обращаясь ко всем разведчикам, окружившим его плотным кольцом, улыбнулся: – Все в порядке хлопцы. Одного не пойму – зачем он шел за мной от самого санбата. Я его еще триста метров назад заметил, думал – местный кто. Окликнул. А он в кусты прыг и автомат из-под полы френча тянет. К стыду своему сознаюсь – не хотел я его убивать – Победа всё-таки. Нарочно первым выстрелом в галок шуганул. А он очередью огрызнулся. Ну, и вот… Земсков, помоги старшине Мельникову убрать его, куда-нибудь с глаз подальше.
Как-будто ничего не произошло, капитан Никифоров направился к замку, насвистывая любимую мелодию «Смуглянки».
Пятый день отдыхали ребята Никифорова – особая группа дивизионной разведки. Ни приказов, ни вызовов. Пятый день ждали заветного приказа – домой. Война кончилась. Каждый мысленно жил завтрашним днем. До ближайшего командного пункта, расквартированного в небольшом городке, по размытой паводком проселочной дороге было километров десять. В двадцати минутах хода от замка в поместье богатого шляхтича, сбежавшего от расправы польских патриотов располагался санбат. Свое местонахождение он выдавал только большим красным крестом на белом полотнище, растянутом на крыше большой каменной конюшни. Основная часть раненых была эвакуирована в стационарный госпиталь, или на Родину. Медперсонал в связи с эвакуацией тоже сократился: кто уехал по вызову, кто был переведен на работу с местным населением.
Олегу казалось, что он совсем недавно познакомился с Юлей. Да, разве для первого «люблю» есть границы? Почти мгновенно пролетевшие восемь месяцев их дружбы: по-детски чистой, чуточку неловкой, далекой от бытующей в тылу формулы фронтовой любви – заметно изменили бесшабашный характер одного из лучших разведчиков дивизии. Любовь! Человека красит только любовь, от первой любви к женщине – маме, кончая любовью к миру, Родине и просто любому существу подобному себе. Всё остальное, противоположное любви: злость, ненависть, жадность - уродует мир, ведет к его гибели.
Об этой красивой любви Юли и Олега знали почти все: и разведчики, и медперсонал санбата, и даже дивизионное командование. Знали или догадывались об их планах на будущее. Для любви война кончилась при первой их встрече.
Родители Олега погибли при бомбежке Смоленска в начале войны. И что-то другое, более высокое, родственное и душевное испытывал он к Юле – воспитаннице детдома, сбежавшей в пургу войны, смертельного хаоса семнадцатилетней девчонкой. Их любили все: будь-то замкнутый, вечно занятый работой хирург Иван Силыч, потерявший жену и дочь-первоклашку под Херсоном, хохотуньи медсестры – подружки Люда и Ганна, тайно влюбленные в Олега, или Богомолыч с Мельниковым, считавшие Олега своим воспитанником, сыном. И буквально каждый знавший эту влюбленную пару, старался чем-то помочь, оградить их первую весеннюю любовь от неожиданностей войны и ее трудных повседневных забот.
А приказа не было. Пятый день разведчики резались в подкидного за огромным дубовым столом в шикарной гостиной замка. Пили потихоньку спирт, который умудрялся доставать у красавицы-хохлушки фельдшера Полины Игнатьевны могучий старшина Мельник. Ходили к девчатам в санбат, что официально считалось патрулированием, охраной дороги от замка до усадьбы – единственной коммуникации пригодной для проезда машин с раненными и выздоравливающими солдатами.
За открытыми окнами гостиной, широким полукругом врезавшейся в центральное крыло замка, полыхала весна, благоухая всеми порами земли, застоявшейся в холоде зимы, оттаявшей от ужаса войны. Ночной аромат усиливал мирную тишину.
Герд, хрустко потянувшись, встал из-за стола после очередной проигранной партии.
– Везет на дурака, – беззлобно хмыкнул Иван Тамбовский, один из трех Иванов пришедших в группу два года назад по одному набору, но из разных полковых разведок. Три Ивана: тамбовский, курский и омский подружились – водой не разольешь. По дивизии ходили легенды о боевых подвигах трех родных братьев близнецов, трех Иванах, названных так родителями, чтобы не выделять любимчиков. На деле было далеко не так сказочно. У каждого из них была своя фамилия, свой родной город, по названиям которых их и величали товарищи разведчики. Но в легендах много было правды. Подвиги имели место в трудных буднях группы капитана Никифорова. Награды были у каждого: у сержантов – трех Иванов – по две «Славы», у старшины Мельника за «языка», вытащенного тепленьким прямо из штаба одной из Гудериановских бригад под Курском – орден Ленина, а у младшего сержанта Богомолыча, когда он при всем параде, и места пустого на груди не найдешь. Не обошла слава стороной и молодых разведчиков, добивавшихся места под ее лучами усердной исполнительностью, горячим стремлением восполнить пробел первых двух пропущенных военных лет. Каждый имел по ордену Красной Звезды и по медали «За отвагу». И как ни странно, группа за два с хвостиком года тяжелой, изнурительной игры со смертью не понесла ощутимых потерь. Фотография погибшего Панова, всегда висевшая в изголовье капитана Никифорова, была своеобразной памяткой о мужской фронтовой дружбе, щитом от будущих потерь, охранным амулетом группы. Невидимая ниточка связала людей разных возрастов, характеров и привычек в одну крепкую семью со своими профессиональными тайнами, боевыми традициями и закономерным чувством локтя, присутствующего в минуты смертельной опасности. На шутки в своем кругу обижаться было не принято.
Герд, расстегнув верхние пуговицы гимнастерки, завалился на могучий кожаный диван и, улыбаясь лепному ангелочку, пытавшемуся слететь с расписного потолка на грешную землю, бросил в адрес играющих:
– Вино, карты и женщины – удел слабых людей. Слабости надо уметь подавлять в их пагубном начале.
– О, наш юный герр Ланге* философ! Завидую его будущему: пьет клюквенный морс, играет на арфе и любит бабу, наплодившую ему детишек от соседа, – парировал Иван Тамбовский, и глубоко затянувшись остатком тощей трофейной сигареты, щелчком выбросил ее в окно. – Козыри черви. У кого шестерка?
Игру продолжали четверо: громко сопевший при удачной сдаче Богомолыч, невозмутимый Мельник и два Ивана. Иван Курский листал томик Джека Лондона Петербургского издания 1912 года, невесть откуда оказавшегося в библиотеке пани. В неверном свете стеариновой свечи, оплывшей в бронзовый подсвечник, профиль Ивана из-за его длинного, острого носа был похож на грифа методично клюющего свою жертву.
В патруле находились Гриша Уваров и, приехавший в полдень из города, рядовой Сысоля, по разрешению капитана отлучавшийся туда за покупкой подарков для своих мал мала меньших сестренок, ждущих его в Челябинске. В полночь, до которой оставалось не более полутора часов, их сменяли Богомолыч с Чернецом.
Чернец, в душе обидевшийся на реплику Ивана Тамбовского, отвернулся лицом к спинке дивана и, смежив веки, пытался вздремнуть. Майский жук, с перепуга влетевший на свет в открытое окно, сделал глубокий вираж над столом, плюхнулся на нос гипсового бюста пана Белевича, стоявшего в нише стены. Из окна сладко тянуло парным теплом ночного воздуха.
В уютной комнатке – скромной спальне для гостей, о чем любезно сообщила капитану пани Эльжбета, стоял тот же терпкий аромат весны. Олег нежно, как струны мелодичного инструмента, перебирал в памяти слова Юли: «Люблю! Люблю, милый! Сказка моя сероглазая! Неужели все кончилось: кровь, грязь, слезы? Неужели мы живы? У нас будет мальчик… и девочка. Мы им ничего не расскажем, правда? Ничего не расскажем, ничегошеньки! Войны не было. Были я и ты – милый, любимый мой!». Перед глазами Олега всплывали качающиеся картинки: волнистые, летящие по ветру белой поземкой мягкие волосы Юли, ее чувственные, спелые и яркие, как вишни, горячие губы, и крыльями взлетавшие тонкие девичьи руки… И глаза! Синие-синие, с неуемной нежностью вобравшие в себя его взгляд, мечту и любовь.
Плывя в сиреневом таинстве нахлынувших чувств, Олег не услышал осторожных шагов по галерее и не заметил, как пани Эльжбета, войдя в полутьму комнаты, застыла у дверей.
– Пан офицер!
Вязкий шепот пани подбросил Никифорова, лежавшего на не разобранной постели, и заставил потянуться за пистолетом, лежавшем в изголовье на ночном столике, заставленным баночками с кремами, снотворными снадобьями и прочей парфюмерной ерундой.
– Проше, пан офицер, пожалуйста, извините. Бардзо проше. Вы испугались?
– Привычка, пани Белевич, не больше, – Олег, суетясь, недоумевая по поводу прихода этой замаринованной красавицы, как выразился старшина Мельник при первом знакомстве с хозяйкой, начал надевать старенькую портупею.
– Не надо, пан Олег!
Пани произнесла фразу с неожиданно красивым ударением и мягким шипящим звуком. И, как бы накладывая запрет на поспешное, суетливое одевание, приподняла руку, оголившуюся до плеча из-под крыла шелкового кимоно.
– Что не надо? – капитан застыл.
Неторопливый бархатный свет падал из окна на спину Никифорова, и пани не могла заметить выражение его лица, остававшегося в тени, но чутко уловила нотки раздражения в голосе.
– Оставьте этот страшный пистолет. Я и так боюсь вас. Зачем же вы еще больше хотите напугать меня, – пани Эльжбета довольно сносно говорила по-русски, а незначительные паузы между слов, секундный поиск их, придавали ее речи своеобразную окраску, притягательный лиризм, таинственность.
– Я такой большой заяц!
Олег улыбнулся двоякому смыслу построенной фразы для выражения слова трусиха, которое она хотела сказать.
– Большой заяц?
Смеющиеся глаза капитана с ног до головы окинули вылепленную по всем канонам искусства художников эпохи Возрождения фигуру женщины, одетую в легкое, застегнутое до подбородка, шелковое одеяние. «В такой поздний час?.. Не на исповедь же», – подумал он.
– Чем могу быть полезен, пани? Я слушаю.
Олег положил пистолет на столик.
Пани Эльжбета, сделав шаг вперед, вдруг охнув, стала медленно оседать на пол. Никифоров инстинктивно подхватил ее под руки, почувствовав ладонями горячее колыхание упругих, налитых здоровьем, женских грудей. Мгновение постояв в нерешительности, приподнял обмякшую женщину и осторожно попытался перенести ее на кровать. Кровать жалобно скрипнула.
– Пани! Пани Эльжбета, что с вами?
Нагнувшись над ней, капитан слегка потрепал ее за подбородок. Пани шевельнулась, издав стонущий невнятный звук. Пола кимоно соскользнула с опущенной на пол ноги, бесстыдно оголив ее кричащую красоту. Олег, горестно застонав, схватился за голову. Снова нагнулся над лежащей рембрандовской красавицей и стал трясти за плечи. Пани открыла глаза полные тумана и еще чего-то такого, отчего у Олега ноги в коленях стали ватными и перехватило дыхание.
– Пани Эльжбета, что вам дать? Воды? Лекарство, какое? – нерешительно спросил он.
– Воздух! Мне… дышать! Расстегните… – и опять с тяжелым вздохом закрыла глаза.
Олег, больше повинуясь благородному чувству спасения человека, чем противоборствующему чувству предстоящего обмана, аккуратно расстегнул верхнюю пуговицу-кнопку кимоно. И чуть не ахнул, увидев, как при мощном выдохе у пани расстегнулись две последние пуговицы. Голубой лунный луч из окна, как прожектор высветил под шелком кимоно два спелых яблока необычной величины с дрожащими от неожиданного появления на свет кофейно-коричневыми зернышками сосков и обрисовал все прелести еще довольно-таки молодого женского тела. Еще больше растерявшись и, чувствуя, что лицо и уши наливаются кипятком, Никифоров попытался запахнуть, прикрыть скользящим шелком обнаженное тело. Но трясущиеся от неловкости и злости руки, невольно касались глянцевой белой кожи, что вызывало еще большую беспомощность капитана. Он не услышал топота сапог по лестнице, не увидел вбежавшего Чернеца.
– Товарищ капитан! В санбате немцы!
Словно огромная сила отбросила Никифорова на середину комнаты. Чернец, увидев обнаженную женщину, остолбенел и, пятясь к двери, запинаясь пробормотал:
– Прибежал Уваров… Сысолю убили. Фашисты там…– в санбате. Юля тоже там. Мы внизу… Мы готовы, товарищ капитан, – и исчез в пролете галереи.
Ошарашенный известием, не замечая приподнявшейся с кровати пани, схватив портупею с пистолетом, Олег, сломя голову бросился вслед за Чернецом.
В гостиной на растерянный вид Чернеца никто не обратил внимания. Лишь один Ваня Тамбовский, распихивая по карманам патроны от трофейного вальтера, коротко спросил: «Где капитан?»
-Там с пани, того….
На что Тамбовский процедил сквозь зубы: «Врешь, долговязый. Смотри!» - поднес к лицу Герда увесистый кулак, покрытый, как медвежья лапа, рыжим густым волосом.
Чернец не успел ответить на выпад Ивана Тамбовского, готовым было сорваться с губ обидным криком, как в гостиную вбежал капитан. Он был без фуражки, с растрепанной шевелюрой густых, черных как вороново крыло волос, в расстегнутой до пояса гимнастерке, с пистолетом в одной и портупеей в другой руке. Не обратив ни малейшего внимания на подозрительные взгляды товарищей, скомандовал:
– Старшина Мельник, в штаб! Доложите там обстановку. Остальные, за мной!
И зная, что приказ будет выполнен безо всяких оговорок, выдернул автомат из-за спинки кресла, притолкнутого к нише с бюстом старого пана и пулей вылетел во двор, на ходу одевая портупею.
Один за другим, кто через окно, кто через дверь, разведчики покинули замок.
Глава 4. Погоня. Июнь 1952 года
Ночевали недолго. Эдгар пытался заснуть, но разве можно назвать сном мучительную тягомотину череды коротких провалов в забытьё и мгновенных всплесков сознания после каждого лесного звука: птичьи вскрики, хруст ветвей, всхлипы и завывания. Никифоров вообще не засыпал. Думал. В воспаленных глазах проснувшегося напарника прочитал вопрос: «Что дальше?»
– Все в порядке, партизан. Я тут, пока ты витал в царстве Морфея, лесной чаек сварганил из шиповника. Подзаправимся и в путь.
Горячая кружка отдавала тепло ладоням. Чай поднимал внутри теплую волну, снимал остатки промозглого сна. Размоченный сухарь и пучок черемши утолили голод. Перекусили молча. Молча поднялись, подправили, подтянули веревочки и ремешки. Попрыгали, проверили на звук свою сиротскую амуницию. У Эдика чуть звякнула в наволочке ложка о кружку. Он тут же быстро замотал их по отдельности в портянку и снова тщательно уложил в наволочку. Его тощая, высокая нескладная фигура на фоне голубого лесного тумана смотрелась, как прыгающий неестественных размеров кузнечик в театре теней. Солнце зацепило верхнюю кромку тумана и позолотило верхушки сосен.
– Идешь вслед за мной. Не отставай! До полудня надо пропахать около двадцати километров, – скомандовал Никифоров и, чуть ссутулившись и выставив левое плечо, пошел вперед.
День обещал быть теплым и не ветреным. Начали шустрить стрекозы. Туман рассеялся, открыл берег, и лишь его длинная ватная полоска тянулась вдоль излучины. Свернули в чашу леса и по тропинке, вытоптанной зверьем, вдруг вышли на участок редколесья, далеко просматривавшегося впереди. Прибавили ходу, почти, побежали.
От легкого бега Эдику стало комфортнее – отстали мошка и комары, укусы которых тяжело переносил. Минут через десять бег стал пыткой. Сердце выпрыгивало из груди, пот заливал глаза, воздух накалился и сушил глотку.
– Терпи, партизан. Еще чуток, – Никифоров, оборачиваясь, подбадривал Эдика, чувствуя, что сам потихоньку сдает.
Раскаленный шар солнца медленно поднимался, похохатывая (???) над бегущими.
Но длинная коса редколесья уже кончалась. Впереди густел спасительный ельник.
Отдых был до невозможности коротким. Эдику казалось, что тело ему неподвластно, что оно органически слилось с мягкой периной бледно-зеленого мшаника и жадно пьет его живительную прохладу. Пировавшие комары и мошка уже не замечались.
– Думаю, если нас попытаются перехватить, то ближайший пост уже недалеко.
Старуха говорил, что рядом с триангуляционной вышкой на пост можно нарваться. Это отсюда километров шесть-семь.
– Да, но Старуха с Кишкой попались, когда шли в сторону Гари. Мы туда же идем?! Это же крышка! Их здесь хлопнули.
Эдик вскочил, возбужденно замахал руками. И куда делась его усталость.
– Вы же знаете, что Старуха чудом выжил. Измазал себя кровью из раны, и притворился убитым. Говорят, терпел почти сутки соседство с мертвым Кишкой, пока не прилетела комиссия из Сосьвы. Он им навстречу и поднялся живым. Тут у них и козыри биты – при комиссии не пристрелишь. Живой остался, а нас не пощадят.
– Тише, партизан! Надо быть хитрее. Они наверняка выловили нашу лодчонку и бросились в тайгу, а не вниз по реке. Там же, думаю, и расставили свои основные посты. Людей у них п
Др. Елена Березовская,
06-09-2011 19:00
(ссылка)
Моя интеллектуальная собственность
Имеются в продаже мои книги:
Настольное пособие для беременных женщин
Подготовка к беременности
Тысячиии... вопросов и ответов по гинекологии
Ангел
День серебристого дождя (эротическая сказка на двоих)
Интернет Маркетинг: мифы и реальность заработка (бесплатно)
Все книги можно обрести в электронном формате.
За информацией обращаться на sistema.book@yandex.ru
Отрывки из книг можно прочитать в моем блоге: http://blogs.mail.ru/mail/d...
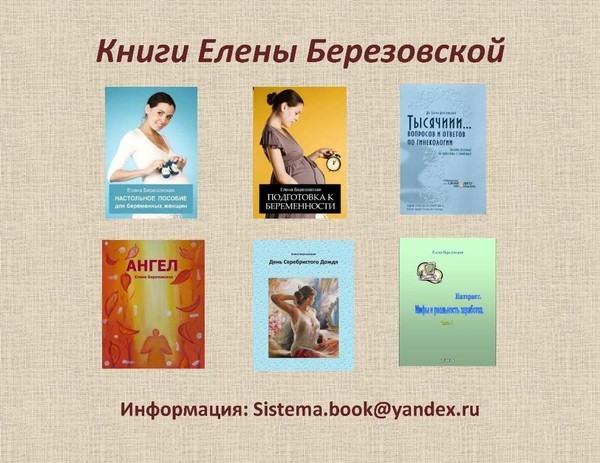
Настольное пособие для беременных женщин
Подготовка к беременности
Тысячиии... вопросов и ответов по гинекологии
Ангел
День серебристого дождя (эротическая сказка на двоих)
Интернет Маркетинг: мифы и реальность заработка (бесплатно)
Все книги можно обрести в электронном формате.
За информацией обращаться на sistema.book@yandex.ru
Отрывки из книг можно прочитать в моем блоге: http://blogs.mail.ru/mail/d...
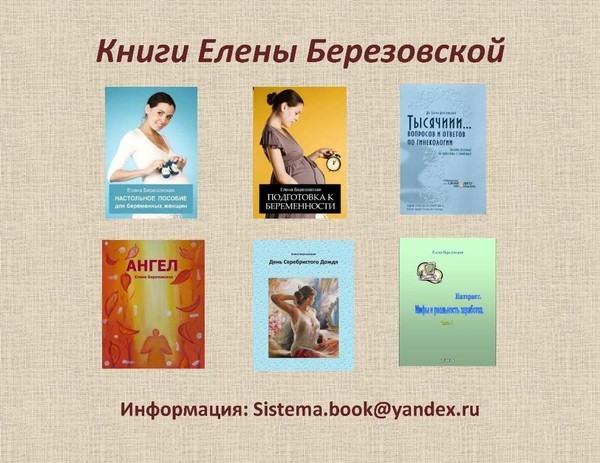
Метки: книги, Елена Березовская, здоровье
Алексей Камратов,
04-03-2011 20:49
(ссылка)
Интеллектуальная собственность - что это в Вашем понимании?
Дайте, пожалуйста, оценку вашей авторской, интеллектуальной собственности. Как Вы намерены с ней поступить?
Алексей Камратов,
01-03-2011 10:03
(ссылка)
Стихи Олега Ершова
Заискрились, засверкали…
По весеннему лучи.
Очень быстро исчезают,
С гор бегущие ручьи.
На полях, в лесах, в овраге.
У дороги полевой.
Пробивает Землю к небу,
Стебель жизни молодой.
Он совсем еще младенец,
Как про это не сказать.
И поэтому так скоро,
Хочет зелень показать.
А природа не балует
Этакого сорванца.
То с небес задует бурю,
То морозам нет конца.
Но в природе, все же ясно,
За Зимой спешит Весна.
Как бы трудно не пришлось ей,
Все равно придет она.
Сразу радостней живется,
Настроение бодрей,
Когда Солнце улыбнется,
И трава растет быстрей.
У природы и народа,
Очень разные пути.
По не писаным законам,
Поле жизни не пройти.
Кто же власть оставит сразу?
Кто отдаст свои права?
Покорится кто приказу?
Если есть в руках права.
Олег Ершов
28 февраля 2011 23:24
По весеннему лучи.
Очень быстро исчезают,
С гор бегущие ручьи.
На полях, в лесах, в овраге.
У дороги полевой.
Пробивает Землю к небу,
Стебель жизни молодой.
Он совсем еще младенец,
Как про это не сказать.
И поэтому так скоро,
Хочет зелень показать.
А природа не балует
Этакого сорванца.
То с небес задует бурю,
То морозам нет конца.
Но в природе, все же ясно,
За Зимой спешит Весна.
Как бы трудно не пришлось ей,
Все равно придет она.
Сразу радостней живется,
Настроение бодрей,
Когда Солнце улыбнется,
И трава растет быстрей.
У природы и народа,
Очень разные пути.
По не писаным законам,
Поле жизни не пройти.
Кто же власть оставит сразу?
Кто отдаст свои права?
Покорится кто приказу?
Если есть в руках права.
Олег Ершов
28 февраля 2011 23:24
Метки: Стихи Олега Ершова
Алексей Камратов,
28-02-2011 18:12
(ссылка)
Милым женщинам в преддверии 8-го Марта
Полкану
Эх, кто сейчас
не без греха!
Не ровен час
и бог стал плутом.
Не зря
Полкан всю ночь брехал,
дороги к звёздам
перепутав.
Я вновь
к чужой жене иду.
Вот невоспитанный
детина...
Полкан,
предчувствуя беду,
молчит,
косясь на мой
ботинок.
Он против
дружеских обид,
но от судьбы
и бог не спрячет.
И, если
буду я побит,
он тоже взвоет
по-собачьи.Алексей Камратов
Ей. (Нелечке дорогой и любимой)
Быть может ты права,
Что ждать - не так уж просто,
Что жёлтая трава
Сожгла наш перекрёсток,
Где разошлись пути
и взгляды и надежды...
М еня ты не суди.
Я был с любовью нежным:
Лелеял по утрам
её больную завязь,
В неистовый буран
у сердца ,
всем на зависть
Я нёс её , я пел...
Какие были песни!!!
В тот миг я так хотел
Их петь с тобою вместе.
А.Камратов
Эх, кто сейчас
не без греха!
Не ровен час
и бог стал плутом.
Не зря
Полкан всю ночь брехал,
дороги к звёздам
перепутав.
Я вновь
к чужой жене иду.
Вот невоспитанный
детина...
Полкан,
предчувствуя беду,
молчит,
косясь на мой
ботинок.
Он против
дружеских обид,
но от судьбы
и бог не спрячет.
И, если
буду я побит,
он тоже взвоет
по-собачьи.Алексей Камратов
Ей. (Нелечке дорогой и любимой)
Быть может ты права,
Что ждать - не так уж просто,
Что жёлтая трава
Сожгла наш перекрёсток,
Где разошлись пути
и взгляды и надежды...
М еня ты не суди.
Я был с любовью нежным:
Лелеял по утрам
её больную завязь,
В неистовый буран
у сердца ,
всем на зависть
Я нёс её , я пел...
Какие были песни!!!
В тот миг я так хотел
Их петь с тобою вместе.
А.Камратов
слушаю: сердце
Метки: к 8-му марта
Алексей Камратов,
28-02-2011 08:15
(ссылка)
"ТВОРЧЕСТВО" - пишите, радуйте друг друга, дарите души и сердца!
Здесь место для строчки любого произведения
Алексей Камратов,
29-01-2011 11:06
(ссылка)
Положение о паях ПО Народный Союз
Потребительское Общество
«Народный Союз»
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Учредительного Собрания в
рамках Устава ПО «Народный Союз»
Протокол № 3-С от "28" сентября2007г.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ СОЮЗ».
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАЯХ
(приложение к разделам 1, 6 и 8 Устава ПО «Народный Союз»)
г. Москва ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………… 3 стр.
ВИДЫ ВЗНОСОВ ПАЙЩИКОВ…………………………………………… 3стр.
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ……………………………… 5 стр.
РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ…………………………… 6 стр.
ОПЛАТА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ
И ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ, ВОЗВРАТ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ__________6стр..
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее «Положение о паях» ( в дальнейшем по тексту –«Положение») разработано наосновании ФЗ РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и УставаПотребительского Общества «Народный Союз» ( в дальнейшем по тексту –«Общество»).
1.2. Настояще Положение определяет:- состав, порядок и условия внесения вступительных,членских и паевых взносов;
- порядок оценки паевых взносов;
- правила учета, хранения и порядок возврата паевых взносов
1.3. Размервступительных, членских и паевых взносов для членов Общества, изменение ихразмера, определяется Решением собрания членов Общества.
1.4. Вступительныйвзнос – денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со вступлением в потребительское Общество.
1.5. Членскийзнос – денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных с деятельностью Правления Общества.
1.6. Паевой взнос– имущественный взнос пайщика в паевой
фонд потребительского общества деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей,интеллектуальной собственностью (авторские работы в области технологий, литературы , искусства и т.д.), другим имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. – передаётся на баланс Общества..
1.7. Денежная оценка имущественного взноса пайщика производится согласно остаточной балансовой стоимости, справкой БТИ и другими государственными документами.
По решению Правления Общества к оценке имущественного взноса пайщика может быть привлечен независимый оценщик.
1.8 Уставом потребительского Общества предусмотрена безусловность уплаты вступительного, членского и обязательного паевого взноса для пайщиков, а также добровольность уплаты дополнительных, инвестиционных, паевых взносов, направляемых для формирования фондов Общества или выполнения целевых программ хозяйственной деятельности
Общества.
1.9 В соответствии со ст. 21 ФЗ РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации, на вступительные, членские и паевые взносы не могут налагаться взыскания по личным долгам и обязательствам пайщиков.
2.ВИДЫ ВЗНОСОВ ПАЙЩИКОВ
2.1. Взносы пайщиков являются одним из источников формирования имущества общества и состоят из:
- вступительных взносов;
- членских взносов;
- обязательных паевых взносов;
- дополнительных паевых взносов;
- добровольных и других взносов.
2.2. Вступающий в Общество признается пайщиком с момента вынесения решения Правлением Общества, уплаты вступительного, членского и обязательного паевого взноса.
2.3. Лица принятые в Общество и оплатившие вступительный,
членский и обязательный паевой взнос:
- имеют право на получение документа, удостоверяющего их членство в Обществе и право собственности;
- имеют все права пайщика Общества, предусмотренные Уставом Общества, в том числе на кооперативные выплаты в соответствии
с решением Правления Общества.
2.4. Вступительный и членский взнос не подлежит возврату при выходе пайщика из Общества.
2.5. Паевые взносы, ставятся на баланс Общества, являются одним из источников имущества Общества и служат формированием следующих фондов Общества: - паевой; - резервный;
- страховой;
- финансовой взаимопомощи;
- инвестиционный;
- залоговый;
- административный
2.6. Передача обязательных паевых взносов может осуществляться частями в сроки не менее одного года с момента подачи заявления от пайщика на вступление в Общество.
2.7.Обязательные Паевые взносы могут возвращаться пайщику при его выходе или исключении из Союза в порядке и размерах, предусмотренных Уставом и настоящим Положением.
2.8. Дополнительные паевые взносы, которые могут вносится пайщиками
на баланс Общества, служат для участия в целевых программах
Общества, формирования и развития хозяйственной деятельности
Общества и создания целевых фондов.
2.9. Передаваемое имущество пайщика является собственность Пайщика и используется для удовлетворения нужд данного
пайщика и в его интересах согласно целевой программе или назначения целевого фонда Общества.
Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающего размер паевого взноса, может передаваться с согласия пайщика в его
дополнительный пай (взнос).
2.10. Возврат дополнительного паевого взноса может осуществляться частями в сроки не более одного года.
2.11. Дополнительные паевые взносы (часть их) могут возвращаться
пайщику на основании:
- его личного заявления;
- завершения работ по целевой программе;
- закрытия (прекращения деятельности) целевого фонда Общества.
- распределения доходов согласно протокола долевого участия пайщиков.
2.12. Порядок формирования паевых фондов, средств для выполнения целевых программ, порядок их расходования определяется и устанавливается «Положением о фондах».
3.ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ
3.1. Денежная оценка паевого взноса проводится Правлением
Общества только согласно остаточной балансовой
стоимости предприятия, справок БТИ , других государственных документов и собственной оценочной комиссией в случае, когда пайщиком вносится в счет паевого взноса:
- отдельные материальные объекты;
- совокупность вещей, составляющих имущество лица (движимое, недвижимое);
- земельные участки, земельные доли;
- право собственности и иные права на имущество;
- право требования, обязательства (долги);
- интеллектуальная собственность (авторские работы в области технологий, литературы, искусства и т.д.)
- работы, услуги, информация; - иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте.
3.2. По решению Правления Общества к денежной оценке паевого взноса может быть привлечен независимый оценщик.
3.3. Правление Общества при проведении денежной оценки паевого взноса, руководствуясь Законодательством и Гражданским кодексом страны, Уставом предприятия-пайщика Общества, определяет рыночную стоимость объекта оценки, принимая наиболее вероятную цену, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
3.4. Если член Правления, или Наблюдательного Совета Общества является заинтересованным лицом привнесении паевого взноса, то денежная оценка паевого взноса определяется и утверждается лицами, не заинтересованными в совершении такой сделки.
3.5. Правление Общества приступает к денежной оценке паевого взноса при наличии:
- заявления о приеме в Общество;
- уплаты вступительного взноса;
- уплаты членского взноса;
- всей необходимой информации об объеме оценки;
- ВОСТРЕБОВАННОСТИ
3.6. Исполнение Правлением Общества своих обязанностей как оценщика является составлением в письменной форме отчета об объекте оценки.
Требования к содержанию отчета приводятся в статьях закона «Об оценочной деятельности » каждой страны предприятия – пайщика Общества.
3.7. После утверждения
Правлением Союза денежной оценки паевого взноса и согласования данной оценки с пайщиком и Наблюдательным Советом Союза:
- Осуществляется (при необходимости) регистрация перехода паевого
взноса собственности на имущество Государственных и
иных организаций на баланс Общества;
- осуществляется учет прав пайщика – владельца
паевого взноса в реестре владельцев паевых взносов Общества.
4.РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ
4.1. Учет владельцев паевых взносов ведется в Реестре владельцев, ведение и хранение которого осуществляется Правлением Общества.
4.2. Реестр владельцев паевых взносов представляет собой список
зарегистрированных владельцев с указанием принадлежащих им паевых взносов, составленных по состоянию на любую установленную дату и позволяющую идентифицировать этих владельцев.
4.3. Система ведения Реестра владельцев паевых взносов включает в себя:
- ведение лицевых счетов с указанием полных данных о
каждом владельце;
- вид пая и его стоимость, принадлежащего зарегистрированному пайщику;
- сведения об оплате взносов пайщиками;
- сведения о переходе паевого залога собственности на имущество, составляющего паевой взнос;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами стран
предприятий-пайщиков Общества.
4.4. Ответственный за ведение Реестра (реестрдержатель) вносит
в систему ведения Реестра изменения, дополнения, открывает лицевые счета владельцам только по письменному распоряжению Председателя Правления Общества или Управляющий исполнительной Дирекции по доверенности Председателя Правления Общества.
4.5. Ответственный за ведение Реестра обязан в течение трёх дней
по требованию владельца паевого взноса предоставить выписку из системы ведения Реестра по его лицевому счету.
4.6. Формы документов,
определяющих систему ведения Реестра, приведены в приложениях.
5. ОПЛАТА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ.
ВОЗВРАТ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ
5.1. Вступительные, членские взносы оплачиваются пайщиком с момента подачи заявления о приеме в Общество в размерах, определенных Уставом или решением Общего собрания пайщиков.
5.2. Обязательный вступительный взнос оплачивается:
- денежными средствами в течение 7 календарных дней со дня подачи заявления о приеме в Союз и для физических лиц составляет – 6000(шесть
тысяч) рублей (иностранный пайщик 200 долларов США), для юридических лиц — 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (иностранный пайщик - 2000 долларов США).
Пайщики ,являвшиеся пайщиками ПО «Народный Союз» и перешедшие в состав ПО
«Народный Союз» согласно Протоколу от 26 июня 2009 года, вступительный взнос не оплачивают.
5.3. Членские взносы оплачиваются
пайщиками (физическими лицами) раз в год в размере 1000 (одна тысяча ) рублей;
Пайщики (юридические лица) выплачивают членские взносы раз в квартал по 1000 (одной тысяче) рублей. Иностранные пайщики выплачивают в долларах США по курсу на дату оплаты взноса.
5.4. Для ЦИП (Центр инновационных проектов ), филиал общества, КУ (кооперативных участков) и других объединенных предприятий-пайщиков Общества номинал членских взносов, их оплата и периодичность
определяются собственным Положением.
5.5. Обязательный Паевой взнос принимается от пайщиков Общества
для участия в утвержденных инвестиционных программах Общества,
хозяйственной деятельности Союза..
Обязательный паевой взнос — имущественный взнос пайщика в паевой
фонд Общества деньгами, ценными бумагами, интеллектуальной собственностью, земельным участком или земельной долей, другим имуществом, либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, - принимается на баланс Общества. Минимальный паевой взнос составляет для физических лиц - 5(пять) паев, для юридических лиц — 100 (сто) паев. Количество паев, передаваемых одним пайщиком, не ограничено.
Сумма всех передаваемых паев одним пайщиком является его паевым взносом.
Дополнительный паевой взнос принимается при наличии заявления
от пайщика на участие в работе по реализации целевых Программ или создания целевого Фонда:
- денежными средствами, ценными бумагами (бонды, векселя, облигации займа, акции и т.д.);
- имущественным взносом по акту приема-передачи после утвержденной денежной оценки Правлением Общества имущественного взноса пайщика.
5.6. Паевой взнос (пай)
— условная единица взаиморасчета в финансовых и товарных отношениях между
пайщиками, а также условная оценочная единица взноса пайщика в паевой фонд Общества денег, ценных бумаг, интеллектуальной собственности, земельных участков или земельной доли, основных средств производства, другого имущества, либо имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку. Один пай эквивалентен 200 (двумстам) долларам США в валюте страны пайщика по курсу ЦБ этой страны на день оплаты взноса. . На территории Российской Федерации один пай для условного финансового оборотав ПО «Народный Союз» соответствует 5000 (пяти тысячам) рублям 00 коп.
Паевой взнос может считаться активным и пассивным.
Активный паевой взнос (пай) – составляет валютные активы Общества
и участвует в обороте по финансированию, ссуде, инвестированию, кредитованию программ пайщиков Общества.
Пассивный паевой взнос (пай) - составляет имущественные активы Союза
и является залоговым инструментом в обеспечении кредитов и займов,
а также ресурсным обеспечением (наполнением) векселей, облигаций и других ценных бумаг эмитированных Обществом.
5.7.Пайщику ежеквартально начисляются в валюте его страны годовые проценты за использование его активов (паевых взносов) в целях
реализации программ Общества по следующим критериям:
- использование активных паевых взносов для прямого
инвестирования (кредитования), выдачи возвратных ссуд пайщикам
- Libor плюс 1,5%
- использование пассивных паевых активов (рента пайщика) - 0,8% (ноль целых восемь десятых процента) от объема использованных активов; Пайщик может внести ренту в свои активы как павой дополнительный взнос.
- на не использованные активы пайщиков, находящиеся на балансе
Правления Общества и отраженные в Реестре, годовые проценты доходности
начисляются по финансовому итогу года Решением Правления Общества.
5.8.Возврат паев пайщикам осуществляется по Решению Правления
Общества в случаях:
- прекращения членства в Обществе;
- прекращения участия пайщика в работе программ, Фонда (по его заявлению);
- прекращения работ по программе или Фонда;
- окончания реализации паевого (ссудного. инвестиционного) договора.
5.9. Пайщику в течение 30 дней после принятия Решения Правления Общества о выходе пайщика из Общества или полного завершения программы с его участием, при возврате валютного взноса (пая) или ренты выплачивается стоимость взноса (пая) или ренты, не обремененная долгами пайщика,
за вычетом 5% (пять процентов) от суммы взноса (пая) или ренты на оплату обязательной доли интеллектуальной собственности разработчиков программ КИСП «Народный Союз». Пайщику возвращается, с вычетом в пользу Резервного
Фонда Общества 1% (одного процента) от оценочной стоимости паевого взноса, паевой взнос в материальной форме в случае, если паевым взносом были земельные участки, иное недвижимое или другое имущество
так же не обремененное долговыми обязательствами пайщика.
5.10. Целевые отчисления на содержание некоммерческих организаций, поступающие от предприятий и физических лиц, членские и вступительные взносы налогообложению не подлежат и могут расходоваться согласно решению Правления на уставную деятельность Общества.
5.11. Паевые взносы в случае отдельного (целевого) договора пайщика с Обществом могут быть использованы Обществом как возвратная беспроцентная ссуда на сумму не превышающую 10% от суммы паевых
взносов пайщика.
5.12. Учет расходов целевых средств и доходов от них ведется отдельно
каждым Фондом по их специфике и функциональному назначению.
Настоящее Положение разработано и отпечатано на двух языках (русский, английский) и предназначено для инструктивного пользования и юридического обоснования финансовой деятельности организаций -пайщиков и пайщиков-физических лиц ПО «Народный Союз» и является неотъемлемой частью его Устава.
Метки: Положение о паях
Алексей Камратов,
29-01-2011 10:28
(ссылка)
Оповещение кандидатов в пайщики ПО "Народный Союз"
Вниманию кандидатов в члены ПО «Народный Союз»
Оповещение
Уважаемые господа!
Для вступления в члены Потребительного Общества «Народный Союз» Вам необходимо сформировать следующий пакет документов, который будет передан юристу сопровождающему реестр ПО «Народный Союз».
Перечень документов:
От кандидатов персонально (физ.лица): требуется предоставить : ксерокопию паспорта.
От учредителей организаций (юр.лица): требуется предоставить:
1.копию свидетельства о регистрации организации, нотариально заверенные
2.копию Устава,
3. свидетельство о постановке в Гос. Комитет статистики,
ксерокопия
3.свидетельство о присвоении ИНН,
4.Баланс за последний отчетный период
5.реквизиты организации
6.ксерокопию паспорта и занимаемую должность
представителя организации пайщика, уполномоченного все на отдельных листах
представлять организацию в ПО.
7.договор о сотрудничестве с арендодателем
8.от арендодателя свидетельство на право собственности или распоряжение
9,10. Программа предприятия, бизнес-план.
11..Паевой взнос" – имущественный взнос пайщика ценными бумагами, земельным участком или долей, интеллектуальной собственностью (авторские работы в области технологий, литературы, искусства), другим имуществом, либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Один условный пай (далее У.П.) оценивается суммой 6000 рублей (200 долларов США) . Первый обязательный паевой вклад активов для физического лица равен 1 (одному) У.П., для юридического лица 5 (пять) У.П.
Вступительный (безвозвратный) взнос для физических и юридических лиц равен
3000 рублей (100 долларов США для иностранных пайщиков).
Расчетный счет 40703810100730035135 в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», г.Москва
Корр. счет 30101810000000000243, БИК 044525243
Требование:
1.пакет документов от каждого пайщика следует предоставить в индивидуальной папке формата А4 оригинальное наименование (КТ-30) папка составлена из тридцати (30-ти) не изымаемых пластиковых файлов.
Управляющий Исполнительной Дирекции
ПО «Народный Союз» В.В. Гаврилов
Оповещение
Уважаемые господа!
Для вступления в члены Потребительного Общества «Народный Союз» Вам необходимо сформировать следующий пакет документов, который будет передан юристу сопровождающему реестр ПО «Народный Союз».
Перечень документов:
От кандидатов персонально (физ.лица): требуется предоставить : ксерокопию паспорта.
От учредителей организаций (юр.лица): требуется предоставить:
1.копию свидетельства о регистрации организации, нотариально заверенные
2.копию Устава,
3. свидетельство о постановке в Гос. Комитет статистики,
ксерокопия
3.свидетельство о присвоении ИНН,
4.Баланс за последний отчетный период
5.реквизиты организации
6.ксерокопию паспорта и занимаемую должность
представителя организации пайщика, уполномоченного все на отдельных листах
представлять организацию в ПО.
7.договор о сотрудничестве с арендодателем
8.от арендодателя свидетельство на право собственности или распоряжение
9,10. Программа предприятия, бизнес-план.
11..Паевой взнос" – имущественный взнос пайщика ценными бумагами, земельным участком или долей, интеллектуальной собственностью (авторские работы в области технологий, литературы, искусства), другим имуществом, либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Один условный пай (далее У.П.) оценивается суммой 6000 рублей (200 долларов США) . Первый обязательный паевой вклад активов для физического лица равен 1 (одному) У.П., для юридического лица 5 (пять) У.П.
Вступительный (безвозвратный) взнос для физических и юридических лиц равен
3000 рублей (100 долларов США для иностранных пайщиков).
Расчетный счет 40703810100730035135 в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», г.Москва
Корр. счет 30101810000000000243, БИК 044525243
Требование:
1.пакет документов от каждого пайщика следует предоставить в индивидуальной папке формата А4 оригинальное наименование (КТ-30) папка составлена из тридцати (30-ти) не изымаемых пластиковых файлов.
Управляющий Исполнительной Дирекции
ПО «Народный Союз» В.В. Гаврилов
Метки: оповещение
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

