ЕДИНЕНИЕ
Древние ключи-знания о ЕДИНЕНИИ и ПРИМИРЕНИИ всех людей.
Каков единый источник всех религий человечества?
Что объединяет все духовные знания в своём начале? Практический опыт познания и личного соприкосновения с ЖИЗНЬ ДАРУЮЩИМ.
Метки: Единение, единство, объединение, примирение, религии, знания, смысл жизни, человечество
Пейзаж русской души.
Метки: Н. Бердяев о русском народе, его душе и исторической судьбе.
Образ "расового врага" в Третьем рейхе.
3. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. Н.А. Дмитриева (завершение)
Метки: Идеал в искусстве
2. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. Н.А. Дмитриева (продолжение)
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ Н.А. Дмитриева (начало)
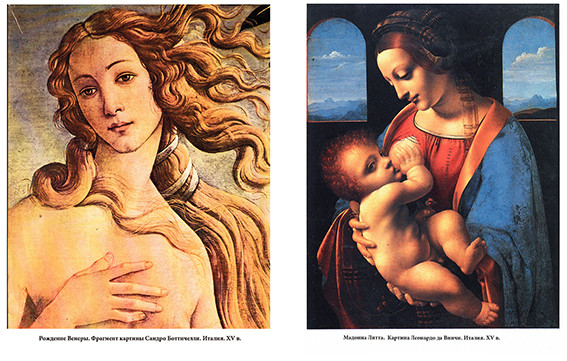 Периоды истории ренессансной культуры Италии принято обозначать названиями столетий: дученто (13 в.) - Проторенессанс, треченто (14 в.) - продолжение Проторенессанса, кватроченто (15 в.) - Ранний Ренессанс, чинквеченто (16 в.) - Высокий Ренессанс. Высокий Ренессанс изживает себя уже к 30-м г.г. 16 века. Он продолжается до конца 16 в. лишь в Венеции; к этому периоду чаще применяют термин "поздний Ренессанс. ... Можно подумать, что никогда столько не строили, не ваяли, не расписывали, как в Италии 15 века. Впрочем это впечатление обманчиво: в позднейшие эпохи художественных произведений появлялось не меньше, - все дело в том, что "средний уровень" их в эпоху Возрождения был исключительно высоким. В средние века искусство было плодом коллективного гения, а Возрождение рассталось со средневековой массовидностью и безымянностью. Архитектура, скульптура и живопись перешли из рук многоликого ремесленника в руки художника-профессионала, утверждающего свою индивидуальность в искусстве. Однако, сделав искусство индивидуальным, Возрождение удержалось на той грани, за которой начинается размежевание художественных индивидуальностей на выдающиеся и посредственные, а потом и засилие посредственностей. Конечно, и в то время были художники более крупные и менее крупные, были гении и были просто таланты, были пролагатели путей и были их последователи, но категория "посредственности" к художникам Возрождения неприменима. Эта эпоха знала честолюбцев, стяжателей, но не знала поставщиков художественных суррогатов. Искусство играло в ее жизни слишком важную роль: оно шло впереди науки, философии и поэзии, выполняло функцию универсального познания. ... Художников высоко ценили. Члены семейства Медичи, фактически властвующие во Флоренции, были меценатами и неподдельными ценителями искусства, особенно Козимо Медичи и его внук Лоренцо Великолепный. Римские папы,герцоги, иностранные короли оспаривали друг у друга честь приглашения итальянских художников к своему двору. Но искусство не становилось придворным и не затворялось только в гуманистических кружках. Оно щедрой волной разливалось по жизни города-государства, отдавая себя на всеобщее обозрение и всеобщий суд. ... По-новому ощущать мир - значило по-новому его видеть. Человек "возродившейся" к новому бытию, увидел себя не в райских эмпиреях, как лирический герой Данте, а на земле. Он хотел освоить мир как реальную арену своих действий. Наука, долго пребывавшая в путах схоластики, не была к этому готова. Жажда познания раньше всего вылилось в форму художественного познания, где аналитическая мысль и непосредственная эмоция не расслаиваются, а взаимопроникают. Первым каналом познания было ясное, трезвое видение, постигающее природу вещей. Наука нового времени начинала свой путь в союзе с искусством, зарождаясь как бы внутри него. ...Человек Возрождения отвергает все зыбкое, аморфное как "варварское": он хочет ясности и еще раз ясности. И он числит и мерит, вооружается циркулем и отвесом, чертит перспективные линии и точку схода; трезвым взглядом анатома постигает механизм движений тела, классифицирует движения страстей и все доступное взгляду, расчленяет, заключает в строгие обрамления и ставит на твердую землю. Но мы очень ошибемся, если сочтем этот рационализм признаком душевной сухости и скучного расчета. Сама "трезвость" эстетики Ренессанса была изнутри романтической: она диктовалась не просто жаждой точного познания, но и жаждой совершенства, верой в достижимость совершенства, вдохновенными поисками абсолюта". К своим наукообразным методам искусство Возрождения поднималось на поэтических крыльях; в пафосе познания природы вещей была сила восторга, пьянящая радость открытия. ... Ренессансные мастера занимались всевозможными "формальными проблемами" очень усердно, нисколько не скрывая; проблемы эти выдвигала общая гуманистическая концепция искусства, увлеченно и страстно исследующего мир. Из этой концепции вытекало и то, что мы называем теперь "светским" характером искусства, который, однако, не означал безрелигиозности. Было бы наивно думать, что религиозные сюжеты (их в ренессансном искусстве не меньше, чем в средневековом) являлись чистой условностью. Нет, в них вкладывалось глубокое религиозное чувство, но ведь чувство это в течении истории принимало столько обликов, сколько и сама история. Люди творили божества по своему идеальному подобию. Мы встречали в религиозном искусстве богов-завоевателей, богов монархов, богов-феодалов, богов-скотоводов и богов - праведных нищих. Для людей Возрождения, так высоко ценивших свои собственные возможности и так дороживших миром, где они жили, дистанция между реальным человеком и Богом сильно сократилась, в искусстве дошла почти до полного исчезновения грани. Все. что они любили и чем любовались в жизни - доблесть и энергию своих мужей, мудрость стариков, нежность детей, красоту и кротость женщин, а также свой пейзаж с тонкими силуэтами линий на фоне голубых холмов, свои нарядные дворцы, башни и просторные площади, - все, вплоть до изысканных женских причесок, богато расшитых тканей и великолепной сбруи коней, они считали достойными атрибутами священной истории. Обоготворяя настоящее, они стремились представить его в ореоле наибольшего совершенства: если женщина - то прекраснейшая из прекрасных, если апостол - то мудрейший из мудрых, если пир, то с самыми обильными яствами, если битва - то предельно яростная. ... Даже вполне благочестивые живописцы, как бывший монах Филиппо Липпи, или кроткий Перуджино, учитель Рафаэля, писали богоматерь со своих жен и любовниц, сохраняя портретность; иногда мадоннами оказывались известные всем в городе красивые куртизанки. ... Почти в любом "Святом семействе", или "Поклонении младенцу", есть пейзажный фон, - если к нему присмотреться, то окажется, что эти голубоватые дали обитаемы: там протекает какая-то своя жизнь, словно увиденная в бинокль, - высятся башни, а среди них сельские домики, плывут лодки. идут пешеходы с котомками, бродят по лугам стада. А изображая мадонну с младенцем, художники редко отказывают себе в удовольствии добавить птичку, или вазу с цветами. или какой-нибудь искрящийся стеклянный шар на подлокотнике кресла, или с любовной тщательностью написать сложный узор платья. Светский, мирской дух искусства Возрождения сказывался и в откровенном культе чувственной красоты и грации. Эротики в позднейшем понимании слова у ренессансных художников нет - для этого у них слишком много душевного здоровья; как говорит Ромен Роллан, "все чисто у сильных и здоровых". Есть чистая опоэтизированная чувственность. С обычным своим пристрастием к классификации и системе ренессансные теоретики классифицировали и виды красоты. В трактате Фиренцуолы "О красоте женщин" (Фиринцуола, кстати сказать, был монахом) перечисляются разные типы женской обаяния: наряду с величавостью, скромным достоинством, благородством осанки - всеми благоуханными очарованиями дантовской Беатриче - особо выделяется грация и vaghezza - желанность, неизъяснимая привлекательность, возбуждающая желание. Если применить эти тонкие различия к искусству, то можно, пожалуй, заметить, что во второй половине 15 столетия, сравнительно с первой, в искусстве ослабевает maesta - спокойное, степенное величие - и усиливается vaghezza. И в характере образов и в строе форм проглядывает нечто утонченно-грациозное, инфантильное и вместе с тем - волнующее - невинное и грешное. И это иногда сочетается с реминисценциями готики или скорее, готизирующего Проторенессанса, с новыми вспышками благочестивой экзальтации. ... К концу столетия правители итальянских городов перерождаются в настоящих некоронованных государей, вокруг них образуется слой новой аристократии, патрициата. Гуманистическая культура ими поощряется, приобретает оттенок рафинированности; в античном наследии теперь особый интерес вызывают учения Платона и неоплатоников. С другой стороны, оппозиция демократически настроенных граждан против тирании сопровождается подъемом религиозного фанатизма, протестом против увлечения язычеством. Искусство развивается под перекрестным огнем этих влияний. ...Это особенно отразилось в творчестве замечательного художника позднего кватроченто Сандро Боттичелли. Редко какой художник так переживал и так выражал духовное содержание своей эпохи. Он отразил ее сложные перепутья. В ранних работах Боттичелли преобладают спокойные, "антикизирующие" образы, типичные для зрелого кватроченто. Потом появляется неповторимо боттичелевское нервное изящество линий, хрупкость вытянутых фигур. В пору своего расцвета Боттичелли создает прославившие его картины - "Весна" и "Рождение Венеры", пишет множество мадонн, расписывает фресками стены Сикстинской капеллы, иллюстрирует "Божественную комедию" Данте. К концу века, когда всю Италию потрясают восстания горожан, Боттичелли становится приверженцем Савонаролы, непримиримого врага папства и флорентийских патрициев. Савонарола, восставая против тирании Медичи, восставал и против "языческого" искусства. Он устраивал на улицах города аутодафе, сжигая картины и книги гуманистов. ...Теперь Боттичели навсегда порывает с античными мотиами и сюжетами, не изображает больше обнаженных фигур, пишет неоготические по духу и по форме "Положение во гроб", "Оплакивание Христа". Умер Боттичели в 1510 году, пережив и Медичей, изгнанных из Флоренции, и Савонаролу, сожженного на костре, и свою собственную славу, - обедневшим и забытым. ... Этапы творчества Боттичелли совпадают с этапами духовной жизни Италии. Но на всех этапах он оставался самим собой, особенным, тотчас узнаваемым - это, может быть. наиболее индивидуальный по стилю художник среди всех мастеров кватраченто. Созданные им образы - всегда где-то на грани "бестелесной красоты" и утонченной чувственности. В слиянии того и другого возникает идеал "вечно женственного". Античная и христианская мифология для Боттичелли в этом отношении одинаково приемлема, по крайней мере в лучшем периоде его творчества, - пишет ли он Венеру в окружении нимф или богоматерь с ангелами.
Периоды истории ренессансной культуры Италии принято обозначать названиями столетий: дученто (13 в.) - Проторенессанс, треченто (14 в.) - продолжение Проторенессанса, кватроченто (15 в.) - Ранний Ренессанс, чинквеченто (16 в.) - Высокий Ренессанс. Высокий Ренессанс изживает себя уже к 30-м г.г. 16 века. Он продолжается до конца 16 в. лишь в Венеции; к этому периоду чаще применяют термин "поздний Ренессанс. ... Можно подумать, что никогда столько не строили, не ваяли, не расписывали, как в Италии 15 века. Впрочем это впечатление обманчиво: в позднейшие эпохи художественных произведений появлялось не меньше, - все дело в том, что "средний уровень" их в эпоху Возрождения был исключительно высоким. В средние века искусство было плодом коллективного гения, а Возрождение рассталось со средневековой массовидностью и безымянностью. Архитектура, скульптура и живопись перешли из рук многоликого ремесленника в руки художника-профессионала, утверждающего свою индивидуальность в искусстве. Однако, сделав искусство индивидуальным, Возрождение удержалось на той грани, за которой начинается размежевание художественных индивидуальностей на выдающиеся и посредственные, а потом и засилие посредственностей. Конечно, и в то время были художники более крупные и менее крупные, были гении и были просто таланты, были пролагатели путей и были их последователи, но категория "посредственности" к художникам Возрождения неприменима. Эта эпоха знала честолюбцев, стяжателей, но не знала поставщиков художественных суррогатов. Искусство играло в ее жизни слишком важную роль: оно шло впереди науки, философии и поэзии, выполняло функцию универсального познания. ... Художников высоко ценили. Члены семейства Медичи, фактически властвующие во Флоренции, были меценатами и неподдельными ценителями искусства, особенно Козимо Медичи и его внук Лоренцо Великолепный. Римские папы,герцоги, иностранные короли оспаривали друг у друга честь приглашения итальянских художников к своему двору. Но искусство не становилось придворным и не затворялось только в гуманистических кружках. Оно щедрой волной разливалось по жизни города-государства, отдавая себя на всеобщее обозрение и всеобщий суд. ... По-новому ощущать мир - значило по-новому его видеть. Человек "возродившейся" к новому бытию, увидел себя не в райских эмпиреях, как лирический герой Данте, а на земле. Он хотел освоить мир как реальную арену своих действий. Наука, долго пребывавшая в путах схоластики, не была к этому готова. Жажда познания раньше всего вылилось в форму художественного познания, где аналитическая мысль и непосредственная эмоция не расслаиваются, а взаимопроникают. Первым каналом познания было ясное, трезвое видение, постигающее природу вещей. Наука нового времени начинала свой путь в союзе с искусством, зарождаясь как бы внутри него. ...Человек Возрождения отвергает все зыбкое, аморфное как "варварское": он хочет ясности и еще раз ясности. И он числит и мерит, вооружается циркулем и отвесом, чертит перспективные линии и точку схода; трезвым взглядом анатома постигает механизм движений тела, классифицирует движения страстей и все доступное взгляду, расчленяет, заключает в строгие обрамления и ставит на твердую землю. Но мы очень ошибемся, если сочтем этот рационализм признаком душевной сухости и скучного расчета. Сама "трезвость" эстетики Ренессанса была изнутри романтической: она диктовалась не просто жаждой точного познания, но и жаждой совершенства, верой в достижимость совершенства, вдохновенными поисками абсолюта". К своим наукообразным методам искусство Возрождения поднималось на поэтических крыльях; в пафосе познания природы вещей была сила восторга, пьянящая радость открытия. ... Ренессансные мастера занимались всевозможными "формальными проблемами" очень усердно, нисколько не скрывая; проблемы эти выдвигала общая гуманистическая концепция искусства, увлеченно и страстно исследующего мир. Из этой концепции вытекало и то, что мы называем теперь "светским" характером искусства, который, однако, не означал безрелигиозности. Было бы наивно думать, что религиозные сюжеты (их в ренессансном искусстве не меньше, чем в средневековом) являлись чистой условностью. Нет, в них вкладывалось глубокое религиозное чувство, но ведь чувство это в течении истории принимало столько обликов, сколько и сама история. Люди творили божества по своему идеальному подобию. Мы встречали в религиозном искусстве богов-завоевателей, богов монархов, богов-феодалов, богов-скотоводов и богов - праведных нищих. Для людей Возрождения, так высоко ценивших свои собственные возможности и так дороживших миром, где они жили, дистанция между реальным человеком и Богом сильно сократилась, в искусстве дошла почти до полного исчезновения грани. Все. что они любили и чем любовались в жизни - доблесть и энергию своих мужей, мудрость стариков, нежность детей, красоту и кротость женщин, а также свой пейзаж с тонкими силуэтами линий на фоне голубых холмов, свои нарядные дворцы, башни и просторные площади, - все, вплоть до изысканных женских причесок, богато расшитых тканей и великолепной сбруи коней, они считали достойными атрибутами священной истории. Обоготворяя настоящее, они стремились представить его в ореоле наибольшего совершенства: если женщина - то прекраснейшая из прекрасных, если апостол - то мудрейший из мудрых, если пир, то с самыми обильными яствами, если битва - то предельно яростная. ... Даже вполне благочестивые живописцы, как бывший монах Филиппо Липпи, или кроткий Перуджино, учитель Рафаэля, писали богоматерь со своих жен и любовниц, сохраняя портретность; иногда мадоннами оказывались известные всем в городе красивые куртизанки. ... Почти в любом "Святом семействе", или "Поклонении младенцу", есть пейзажный фон, - если к нему присмотреться, то окажется, что эти голубоватые дали обитаемы: там протекает какая-то своя жизнь, словно увиденная в бинокль, - высятся башни, а среди них сельские домики, плывут лодки. идут пешеходы с котомками, бродят по лугам стада. А изображая мадонну с младенцем, художники редко отказывают себе в удовольствии добавить птичку, или вазу с цветами. или какой-нибудь искрящийся стеклянный шар на подлокотнике кресла, или с любовной тщательностью написать сложный узор платья. Светский, мирской дух искусства Возрождения сказывался и в откровенном культе чувственной красоты и грации. Эротики в позднейшем понимании слова у ренессансных художников нет - для этого у них слишком много душевного здоровья; как говорит Ромен Роллан, "все чисто у сильных и здоровых". Есть чистая опоэтизированная чувственность. С обычным своим пристрастием к классификации и системе ренессансные теоретики классифицировали и виды красоты. В трактате Фиренцуолы "О красоте женщин" (Фиринцуола, кстати сказать, был монахом) перечисляются разные типы женской обаяния: наряду с величавостью, скромным достоинством, благородством осанки - всеми благоуханными очарованиями дантовской Беатриче - особо выделяется грация и vaghezza - желанность, неизъяснимая привлекательность, возбуждающая желание. Если применить эти тонкие различия к искусству, то можно, пожалуй, заметить, что во второй половине 15 столетия, сравнительно с первой, в искусстве ослабевает maesta - спокойное, степенное величие - и усиливается vaghezza. И в характере образов и в строе форм проглядывает нечто утонченно-грациозное, инфантильное и вместе с тем - волнующее - невинное и грешное. И это иногда сочетается с реминисценциями готики или скорее, готизирующего Проторенессанса, с новыми вспышками благочестивой экзальтации. ... К концу столетия правители итальянских городов перерождаются в настоящих некоронованных государей, вокруг них образуется слой новой аристократии, патрициата. Гуманистическая культура ими поощряется, приобретает оттенок рафинированности; в античном наследии теперь особый интерес вызывают учения Платона и неоплатоников. С другой стороны, оппозиция демократически настроенных граждан против тирании сопровождается подъемом религиозного фанатизма, протестом против увлечения язычеством. Искусство развивается под перекрестным огнем этих влияний. ...Это особенно отразилось в творчестве замечательного художника позднего кватроченто Сандро Боттичелли. Редко какой художник так переживал и так выражал духовное содержание своей эпохи. Он отразил ее сложные перепутья. В ранних работах Боттичелли преобладают спокойные, "антикизирующие" образы, типичные для зрелого кватроченто. Потом появляется неповторимо боттичелевское нервное изящество линий, хрупкость вытянутых фигур. В пору своего расцвета Боттичелли создает прославившие его картины - "Весна" и "Рождение Венеры", пишет множество мадонн, расписывает фресками стены Сикстинской капеллы, иллюстрирует "Божественную комедию" Данте. К концу века, когда всю Италию потрясают восстания горожан, Боттичелли становится приверженцем Савонаролы, непримиримого врага папства и флорентийских патрициев. Савонарола, восставая против тирании Медичи, восставал и против "языческого" искусства. Он устраивал на улицах города аутодафе, сжигая картины и книги гуманистов. ...Теперь Боттичели навсегда порывает с античными мотиами и сюжетами, не изображает больше обнаженных фигур, пишет неоготические по духу и по форме "Положение во гроб", "Оплакивание Христа". Умер Боттичели в 1510 году, пережив и Медичей, изгнанных из Флоренции, и Савонаролу, сожженного на костре, и свою собственную славу, - обедневшим и забытым. ... Этапы творчества Боттичелли совпадают с этапами духовной жизни Италии. Но на всех этапах он оставался самим собой, особенным, тотчас узнаваемым - это, может быть. наиболее индивидуальный по стилю художник среди всех мастеров кватраченто. Созданные им образы - всегда где-то на грани "бестелесной красоты" и утонченной чувственности. В слиянии того и другого возникает идеал "вечно женственного". Античная и христианская мифология для Боттичелли в этом отношении одинаково приемлема, по крайней мере в лучшем периоде его творчества, - пишет ли он Венеру в окружении нимф или богоматерь с ангелами.
Льюис Кэрролл
Они сидели на старой перевернутой лодке на берегу моря. Девочка считала волны и рассказывала им о струнах, а Кот просто смотрел, как его передняя лапа то появляется, то снова медленно исчезает.
- Не грусти, – сказала Алиса. – Рано или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно.
- Да, так и будет. Но иногда нужно чуть-чуть помогать этому процессу, а не просто ждать, – ответил Кот. – Стоит знать и чувствовать, как это – правильно.. Иначе есть шанс не понять, когда всё станет на свои места.
- Или есть шанс испортить всё, сделав что-то слишком поспешно или вообще не вовремя, – добавила девочка.
- Нужно начать действовать, когда услышишь колокольчик. Куда бы он ни звал, после первого шага станет легче, а узор будет все отчетливей. Глупо звонить в колокольчик самим, но еще глупее его не слышать, – сказал Кот и исчез, оставив в воздухе только серый полосатый хвост...."
Запись интернет-блоггера
К тому же возникает вопрос – а что такое настоящий «я» и что подразумевается под «самим собой»? Если вот это унылое чмо, которым я являюсь теперь, и есть предел моих возможностей и рыпаться куда-то выше не стоит – то это печально. Чтобы хотеть быть таким «собой», нужно не иметь ни фантазии, ни амбиций, зато иметь патологически зашкаливающий уровень самооценки.
Да не хочу я быть «самой собой»! Я хочу быть как боги! Тем более, что говорят, что-то такое божественное внутри «меня» действительно есть – и хотелось бы верить, что это гораздо более мое настоящее «я», чем я есть теперь. Нужно же хотя бы попробовать докопаться!
Арсений Тарковский
Стань самим собой
Werde der du bist.
Гете
Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны.
И все и всех найдешь в порядке.
А ты - как ряженый на святки -
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.
В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит,-
Он хочет Моиси играть,
А не врагов отца карать.
Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло
Твое заветное число.
Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.
Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышки озаренья
Собой угадан до конца.
Стихотворение (незнакомый мне автор из интернета)
Он жалобы и просьбы почитал…
И людям из кувшина без обмана
Желаемое в сердце наливал…
Но не у всех открыто было сердце
И место есть для Чуда не у всех.
То завистью, враждой подпёрта дверца…
То жадность не даёт налить успех…
А у кого-то до краёв разлита
Печаль и безысходность, вот беда.
И Бог жалел, что сердце это скрыто…
Любви хотел налить, да вот куда?
И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид…
Они с годами в сердце каменеют
И сердце превращается в гранит…
Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюблённые встречал.
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…
А люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…
Ведь если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить,
Кувшин волшебный мог бы весь отдать…
Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»
Ирина Самарина-Лабиринт
Левитанский
Всего и надо, что вглядеться,- боже мой,
Всего и дела, что внимательно вглядеться,-
И не уйдешь, и некуда уже не деться
От этих глаз, от их внезапной глубины.
Всего и надо, что вчитаться,- боже мой,
Всего и дела, что помедлить над строкою -
Не пролистнуть нетерпеливою рукою,
А задержаться, прочитать и перечесть.
Мне жаль не узнанной до времени строки.
И все ж строка - она со временем прочтется,
И перечтется много раз и ей зачтется,
И все, что было с ней, останется при ней.
Но вот глаза - они уходят навсегда,
Как некий мир, который так и не открыли,
Как некий Рим, который так и не отрыли,
И не отрыть уже, и в этом вся беда.
Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,
За то, что суетно так жили, так спешили,
Что и не знаете, чего себя лишили,
И не узнаете, и в этом вся печаль.
А впрочем, я вам не судья. Я жил как все.
Вначале слово безраздельно мной владело.
А дело после было, после было дело,
И в этом дело все, и в этом вся печаль.
Мне тем и горек мой сегодняшний удел -
Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не разглядел!
История про двух младенцев (заимствована у анонимного блоггера)
Попробую объяснить. Лично меня, как верующую, очень мало интересует как раз «достоверность некоторых исторических вещей связанных с этой религией». Смысл веры не в препарировании того, что известно, всего того, что уже было, и что «постоянно возвращается на круги своя». Это не «метод веры», это метод науки, у нее свои цели и свои области. Вера – это то, что находится за пределами научного изучения, «за физикой». Мировоззрение верующего – попытка заглянуть в неизведанное и небывалое, в связывании загадочных знаков. То, во что верующий верит, никак не противоречит научным фактам, оно просто в другой плоскости: «жизнь после смерти» нельзя доказать или опровергнуть научным методом. Как говорит апостол Павел, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна'ю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь». Заметьте, про достоверное знание апостол при этом ничего не говорит.
На эту тему есть старенькая, но теряющая актуальность история про двух младенцев, разговаривающих в утробе матери:
Неверующий: Ты веришь в жизнь после родов?
Верующий: Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.
Неверующий младенец: Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может!
Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?
Верующий: Я не знаю всех деталей, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.
Неверующий: Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает.
Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина – и так уже слишком коротка.
Верующий: Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе представить.
Неверующий: Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте.
Верующий: Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас.
Неверующий: Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?
Верующий: Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.
Неверующий: Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет.
Верующий: Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов.
Имант Зиедонис, из книги "Эпифании" 4
Я хорошо это помню. Был я маленьким и видел в окно, как соседская женщина колотила своего сынишку.
Он стоял у сарая и пел. Мать его колотила, а он смеялся и пел. Она била, а он пел. Она устала бить его, а он пел. Она опустила руки, а он ушел, поглаживая побитые свои плечи и спину, — он шел напевая.
Пойте в переполненных троллейбусах, и если вам придется заплатить за это — заплатите!
Пойте, когда пьете вино. Пойте у могилы. Что ж вы молчите, пойте. Он не услышит. Не для него. Пойте не смерть его, пойте жизнь свою. Не о хвое на могиле, а о том вон листике на верхушке. Пойте себе, живые — вам нужна песня, а не ему.
...Ты ночью проснулся и слышишь — поют соловьи, Вот видишь, песня живет и ночью.
Поешь ли ты только утром, солнечным утром? А песни отчаянья, песни гнева и наступленья?
Да, где она, твоя песнь наступленья? Ты уже победил — и поешь только утром? Или ты побежден — и совсем не поешь?
Имант Зиедонис, из книги "Эпифании" 3
Гениален художник, который убеждает человечество в том, что возможности его, человечества, безграничны.
Поет Гяуров. Летит Зейферт. Летит фигуристка. Публика затаила дыханье. Точка, аплодисменты. Требуют — повторить!
И она летит снова. Так же легко. Публика затаила дыханье. Аплодисменты. Повторить!
И она летит снова, ибо она может все, и я не вижу камня, о который она споткнется.
Так работает художник. Никто не должен догадаться, где граница его возможностей. Я должен поверить в его всемогущество, а потом — и в свое. Я не должен знать, как это трудно — той балерине на сцене, той матери с десятью детьми, или тому мужчине, словно шутя подымающему штангу.
Грустно смотреть, когда тяжеловес, не выжавший штангу, опускает ее наземь. Когда фигуристка падает, она показывает мне границы человеческих возможностей. Когда мать кричит на своих детей, она тоже показывает границы своих возможностей — она говорит, что больше она не может. Этим они отрицают самих себя. И этим они отрицают меня.
Мы не знаем, как трудно ястребу, который недвижно висит в небе и не машет крыльями. Ястреб нам этого не открывает. И этого знать нам не следует.
О певица, не показывай нам, пожалуйста, все мученья своей диафрагмы!
Имант Зиедонис, из книги "Эпифании" 2
Я бы разделил разговоры наши — по этажам.
Вот этаж, где слепой говорит со слепым, глухой говорит с глухим, едящий с едящим, спящий со спящим. Разговоры о погоде и о болезнях, о том, ах, как умен наш ребеночек, и о том, ах, как эта соседка Юле нехорошо поступила.
Почему иным собеседникам никак не закончить беседу, начнут — и умолкнут? Прерывается нить. О чем говорить им, если каждый из них разговаривает на своем этаже? Один говорит, к примеру, на первом, другой — на втором. Что можно сказать сквозь пол? Что можно расслышать сквозь потолочное перекрытье?
Вот этаж, на котором беседуют острый ум и гибкий язык. Здесь играют в теннис мячиками-словами. Удар требует контрудара. Здесь весьма ловко подают и отбивают, гасят и блокируют. Здесь проживают ловкие эквилибристы и жонглеры словами. Здесь прячутся за словами так же, как герои Гольдони за цветочными горшками. Здесь играют в жмурки. Слова флиртуют, гласные кокетничают, согласные развлекают дам. Здесь рассказывают анекдоты. В причудливом свете поблескивает обманчивая мозаика, составленная из разноцветных слов. Это имбирное печенье едят или им украшают елку? Сладостная эта беседа — кардамон, корица, ваниль.
А на том этаже говорят хлебом. Да, здешняя речь — это хлеб, испеченный собственными руками. Слово, которое сам ты замесил и ждал, покуда бродить начнет оно. Сам его клал на лопату, сам сажал его в печь. Да, корочка чуть подгорела, на сей раз слегка подгорела, но в квашне еще много теста, и оно еще бродит, и в другой раз такого уже не случится.
Здесь говорят и камнями. Камнями, которыми можно разбить окно, и камнями, которые укладываются в фундамент.
Здешний язык — брезент. Чтобы дождь не мочил. А если здесь говорят кружевами, то говорят здесь и спицами тоже.
...Это, конечно, не все этажи, да и последовательность у них, наверно, совсем не такая. Но знай, язык мой, что слово есть хлеб насущный, и носитель энергии, носитель моей энергии, идущей к тебе.
Когда силы мне не хватит, придут ли ко мне слова твои и помогут ли мне?
Воскресят ли меня из мертвых слова твои?
Имант Зиедонис, из книги "Эпифании"
Я и не знаю — что там, дальше. Крот из земли вылезает и мне говорит: «Правда, как славно на том вон лугу, на той вон лесной опушке?» Что я ему отвечу? Стыдно признаться, что дальше цепи моей бывать мне не приходилось. И я молча киваю головой — пусть понимает, как знает.
Но иногда, внезапно, в какое-то мгновенье сверкнет передо мною даль. Я могу войти внутрь яйца, не разбив скорлупу. Я проникаю в сейф, не взламывая его. Мир становится для меня тонким и эластичным.
Вчера еще рука моя не могла дотянуться до яблока на ветке, а сегодня я достаю его запросто. Вчера я не мог и подумать о том яблоке, что на самой верхушке, а сегодня я чувствую, что рука моя становится все длиннее и простирается все дальше.
Тогда мне становится страшно — не станет ли она слишком тонкой, такой тонкой, что разорвется, и я одергиваю руку. (Не знаю, откуда он, этот страх быть излишне большим и тонким.)
Но лишь тонкое и есть большое, и нет для него расстоянья. И я опять позволяю руке своей тянуться, вытягиваться, становиться насколько возможно тонкой, насколько возможно длинной, ведь там, на той вон верхушке — яблоко! И рука моя становится все тоньше, все тоньше, скоро она взлетит, как паутинка, в осеннее небо.
И тогда кто-то мне говорит: «Да ведь это вовсе и не рука. Это уже не рука. Разве рука бывает такою? Такою рукою невозможно тянуться за яблоком. И вообще руке не положено быть такою».
Но я-то хорошо знаю, что рука может быть настолько тонкой — почти незаметной, почти невидимой, только угадываемой. Я это знаю, и я не слушаю никого, я тянусь за яблоком, сейчас я его достану.
И вдруг я чувствую — тоньше быть я уже не могу. Это моя граница. И это ужасно больно. Я снова чувствую свою ограниченность. Если чуть-чуть, еще чуть-чуть я потянусь — моя рука порвется. И никак не достать мне того яблока на верхушке.
То же самое происходит со зреньем. То же самое — с обоняньем.
Мои ноздри — тончайшая скрипка. Как она играла в ту грозовую ночь, когда цвел жасмин! Явственно ощущаю запах, похожий на песню Янова дня — так пахнут увядающие листья березы.
Прекрасные песни поют мои ноздри. О, дивное попурри из укропа и из капусты! Запах вара, запах селедки и резиновых сапог приходит ко мне с моря. Свадебные песни — от мирт. А запах увядшей хвои приходит ко мне с кладбищенских тропинок.
Все более тонкие и неуловимые запахи приходят ко мне. Я слышу, как пахнет топор — да-да, он пахнет смолой, но и что-то еще примешивается, что-то еще — кажется, яблони он рубил. Почему?
А как пахнут капли дождя!..
(Ребенок ест хлеб с медом, и сверкающие капельки меда падают наземь...
Вишнями мы уже объелись с тобою, тебе уже лень и рот раскрыть, и я силой вдавливаю сочную вишенку в твои губы...
Однажды я выплеснул полную кружку пива в рожу кому-то, и я не раскаялся в этом...)
Все эти испарившиеся давно запахи остались в дождевых каплях. Когда идет дождь, эти запахи в ноздрях моих играют польку, исполняют ноктюрн или что-нибудь вроде старинного менуэта.
Запахи превращаются в звуки, звуки превращаются в запахи. Как поют по ночам львиные зевы!
— Ах, не может этого быть, быть не может! Это какая-то ненормальность, просто болезненное воображенье!
Вы говорите, не может быть? Можете сами проверить — разденьтесь, догола разденьтесь и выходите под дождь, под его веселые струи! Разве не пахнут капли дождя и лужи — разве не пахнут они семьей и народом, человеческой жизнью?
Разве не отдает баритоном лесной боровик? А разве запах груздей — не альт, а табачок — не сопрано? А разве лисички не пляшут, как балерины?
Дальний лай собак по ночам напоминает тюльпаны.
Звуки эти тихи и тонки. Я начинал уже чувствовать, в каком месте вылезет гриб, и ждал его. Я почти уже слышал смех муравьев над рекой. Я почти уже дотянулся до елочной шишки в небе. Но на полпути испугался — а впрямь, нормально ли это.
И пришел я обратно в мир семицветный, в мир семизвучный.
До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. До-си-ля-соль-фа-ми-ре-до. До-ре-ми-фа...
Семь. И не больше.
Ричард Фейнман
http://www.youtube.com/watc...
1. НА ПУТИ К СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Сатпрем
2. "На пути к сверхчеловечеству" Сатпрем
Шри Ауробиндо. "СЛОВО ОБ ОБЩЕСТВЕ".
Человек не принадлежит обществу, он принадлежит Божественному. Те, кто пытается ослабить в себе Божественное, навязывая своему уму, жизни и душе рабскую преданность обществу и его бесконечным внешним связям, упускает из поля зрения истинную цель человечества. Грех этого самоотречения от божественного предназначения не позволяет Божественному пробудиться в человеке, и сила в нём засыпает. Если вы должны служить чему-то, служите Божественному, а не обществу. В этом служении есть и наслаждение, и прогресс. Величайшее счастье, обретение независимости при сохранении всех внешних связей и неограниченная свобода являются венчающими его результатами.
Общество не может быть целью; это - не более чем средство, инструмент. Самопознание и сила, возникающие в процессе действия и облекаемые в форму Божественным, являются истинными направляющими в жизни человека. Их постепенный рост и развитие является целью духовной эволюции жизни. Это знание, эта сила должны использовать общество как инструмент, формировать его и, если потребуется, модифицировать его. Таково естественное состояние вещей. Не развивающееся и стагнирующее общество становится могилой для безжизненного, нежизнеспособного населения; кипучая жизненная деятельность и излучение силы знания призваны осуществить трансформацию общества. Если человека привязать тысячей нитей к социальной машине и раздавить его, то это приведёт к неизбежной неподвижности и разложению.
Мы преуменьшили значение человека и преувеличили роль общества. Но общество не может так развиваться - оно мельчает, загнивает и становится бесплодным. Вместо того, чтобы использовать общество как средство ускоренного развития человека, мы низвели его роль до уровня инструмента подавления и рабства; это причина нашего вырождения, праздности и бессилия. Возвышайте человека, открывайте врата храма, где Божественное потаённо сияет внутри него. Тогда общество автоматически станет благородным, прекрасным в каждом своём проявлении и превратится в благодатную почву для осуществления свободных и высоких устремлений.
Метки: человек, общество, Божественное.
Как агрессоры сами себя загоняют в угол
Хищник питается организмами-жертвами, которые всегда представлены в значительно большем числе, чем хищник и используют R-стратегию размножения. Пока жертв много, хищники сыты. В ходе эволюции хищник совершенствует стратегию охоты - это дает им возможность конкурировать друг с другом. Чем лучше ты конкурируешь, тем больше шансов оставить преимущество в потомстве за своими генами. Чем эффективнее стратегия охоты хищника, и чем быстрее растет популяция успешных хищников, тем труднее жертве успевать компенсировать потери размножением. В какой-то момент популяция жертвы начнет неуклонно снижаться. В результате количественное отношение хищник:жертва будет расти, а значит хищники будут все чаще оставаться голодными, а это будет еще сильнее подталкивать их к совершенствованию стратегии охоты. Образуется положительная обратная связь, в результате которой ситуация ухудшается в режиме самоускорения. В какой-то момент количество жертв на одного хищника окажется настолько мало, что оставить потомство эти хищники просто не смогут - не хватит ресурсов организма. Это будет означать их вымирание. Популяция жертвы к этому моменту скорее всего будет очень малочисленной, но тем не менее вполне способной восстановиться после исчезновения агрессора.
Это очень полезный урок нынешнему человечеству с его все возрастающими аппетитами.
Фильм "Процветание"
Метки: ПРОЦВЕТАНИЕ, будущее людей на планете
Что есть биотехнологии и как к ним относиться
1) Возможность быстрее и с меньшими трудо- и ресурсозатратами справляться с механической работой: рассчеты, хозяйственные дела, создание общеупотребительных товаров.
2) Возможность быстрее и дальше перемещаться в пространстве, создавать особые условия для каких-то процессов: сверхнизкие и сверхвысокие температуры, давления, частоты и т.д.
3) Возможность «слышать», «видеть», «ощущать» то, что не предназначено нам воспринимать природой наших органов чувств.
4) Возможность творить произведения искусства – вещи, которые будут радовать нас вне связи с утилитарно-практической пользой. (Важно отметить, что технология здесь может применяться только на этапе собственно исполнения, но не разработки замысла. А почему собственно, мы интуитивно чувствуем уверенность в этом, почему нам претит мысль о том, чтобы техника сама производила для нас произведения искусства?).
Но ведь на самом деле это еще не ответ на вопрос "зачем". Так зачем же? Только ответив на этот вопрос, можно продолжать рассуждения по поводу желательности или нежелательности биотехнологий и границ их применения.
Интуиция подсказывает мне, что любая технология из перечисленных в качестве своей конечной цели подразумевает расширение возможностей самореализации творческой личности человека. 1 и 2 пункт – как освобождение от траты времени и сил на механическую работу. 3 и 4 как возможность почувствовать, узнать и сотворить больше, чем мы могли бы при использовании только средств, данных нам от природы. И именно поэтому и не хотим мы, чтобы техника брала на себя роль творца, – потому что это как раз та часть работы, которую мы хотим делать САМИ.
Таким образом технология создается ради поддержания и самореализации Творческой Личности. И никак иначе. Это будет пункт первый, на который далее следует ссылаться при решении любых вопросов относительно желательности, допустимости и границ внедрения технологий.
Теперь ближе к биотехнологиям. Поговорим об отношениях между нами и природой. Что такое любая наша технология? В большинстве случаев это плохенькая попытка подражать природе. Плохенькая потому, что ни один наш механизм не сравнится с гибкостью, приспособляемостью, эффективностью работы аналогичных «изобретений» природы. Единственное преимущество наших технологий - в их мощности (силе, скорости и т.д.). Мы предпринимаем попытки создать «искусственный интеллект», но самым интеллектуальным нашим роботам не справиться с такой проблемой, как ошибка в программном коде. А природа неуклонно развивается как раз через подборку подобных ошибок, что, конечно же, было бы невозможно, если бы организм не мог к таким ошибкам адаптироваться. Мы гордимся нашими невероятными успехами в биологии, но мы до сих пор не поняли функционирование живого организма настолько, чтобы искусственно воспроизвести нечто вроде хотя бы самой простенькой клетки. Можно представить себе природу как маму, которая смотрит, как подрастает и развивается ее несмышленый малыш, человек. Как он играется со всякими конструкторами. И в зависимости от того, что он делает, она то гордится его успехами (она не исключает, что придет время и малыш в чем-то превзойдет ее, даже мечтает об этом), то укоризненно сдвинет брови и покачает головой, но промолчит, надеясь, что в конце концов малыш сам поймет, что делает что-то не то и одумается, а то и шлепнет, чтобы неповадно было. Особенная гордость - творческие успехи ее малыша. Сама она прожила долгую и насыщенную жизнь, научилась здорово варить суп, а вот рисовать и сочинять истории так, как этот ребенок - не умеет. Малыш подрастает и ему предоставляется все больше свободы с учетом того, что он становится сознательнее. А ведь он может по неразумию сделать опасную игрушку, особенно если неплохо разбирается в физике/химии и может сделать что-нибудь достаточно мощное. Прежде всего, опасную для себя. Кто-то в детстве прыгает со второго этажа с зонтиком, уверенный, что он сработает как парашют. Ну, если повезет не сломать шею, и если хватит ума сделать выводы, то больше уже с зонтиком прыгать не будет. И он при этом не откажется от мысли научиться летать. Но поймет, что прежде, чем он сумеет это сделать, ему нужно получше разобраться в правилах, по которым работает этот мир.
Пока малыш играется с конструктором – мама особенно не волнуется. Потому что это не касается ее дел. Она доверяет, что уж ребенок с этим конструктором наверняка справится не хуже, а то и лучше нее. Волнуется, но не слишком. Ну а если малыш полезет в мамины дела? В мамину аптечку, из которой она берет лекарства, когда ребенка нужно вылечить от какой-то нехорошей болезни? Если начнет экспериментировать с маминым супом?
Я помню детскую книжку-сказочку про ребенка, который однажды нашел аптечку с всяческими разноцветными пилюлями. Ребенок знал, что это лекарства, которые нужны, чтобы лечить болезни и он принял их с мыслями о том, что вот я сейчас выпью таблеток от всего-всего и уж точно ничем не заболею. Сказка закончилась хорошо и назидательно: ребенка спасли и хорошенько ему все растолковали. Наши знания о том, как функционирует живой организм на уровне генетики и физиологии – примерно эквивалентны (в процентном отношении) знаниям этого ребенка о назначении лекарств в аптечке. Это второй пункт, который надо иметь в виду, когда мы рассуждаем о биотехнологиях.
Теперь попробуем перейти к анализу собственно репродуктивных биотехнологий, помня пункт 1 и 2. Что они нам дают или могут дать в смысле самореализации как творческой личности. Очевидно, что человек, который носит ген, отягчающий его состояние здоровья, тем не менее может быть яркой творческой личностью и следовательно, селекция против него – это преступление. Может быть даже так, что именно недуг и выпятит весь его творческий потенциал – если этот человек обладает достаточно сильной волей к ЖИЗНИ в самом высоком смысле этого слова. Согласимся, что 5 лет полноценной творческой жизни не уступают по своей ценности 50 годам жизни скучной и немотивированной (скорее есть ощущение, что наоборот). Значит, если мы будем иметь возможность создать технологии, в которых этот человек будет-таки иметь физическую возможность самореализации – то это хорошо, правильно и необходимо. Будет ли это генотерапия, или протезы, или экзоскелеты, способные управляться сигналами от нервов пациента, или отбор гамет/зародышей на предмет присутствия аномального гена, несовместимого с полноценной жизнью – все это стоит того, чтобы дать возможность реализации личности. Но в то же время надо чувствовать ограничения, связанные с пунктом 2. Используя любую технологию, связанную с вмешательством в «мамин суп» мы рискуем, что недостаточно еще поняли секрет этого супа и что-нибудь испортим. Ради чего стоит идти на такой риск (обозначающий, что учиться придется на собственных ошибках)? Ради потенциальной реализации творческой личности – пожалуй, что да. А ради голубых глаз и кудряшек, ради повышения IQ – нет. Потому что это уже та область, в которой мама продвинулась гораздо дальше. Мы знаем, что мама кладет в суп лавровый лист и говорит, что так суп получается гораздо вкуснее. Мы можем из лучших побуждений сыпануть всю пачку лаврового листа…а есть потом, между прочим, самим придется.
В сходном ракурсе нужно оценивать любые технологии. Помнить, ради чего, и помнить, чем рискуем.
Жизнь как она есть, или Счастье без компромиссов
Друзья, в моей жизни произошло знаменательное событие, я сделал то, к чему шёл долгое время. Я стал автором книги и теперь все, кому это интересно могут заказать её по этой ссылке.
http://konzeptual.ru/products/zhizn-kak-ona-iest-ili-schastie-biez-kompromissov
Жду ваших отзывов!
2. Обсуждение одной из главных тем Новогоднего послания.
1.Обсуждение одной из тем Новогоднего послания. Присоединяйтесь!
"Хаий ибн Якзан" - Живой, сын Бодрствующего" Ибн Сина.
Беседа Матери от 9.06.1929 "О РЕЛИГИИ".(окончание)
Все свои взаимоотношения, взаимосвязи вы должны заново построить на основе свободы внутреннего выбора. Своими привычками и укладом жизни вы обязаны влиянию среды, коллективным внушениям и выбору, который за вас кто-то сделал. В самом факте вашего молчаливого согласия неизбежно присутствует элемент принудительности. Религия тоже относится к разряду вещей, вам навязанных; чаще всего религия держится на страхе или угрозе духовного или иного порядка. Никакое принуждение в ваших взаимоотношениях с Божественным недопустимо; они должны быть свободными и выражать свободное волеизъявление вашего ума и сердца, сопровождаться радостью и воодушевлением. Можно ли говорить о свободе выбора, когда вы, дрожа от страха, признаёте: "Я вынужден был сделать это, по-другому никак было нельзя"?
Истина сама по себе очевидна и не нуждается в том, чтобы её навязывали миру и чтобы люди обязательно принимали её. Ибо она существует сама по себе; она не зависит от того, что о ней говорят люди, от того, есть ли у неё сторонники и сколько их. А вот тот, кто создаёт религию, нуждается во множестве приверженцев. Люди судят о могуществе и величии религии по тому, сколько у неё последователей, хотя подлинное величие религии не в этом. Не числом сторонников определяется величие духовной истины. Мне был знаком глава одной из новейших религий, и я сама слышала, как он говорил, что на созидание, например, такой-то или такой-то религии ушли целые столетия, в то время как его религия, которой не было и пятидесяти лет, располагала уже четырьмя миллионами сторонников. "Теперь вы сами видите, - добавил он, - что наша религия - великая религия!" И действительно, если в качестве меры величия религии можно использовать количество верующих, то для истины в этом необходимости нет: истина всегда оставалась бы истиной, даже если бы у неё не было ни единого сторонника. Для обычного человека притягательны такие фигуры, которые выдают себя за великих личностей; он не стремится попасть туда, где истина являет себя без помпы. Людям с великими притязаниями, чтобы показать себя, требуется широкая реклама, потому что как иначе можно привлечь массы? Работа, выполняемая независимо от того, что о ней думают люди, мало кому известна и не собирает большое количество сторонников за короткое время. Истина в рекламе не нуждается; она не прячется, но и не кричит о себе. Она довольствуется тем. что просто являет себя, не взирая на последствия, она не ищет одобрения, но и не бежит от осуждений, признание или порицание мира равны для неё: они её не прельщают и не тревожат.
Когда вы обращаетесь к йоге, вам следует быть готовыми к тому, что ваши умственные построения, всё то, в чём находило опору витальное существо, будут разрушены. Вы должны быть готовы к состоянию полной "подвешенности", когда опереться вам совершенно будет не на что, кроме одного - собственной веры. Вам нужно будет полностью забыть ваше прошлое "я" и все его прежние склонности, с корнем вырвать всё это из сознания для того, чтобы вновь родиться уже свободным от всякого рабства. Не думайте более о том, кем вы были, но о том, кем вы стремитесь быть; живите целиком и полностью в том, что хотите осуществить. Отвернитесь от своего мёртвого прошлого и глядите только вперёд, в будущее. У вас будет только одна религия, одна страна, одна семья: БОЖЕСТВЕННОЕ.
Метки: мать, религия, истина, Божественное, свобода Духа.
Другая модель эволюции человека
Метки: Другая модель эволюции человека, праноеды, ребенок праноед
План Даллеса: Миф или Реальность?..


ПЛАН ДАЛЛЕСА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СССР (РОССИИ)
Аллен Даллес (1893-1969 гг.) работал в ЦРУ США с момента его
создания в 1947 году. В 1942-1945 гг. руководил политразведкой в Европе.
Директор ЦРУ в 1953-1961 годах. Идеолог «холодной войны», один из организаторов разведывательной деятельности против СССР и других социалистических стран.
Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь и оболванивание и одурачивание людей!
Человеческих мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей – отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности.
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов.
Вот так мы это сделаем!
А. Даллес.
«Все, что требуется для торжества зла – это бездействие
порядочных людей.»



Метки: план даллеса
Далекое будущее человечества.
Метки: Далекое будущее человечества
Клайв Стейплз Льюис. Человек отменяется
Ирод воинам велел
Деток убивать.
Рождественская песня
Я не уверен, что мы понимаем, как важны школьные учебники и хрестоматии. Именно потому я и начну с беседы о небольшой книжке, предназначенной английским «ученикам и ученицам старших классов». Должно быть, авторы (их двое) не замышляли злодеяний, и прежде всего я должен выразить благодарность им или издателю за то, что мне прислали в подарок экземпляр с лестной надписью. Однако ответить лестью я не могу. Положение у меня щекотливое. Я не хочу бранить двух честных учителей, пытающихся принести добро, но я не могу скрывать, почему я с ними не согласен. Поэтому я назову их Каем и Титом2, а книгу их — «зеленой книгой», по цвету обложки. Заверяю читателя, что книжка эта существует и лежит сейчас в моей комнате. Кай и Тит рассказывают известную историю про Колриджа3 и водопад. Наверное, вы помните, что водопадом любовались, кроме поэта, еще двое. Мужчина сказал: «Какое величие!», а женщина: «Какая прелесть!», и Колридж одобрил про себя первую фразу, от второй же его передернуло. Кай и Тит комментируют это событие: «Когда человек произнес слово „величие“, он думал, как и другие, что определяет водопад. На самом же деле… он определял лишь собственные чувства. В действительности он сказал: „…водопад вызывает у меня чувства, связанные в моем уме с понятием величия“, или, короче: „…вызывает у меня чувство величия“. Уже в этих фразах ставится немало проблем, весьма достойных обсуждения. Однако авторы говорят, что такое смещение мы допускаем на каждом шагу; мы думаем, что говорим что-то важное о явлении или предмете, на самом же деле мы говорим только о собственных чувствах.
Прежде чем рассуждать, какие плоды может принести этот небольшой отрывок (напомним — предназначенный для школьников), мы должны объяснить и опровергнуть одну простую ошибку, в которую впали Кай и Тит. С любой точки зрения, даже с их собственной, человек, говорящий: «Какое величие!», никак не имеет в виду, что у него какое-то «чувство величия». Примем, удобства ради, неверную мысль и поверим на минуту, что величие — лишь проекция наших чувств; однако и тогда сами чувства надо определять словом «восхищение». Говорящий восхищен, перенесен ввысь, а для этого нужно ощущать, что ты был внизу. Тем самым фраза «Какое величие!» свидетельствует прежде всего о смирении; еще проще сказать, что без смирения не признаешь великим никого, кроме себя. Вообще же, если развить эту мысль, она приведет к явным нелепостям. Тогда выходит, что слова «Какая гадость!» значат: «У меня гадкие чувства». Но хватит об этом. Несправедливо упирать на то, что Кай и Тит, вероятно, написали по нечаянности.
Школьник, прочитавший приведенные выше слова, должен сделать два вывода: все оценочные высказывания свидетельствуют исключительно и только о чувствах говорящего; тем самым, высказывания эти практически пусты. Конечно, Кай и Тит ничего подобного не заявляли. Они разбирают только одно оценочное высказывание, предоставляя школьникам распространить такой подход на все остальное. Путь этот открыт, между тем никаких оговорок в «зеленой книге» нет. Мы не знаем, хотят ли авторы, чтобы школьники взяли на себя вышеупомянутый труд; быть может, они об этом и не подумали. Но я рассуждаю не о том, чего они хотят, а о том, какое воздействие оказывает их книга. Не говорили они и слов «оценочные высказывания хуже других». Они говорят: «…он думал, что…», «на самом же деле он определил лишь собственные чувства». Какой школьник избежит воздействия этого «лишь»? Нет, я не хочу сказать, что школьник сознательно создаст связную философскую теорию. В том-то и сила Кая с Титом, что они обращаются к детям — к существам, которые просто «готовят уроки», не помышляя, что в игру вступила этика. Школьник воспринимает не догму или систему, а некое мнение, которое принесет плоды через десять лет; он не вспомнит, где его читал, оно всосется в душу и определит его позицию в споре, когда он и знать не будет, что идет какой-то спор. Должно быть, Кай и Тит сами не ведают, что творят, а уж читатель несомненно не ведает, что творят с ним.
Прежде чем начать рассуждения о ценностях как таковых, я попытаюсь показать, какие практические результаты дает точка зрения Кая и Тита. В четвертом разделе они приводят дурацкую рекламу так называемого круиза и увещевают читателя не писать в подобном стиле. Реклама сулит тому, кто купит билеты, что он «пересечет океан, чьи волны бороздил корабль Дрэйка4 „, „увидит чудеса и красоты обеих Индий“ и привезет домой „сокровища счастливых часов и дивных“, опять же, «красот“. Конечно, стиль ужасен; здесь нагло эксплуатируются чувства, которые испытываем мы, увидев места, связанные с историей и легендой. Если бы Кай и Тит, выполняя обещанное, учили школьников хорошо писать, они поместили бы рядом отрывки из лучших писателей, где выражены те же чувства, и обстоятельно объяснили, в чем разница.
Они могли бы привести знаменитый отрывок из Джонсона5 , которым заканчиваются «Западные острова»: «Я не завидую тому, чье чувство родины не оживет на земле Марафонской и чье благочестие не возрастет у развалин Айоны». Они могли бы взять те строки из «Прелюдии» Вордсворта6 , где поэт описывает, как древность английской столицы впервые поразила его. Сравнение рекламы с такими образцами слога научило бы многому. Во-первых, это требует труда, что само по себе неплохо; во-вторых, школьник увидел бы, как пишут классики, — Кай и Тит удивительно скупо знакомят его с ними.
Что же делают Кай и Тит? Они дают понять, что роскошный пароход почему-то не окажется там, где плыли корабли Дрэйка, что красот и чудес пассажиры не увидят и никаких сокровищ домой не привезут, так что лучше им было просто съездить в Маргэйт7. Развенчать ту рекламу нетрудно, это под силу и людям, менее даровитым, чем Кай и Тит. Намеренно или нечаянно они не заметили другого: если пользоваться их методом, можно высмеять самую лучшую поэзию и прозу, говорящую нам о тех же чувствах. Какое отношение, в конце концов, имеют средневековые развалины к благочестию англичанина, жившего в XVIII в.? Почему таверна уютней и воздух целебней, оттого что Лондон существует больше тысячи лет? У Кая и Тита не поднимается рука на Джонсона и Вордсворта (а также на Лэма8, Вергилия, Томаса Брауна9, Уолтера де ла Мэра10), но авторы сделали все, чтобы читатель довершил недовершенное.
Школьник ничего не узнает о литературе из разбора рекламных фраз. Зато он узнает без затраты сил (и запомнит надолго), что чувства, вызванные прославленными местами; глупы и смехотворны. Ему никак не понять самому, что такая реклама не обольщает лишь тех, кто ниже ее, и тех, кто выше. Иммунитетом обладают поистине тонкие люди и «гориллы в штанах», для которых любой океан — определенное количество литров холодной и соленой воды. Школьнику об этом не догадаться, а книжка ему не помогла. Напротив, она поддержит его, когда он отмахнется от «Западных островов», гордясь, что он — человек разумный, не какой-нибудь слюнтяй. Поистине, что может быть опасней! Кай и Тит, ничего не поведав о литературе, ловко вырезали кусок из его души, пока он слишком молод, чтобы сопротивляться. Они лишили его большой радости: он не сможет разделить с великими чувства, которые испокон веков считались добрыми и душеполезными. Кай и Тит не одиноки. Автор другой книжки, которого я назову Орбилием, проделал ту же операцию под тем же наркозом. Текст он выбрал другой — статейку о лошадях, где эти прекрасные существа названы «добрыми помощниками» каких-то колонистов. Однако он и слова не сказал о плачущих конях Ахилла, о коне в Книге Нова, о давней любви человека к «брату нашему волу», о Братце Кролике и кролике Питере11 — короче, о том, сколько значило в истории и будет значить всегда восприятие животного как личности. Не говорит он и о так называемой «психологии животных», которую все же изучает наука. Зато он объясняет, что лошади, строго говоря, не были заинтересованы в колониальной экспансииI. Вот и все, больше школьники ничего не узнали. Они не узнали, почему статейка плоха, если так хороши другие сочинения на эту тему. И совсем не узнали, даже не подумали, что такие статейки безопасны для двух типов людей: для тех, кто по-настоящему любит животных, и для городских идиотов, которые считают, что лошадь никому не нужна, когда есть автомобили. Школьник утратит радость, которую дарил ему пес или пони; ему станет легче обидеть или даже мучить животное; наконец, он обретет гордое и вредное ощущение: «Кто-кто, а я-то не дурак!» Таковы плоды урока английской словесности, в которой словесности этой места не хватило. Вот и еще одну часть человеческих ценностей отняли у детей, пока они не могут сами разобраться.
До сих пор я исходил из предпосылки, что авторы этих книжек не ведают, что творят. Но возможно и другое, похуже: они хотят воспитать именно «гориллу в штанах». Чужая душа — потемки. Быть может, им кажется, что нормальные чувства к животным, к прошлому или к природе противны разуму, а потому подлежат уничтожению. Быть может, они хотят очистить юное сознание от всякого хлама. Если Кай и Тит думают так, я скажу, прежде всего, что касается это уже не словесности, а философии. Отец или учитель, покупающий «зеленую книжку», обмануты — вместо труда профессиональных преподавателей словесности им всучили труд непрофессиональных философов.
Однако я все же не верю, что Кай и Тит решили протащить свои философские взгляды, коварно притворяясь, что учат детей языку. Мне кажется, они попали в ловушку, и по нескольким причинам. Во-первых, наука о литературе сложна; гораздо легче сделать то, что они сделали. Необычайно трудно объяснить, почему плох тот или иной прозаический или поэтический отрывок. Зато разоблачать чувства, противопоставляя им здравомыслие, может просто каждый. Во-вторых, Кай и Тит, наверное, честно заблуждаются, думая о том, что особенно важно воспитать в наши дни. Они видят, что мир сей то и дело «бьет на чувства»; они знают, что дети чувствительны, и выводят отсюда, что нужно укрепить детский ум, чтобы он не поддался пропаганде. Я и сам учитель, и опыт говорит мне об ином. На одного ученика, которого надо спасти от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасти от бесчувственности. Нынешний учитель должен не расчищать джунгли, но орошать пустыню. Единственное спасение от ложных чувств — чувства истинные. Удушая чувствительность у ребенка, мы добиваемся лишь того, что пропаганде будет легче его одурманить. Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствление сердца не помогает против размягчения мозгов.
Однако есть и третья, более тонкая причина, заманившая Кая и Тита в ловушку. Быть может, Кай и Тит считают, что цель достойного воспитания — развить одни чувства и подавить другие. Быть может, они пытаются именно это и сделать. Но попытка обречена на провал. Сработает только разоблачительная часть. Чтобы объяснить, почему я так считаю, отвлечемся ненадолго и поговорим, чем же отличаются педагогические предпосылки Кая и Тита от всего, что бывало раньше.
До недавнего времени все педагоги и вообще все люди верили, что мир может вызвать и правильную, и неправильную оценку. Они принимали как данность, что внешние явления не только получают ту или иную оценку, но и заслуживают ее. Колридж согласился со своим спутником, а не со спутницей, ибо сам он считал, что неодушевленная природа такова, что по отношению к ней одни определения верны, а другие — ложны. Кроме того, он полагал, что спутники его придерживаются этих же мнений. Человек, применивший к водопаду слово «величие», отнюдь не собирался описывать свои чувства; он описывал, точнее, оценивал то, что видел перед собой. Если же не принимать этих предпосылок, говорить вообще не о чем. Если слова «Какая прелесть!» определяют лишь чувства некой дамы, Колридж не вправе осуждать это высказывание или возражать ей. Предположим, дама воскликнула: «Мне дурно!» — не ответит же он: «Ну что вы! А я чувствую себя превосходно». Когда Шелли12, сравнивая чувства с эоловой арфой, говорит, что они отличаются от арфы, ибо могут настраиваться в лад с ветром, рождающим звуки, он принимает ту же посылку. «Станешь ли ты праведным, — спрашивает Трэерн13, — пока не воздашь должное тому, что тебя окружает? Все создано для тебя, ты же создан, чтобы оценить каждое создание Божье согласно его истинной цене»II.
Августин определяет добродетель как ordo amoris — справедливую, сообразную истине иерархию чувств, воздающих каждому творенью столько любви, сколько оно заслуживает»III. Согласно Аристотелю, цель воспитания в том, чтобы ученик любил и не любил то, что должноIV. Когда придет пора сознательной мысли, такой ученик легко отыщет основания этики; человек же испорченный не увидит их и, скорее всего, не сумеет жить достойноV. Еще раньше Платон сказал то же самое. Человеческий детеныш не может поначалу дать правильных ответов. В нем надо воспитывать радость, любовь, неприятие и даже ненависть по отношению к тому, что заслуживает этих чувствVI. Согласно раннему индуизму, доброе поведение состоит в согласии и даже слиянии с «rita» — могущественным порядком или узором будущего, который отражен в порядке мироздания, в нравственном добре и храмовом ритуале. Rita, т. е. праведность, правильность, порядок, то и дело отождествляется с satya, т. е. правдой. Подобно Платону, сказавшему, что добродетелью держатся звезды, индийские учителя говорили, что боги подчиняются rita.
Говорят об этом и китайцы, называя нечто великое (точнее, величайшее) словом «дао». Определить дао заведомо невозможно. Это — суть мироздания; это — путь, по которому движется мир. Но это и путь, которым должен следовать человек, подражая порядку Вселенной. Ритуал тем и ценен, «что он воспроизводит слаженность природы. Ветхозаветный псалмопевец тоже славит закон и заповеди за то, что они — „истина“VII.
Такое миросозерцание я для краткости буду обозначать в дальнейшем как «дао». И у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у ветхозаветных иудеев, и у восточных народов бросается в глаза одна общая и очень важная мысль. Все они признают объективную ценность; все они считают, что одни действия и чувства соответствуют высшей истине, другие — не соответствуют. Человек, подчиняющийся дао, может назвать ребенка милым, а старика — почтенным, выражая не собственные эмоции, но некие объективные свойства, которые мы обязаны признавать. Скажем, я (это так и есть) устаю от маленьких детей, но дао предписывает мне считать это моим недостатком в прямом, даже не нравственном смысле слова — в том смысле, в каком мы называем недостатком плохой слух. Поскольку оценки наши свидетельствуют о признании объективного закона, чувства могут быть в ладу и не в ладу с истиной. Само по себе чувство — не суждение, и потому оно внеположно разуму. Однако оно может быть разумным и неразумным, в зависимости от того, сообразно оно или несообразно разуму. Сердце не заменяет головы, но должно подчиняться ей.
Именно этому и противостоит миросозерцание Кая и Тита. Они отвергли изначально малейшую связь между чувством и разумом. Применяя к водопаду слово «величие», мы подразумеваем, что чувства наши сообразны объективной действительности, т. е. говорим далеко не только о чувствах, точно так же, как, заметив «Туфли не жмут мне», говорим не только об ощущениях, но и о туфлях. Этого никак не поймут создатели «зеленой книжки». Для них оценочные суждения свидетельствуют лишь о чувствах, а чувства, с их точки зрения, не могут быть ни в ладу, ни в разладе с разумом. Они иррациональны, как иррационально явление природы, другими словами — к ним неприменимо понятие ошибки. Вот и выходит, что мир явлений, лишенных объективной оценки, и мир чувств, не поверяемый истиной или ложью, правдой или неправдой, совершенно независимы друг от друга.
Таким образом, цель обучения и воспитания всецело зависит от того, верите вы или не верите в дао. Если вы верите, цель эта в том, чтобы привить ученику оценки и мнения, пусть не осознанные, но достойные человека. Если не верите и не забыли логику, все чувства для вас будут какой-то мглою, скрывающей «вещи как они есть». Тогда вы попытаетесь искоренить чувства из детской души (вы уж простите меня за устаревшее слово) или оставите несколько чувств по причинам, нимало не связанным с их сообразностью правде. В последнем случае вы займетесь довольно сомнительным делом, а именно — станете «влиять» на учеников, попросту — колдовать, чтобы у них в сознании сложился угодный вам мираж.
Наверное, будет понятней, если я приведу конкретный пример. Когда римлянин говорил сыну: «Dulce et decorum est pro patria mori»14, он и сам себе верил. Отец преподавал сыну чувство, которое представлялось ему сообразным с объективной системой ценностей. Он давал лучшее, что было у него в душе, чтобы воспитать душу сына, как дал он частицу своей плоти, чтобы сын обрел плоть. Однако создатели «зеленой книжки» не верят сами, что такое определение героической смерти и впрямь что-то означают. В конце концов, смерть не съедобна и сладостной, т. е. сладкой, быть не может; более того — навряд ли умирание вызывает приятные чувства. Что же до decorum, слово это говорит лишь о том, как примут нашу смерть другие, если вообще о ней подумают, причем от мыслей их вам нет ни малейшего прока. Перед Каем и Титом лежат два пути: 1) они должны пойти до конца и отвергнуть вышеуказанные чувства или 2) они должны внушать (прекрасно зная, что лгут) чувства, которые принесут ученику разве что гибель, потому что обществу полезно, чтобы молодые люди думали и чувствовали именно так. Даже во втором случае разница между прежним воспитанием и новым предельно велика. Прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека; теперь он просто разводит пропаганду.
К чести своей, наши авторы избрали путь №1. Пропаганды они не выносят не потому, что это вытекает из их воззрений, а потому, что они, лучше своей философии. По-видимому, Кай и Тит смутно ощущают, что мужество, доброту и честность можно как-то оправдать, исходя из «разумных», «научных» или «современных» предпосылок. (Об этом мы поговорим во второй главе.) Правда, сами они ничего не обосновывают и занимаются только развенчанием.
Второй путь безнравственней и циничней, но оба пути одинаково опасны. Примем на минуту, что некоторые (должно быть, стоические) добродетели можно обосновать, и не помышляя о незыблемых, высших ценностях. Если чувства не натренированы, уму не справиться с животным, плотским началом. Я согласен играть в карты со скептиком, которому твердо внушили, что «джентльмен — не шулер», но ничто не заставит меня играть с моралистом, выросшим среди шулеров. Разум правит страстями; голова правит утробой при помощи сердца, т. е. при помощи хорошо поставленных чувств. Между человеком разумным и человеком плотским есть надежный посредник, которого можно назвать и сердцем, и благородными чувствами. Собственно, только этот посредник и дает нам право на титул человека, ибо ум приравнивает нас лишь к духам, плоть — к животным.
«Зеленая книжка» способствует созданию Человека Бесчувственного. Обычно его называют разумным, что позволяет ему считать любой укор нападками на свой разум. Это неверно. Такие люди ничуть не умнее других. Да и с чего бы? Преданность правде и благородство ума не продержатся без чувств, неугодных Каю и Титу. Людей этих отличает от прочих не преизбыток разума, а недостаток живых и возвышенных чувств. Головы их кажутся большими лишь потому, что у них очень чахлая грудь.
Жизнь наша настолько смешна и печальна, что мы неотступно мечтаем о тех самых качествах, которые сами же подрубаем на корню. Разверните газету — там написано, что нам насущно необходимы «инициатива», или «творческий дух», или «жертвенность». По какой-то нелепой простоте мы вырезаем нужный орган и требуем, чтобы организм работал нормально. Мы лишаем людей сердца и ждем от них живости чувств. Мы смеемся над благородством и ужасаемся, что вокруг столько подлецов. Мы оскопляем мужчин и требуем от них потомства.
II. Путь
Человек поистине благородный
укрепляет ствол.
Конфуций
Если воспитывать людей в духе «зеленой книжки», общество погибнет. Но это еще не значит, что борьба с «субъективным подходом к ценностям» теоретически неверна. Истинная теория может быть такой, что, приняв ее, некий человек может погибнуть. Согласно закону (дао), этого основания недостаточно, чтобы ее отвергнуть. Однако нам и не надо к нему прибегать. Теория Кая и Тита даст нам немало других.
Как бы скептически ни относились Кай и Тит ко многим традиционным ценностям, какие-то ценности для них, несомненно, существуют, иначе они не стали бы писать книгу, цель которой — определенным образом сформировать сознание ученика. Быть может, они хотят привить эти ценности не потому, что считают их соответствующими истине, а потому, что считают их полезными для общества. Нетрудно (хотя и немилосердно) вывести из «зеленой книжки» их идеал человека. Но это, к тому же, и не нужно. Нам важна сейчас не цель их, а самый факт, что цель у них есть. Упорно отказываясь назвать ее «хорошей» и называя «полезной», они хитрят. Можно спросить их: «Кому и чему она полезна?» В конце концов, Каю с Титом придется признать: что-то кажется им хорошим само по себе. Ведь книжка написана, чтобы убедить ученика, а только злодей или слабоумный убеждает другого в том, что не считает правильным.
На самом деле Кай и Тит слепо верят в систему ценностей, которая была модной в 20—30-х годах среди довольно образованных и обеспеченных людей VIII. Скепсис их — поверхностный, касается он только чужих ценностей; что же до своих, им как раз не хватает скепсиса. Это не редкость. Многие их тех, кто разоблачает традиционные ценности (сами они скажут «сентиментальные»), хранят верность другим, своим, которые кажутся им застрахованными от разоблачений. Они потому и отрицают чувствительность, набожность или сексуальные запреты, чтобы дать место под солнцем ценностям «реалистическим». Попробую разобраться в том, что будет, если они перейдут от слов к делу. Возьмем альтруизм, т. е. качество, при котором человек предпочитает чужие интересы собственным, а в пределе — жертвует жизнью. Предположим, что обновитель считает сентиментальной чепухой слова «…кто душу свою положит» и хочет разделаться с ними, чтобы освободить место для «реалистического» или «здорового» альтруизма. На что он может опереться?
Прежде всего, он может сказать, что альтруизм и даже смерть за других полезны для общества. Конечно, он имеет в виду смерть одних членов общества ради других. Но почему именно эти, а не иные должны жертвовать жизнью? Призывы к совести, чести или милосердию исключены изначально. Подыскивая повод, обновитель может задуматься о том, почему, собственно, эгоизм считают более разумным, чем альтруизм. Это хорошо. Если под разумом понимать то, что применяют Кай и Тит, развенчивая ценности (берется суждение, основанное, в конечном счете, на показаниях чувств, и из него выводится другое), если понимать нечто подобное, то ответ прост: эгоизм не разумней альтруизма, и не безумней. Никакой выбор нельзя назвать ни рациональным, ни иррациональным. Из суждения о факте нельзя вывести ничего. Из фразы «Это спасет людей» ни в коей мере не следует: «Значит, я это сделаю». Тут необходимо промежуточное звено: «Людей спасать нужно». Однако из фразы «Но ты же погибнешь!» тоже не следует: «Значит, этого делать не надо»; подразумевается промежуточное звено: «Мне гибнуть нельзя». Обновитель хочет вывести выбор из констатации факта, но, сколько он ни пытайся, это невозможно. Если он это поймет, он, как в былое время, может прибавить к слову «разум» слово «практический» и признать, что, совершенно неизвестно почему, суждения типа «Людей надо спасать» — не заблуждение, подсказанное чувством, но как бы сама разумность. Может он поступить и иначе — раз и навсегда отказаться от поисков разумной основы. Первого он не сделает, ибо такой «практический разум» (правила, которые люди считают разумным основанием поступка) — то самое дао, которого он не признает. Скорее, он махнет на разум рукой и станет искать другой основы.
Очень удобен инстинкт. Ну конечно, сохранение вида держится не на тонкой нити разума, оно заложено в нас инстинктивно. Потому здесь и нет места спору, что человек не осознает причин своего поступка. Мы инстинктивно действуем на пользу виду. Этот инстинкт побуждает нас трудиться для будущего. Никакой инстинкт не побуждает держать слово или уважать чужую личность, так что честность или справедливость можно смело отбросить, когда они вступят в конфликт с инстинктом сохранения вида. В частности, вот почему уже недействительны сексуальные запреты: пока не было противозачаточных средств, любодеяние угрожало жизни одной из представительниц вида; сейчас же — дело другое. Очень удобно; вроде бы эта основа дает обновителю все. чего он хочет, и ничего от него не требует.
На самом деле он не продвинулся ни на шаг. Не буду говорить о том, что инстинкт — название чего-то нам неведомого (фраза «Птица находит дорогу благодаря инстинкту» значит: «Мы не знаем, как она находит дорогу»). Обновитель употребляет это слово во вполне определенном смысле — он называет инстинктом спонтанный и не проверенный разумом импульс, что-то вроде «похотения». Поможет ли нам такой инстинкт найти основу для выбора? Откуда известно, что мы должны ему повиноваться? А если должны и всё, зачем писать такие книги, как «зеленая»? Зачем тратить столько красноречия, чтобы привести человека туда, куда он и сам придет? Быть может, подразумевается, что, подчинившись инстинкту, мы будем счастливы? Но ведь мы толкуем о жертве ради других, т. е. о том, что человек поступился своим счастьем. Если же инстинкт вдобавок велит трудиться для будущего, счастье это придет, когда потрудившийся будет давно мертв (насколько я понимаю, для обновителя это синоним несуществования). Похоже на то, что инстинкту мы подчиниться обязаны»IX.
Почему же? Может быть, так велит другой инстинкт, на порядок выше, а ему велит третий, и дальше, до бесконечности? Получается какая-то чушь, но другого ответа нет. Из утверждения «Мне хочется…» никак не следует: «Я должен». Даже если бы у человека действительно был спонтанный, не проверенный разумом импульс жертвовать собою ради сохранения вида, ничто не подсказывает нам, надо ли слушаться этого импульса или обуздать его. Ведь даже обновитель допускает, что некоторые импульсы обуздывать надо. А допущение это ставит перед ним еще одну, более важную трудность.
Сказать, что надо слушаться инстинктов, — все равно что сказать: «Надо слушаться людей». Каких же именно? Инстинкты, как и люди, говорят разное, они противоречат друг другу. Если ради инстинкта сохранения вида надо жертвовать другими инстинктами, то где тому доказательства? Каждый инстинкт хочет, чтобы ради него жертвовали всеми прочими. Слушаясь одного, а не другого, мы уже совершаем выбор. Если у нас нет шкалы, определяющей сравнительные достоинства инстинктов, сами они этих достоинств не определят. Нам неоткуда узнать, какой важнее. Нам не может подсказать этого ни один из инстинктов, как не может один из тяжущихся быть судьей. У нас нет ни малейшего основания ставить сохранение вида выше, чем самосохранение или похоть.
Словом, мысль о том, что мы выбираем главный инстинкт, не покидая сферы инстинктов, недолговечна. Мы хватаемся за ненужные слова, называя этот инстинкт «основным», «преобладающим», «глубочайшим». Они не помогают нам. Одно из двух: или в словах этих скрывается оценка (а она — заведомо вне сферы инстинктов и не выводится из них), или они обозначают силу желания, частоту его и распространенность. Если мы выбираем первое, рухнет попытка положить инстинкт в основу поведения. Если выберем второе, это нам ничего не даст. Дилемма не нова. Или императив содержится в предпосылках, или вывод останется простой констатацией факта, без какой-либо модальной окраски.
Наконец, стоит спросить, а есть ли вообще инстинкт сохранения вида? Сам я в себе его не нахожу. Никакой инстинкт не велит мне трудиться для будущего, хотя я очень много о будущем думаю и могу читать футурологов. Еще труднее мне поверить, что людям, сидящим напротив меня в автобусе, есть дело до далеких потомков. Только те, кто получил соответствующее образование, вообще сознают идею «далеких потомков». Трудно объяснить инстинктом то, что существует лишь для «думающих людей». От природы в нас есть желание сберечь своих детей и внуков, ослабевающее по мере того, как ряд их уходит в будущее и теряется в пустоте. Какие родители предпочтут интересы далеких потомков интересам дочери или сына, возящихся сейчас, вот тут, в этой комнате? Человек, принимающий дао, может сказать в определенных случаях, что любовь к отдаленным потомкам — это их долг; но для тех, кто абсолютной ценностью считает инстинкт, такой путь закрыт. Когда же речь идет не о материнской любви, а о рациональном планировании, мы уже не в сфере инстинктов, а в сфере рассудка и выбора. С точки зрения инстинктов мысли о будущем обществе несравненно ниже сюсюканья самой пристрастной матери или поглупевшего от любви отца. Если инстинкт важнее всего, забота о далеком будущем — лишь бледная тень, которую отбрасывает на экран неведомых нам лет реальное счастье играющей с ребенком женщины. Поистине глупо провозглашать, что важен лишь инстинкт, а потом бороться с весьма реальным инстинктом ради тени, отрывая детей чуть ли не от груди и воспитывая в детских садах для блага далеких потомков.
Надеюсь, нам уже ясно, что никакие ссылки на инстинкт не помогут составить новую систему ценностей. Ни одной из предпосылок, нужных обновителю, в учениях об инстинктах не найти. Однако найти такие предпосылки совсем нетрудно. «Братья ему все, кто живет меж четырех морей»X, — говорит Конфуций о «цзюнь-цзы» — «cuor gentil», благородном человеке. «Итак, во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и с ними» (Мтф. 7:12), — говорит Иисус. «Человечество надо сохранить»XI, — говорит Локк15. Предпосылки, на которых стоит забота о человечестве и о далеком потомстве, любезная обновителю, давно существуют на свете. Они содержатся в дао и больше нигде. Пока мы не примем, что закон, который я для краткости называю этим словом, то же самое для наших поступков, что аксиомы для математики, у нас вообще не может быть никаких жизненных правил. Правила эти нельзя вывести, они сами по себе — предпосылки. Вы, конечно, вправе отнести их к сфере чувств, как авторы «зеленой книжки», ибо разум их не докажет; но тогда откажитесь от противопоставления этой сфере «истинных» или «разумных» ценностей. При таком подходе в ней окажутся любые ценности, а вам придется признать, что чувства не только субъективны, иначе ценностная система немедленно распадется. Вправе вы и отнести их к сфере разума, ибо они так разумны (уже в оценочном смысле), что не требуют и не допускают доказательств. Но тогда признайте, что слова «Я должен» вполне осмысленны, хотя и не поддаются логическому обоснованию. Если нет ничего очевидного, доказательства лишены основы. Если нет ничего обязательного по самой своей сути, основу теряют какие то ни было обязанности.
Многие думают, что я протащил под другим названием давно известный «основной инстинкт». Однако, дело здесь отнюдь не в словах. Обновитель отвергает традиционные ценности (дао) во имя ценностей, которые кажутся ему «разумными» или «биологическими». Однако мы видим, что без дао они ни на чем не стоят. Если он честно и скрупулезно отметет все, что принимало человечество, он никоим образом не докажет, что надо трудиться или умирать ради ближних или дальних. Если дао рухнет, любая постройка рухнет вместе с ним. Чтобы отрицать дао, обновитель вынужден пользоваться теми крупицами, которые он унаследовал или бессознательно впитал. Какое же право он имеет принимать одни крупицы и отвергать другие? Если те, что он отверг, лишены оснований, лишены и те, что он использует; если те, что он использует, обоснованы, обоснованы и те, что он отверг.
Приведем пример. Обновитель очень ценит заботу о дальних потомках. Ни инстинкт, ни разум (в современном смысле слова) не дает для этого оснований. На самом деле он берет основания из старого, доброго дао, одна из аксиом которого гласит, что мы должны заботится о каждом, тем самым — и о потомках, еще неведомых нам. Однако, другой вывод из этой аксиомы велит нам заботиться о родителях и предках. По какому же праву обновитель принимает одно, отвергая другое? Еще один пример: он очень ценит материальную помощь. Накормить и одеть людей — великое дело, ради которого, как он полагает, можно поступиться справедливостью или честностью. Конечно, дао велит оказывать материальную помощь; без дао это и в голову обновителю бы не пришло. Однако точно так же велит оно быть честным и справедливым. Как докажет обновитель, что одно повеление верно, другое — нет? Предположим, что он — шовинист, или расист, или крайний националист, считающий, что ради своих соплеменников можно пожертвовать всем, что только есть на свете. Но и тут ни логика, ни инстинкт не дадут ему прочных оснований. Даже в этом случае он исходит из дао, ибо долг по отношению к «своим» — давняя часть традиционной морали. Однако рядом с этой частью, бок о бок с нею, лежат несокрушимые требования справедливости и вера в то, что все люди — братья. Откуда же взял обновитель право принимать одно и отвергать другое?
Ответить на этот вопрос я не могу, и потому позволю себе сделать некоторые выводы. То, что я для удобства назвал дао, а другие называют естественным законом, или традиционной моралью, или первыми принципами практического разума, или прописными истинами — не просто одна из ценностных систем, а единственный источник любой ценностной системы. Отвергнув дао, мы отвергаем всякую ценность. Оставив малую часть, мы оставляем все. Попытка построить другую систему ценностей содержит противоречие. На свете не было и не будет другой системы ценностейXII. Системы (теперь их зовут идеологиями), претендующие на новизну, состоят из осколков дао, разросшихся на воле до истинного безобразия; крохотными крупицами заключенной в них правды они обязаны тому же дао. Однако, если долг по отношению к родителям — ветхий предрассудок, мы обязаны счесть предрассудком и долг по отношению к детям. Если справедливость устарела, устарел и патриотизм. Если мы переросли супружескую верность, переросли мы и научную пытливость. Мятеж идеологий против дао — это мятеж ветвей против ствола; если бы мятежники победили, они бы погибли. Человек не может создать новую ценность, как не может создать новый, не смешанный цвет или новое солнце.
Неужели, спросят меня, наши ценности стоят на месте? Неужели мы прикованы раз и навсегда к нерушимому закону? Неужели, наконец, нет различий между нравственным кодексом древности и новых времен, эллинов и иудеев, Запада и Востока? Ответить однозначно здесь нельзя. Да, различия есть, есть и развитие. Но чтобы разобраться в них, непременно надо понять очень важную вещь.
Лингвист может взглянуть со стороны на свой родной язык и сказать, что научная ценность или практическая польза требует в чем-то изменить, скажем, орфографию. Поэт тоже меняет язык, и куда сильнее, но смотрит он не со стороны, а изнутри. Сам язык, претерпевший изменения, вдохновил его. Разница между поэтом и лингвистом подобна разнице между матерью, вынашивающей ребенка, и хирургом, делающим операцию.
Дао допускает только изменения изнутри. Те, кто понимает закон, могут его менять в его же духе. Только они знают, чего этот дух требует. Сторонний обновитель этого не знает и потому, как мы видели, ничего сделать не может. Чтобы привести в согласие различия буквы, надо постигнуть дух. Обновитель же выхватывает несколько букв, которые попали в поле его зрения благодаря времени и месту, и провозглашает их без каких бы то ни было основательных поводов. Только закон может разрешить или запретить изменения в законе. Потому Аристотель и говорит, что этику усвоит лишь тот, кто верно воспитанXIII. Человек, не знающий дао, не увидит исходных точек нравственности. Когда надо решать теоремы, непредвзятость только поможет. Когда же речь идет об аксиомах, она просто ни при чем.
Конечно, не всегда легко решить, где кончаются права непредвзятой логики. Но ясно одно: никогда нельзя вычленить нравственное правило и требовать для него логических обоснований. Тот, кто действительно совершенствует нравственность, должен показать, что правило это противоречит другому, более «аксиомному», или что оно вообще не входит в традиционную систему ценностей. Прямые вопросы: «А кто это сказал?», «А какая от этого польза?», «А на что это мне?» совершенно недопустимы — не потому, что грубы, но потому, что никакая ценность не оправдает себя на этом уровне. Такие вопросы прекрасно могут сокрушить все ценности одну за другой, сокрушив тем самым и основания для вопросов. Нельзя угрожать дао пистолетом. Нельзя и откладывать подчинение правилу до той поры, пока правило это не предъявит документов. Только те, кто следует правилам, могут понять их. Только человек с поставленным сердцем (cuor gentil) видит, что верно, что неверно. Только искушенный в законе сумел, как апостол Павел, понять, где и когда этот закон недостаточен.
Чтобы избежать недоразумений, прибавлю: хотя сам я верю в Бога, более того — в Христа, сейчас я никак не «проповедую христианство». Я говорю только об одном: сохранить ценности можно лишь в том случае, если мы примем абсолютную ценность прописных истин. Любое недоверие к этим истинам, любая попытка поставить нравственность «на более реалистическую основу» заранее обречена. Здесь я и не ставлю вопроса о том, свыше или откуда еще мы получили дао.
Но даже то, что я проповедую, нелегко принять современному уму. Ему-то известно, что это драгоценное дао сложилось в сознании наших далеких предков под влиянием экономических или физиологических факторов. Как это было, мы, в общем, уже знаем; скоро узнаем и в частности, а если не узнаем — придумаем. Конечно, когда наука еще не постигла механики сознания, мы считали, что оно нами правит. Многое в природе правило нами, теперь же оно служит нам. Почему бы и сознанию не встать на этот путь? Неужели мы остановимся из глупого почтения к самому твердому орешку природы? Вы чем-то грозите нам, но поборники тьмы грозили нам на каждом шагу прогресса, и всякий раз угрозы их не оправдывались. Вы говорите, что, отринув дао, мы утратили все ценности. Что ж, обойдемся и без них. Примем, что все эти «Я должен» — занятный психологический пережиток, и поставим на их место «Я хочу». Решим, каким быть человеку, и сделаем его таким не ради каких-то мнимых ценностей, а потому, что нам так угодно. Окружающей средой мы овладели, овладеем же и человеком, определим сами свою судьбу.
Очень может быть, что именно так мне ответят. Здесь хотя бы нет противоречия, которым грешат робкие скептики, надеющиеся отыскать истинные ценности вместо тех, прописных, Чтобы ответить на такой вопрос, напишу еще одну главу.
III. Человек отменяется
Что бы он ни говорил мне и как бы ни льстил,
я думал: «Когда мы достигнем его дома,
он продаст меня в рабство».
Джон Беньян
Мне часто доводилось слышать о победе человека над природой. «Наконец-то мы ее скрутили!» — сказал моему другу его знакомый, и в словах этих была своя, скорбная красота, ибо тот, кто их произнес, умирал от туберкулеза. «Это неважно, — говорил он. — Конечно, есть потери и у победителей. Но побеждают-то они!» Я начинаю с этого случая, чтобы вы поняли сразу: преуменьшать все лучшее, что есть в явлении, называемом «победа над природой», я не собираюсь, а уж тем более не собираюсь замалчивать, сколько она потребовала мужества и жертвенности. В каком же смысле человек все больше побеждает природу или овладевает ею?
Возьмем три типичных примера: самолет, радио, противозачаточные средства. Более или менее каждый может пользоваться ими. Однако нельзя сказать, что при этом сам он скрутил природу, стал сильнее, чем она. Если я плачу рикше, я не вправе назвать себя сильным. Мы пользуемся упомянутыми плодами науки, потому что кто-то продал нам их или дал нам на них право. Так что, на самом деле, во всех этих случаях человек обретает власть над человеком. Особенно удивителен третий случай. Те, кто изготавливает противозачаточные средства, обретает власть над теми, кто их покупает; но и те и другие, вдобавок, обретают власть над неродившимися людьми. Они заранее лишают их жизни, обрекают на несуществование, не спросив у них согласия. Говоря строго, так называемая победа человека над природой означает, что одни люди распоряжаются другими при помощи природы.
Общим местом стали сетования на то, что мы используем во вред, а не во благо силы, дарованные наукой. Однако я говорю об ином. Многие злоупотребления могут исчезнуть, если люди станут лучше; но я хочу поговорить о том, что неотъемлемо от «победы над природой». Даже если все достижения техники будут употребляться только во благо ближним, воспитательные эксперименты все равно означают власть более ранних поколений над более поздними.
Об этом часто забывают, так как социологи и прочие исследователи общества отстали от физиков в одном — они не включают в свои расчеты фактор времени. А без этого мы не поймем, каким образом человек распоряжается природой. Каждое поколение влияет на следующее и втой ли, иной ли мере противится предыдущему. Поэтому речь о непрестанном улучшении и усилении здесь не совсем уместна. Если кто-нибудь и впрямь научится лепить своих потомков по своему вкусу, все последующие поколения будут слабее тех, кому выпала такая удача. Какие бы поразительные механизмы ни дали мы им, мы, а не они уже решили, как эти механизмы использовать. Почти наверное удачливое поколение будет к тому же отличаться исключительной ненавистью к традиции и постарается уменьшить не только силу своих потомков, но и силу своих предков.
Таким образом, речь может идти не о «прогрессе», но об одном столетии (скажем, сотом от Рождества Христова), которому лучше прочих удастся подмять под себя все остальные века и овладеть родом человеческим. Несомненно, в столетии этом или, скорее, поколении, такой силой будет обладать не большинство, а меньшинство. Если мечты ученых осуществятся, крохотная часть человечества получит власть над многими миллиардами людей. Человек не может просто «становиться сильнее». Любая сила, которую он обретет, направлена против кого-то. Каждый шаг вперед делает человека и сильнее, и слабее. С каждой победой появляются новые властители и новые рабы.
Я еще ничего не сказал о том, хорошо это или плохо. Я только объяснил, что означает победа над природой. Конец этой победе (быть может, довольно близкий) настанет тогда, когда искусственный отбор, внутриутробное программирование, прикладная психология достигнут очень больших успехов. Изо всей природы последней сдастся человеку природа человеческая. Кому же, собственно говоря, она сдастся?
Конечно, всегда и везде воспитатели пытались сформировать других, исходя из своего миросозерцания. Но то, о чем я говорю, имеет две особенности. Во-первых, никогда и нигде у воспитателей (если здесь уместно это слово) не было столь огромной силы. Как правило, им удавалось и удается немного. Когда мы читаем у Платона, что детей нельзя растить в семье, у Элиота16 — что мальчик должен видеть до семи лет только женщин, а после семи — только мужчин, у Локка — что ребенка надо обувать в худые башмаки и отучать от сочинения стихов, мы испытываем благодарность к упрямым матерям и нянькам, а главное — к упрямым детям, сохранившим человечеству хоть какое-то здравомыслие. Однако человекоделы удачливого века будут оснащены самой лучшей техникой и сумеют сделать именно то, чего хотят.
Второе отличие еще важнее. Прежде воспитатели сообразовывали свои намерения с дао, которому подчинялись сами. Оми хотели сделать других такими же, какими хотели стать. Они проводили инициацию, передавая младшим тайну того, что такое — быть человеком. Теперь ценности стали чем-то вроде явлений природы. Старшие внушают младшим ценностные суждения не потому, что верят в них сами, а потому, что «это полезно обществу». Сами они от этих суждений свободны. Их дело — контролировать выполнение правил, а не следовать им. Словом, они вне или выше дао. Когда же они смогут сделать все, что хотят, они, скорее всего, будут внушать не дао, а ту искусственную систему ценностей, которую сочтут полезной.
Быть может, на какое-то время как пережиток они сохранят для себя подобие закона. Скажем, они могут считать, что служат человечеству, или помогают ему, или приносят пользу. Но это пройдет. Рано или поздно они припомнят, что понятия помощи, служения, долга — чистая условность. Освободившись от предрассудков, они решат, оставить ли чувство долга формируемым людям. Произвол у них полный — ни «долг», ни «добро» уже ничего для них не значат. Они умеют сформировать какие угодно качества. Остается малость: эти качества выбрать. Повторяю: свобода — полная, никакого мерила, никакой точки отсчета у них нет.
Многим покажется, что я придумываю мнимые сложности. Другие, попроще, могут спросить: «Неужели они непременно окажутся такими плохими?» Поймите, я не думаю, что «они» будут плохими людьми. В старом смысле слова они вообще людьми не будут. Если хотите, они — люди, отдавшие принадлежность к роду человеческому за право решать, каким быть человеку. Слова «плохой» и «хороший» не имеют смысла по отношению к ним; только от них и зависит смысл этих слов. Что же до мнимых сложностей, мне могут сказать: «В конце концов, люди хотят примерно одного и того же — есть, пить, развлекаться, жить подольше. Ваши человекоделы могут просто-напросто воспитывать других так, чтобы они обеспечивали эти возможности». Но это не ответ. Прежде всего, неверно, что люди хотят одного и того же. Однако, если бы даже было так, с какой стати моим человекоделам трудиться в поте лица, чтобы следующие поколения получили то, чего хотят? Из чувства долга? Оно для них ничего не значит. Иначе они не человекоделы, а просто люди, еще не одержавшие последней «победы над природой». Быть может, ради сохранения вида? Но почему, скажите, надо его сохранять? Они-то знают, как формируется забота о будущих поколениях, и вольны решить, оставить это чувство на свете или нет. Они не плохие люди, они — не люди. Выйдя за пределы дао, они попали в пустоту. И тех, кого они формируют, нельзя назвать несчастными людьми, ибо они — предметы, изделия. Победив природу, человек отменил человека.
Однако как-то действовать человекоделам надо. Я говорил о том, что им не на что опереться; но один закон у них есть: «Мне так угодно». Никакой объективности в этом мнении нет и быть не может, и потому объективность не имеет над ними власти. Когда все императивы («Я должен») исчезли, остается «Я хочу». Разоблачить эти слова нельзя, так как они ни во что не облачились. Итак, человекоделами будет руководить произволение. Я говорю не о том, что власть портит, я не боюсь, что она развратит их: самые слова «портить» и «развращать» предполагают систему ценностей и в этом контексте смысла не имеют. Я говорю о другом: у тех, кто стоит вне ценностных суждений, нет никаких оснований предпочесть одно желание другому, кроме силы этого желания.
Конечно, можно надеяться, что среди желаний будут и безвредные, даже добрые (с нашей точки зрения). Однако я сомневаюсь, что добрые желания долго продержатся без дао, в виде простых психологических импульсов. Я не припомню в истории человека, который, обретя власть и поставив себя вне человеческой нравственности, употребил эту власть во благо. Мне кажется, человекоделы будут ненавидеть свои изделия. Зная, что правила этих созданий — лишь иллюзия, они все же будут завидовать тем, у кого есть хоть какой-то смысл жизни, как завидуют скопцы мужчинам. Но я сказал: «Мне кажется», и это лишь предположение. Зато я уверен в другом: надежды, с которых я начал этот абзац, зиждятся на понятии, которое точнее всего назвать «если повезет». Должно уж очень повезти, чтобы человекоделы предпочли добрые импульсы всем другим. Без дао это — дело случая, случай же зависит от погоды, пищеварения, мало ли от чего. Рационализм, заставивший «видеть насквозь» все основания нравственности, обрек их на совершенно иррациональное поведение. Можно подчиняться дао; можно совершить самоубийство; если же мы не сделаем ни того, ни другого, нам остается одно: слушаться случайных импульсов.
Итак, когда человек победит природу, род человеческий окажется во власти небольшого количества существ, подвластных уже только одним импульсам. Природа сможет отпразновать победу над человеком. К этому, и ни к чему иному, ведет каждая наша частная победа. Природа играет с нами в хитрую игру. Нам кажется, что она подняла «руки вверх», тогда как она собирается схватить нас за горло. Если мир, который мы описали, обретет реальность, природа сможет жить так же спокойно, как жила она миллионы лет назад. Никто не помешает ей всякой чушью вроде истины или милости, радости или красоты.
Быть может, меня лучше поймут, если я скажу иначе. У слова «природа» много значений, смотря по тому, что мы противопоставляем — искусственное, культурное, человеческое, духовное, сверхъестественное. Первое из этих понятий сейчас нам неважно; остальные же, лучше или хуже, покажут, что подразумевается под природой. Она была для них миром количества, а не миром качества; миром causae efficiens, а не миром causae finalis17. Когда мы считаем что-либо только объектом и употребляем только себе на пользу, мы ставим это на уровень природы; ценностные суждения уже неуместны, causa finalis — не важна, качественный подход — не нужен. Такое снижение статуса совсем непросто, а порой и мучительно для нас — нужно что-то в себе сломать, прежде чем вонзишь стилет в мертвого человека или живого зверя. Эти объекты словно бы сопротивляются сами. Но такой процесс непрост и в других, несравненно легчайших случаях: когда мы рубим дерево, мы не можем одновременно видеть в нем дриаду и даже прекрасное, могучее растение. Должно быть, первые дровосеки живо ощущали это, и кровоточащие деревья Вергилия — отзвук древнего чувства, подсказывавшего человеку, что он совершает святотатство. Звезды утратили величие с развитием астрономии, и Богу нет места в научной агротехнике. Многим кажется, что оно и лучше, а старый спор с Галилеем или с «потрошителем трупов»18 — просто мракобесие. Но это далеко не вся правда. Крупные ученые не так уж уверены, что действительно есть предметы, к которым можно подходить количественно, и никак иначе. В это твердо верят ученые мелкие, особенно же твердо-неученые любители наук. Сильный ум хорошо знает, что такой предмет-абстракция, мнимость, утратившая самое главное.
С этой точки зрения, победа над природой предстает перед нами по-другому. Мы снижаем что-либо до уровня природы, чтобы победить. Мы непрестанно побеждаем природу, так как и называем природой то, что мы победили. Цена этой победы велика: все больше явлений снижает свой статус. Каждый наш успех расширяет владения природы. Звезды не станут природой, пока мы их не измерим; душа не станет природой, пока мы не подвергнем ее психоанализу. Пока процесс этот не кончен, нам кажется, что выгод больше, чем потерь. Но стоит нам сделать последний шаг — перевести на уровень природы самих себя, — и потеряет смысл самая речь о выгодах, ибо тот, кто должен был выгадать, принесен в жертву. Таков один из примеров печального правила, гласящего, что некоторые принципы, дойдя до логического конца, приходят к абсурду. Поневоле припомнишь притчу об ирландце, который заметил, что новая печка берет вдвое меньше дров, и решил поставить еще одну, чтобы дров вообще не тратить. Припомнишь и сделки с чертом. «Отдай мне душу, а я тебе дам могущество». Но без души, т.е. без самого себя, о каком могуществе может идти речь? Мы станем рабами или марионетками того, кому отдали души. Снизить себя до уровня природы дурно не в том смысле, в каком дурны некоторые часы из жизни студента-медика. Муки, испытанные в прозекторской, — это симптом, предупреждение. Низводить же себя, человека, на уровень природы дурно вот почему: если ты сочтешь себя сырьем, ты сырьем и станешь, но не себе на пользу. Тобою будет распоряжаться та же природа в лице обесчеловеченного человекодела.
Подобно королю Лиру, мы пытаемся сложить с себя королевское достоинство и остаться королями. Это невозможно. Одно из двух: или мы разумные, духовные существа, подчиненные навек абсолютным ценностям дао, или мы «природа», которую могут кромсать и лепить некие избранники, руководимые лишь собственной прихотью. Только дао объединяет едиными правилами властвующих и подвластных. Без догмата объективной ценности невозможна никакая власть, кроме тирании, и никакое подчинение, кроме рабства.
Конечно, одни помягче, другие — пожестче. Но многие профессора в пенсне, модные драматурги, самозванные философы думают, в сущности, то же самое, что немецкий нацист. Мысль о том, что мы вправе изобретать «идеологию» и подгонять под нее ближних, уже коснулась повседневной речи. Раньше убивали злодея, теперь — «ликвидируют нежелательный элемент». Особенно же удивляет меня, что бережливых, умеренных и даже просто умных людей называют неперспективными покупателями.
Истинный смысл происходящего скрыт от нас абстракцией «человек». Слово это — совсем не всегда абстракция. Пока мы не вышли за пределы дао, мы вправе говорить, что человек владеет собой, и значит это, что он подчиняется нравственным правилам. Но стоит нам перешагнуть границу, и мы теряем это право. Никаких человеческих свойств для нас уже нет», а владеть могут только некие существа, работающие над теми, кто сменил человека. Нарочно или нечаянно, почти все мы помогаем произвести на свет эти существа.
Что бы я ни сказал, меня обвинят в нападках на науку. Конечно, я отвергаю это обвинение; настоящие натурфилософы, т. е. люди, осмысляющие природу (они еще бывают на свете), поймут, что среди ценностей я защищаю знание, которое умрет вместе с дао. Но я пойду дальше. Я скажу, что только от науки можно ожидать исцеления.
Я назвал сделкой с чертом ситуацию, когда человек в обмен на могущество отдает природе все, вплоть до самого себя; и за слова свои я отречаю. Ученый преуспел, а чародей потерпел неудачу; и обстоятельство это настолько разделило их в обычном сознании, что обычный человек не понимает, как наука родилась. Многие верят и даже пишут, что в XVI в. магия была пережитком средневековья, который и собиралась смести новорожденная наука. Те, кто изучал этот период, так не думают. В средние века колдовали мало, в XVI и XVII — очень и очень много. Серьезный интерес к магии и серьезный интерес к науке родились одновременно. Один из них заболел и умер, другой был здоров и выжил, но они — близнецы. Их родила одна и та же тяга. Я готов признать, что некоторых из тогдашних ученых вела чистая любовь к знаниям. Но, вглядевшись в этот период, мы прекрасно различим тягу, о которой я говорю.
И магия, и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. Старинный мудрец прежде всего думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью, и плодами его раздумий были знание, самообуздание, добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям; плод их — техника, применяя которую можно делать многое, что считалось кощунственным, — скажем, нарушать покой мертвых.
Когда мы сравним глашатая новой эры (Бэкона19) с Фаустом из пьесы Марлоу20, сходство поистине поразит нас. Нередко пишут, что Фауст стремился к знанию. Ничуть не бывало — он о нем почти не думал. От бесов он требовал не истины, а денег и девиц. Точно так же и Бэкон отрицает знание как цель; он сам говорит, что узнавать ради знания — все равно что тешиться с женщиной и не рожать с нею детей. Истинная задача науки, по его мнению, распространить могущество человека на весь мир. Магию он отвергает лишь потому, что она бессильна; но цель его — точно такая же, как у чародея. Парацельс21 сумел объединить в себе чародея и ученого. Конечно, у тех, кто создал науку в нашем смысле слова, тяга к истине, хотя бы к знанию, была больше, чем тяга к могуществу, — во всяком смешанном явлении доброе плодоноснее дурного. Быть может, нельзя сказать, что новая наука родилась смертельно больною, но можно и нужно сказать, что она родилась в исключительно нездоровой среде. Успехи ее слишком быстры и куплены слишком большой ценой; поэтому ей надо бы оглядеться и даже покаяться.
Может ли существовать другая наука, которая постоянно помнит, что непосредственный предмет ее занятий — не мир как он есть, а некоторая абстракция, и постоянно поправляет этот перекос? Собственно, я и сам толком не знаю. Говорят, что надо присмотреться к натурфилософии Гете; что даже у Штейнера есть что-то такое, чего не хватает ученым. Не знаю. Наука, о которой я сейчас пишу, не дерзнет обращаться даже с овощами или минералами, как обращаются теперь с человеком. Объясняя, она не будет уничтожать. Говоря о частях, она будет помнить о целом. Предмет изучения, по слову Мартина Бубера22, будет для нее не «это», а «ты». Она будет рассматривать инстинкт в свете дао, а не сводить дао к неведомым инстинктам. Словом, она не будет платить за знание ни чужой, ни своей жизнью. Быть может, я мечтаю о немыслимом. Быть может, аналитическое познание по природе своей убивает одним своим взором — только убивая, видит. Хорошо; если ученые не в силах остановить такое знание, пока оно не прикончило разум, его остановит что-то другое. Чаще всего мне говорят, что я — «обыкновенный обскурантист», и барьер, которого я боюсь, не так уж страшен, наука его возьмет, как уже брала множество барьеров. Мнение это породило злосчастная склонность современного ума к образу бесконечного и одномерного прогресса. Мы так много пользуемся числами, что представляем любое поступательное движение в виде числового ряда, где каждая ступенька подобна предыдущей. Умоляю вас, вспомните об ирландце с печкой! Бывает так, что одна из ступенек несоизмерима с другими, она просто отменяет их. Отречение от дао — именно такая ступенька. Пока мы до нее не дошли, научные достижения, даже губящие что-то, могут что-то и дать, хотя цена велика. Но нельзя повышать эту цену бесконечно. Нельзя все лучше и лучше «видеть насквозь» мироздание. Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем «видеть насквозь» первоосновы бытия. Прозрачный мир — это мир невидимый; видящий насквозь все на свете — не видит ничего.
Примечания автора
К главе I
I. Орбилий настолько превосходит Кая и Тита, что он дает для сравнения хорошо написанный отрывок о животных. К несчастью, достоинства второго отрывка он видит лишь в том, что тот верен фактически. Литературного сравнения у него нет. Однако, честности ради, скажу, что книга его лучше «зеленой книжки».
II. Трэерн Т. Сотницы медитаций, 1, 12.
III. См. Августин. О граде Божьем, XV, 22; а также IX, 15 и XI, 28.
IV. Аристотель. Никомахова этика, 1104b.
V. Там же, 1095 b.
VI. Платон. Государство, 402 а; подробнее — Законы, 658 и далее.
VII. Псалом 118, стих 151. Там основательность правды и то, что на нее можно положиться, подчеркивается прежде всего словом «эмет», связанным с глаголом «быть крепким». Гебраисты предлагают и другие переводы «правды» — «верность», «прочность» и т. п. «Эмет» не обманет, не изменит, не оставит тебя, не подведет.
К главе II
VIII. Истинное (и должно быть, неосознанное) миросозерцание Кая и Тита станет ясным, когда мы приведем несколько их мнений.
а) Кай и Тит осуждают:
«когда мать говорит ребенку „Веди себя хорошо“, слова ее — чистая нелепость» (с. 62); «истинный джентльмен» — тоже нелепость, «нечто совершенно туманное» (с. 64).
б) Кай и Тит одобряют:
«контакт с идеями других людей», ибо он, «как мы знаем, очень полезен» (с. 86); какие это идеи, по-видимому, безразлично. «Преимущества каждодневной ванны слишком ясны, чтобы о них говорить» (с. 142); однако они все же говорят: купаться хорошо, потому что «приятнее и здоровее общаться с чисто вымытыми людьми» (там же). Истинные и основные ценности для авторов книжки — польза, удобства и удовольствие. Словом, хлебом единым жив человек.
IX. Самая решительная попытка построить систему ценностей на основе «удовлетворения» — труд Ричардса «Принципы литературной критики» (1924) (Richards A. A. Principles of Literary Criticism. — N.Y., 1924). Опровергая обычное возражение, гласящее: «Лучше быть несчастным Сократом, чем довольной свиньей», доктор Ричарде пишет, что «потребности» наши не одинаковы — одни из них выше, другие — ниже; поэтому мы и предпочитаем высшие низшим, не выходя за пределы удовлетворения. По доктору Ричардсу, человек способен пожертвовать низшими, имея в виду, что все они в пределах удовлетворения высших (или «важнейших»). На это я отвечу так: «Как тут можно подсчитывать»? Сравним человека, погибшего славной смертью, и уцелевшего предателя. У первого (с современной точки зрения) нет ни «удовлетворения», ни неудобств. Второй лишен дружбы и самоуважения, зато он ест, пьет, спит и т. д. Или так: предположим, что у Х всего 500 «потребностей», и все они удовлетворены, а у Y их 1200, и удовлетворены из них 700; кому же из двоих лучше — Y или X? Доктор Ричарде неоднократно дает понять, что лучше Y: он — за сложность и тонкость и даже хвалит искусство, так как оно создает у нас «недовольство грубой, обыденной жизнью» (с. 230). Но если удовлетворение — единственная ценность, что в этом недовольстве хорошего? Единственное подобие философского довода, которое я нашел в этой книге, — слова о том, что «чем сложнее существо, тем оно и разумнее» (с. 109). Но если удовлетворение — единственная ценность, что хорошего в разуме? Он приносит нам столько же радостей, сколько и горестей.
Касыда "Айнийя." ( Поэма о душе.) Ибн Сина.
Метки: Абу аль-Хусейн ибн Абдаллах ибн, врач, философ. В Европе был известен п
Теория ИНФЕРНАЛЬНОСТИ.
Метки: Из книги известного ученого, палеонтолога 20 в. И. А. Ефремов
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу


