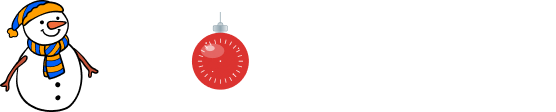Веб-макулатура
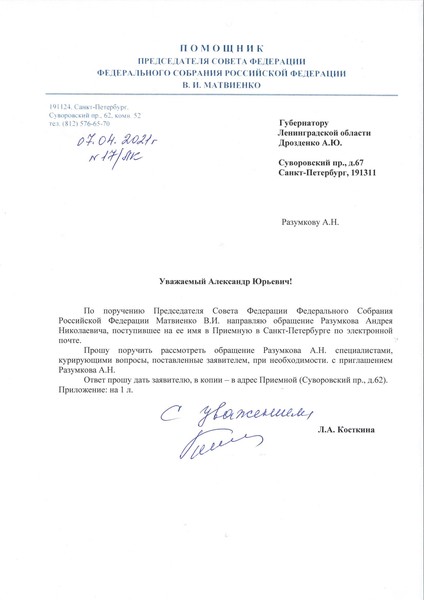
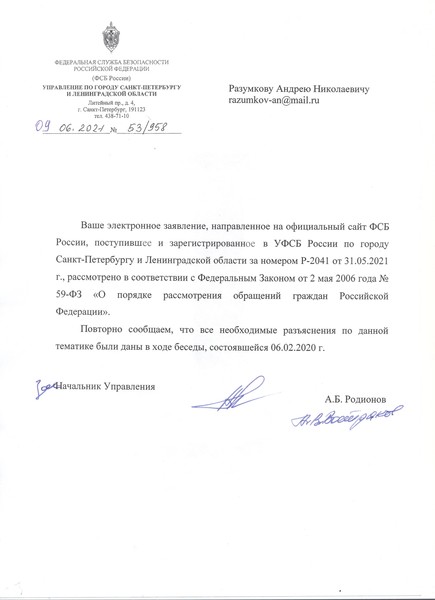
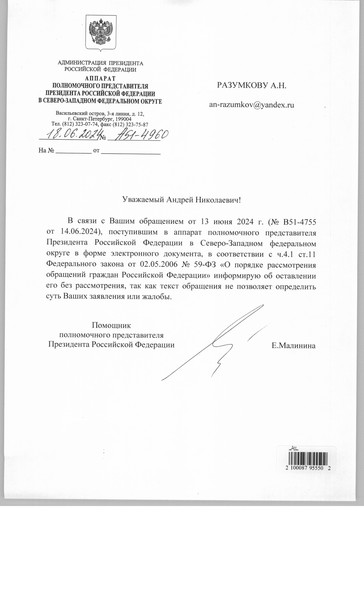

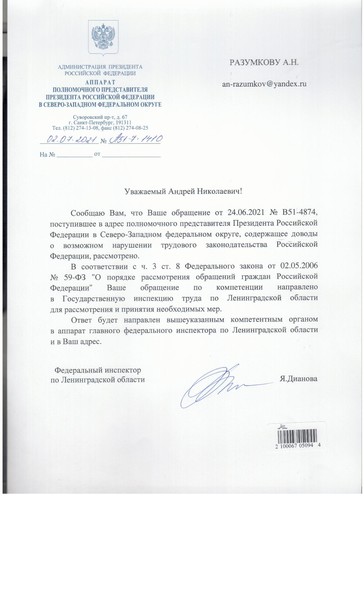
Метки: Веб-макулатура, облако, razumkov-an@mail.ru
О Борисе Шихмурадове
22.11.2012
Истина победит ложь
Сергей Грызунов,
Александр Юриков,
Светлана Колесник
Те, кому это было положено по должности — защищать нашего гражданина — не смогли или не захотели.
Двадцать с небольшим лет назад Туркменистан стал независимым государством. А мы, выпускники факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 1971-го года, были на взлёте. Один из нас запускал быстро ставшую модной радиостанцию «Максимум». Другие находили на планете самые горячие точки и присылали домой оперативные репортажи. Наши однокурсники и близкие друзья изумляли спортивный мир новым, ими придуманным изданием «Спорт-Экспресс», радовали новой телепрограммой «Интересное кино». Кто-то уже писал книги, сочинял пьесы, кто-то учил студентов. Кто-то стал министром, кто-то депутатом, кто-то руководил телекомпаниями и редактировал газеты в разных уголках нашей огромной страны. Наш цех и, не побоимся показаться нескромными, наша страна могли гордиться многими из нас как профессионалами и как приличными людьми.
А вот мы десять лет спустя как-то меньше стали гордиться своей страной. Потому что она бросила одного из нас в трудную минуту. Даже жестче можно сказать — отдала на растерзание.
Наш близкий друг и однокурсник Борис Шихмурадов, известный журналист-международник, собкор АПН в Пакистане и Индии, взлетел высоко. Он, гражданин России, на своей первой родине — в Туркмении — когда она его позвала, стал министром иностранных дел и вице-премьером. Курировал, помимо прочего, нефтегазовую отрасль. Видел, какие перспективы у его родины. И отчетливо понимал, кто мешает им стать реальностью. Выступил против этого человека, вернее — против целого клана. И исчез в подземных казематах.
Наши дипломаты, не жалеющие времени и сил для отмазки оружейного спекулянта Виктора Бута, не устающие сотрясать международную атмосферу воплями об «асимметричном ответе на список Магнитского», промямлили что-то насчет Шихмурадова и замолчали. Взаимопонимание с туркменскими диктаторами, в первую очередь насчет цен на сырье, оказалось важнее.
Они предали не только Бориса — напомним, гражданина нашей страны. Они предали нас всех, его друзей и сокурсников. Мы уверены, что Бориса можно было защитить, ему можно было помочь — настолько нелепые обвинения выдвинул против него режим Туркменбаши. Те, кому это было положено по должности — защищать нашего гражданина — не смогли или не захотели.
И не хотят уже 10 лет.
Тяжелая для нас дата. Мы не стали меньше любить свою страну. Просто с еще большей настойчивостью будем делать все возможное, чтобы ею руководили, несли ответственность за ее граждан люди с совестью, и с настоящими профессиональными амбициями. Это не позволит им прогибаться под восточных баев, объявляющих себя президентами, премьерами и наместниками Аллаха на земле.
Жаль Бориса Шихмурадова. Жаль его большую и дружную семью, столько лет страдающую без родного человека. Жаль Россию, которая не может вступиться за своих сограждан.
Но мы надеемся. И будем работать для того, чтобы наша надежда сбылась, и мы говорим об этом каждый раз, когда видим друг друга. И верим в то, что обязательно узнаем всю правду. Как верим в то, что виновные в несправедливости будут наказаны. Истина победит ложь. А добро победит зло.
P.S. Мы уверены, под этими строками готовы подписаться все наши однокурсники.
Источник «Гундогар» О Борисе Шихмурадове
К 70-летию Александра Митько
Владимир Цапин. «Курлы-курлы…», кричат журавли фильму об Александре Митько
На потраву общественности вышел документальный фильм «Кошкины сны» режиссёра Жанны Кругловой. Он снят по сценарию Константина Слободкина на видеостудии «МОНТАЖ». Прогрессивная кинокритика отметила эту работу долгим молчанием, но неожиданно о фильме заговорили и в первую очередь о самом главном герое. Кинокартина повествует о взлете и парении Александра Митько, русского поэта и гражданина.
Александр Митько долгое время был известен как один из ярых поэтов Москвы, непримиримый приверженец нравственных принципов и блюститель чистоты, он покорял окружающих бескомпромиссностью и прямотой. Когда в его присутствии упоминали имена Гребенщикова и Макаревича, Митько окидывал собеседника презрительным взглядом и, как метр, снисходительно просил не упоминать при нём лауреатов госпремий. В годы, когда Митько находился на должности руководителя киностудии, он, как выяснилось впоследствии, был «клиентом номер 9» в одной из подпольных сетей поэтических услуг салона «всех муз» Анны Коротковой, созданных для VIP-персон.
Кроме того, поэт был известен тем, что не потратил на услуги элитных издателей около восьмидесяти тысяч долларов, из которых часть относилась к средствам бюджета. Поэтическое сообщество отметило Александра Митько, и он не раз становился лауреатом. Его книги «Сказка», «Город добр», изданные Александром Снегиным, вызывали бурный восторг у всех почитателей. В апреле прошлого года в одном из интервью Митько заявил, что «нечасто и недолго» пользовался услугами бесплатных издателей, отметив, кроме того, что это было с его стороны огромным просчетом, который неминуемо должен был сказаться на поэтической карьере.
Митько не раз снимался в кинолентах у ведущих кинорежиссеров, таких как Марлен Хуциев и Никита Михалков, в фильмах: «Адъютант его превосходительства», «Июльский дождь». Его видеостихи, снятые оператором Владимиром Голомидовым в восьмидесятых годах, выглядят в фильме свежо и запоминаются экспрессией и молодым задором. Долгое время, не появлявшись на экране, Митько решил стать героем фильма «Кошкины сны». Сам поэт отзывается о фильме положительно: «Я думаю, что эта лента положит начало поэтической популярности стихосложения». Сам же Митько, тем не менее, балансирует в своём творчестве между примитивизмом и модернизмом. Но создательница песни на слова юбиляра «Не уплывай в свою Калькутту» Ольга Виноградова уточняет: «ни в коем случае нельзя относить творчество Митько к примитивизму, это наивное искусство конца двадцатого века», как я понимаю, воспетое ещё Кобзоном и Козловским и подхваченное Церетели. Но в одном все согласны: модернизм Александра способствует его имиджу в плане модернизации всей России. Его творчество, это бодрые сны наяву, его миры, это ускользающие эфемерные миры богини Гекаты. Стихи-сны Митько проникнуты вовнутрь человека, обращены к его подсознанию, будоражат скрытыми выходами подсознательной энергии и обогащают русскую многострадальную душу образами. И не случайно на отрывки его стихов в фильме звучат песни, а каждое стихотворение – это маленький кадр из подсознания, выстраиваемый умелым исполнителем Анатолием Роговым в художественную песенную ленту.
В фильме поэт Митько, как бы в виртуальном сне кошки Лушки, проносит свои драгоценные поэтические сборники под музыку «Болеро» Равеля перед глазами изумлённых зрителей, так называемыми «белыми пачками», тут же их читает и рекламирует для продажи. Этот хитрый рекламный трюк был воспринят некоторыми критиками в штыки и Митько заподозрили в коррупции. Но Митько торжественно снял все обвинения в своих откровенных, блестящих стихах, доказав, что не только правосудие всесильно в нашей стране, но и тот незабываемый факт, что в России поэт больше чем ПОЭТ в России!
С выходом фильма о Митько, о нем неминуемо вспомнит общественность, и, видимо, главной темой дня в России станет нравственный облик поэтов, их частная жизнь, «теневые» привычки. Ещё со времён Пушкина за каждым шагом поэта следят бенкендорфы и общественность. Вспомним Иосифа Бродского. Эстафету у великих перехватил Митько, пусть ещё не очень известный, но, по всему видно, выдающийся поэт, как сказал бы Маяковский о таком – не Поэт, а просто Человечище! Дерзай, товарищ! Ты еще успеешь раскопать свою Трою, ведь ты, как утверждают многие – гений!
Заканчивая повествования о фильме, пора предъявить эпиграф к фильму, предложенный самим Митько. Это – стихотворение, написанное когда-то деревенским заведующим клубом:
Курлы-курлы, что значит до свиданья.
Курлы-курлы, что значит до весны.
Летите милые. Такие расставанья
И вам и мне, хоть раз в году нужны.
***
У нас, вскроем карты, тоже была шальная мысль чем-то разразиться по поводу славного юбилея Александра Митько. Но, вчитавшись в текст и контекст, а также дискурс Владимира Цапина, мы поняли, что автору удалось полностью отразить вклад своего героя в мировую культуру. Особенно нас порадовала мысль из подтекста, о том, что юбиляр за свои 70 лет, которых у него, увы, уже не отнимешь, совершил не только много великого, но сделал и кое-что полезное. Так, ещё в глубокой юности Митько основал некий сборник, который стремительно вырос в полноценный альманах «Рукописи из сундука». Прикрываясь скромным лозунгом сохранения исторической памяти, он смог подвигнуть на бескорыстный труд десятка два сокурсников, к которым стали присоединяться однокашники иных эпох. Все они, десятки лет работавшие на центральном телевидении и радио, в самых главных газетах, побывавшие в министрах, состоявшие в творческих союзах, а то и руководившие ими, публиковавшиеся по всей Ойкумене, наконец-то, получили путёвку в большую и вольную печать.
От души поздравляем нашего признанного энтузиаста и подвижника.
«Рукописи из сундука», № 11, 2012 год
Метки: Митько, Рукописи из сундука, МГУ. журфак
Ссылки
Ещё кнопка
Метки: Рукописи из сундука, 40 лет спустя, МГУ. журфак, Дальний свет факультета
press-71. Наша кнопка
Метки: Дальний свет факультета, МГУ. журфак, 40 лет спустя, Рукописи из сундука
024. Дальний свет. А. Митько. Студенческое. Журналисты
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г
Александр Митько
Студенческое
Сотней поэтических словес
Сотворю седьмое заклинанье.
У меня – бессмертная болезнь,
Женщина – ее названье.
Женщина покажется вдали.
Так порой проходят корабли.
Октябрь 1967 г.
Журналисты
Мы – всего лишь почтовые, быстрые
голуби,
Не стреляйте, пожалуйста, в нас,
голубей.
Наши братья, которых зовете вы
дикими,
Хоть живут они в городе в вечном
движении,
У вас хлеба попросят – и вы им дадите
наверняка.
Что я вижу, то знаю, что ведал, не
ведаю.
Только путь по маршруту лежит
Между снежных,
Лиловых нежно-сиреневых, мимо палевых
И ледяных
Не простых опасных вершин.
Может быть, я – всего эстафета
крылатая,
И несу эти записи по свету,
Словно прозрачный лесной муравей…
Метки: Дальний свет факультета, 40 лет спустя, МГУ. журфак, Рукописи из сундука
023. Дальний свет... А. Коровин. Стихи студенческих лет
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г
Александр Коровин. Стихи студенческих лет
Свистели беспечные пули,
Горела сухая трава.
В далеком и знойном июле
Осталась моя голова.
Осталась пробитая каска
И хлеб из сухого пайка,
И кровь, как засохшая краска,
Осталась на стали штыка.
Друзья мою жизнь продолжают.
Там пламя земного огня.
Весенних рассветов пожары
Сквозь почву струятся в меня.
Но жизнь изрешетили пули,
Навеки отняли слова.
В далеком и знойном июле
Осталась моя голова.
***
О, грустный чай,
Малиновый трезвон
Усталой ложки
В пропасти стакана.
О, грустный чай,
Кроваво льется он
Из женственно
Изогнутого крана.
О, грустный чай,
Ты наше божество,
Источник благ,
Души клавиатура,
Непознанное плоти
Естество,
Разбитая античная
Скульптура.
***
Назад перелистаю жизнь свою
И вновь найду в углях потухших пламя.
Я до сих пор и все сильней люблю
Ту женщину с печальными глазами.
Она мне повстречалась, как во сне.
Когда очнулся – слишком поздно было.
В ее глазах спокойствие застыло,
И беспокойство с той поры во мне.
Теперь в далеком и прекрасном крае
Живет она. И в августе, и в мае
Ей обнимать другого суждено...
А мне напрасно вспоминать о ней,
Храня любви печальное вино,
Что с каждым днем все крепче и нежней.
***
Покинутого больше не покинуть,
Разлюбленного – вновь не полюбить,
Отвергнутого – вновь нельзя отринуть,
И падшего уже не оскорбить.
Вновь не пройти по пройденному кругу
С той женщиной, что нам не дорога.
Когда нет веры собственному другу,
В толпе людской не распознать врага.
Стремись любовью прошлое измерить,
Мечтать и в невозможное поверить,
Когда надежда есть – прекрасней жить.
Как тяжело, когда обиды длятся,
Еще ужасней прошлого стесняться,
О будущем утраченном скорбить.
***
Скоро полночь придет.
Мы посмотрим друг другу вослед.
Как живой, тихо дышит автобус последний,
Вспыхнут фары –
На секунду прохожий ослепнет,
Твои волосы пахнут,
Как ландышей майских букет.
Что ты вспомнишь в пути,
Когда звезды проспектов погаснут?
Когда вечер ночной будет губы твои целовать?
Как они холодны – то
любовь начала остывать.
Та, с которой встречаться опасно
И расставаться тревожно,
Та, которую стоит забыть,
Но забыть невозможно.
***
Я чувствую, будто приходит
Усталое счастье ко мне.
И жизни таинственный холод
Уже не тревожит во сне.
И завтрашний день не пугает,
Не хочется больше вершин.
Закаты за окнами тают
В моей деревенской глуши.
Часами брожу по апрелю,
Смотрю на озерную гладь
И больше нисколько не верю,
Что можно иного желать
***
Два мира мы, два легких корабля,
Вновь за кормою слышен чаек клёкот,
Обоих нас влечет к себе земля,
Где нам не будет больше одиноко.
Мы к ней стремимся много дней и лет
Сквозь штормы грозные, невидимые мели,
Вот, кажется, вдали забрезжил свет,
Вот берег проступил, и мы
уже у цели...
***
Та женщина с прекрасными глазами
Из зеркала смотрела со слезами...
Там, в Зазеркалье, было одиноко.
Она рукою нежною стекло
Разбить пыталась – ей не повезло.
И в глубину стекла ушла
Яло,
Как свет во тьму. О, это
так жестоко!
***
Сверчок стрекочет в трещинах крыльца,
В густой траве играю, как котенок,
Как аромат ночных фиалок тонок,
Как тесен мир трехлетнего мальца.
В нем каждый звук не до конца знаком,
И запахи еще не надоели,
И летних красок манят акварели,
И можно плакать в лопухах тайком.
Когда от водки будет притуплен
Твой вкус и ощущение времен
По вечерам придет совсем иное,
Захочешь вспомнить в поисках покоя
То ощущенье детское, простое –
Но не вернется время золотое.
Колокол. (Из Апполинера)
Цыган, мой любовник прекрасный,
Послушай, как колокол бьет.
Мы любим друг друга так страстно,
А он нам любить не дает.
С высокой своей колокольни
Раздетых нас видит в окно,
Трезвонит, трезвонит, как школьник,
О том, что таиться должно.
Назавтра об этом судачить
Все сплетницы наши начнут:
Мария, Урсула, Катрина
Торговка и муж ее плут.
С улыбкой они меня встретят,
Вслед станут ехидно смотреть.
Ты будешь далеко. Я плачу.
И хочется мне умереть.
***
Вне времени жизнь мчится, вне любви.
Ловлю в толпе агатовый твой взгляд.
Что предпринять, как возвратить назад
Ушедшее. Мне способ назови.
С тех пор, как ты ушла, – я в пустоте,
Мне не хватает воздуха и сна.
Любимая, твой облик, словно тень,
Преследует меня. Как жизнь тесна.
О, год любви, в котором мы любили,
О, дни и ночи – лист календаря
Последний сорван. Время дальше – силе
Его могучей можно ль устоять!
Где перст судьбы – жизнь кажется короче.
Где знак разлуки – слезы на ресницах.
Уходит год – минуты, дни и ночи.
Пусть он тебе в последний раз приснится!
***
Фонари колоколен,
Полночные бденья,
Улюлюканье дальних
кварталов и тьма –
Зима.
Декабри заползают
украдкой в дома.
Психология света им так
непонятна.
Я зову их обратно...
Весны кутерьма,
Непросохшие лунные пятна.
Так привычно и сухо
Скольженье миров за
окном.
И за сутками сутки
Уходят и входят в мой дом.
Декабри, декабри!
Ваши тени мешают мне
спать.
От зари до зари
Мысли странные движутся
вспять.
И перо, взгромождая
строку на строку,
Переводит чернила в
ночную тоску.
Метки: Рукописи из сундука, МГУ. журфак, Дальний свет факультета, 40 лет спустя
021. Дальний свет... А. Зарецкий. Завещание Бухарина, или
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука. № 7. М., 2008 г.
Александр Зарецкий
Из романа «Россия, раз! Россия, два! Россия, три!..»
Облое чудище власти пожрёт нас, лаяй – не лаяй
Из эпоса
Все совпадения с реальными событиями, с существовавшими и существующими
ныне людьми в романе «Россия, раз! Россия, два! Россия, три!..» являются
случайными. Герои книги не несут ответственности – ни за творившееся в стране,
ни за её настоящее и будущее.
Завещание Бухарина, или Большевики периода упадка
(Московские хроники)
Советский человек не был одномерен
Социологизм
***
Пиво и Бухарина реабилитировали в один присест в феврале 88-го.
– Подарок ко дню рождения, – хихикнула Татка.
– Ты про… пиво?
– Не ёрничай, твой полный тёзка стал легальным властителем умов.
– Какая-никакая альтернатива Сталину, – рассудил Николай Кромов. – Не дурашка
Мироныч, заложивший конопатому упырю весь съезд партии и себя самого.
– Того кончили из-за любовницы, – фыркнула Татка.
– Эх, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике, – дурачился Николай. – Блядство – политике не помеха.
– А эта латышка, Мильда Драуле, кажется, ещё не прощена?
Кромов улыбнулся. Жена подняла брови: «Что-то своё?».
– Историческое, – отразил муж. – Прибалты дурно влияли на нравы. Вспомни Бирона.
А Курляндия с Лифляндией сбагрили нам отморозков, выдав за цивилизованных солдат.
Те спасли Брестский мир, зверствовали по всей стране.
– Бухарин – временный кумир, – предположила Татка.
– Естественно, но такой роскошной конституции, что сочинил, у нас никогда не будет.
– Бедный Генрих! – вздохнула Татка, изучив газету, – один в ответе за весь правый
уклон. Ягоду-то не восстановили.
– Не хрен, в особняке старообрядца из подруг отца соцреализма публичный дом создавать, – рассмеялся Кромов.
– Кто-то тут вякал, что что-то политике не помеха.
Традиционную утреннюю атаку жены остановил звонок Четвёртого: «Это демонстративный разрыв со сталинизмом».
– Оппозиция де-факто существует, – уточнил Николай, – по обе стороны Горби.
– И справа, и слева, – развил мысль Четвёртый.
– Скорее – и с тёмной, и со светлой. А с Ягодой смешно.
– Не способны они без абракадабры, помнишь: «У нас могут быть две партии, одна у
власти, другая в тюрьме».
– Шуточку приписывают рыжему Карло Радеку, первому анекдотчику Сталина, но это
Рыков, которого тоже простили.
– Народ, наконец, узнает, кто после Ленина возглавил советское правительство, –
рассмеялся Четвёртый.
Бухарин недолго держал моду. В Кармазе успели поставить памятник с краткой эпитафией: «Обогащайтесь!». Одно слово осталось от умозрительного наследия любимца партии и Ленина. Впрочем, после 91-го все знали, что Борис Ельцин, сыгравший на
комсомольскую шпану, положил его резолюцией на докладную Чубая Гайдарова.
Имущие власть в очередной раз поимели страну под бухаринский фрейдизм: «задерём
подол России-матушке». Эта фраза органично легла в уста Лазаря Кагановича,
когда тот взрывал храм Христа Спасителя. А в Питере со временем завёлся новый
Мироныч. Так его величают в честь Кирова. Старожилы с усладой вспоминают, как
того убивали в Ленинграде, народ исходил горючими слезами, а начальнички –
кровавыми.
Обух, возникший следом, был сжат: «Живых врагов народа сажать надо, а не мёртвых – на пьедесталы».
– Чего вдруг в Москве-то?
– Проездом из Кабула в Термез и Кушку.
Николай понял, что с Афганом завязывают.
…– Бухарин, – сказала жена Камаринскому, – тебе в стиль, будет, о чём с бабами в
постели трепаться.
«Ухожу на работу, опустив голову перед жениной секирой…», – стерпел журналист. – Эхма, Анна Лурье, Ларина-Бухарина, насочинять такое».
О подлинности «Завещания Бухарина» отчаянно спорили, пока не выяснилось, что
послание он заранее отправил жене, а той полвека недосуг было прочесть.
– Говорят, что Бухарин был бессребреником? – спросила супруга.
– Теоретизировал у большевиков один блаженный, плохо кончил, – толковали нам в
ЦПШ на Миусах.
…«Реабилитация пива – серьёзный идеологический акт», – счёл Чумаченко, отоварившись. Бухарин под рукой имелся.
«Из-за этой перестройки жизнь пошла на перекройку, а потом – на переделку, – продекламировал, устраиваясь в кресле, – наконец… – задумался и нашёл рифму, – наконец, на перестрелку».
Под «Ячменный колос» и марксистскую теорию мыслилось глубже: «Коль скоро
восстановили в истории Рыкова, то надо «рыковку» вернуть народу. Пивом Горби
грехи не зальёт».
Прочтя Бухарина, Чумаченко понял, что Сталин переоценил того, расстреляв, явно
переоценил. Ксерокс со статьёй реабилитанта поэту, как летописцу современности
и хранителю диковинок, подарил Кромов. Копию сделали «На задворках», в
подразделении Трепасто, с вёрстки теоретического органа КПСС.
«Детские игры комсомольцев-переростков», – подумал Николай, просматривая осенью 87-го ещё тёплые страницы. Вспомнил сексуально-политический экзерсис раннего застоя.
В Высотке над Москвой переписывали самиздатовскую тетрадку. Ник чётко диктовал, у
девушки был каллиграфический почерк. Она уверяла, что он и принёс ей «отлично»
за вступительное сочинение. В единственном запирающемся ящике казённого комода
хранилась приличная «Оптима», которая, как пелось, «берёт четыре копии». Шкаф
модернизировал сосед Радж, как истинный индус, редко ночевавший в общаге. Но
недавно донесли о болтовне, чтоб растиражировать Солженицына, а стрёкот пишущей
машинки «инициативники» слышат хорошо.
Девочка была пришлая, с журфака и москвичка, что углубляло конспирацию. У неё дома
отец, атакующий соцреалист, напролёт диктовал машинистке агитпроломные романы.
Про почерк было шуткой, таких отпрысков университет охотно брал в гуманитарии.
Как-то у Николая заныла повреждённая чешской пулей нога, свернул в скверик журфака, присел на скамеечку психодрома, под памятником «Былому и думам» и познакомились.
Подпольщица, переложив копиркой листки тонкой бумаги, приготовилась. Впрочем, начали они с любви, чтобы не отвлекаться по пустякам.
«Письмо Правительству СССР. Михаила Афанасьевича Булгакова …», – повёл Кромов. Подруга строчила бойко, и вскоре Ник произнёс: «…нищета, улица и гибель. Москва, 28
марта 1930 года». Без перерыва продолжил: «Ухожу из жизни, опустив голову перед
пролетарской секирой…».
При словах: «…постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК», – девочка
моргнула глазками: «Другой стиль, это, пожалуй, не Булгаков?».
– Бухарин это, послание «Будущему поколению руководителей партии». За него,
кстати, дают на год больше.
– Может?.. – воодушевилась подельница.
– Допишем, и… – повременил Кромов, рассудив, что ей равноценны фак & трах и
самиздат, втянулась, будет пахать, готова к лишнему году тюрьмы. На потаённых
страницах возник «Лука Мудищев».
– Пропустим? – предложил Ник, со школьных лет равнодушный к рифмованной похабени.
– Тетрадка – на ночь, – упёрто отозвалась стенографистка. – Если тебя что-то смущает,
то я знаю, как пишутся те слова.
Запечатлев сентенцию: «На передок все бабы слабы», – барышня уразумела, что это так. Уже в ритме соития прошептала: «Стишки – и не Булгакова, и не Бухарина».
«Через причинное место до них яснее доходит, – заподозрил Кромов, – стилистка,
однако».
– Вид посильнее, чем с обрыва Воробьёвых, – обнаружила студентка, покуривая у окна, –
«Панорама Воланда».
Как вышел «Мастер и Маргарита», искали, где философствовал дьявол, проповедуя своим
бесенятам. Определили, что ранее на том же месте Герцен с Огарёвым поклялись
открыть в Россию дорогу сатане. История обошлась и без либералов, и без
нечистой силы.
Спустя годы подруга призналась, что свою копию отдала отцу. Она подписывала книги на Новом Арбате. Папаша оставил налаженный быт и литературных негров. Когдатошняя
девчушка-журналюшка, подпольщица и добросовестная любовница, а ныне
литературный бренд, лепила сериалы для книжных развалов, сноровисто склеивая из
сырья от нескольких подмастерьев.
Кромов вернулся домой с объёмистой связкой книг. На каждом титуле каллиграфически –
псевдоним, а под ним – виньеточно: «Игнатьева». Татка цапнула собрание на дачу,
вечерами запоем читала у камина. Одолев томик, брезгливо бросала его в огонь и
принималась за следующий поточный опус.
«Я испепелила твоё развратное студенческое прошлое», – гордо сказала мужу.
…В конце 80-х со страниц «Правды» КПСС покаялась в интеллектуальной немощности, но
народ этого не заметил.
– Устаканившаяся партия пенится недоумками с опытом руководящей работы, – хамил
Чумаченко, наливая друзьям-коммунистам.
Те не оспаривали, разговоры велись на контрадикциях.
– Партийный дебилизм – одна из острых форм идиотизма от обстоятельств, – добавлял
обычно Кромов. – Правда, комсомольский задор круче.
– Политармейский, – дежурно бубнил Обух.
– Все эти ваши полит и политы, – ругался Четвёртый, словно был ни при чём.
Усечённое «полит» ассоциировалось с большевизмом, считалось звуком благородным.
Полномерное «политика» – сигнал опасности.
– А бабы, – усугубил анализ оказавшийся в компании Трепасто. – Глубоко и многажды
отпартийненная дама, скарьерив, мнит себя чистой девочкой.
– Самый умный и честный из начальников всё равно – начальничек... – процитировал Кромов Степана Орлеца. – Заметьте, афорист завершил фразу отточием.
– Они необходимы, за некоторых иногда удаётся спрятаться, – пробурчал Трепасто.
«Хуже начальничков – только подчинённые», – с этим умозаключением Николая согласились все.
– За вас, за метастазы власти! – выкрикнул Чумаченко. – И помните о Брежандрчере.
Брежандрчер, или Трёхсмертие: Брежнев, Андропов, Черненко – апофеоз застоя. Это явление недооценено историками. А рок косил верхушку страны несколько лет – и высший кремлёвский геронтократ, и пятидесятилетних юнцов. Началось с Суслова, а докатилось до слов диктора телевидения: «Вы будете смеяться, но этот тоже умер». Ни дня без траура: Политбюро, прочие цекисты, первые секретари, министры, генералы –
мёрли в порыве пролетарской солидарности. Выпускающие редакторы носили чёрные
водолазки. Хороня Брежнева, народ не рыдал, не злорадствовал, а прослезился
человеческим сочувствием. Мы в долгу перед вторым Ильичём за это. Страна благодарна
Андропову и Черненко, доказавшим, что власть бывает скоротечно смертной. А
советские бонзы уверовали в чудотворца Иосифа, который из преисподней повторил
37-ой год. Сложился культ уже не личности, а образа, ересь грядущего
тысячелетия.
…КПСС опадала: кто диссидентствовал с подачи верхних кабинетов, кто держал масть
«оборонного сознания». Бухарина могли не заметить. Вёрстки из незапечатанных
конвертов изредка доставал Кромов, раздирал необрезанные страницы тетрадок
ручкой. Но запищала внутренняя связь.
– В «Коммунисте» – неоднозначная публикация, тираж ещё не печётся, – огорошил, впадая от волнения в акцент, призывник из Эстонии Тыку, ведавший патриотизмом и
интернационализмом молодёжи. В норме он объяснялся на советизме чисто. «Я
либерал, но работать заправлю», – заявил Тыку, заняв кресло.
– Боремся с архивным инакомыслием, – плюнул Трепасто на включённый селектор.
– Страна – на пороге 70-летия Великого октября, а нам подбрасывают, – Тыку всё же
продолжил накачку. – Даём пищу неформалам.
Их существование агитпроп признал, и, казалось, заклеймил, но не припечатал. Неформалы согласились таковыми быть. Позднее в них запустят безразмерным «экстремисты».
– Момент непростой, – натурально поддакнул Трепасто, наклонившись к микрофону, чтобы донести волнение в голосе. – Оппозиция в наших рядах, Ельцин проклюнулся…
В ответ что-то прорычалось.
– Мат или по-своему лопочет, – хохотнул Володька, убедившись, что кабинет
отключён. – Лапа, что ведёт этого мохнатика, чего-то боится, – резюмировал и
нажал кнопку, чтобы принесли чай.
– Взбодрил Ельцин перестройку, – хмыкнул Кромов.
– Его опустят, отодрав хором, сейчас у всех на выскочку стоит, – Трепасто не обратил
внимания на секретаршу.
– Извращенцы, – поняла та конкретно.
– Знаешь, когда я впервые о нём услышал, – сказал Николай, – сплетническое такое.
Ехали из Риги. «Как вам церкви?», – спросили попутчики. «Церкви и церкви», –
отвечаю. «Они ж открыты?!» – восторгаются. «В Москве – около 50», – пожимаю
плечами. «А у нас, сука Ельцин, одну на двухмиллионный Свердловск оставил».
«Ельцин – кто?» – спрашиваю. «Секретарь наш, двусторонний какой-то», –
хихикают.
Кромов протянул вёрстку помощнице, та аккуратно разрезала страницы. Вопросительно
посмотрел на Трепасто. Володька бросил на стол ключи от коморки с ксероксом: «Я
по делам». На Тыку ему было плевать, смущало, что ксерокс – явочный. Лубянка
упёрто не пускала в канцелярии технический прогресс.
«ЦК КПСС уходит в подполье», – потешался Кромов, запуская машину.
Тыку понял, что вляпался в анекдот. Вызвал Трепасто и Кромова, метнул на стол бланки
путёвок в новый пансионат: «Выбирайте время и компанию».
Взятку приняли и байка, как шеф запретил читать «Коммунист», в обращение не пошла.
70-летие стало последней годовщиной революции, которую страна отпраздновала внешне единодушно. Во Дворце съездов Кромов составил витиеватое ругательство из
отчётливой артикуляции передовика со звездой Героях труда, оторопевшего от идеи
закусывать лимонад икрой и сёмгой. Позднее ударник походил в прорабах демократии. Ельцина выгнали из горкома, истоптав в прессе. Сам мямлил невразумительное, а народ обвинил во всём Раису Максимовну.
«Горби подарил оппозиции лидера», – изрёк Кромов, – с Ельциным будут работать.
Грянуло письмо Нины Андреевой, Тыку вновь стал партийничать, словно последняя
большевичка.
– Не читай газеты, как откровение, – сказал шефу Трепасто.
– Начальничек – системный дурак, – создал афоризм Кромов, опередив время.
Сдача Афганистана доконала Тыку, с последними словами Горбачёва на первой послесталинской партконференции он предложил ехать в июле, оформив командировки. Благодаря Бухарину компания в августе 88-го ступила на перрон рижского вокзала.
Женщины тут же двинули на рынок: «Овощеядная страна».
настроение: Безразличное
Метки: Дальний свет факультета, Рукописи из сундука, 40 лет спустя, Россия - раз. Россия -два.., Зарецкий
019. Дальний свет... С. Николаев. Солдафон. Рассказ
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука», № 7. М., 2008 г.
Сергей Николаев.
– Эх, Николаев, Николаев! – изрек однажды Зарецкий, когда мы курили после завтрака на крыльце казармы. – Вот уже завтра конец нашей службе в доблестной Советской Армии, а мы еще ни разу не нарушили…
– Чего не нарушили, Сань? – удивленно взглянул я на него.
– Устава… – грустно произнес Зарецкий.
– А надо ли? – засомневался я.
– Да, может, и не надо, – пожал плечами Зарецкий, – да только как-то скучно без этого. Да и потом – о чем мы будем вспоминать после? Как это так? Прошли военные сборы, а мы ни разу ничего не нарушили. Нехорошо это как-то…
– Ну и что ты предлагаешь? – перешел я к делу.
– Нарушить! – Зарецкий сунул руку в карман гимнастерки и извлек оттуда пять рублей. – Вот… Мама прислала. Арбузом мы уже сыты. Поэтому предлагаю потратить эти средства на более серьезное дело.
– На что же? – уже догадываясь, тем не менее, уточнил я.
– На выпивку. На две бутылки портвейна. Сегодня для этого самый удобный момент. Удобнее быть не может.
– Почему? Объясни… – попросил я.
– Сегодня за завтраком в офицерской столовой, – Зарецкий, словно разведчик, огляделся по сторонам, – я выведал весьма важную информацию…
Теперь, кажется, настала пора объяснить, каким образом Зарецкий оказался за завтраком в офицерской столовой.
Дело в том, что моему другу Сане на военных сборах в Новой Ляде страшно повезло: на второй день нашей службы приказом начальника части Зарецкий был определен официантом в офицерскую столовую.
Никто не удивился выбору командира. Зарецкий был тогда (он и сейчас такой же) строен, красив и интеллигентен. Солдатская форма, висевшая на нас, как мешковина, сидела на нем,как на Аполлоне. Бывалым офицерам, видимо, было приятно смотреть на такого
опрятного и культурного денщика во время приема пищи, и это решило военную
судьбу Зарецкого.
На Санину армейско-лагерную жизнь такое назначение повлияло весьма положительно. Саня был освобожден от многих учебных занятий (он и без того все знал и умел), а также
от многих солдатских работ.
Единственной и главной его обязанностью было являться к началу завтрака, обеда и ужина в офицерскую столовую, интеллигентно разносить нашим командирам блюда, а также убирать со стола грязную посуду.
Вдобавок его еще и подкармливали там, и не горохом, не шрапнелью, не чаем под названием бурда, а серьезной мужской пищей – сытными щами, мясом, котлетами и даже компотом.
От этой подкормки с барского стола иногда перепадало и мне – то бутербродом с сыром, то с колбаской изредка (мог бы и почаще) угощал меня Зарецкий, и был я за это весьма
признателен своему другу.
Но, кроме этого, он еще, оказывается, выведывал в офицерской столовой весьма важную информацию.
– Слушаю тебя, Саня, – так же опасливо обернулся я по сторонам. – Поблизости никого... Никто нас не услышит.
– Утром за завтраком, – вдруг, словно заговорщик, зашептал Зарецкий, – мне стало известно, что сегодня в 17.00 почти весь комсостав части убудет на полигон. Испытания закончатся в 20.00. Из этого следует, что совершить вылазку в сельский магазин и после этого славно попировать в кустах с 17 до 20.00 будет безопасно, как никогда. Ну что?
Согласен?
– Согласен, – вдруг замялся я, – но только...
– Что «только»?..
– А Солдафон?... – В голосе моем неожиданно появилась дрожь. – Он тоже уедет?
– Не знаю... – Лицо Зарецкого заметно побледнело. – Этого выяснить не удалось. Но не отменять же нам из-за него мероприятие?
– И то правда..., – хмельное облако авантюризма накрыло и меня.
– Ну, тогда бросим жребий – кому идти за портвейном.
В руке Саньки появилась монета.
– Бросай, – кивнул я.
– Орёл – идешь ты! Решка – иду я! Бросаю!
Зарецкий щелкнул пальцем, монета взлетела, как желтая бабочка, трепеща бронзовыми крыльями, и через пару секунд упала на крыльцо.
– Орел! – констатировал Зарецкий.
– Орел, – согласился я.
–Держи, – протянул Саня деньги. – Купишь две бутылки портвейна, пару пачек «Явы» и каких-нибудь пряников. Я же, со своей стороны, из столовой что-нибудь принесу. На славу пир получится!
Тут скомандовали построение, я побежал на плац, а Зарецкий, не торопясь, отправился в свою столовую.
Но прежде чем описывать дальнейшие события, я должен хотя бы вкратце рассказать вам о том, кого мы называли Солдафоном.
Мы познакомились с ним в первый же день нашего пребывания в Новой Ляде.
Как сейчас помню наше первое построение на плацу. Нас только что помыли, нас только что переодели в солдатскую форму, и вот мы уже не студенты, а курсанты, стоим длиннющей шеренгой на плацу, а наши новые преподаватели, военные командиры, ведут с нами ознакомительную беседу.
Первым выступал командир части. Сказать по правде, я весьма смутно припоминаю, о чем он говорил. Поздравил, кажется, нас с началом военных сборов, пожелал успехов в службе и, передав слово своему заместителю по строевой подготовке, удалился.
Тут перед нами появился коренастый, невысокого роста капитан с красным от загара лицом деревенского простака.
Заглядывая каждому из нас в глаза, неспешной походкой прошелся он вдоль строя, а после, отойдя от шеренги метров на пять, вдруг гаркнул по-панибратски:
– Здорово, мужики!
Наши ребятишки так же по-свойски ответили ему.
– Бонжур! Приветик! Здорово! – раздалось из шеренги.
Капитану ответ наш явно пришелся не по духу. Лицо его набычилось. Желваки задергались. Глаза злобно сощурились.
– Вот что, мужики, – заложив руки за спину, немедленно начал он наше обучение, которым занимался непрерывно все полтора месяца. – Здесь вам не университет. Здесь – Советская Армия. И я буду не я, если не заставлю вас жить по ее законам. На мое
приветствие надо отвечать: «Здравия желаем, товарищ капитан!» И я не отпущу вас
с плаца, пока не добьюсь этого. Понятно? И еще, коли уж я начал урок, скажу вам
следующее – за всякое несоблюдение устава я буду строго наказывать вас. За
грязный подворотничок – наряд вне очереди. За грязные сапоги – два наряда. За
самовольный выход с территории части – гауптвахта. За распитие спиртных
напитков – увольнение из рядов Советской Армии, а, следовательно, и из
университета. Кстати, об этом у меня есть договоренность с вашим деканатом.
Понятно?
– Так точно! – разом гаркнули мы, поняв вдруг, что он не шутит.
В тот день он добился от нас, чего хотел: мы таки гаркнули стройным хором: «Здравия желаем, товарищ капитан!». И все следующие полтора месяца сдерживал свое слово – гонял нас до седьмого пота по плацу, срывал с нас грязные подворотнички, требовал начищать сапоги до блеска, заставлял драить казарму и прочее, и прочее, и прочее... А уж о самоволке и спиртном мы даже и думать не могли, так велик был наш испуг.
Вот почему целый день столь серьезно и сосредоточенно обдумывал я будущую вылазку.
Сельский тот магазинчик находился метрах в трехстах от воинской части. Сквозь щели в заборе его даже было видно – обычная деревенская изба, только с высоким крыльцом и широкими дверьми. Идти до того сельпо было минут пять, не больше. К тому же добраться до магазина можно было скрытно – обочины дороги были засажены кустами акации, и за теми кустами я мог идти к магазину, никому не показываясь на глаза.
Забор, огораживающий воинскую часть, тоже не представлял особой трудности. Был у него известный всем солдатам изъян – за зданием штаба, почти вплотную прилегающем к ограде, одна доска забора не была прибита к нижней слеге. Так что выйти из части было
нетрудно, дойти до магазина и обратно и вовсе сущий пустяк. Но вот как
прошагать с двумя бутылками портвейна через всю территорию части от лаза к
кустам, где мы с Зарецким собирались устроить пирушку, я не представлял. Не
нести же бутылки в руках? Даже если я их в какую-нибудь авоську положу или
заверну в газету, все равно у любого встречного командира, и уж тем более, у
Солдафона, это вызовет подозрение, и тогда, точно, не сносить мне головы. Ну,
все-таки как же пронести мне бутылки по части?
Этот нелегкий вопрос мучил меня в течение всего дня – и во время бега по плацу, и во время упражнений с оружием, и во время теоретических занятий, и во время стрельб...
То представлялось мне, что бутылки можно сунуть под ремень брюк и прикрыть
гимнастеркой. Но вскоре я отверг этот замысел. За полтора месяца в лагерях мы
настолько отощали, что бутылки, словно два вздутия на животе, выпирали бы
из-под гимнастерки и были видны даже невооруженным глазом. Потом новый план
занял мой озабоченный ум. Может, связать бутылки веревками и подвесить их на
шее, пряча под мышками? Но вскоре и эта хитрость показалась мне наивной. А
вдруг встретится мне какой-нибудь старший чин? Ведь ему надо будет отдать
честь, и тогда одна из бутылок легко обнаружится. Только после обеда, на
занятиях по тактике, пришла в мою голову теперь уже, кажется, стоящая мысль –
надо, связав бутылки веревкой, подвесить их к поясу, опустив по одной бутылке в
штанины брюк. Тогда уж, точно, никто ничего не заметит, ибо в брюки, которые
мне выдали в лагерях, мог поместиться еще один такой же курсант, как я.
На этом замысле я и остановился. Оставалось только достать веревку. Ее я, собственно, приметил давно. Крепкая, толстая, длиной метров десять, натянута она была при входе в
казарму, в раздевалке, и вешали мы на нее свои портянки, носовые платки, подворотнички и прочую солдатскую амуницию. Оставалось только ее незаметно снять, а после завершения операции так же незаметно натянуть.
После занятий, когда мои друзья-сослуживцы мирно курили на ступенях казармы, я, крадучись, словно вор, осторожно шагнул в казарму. Казарма была пуста. Один лишь дневальный стоял у входа. Избавиться от него я никак не мог и тогда я пошел на хитрость. Без всяких колебаний, словно делаю это по приказу, я поставил табуретку у стены и начал отвязывать веревку от гвоздя.
– Ты что это делаешь? – заинтересовался дневальный моим странным занятием.
– А ты не видишь? – равнодушно отвечал я. – Веревку отвязываю...
– Зачем? – весьма справедливо поинтересовался дневальный.
– Стирать... – со вздохом ответил я.
– Ты что? Совсем того?.. – дневальный покрутил пальцем у виска.
– По этому вопросу обращайся к товарищу капитану, – кивнул я на его каптерку. – Он тебе быстро разъяснит, кто того, а кто не того...
– Ну, дебил... – московско-университетский снобизм сработал мгновенно. – То бордюрные камни приказывает красить, то веревки стирать... Не хватало нам еще начать шнурки гладить...
– Он бы и это приказал, – отвязывал я веревку уже от второго гвоздя, – но на кирзачах шнурков нет.
– Это точно, – согласился со мной дневальный и снова углубился в свои курсантские раздумья.
А я, смотав веревку, вышел из казармы.
Время приближалось к 17.00, часу отъезда командиров на полигон. Пустой пока автобус стоял у ворот части. Однако водитель уже сидел в кабине, однако двери автобуса были
гостеприимно открыты, однако мотор уже урчал, выбрасывая из выхлопной трубы
синеватый газ.
Пройдя мимо приятелей, я расположился на пустой скамейке напротив штаба и принялся наблюдать. В окнах штаба ощутимо было суетливое движение. Из открытой форточки, как из трубы, тянулась струя синего табачного дыма. Обрывки военных фраз, казалось, долетели до моего слуха: «Слушаюсь... Так точно... Выполняйте... Есть...»
Как диверсант перед ответственным заданием, тревожно и внимательно я то и дело взглядывал на стрелки моих часов: 16.58... 16.59...
«Господа офицеры, пора уже!» – хотелось даже выкрикнуть мне. Но до этого дело не дошло.
В 17.00 – вот что такое Советская Армия! – двери штаба части распахнулись, и один за другим из них начали выходить наши бравые командиры.
«Ну где же вы, товарищ Солдафон? – исходил я от нетерпения увидеть и его в этом славном собрании. – Ну выйдите... Прошу вас... Садитесь в автобус и поезжайте на испытания. Ну, пожалуйста, не мешайте нам отмечать дембель!»
Но – увы, увы! – капитан так и не показался из дверей штаба.
Потом двери автобуса захлопнулись, автобус взревел как зверь и, выбросив из выхлопной трубы облако синего газа, лихо выкатил за ворота.
«Ну что же, товарищ Солдафон, – словно разговаривал я с нашим мучителем, – вы все-таки никуда не поехали? Ну и ладно, ну и пусть... Но это не помешает нам с Зарецким нарушить устав. Не помешает выпить портвейна в кустах. Не помешает обмыть звездочки...»
Решительно поднявшись со скамейки, я сунул веревку за пояс и двинулся к лазу.
Обогнув здание штаба, я тут же обнаружил его. Впрочем, это было совсем не трудно – наторенная сапогами тропа была видна невооруженным глазом.
Оглянувшись на окна штаба, не следит ли кто за мной, я решительно отодвинул доску и без труда протиснулся в щель.
За полтора месяца я впервые оказался на воле, и, признаюсь, ощущения мои были великолепны. Увы, только лишившись воли, мы понимаем, каким великим благом является она для нас. Мне хотелось петь, мне хотелось плясать, мне хотелось... Но времени у меня было в обрез, и, не желая тратить его на пустяки, я в следующее мгновенье юркнул в кусты.
К моему удивлению, в посадках акации я обнаружил тропу, наторенную не меньше, чем «официальная» тропа, идущая вдоль посадок акации. Легко, словно по тротуару, зашагал я по ней к магазину.
Через пять минут я подходил к новолядскому сельпо.
Заглянув в приоткрытую дверь и увидев, что там никого, кроме молоденькой продавщицы, нет, я вошел внутрь.
– Чего тебе, солдатик? – ласково, словно к родному брату, обратилась ко мне юная красавица.
– Мне, девушка, две пачки «Явы», – начал я с безобидных покупок, – четыре пряника и... – Взгляд мой прошелся по полкам со спиртным. – И две бутылки портвейна... Вон того... С желтой этикеткой...
– Товарищ капитан, – моргала юная чаровница огромными, словно две ложки, глазами, – запретил продавать солдатам спиртное.
– Я не солдат, девушка, – уставился я в ее красивые глазищи.
– А кто же? – Глаза ее стали еще огромней.
– Я – курсант, – гордо представился я. – И уже завтра стану офицером, младшим лейтенантом... Понимаете?
– Да? – почему-то вдруг покраснела девушка. – Если так, то, пожалуйста... – Она наклонилась к ящику с портвейном и извлекла из него две бутылки. – Берите...
Надо было, конечно же, сказать ей еще что-то приятное, какой-нибудь комплимент, какое-нибудь ласковое слово. Но я был в самоволке и не мог расслабляться даже на миг и, подмигнув ей, развернулся и зашагал к выходу.
Через пять минут я подошел к забору части. Теперь предстояло мне самое трудное. Усевшись на пенек, достал я из-за пояса веревку и принялся обвязывать ею бутылки. Этой солдатской науке обучил меня наш однокурсник Петя Алешкин, бывший лет на десять старше нас, давно прошедший службу в армии и знавший множество военных хитростей.
Преподаватель он был отменный, уроки его я усвоил отлично, и вскоре бутылки,
обвязанные спецузлами, лежали передо мной на траве. Потом я расстегнул ремень
брюк и опустил бутылки в широченные штанины. Десятиметровой веревкой обвязался
я несколько раз вокруг пояса, а оставшиеся метров восемь смотал в клубок и
запихнул под ремень.
Прикрыв всю эту веревочную путаницу гимнастеркой, я сделал несколько пробных шагов. Бутылки, конечно же, покачивались при движениях, но в широченных, как шаровары
запорожцев, штанинах эти покачивания не были заметны. Медленным шагом я мог бы
спокойно пройти через всю территорию части и добраться до спасительных кустов.
Потом, подойдя к забору, я сдвинул доску в сторону и несколько секунд изучал обстановку. Она меня порадовала. Можно было приступать к выполнению самой сложной части операции – и я приступил.
Протиснувшись в щель, я вернул доску на место и спокойно, словно прогуливаюсь перед ужином, зашагал вдоль здания штаба.
Вскоре благополучно миновал я его, вскоре благополучно вышел на дорогу, ведущую в столовую.
Запах пищи, донесенный до меня ветром, всколыхнул мою душу.
«Сейчас спрячу бутылки в кустах – и на ужин, – благодушно мечтал я. – А после ужина Зарецкий бутербродики какие-нибудь принесет. У нас пряники есть… Сигаретки… Посидим на славу… Выпьем… Покурим… Поговорим… Оказывается, и в солдатской службе есть своя прелесть. Ох, хорошо-то как…»
Быть может, именно это благодушие и подвело в тот день меня. Размечтавшись, я на несколько минут потерял бдительность, и это едва не привело меня к погибели.
Слишком поздно очнувшись от мечтаний, я вдруг увидел на дороге, метрах в трехстах от себя, какого-то офицера. Первым моим желанием было свернуть с асфальтовой дороги в сторону и спрятаться в кустах. Но в следующий миг я сообразил, что поступать так ни в
коем случае нельзя – это могло вызвать подозрение, и тогда уж точно не избежать
мне беды. Сдержав себя, я продолжал идти, как и прежде – медленно и плавно,
чтобы офицер не заметил покачивания бутылок в моих штанинах. Вскоре, однако,
соблюдать спокойствие мне стало еще труднее, потому что, когда офицер приблизился
ко мне, я с ужасом узнал в нем Солдафона.
«О-хо-хо, – едва не застонал я. – Ну надо ж такому случиться! Пропал, теперь уж я точно пропал…
Заметит, точно заметит изверг мою ношу. Схватит меня с поличным. Доложит об
этом начальству. И за сие нарушение отчислят меня с факультета. Отправят в
настоящую армию. Теперь уже не курсантом, а настоящим солдатом… Господи, помоги…»
Не жив не мертв кое-как шагал я все-таки навстречу своей погибели, аки кролик в чрево удава. Метр за метром сближались мы с капитаном, и с каждым метром поджилки мои дрожали все более ощутимо.
«Держись, Серега, – приказывал я себе. – Сейчас, когда вы встретитесь, вытянись в струнку, выпяти грудь, перейди на строевой шаг, отдай ему честь и скажи браво, как солдат Швейк: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Он это любит. Ему это понравится. И, может быть, он не начнет к тебе придираться. Еще три секунды подожди, еще
две... Начинай!»
Я сделал все, как полагалось – вытянулся в струнку, выпятил грудь, перешел на строевой шаг, взметнул руку к виску и выпалил громко и отчетливо:
– Здравия желаю, товарищ капитан!
Капитану мое поведения явно понравилось. Сдержанно улыбнувшись, он смерил меня взглядом с ног до головы, не задержавшись и на миг на моих штанинах, вскинул ладонь к фуражке, скороговоркою произнес: «Здравия желаю» – и прошел мимо!
Будто глыба свалилась с моих плеч.
«Не заметил, – радостно шептал я, – он ничего не заметил! Счастье-то какое!»
Но в следующий момент вдруг выяснилось, что радость моя была преждевременна.
– Товарищ курсант, постойте-ка! – вдруг услыхал я за своею спиной.
Обернувшись, я увидал, что капитан, удалившийся от меня уже метров на шесть, указывает пальцем на землю.
– Слушаю вас, товарищ капитан! – изобразил я всем своим видом служебное рвение.
– Что это такое?
– Где, товарищ капитан? – изо всех старался я не выдать себя.
–Да вон, вон... – снова указал он на землю.
Тут наконец-то заметил я то, чего не замечал ранее, – бельевая веревка, словно длинный хвост, тянулась за мной.
«Пропал, пропал, – с ужасом думал я. – Сейчас капитан дознание устроит, веревку отвяжет, бутылки найдет – и конец мне... Теперь уже точно конец...»
А капитан, наклонившись к земле, стал наматывать веревку на руку, с каждым новым витком приближаясь ко мне. Вскоре стоял он уже передо мной и показывал мне моток.
– Что это такое?
– Веревка, товарищ капитан, – тупо отвечал я, судорожно соображая, как выкрутиться мне.
– Зачем она здесь? – совсем уже в открытую улыбался он.
– Не знаю, товарищ капитан, – мучился я в догадках, как оправдаться. И тут спасительная мысль наконец-то осенила меня. – Наверное, товарищи привязали для смеха... А я и не заметил...
– Товарищи, говоришь? – вдруг мигом посерьезнел он и взглянул на мои штанины. – Для смеха? И ты думаешь, что меня проведешь? Ты думаешь, ты что-нибудь новое открыл, чего я не знаю?
– Никак нет, товарищ капитан! – робко отвечал я.
– Да я сам, когда был в учебке, таким способом через проходную бутылки таскал. И ни разу не попался...
– Капитан вдруг совсем не по-командирски почесал затылок и усмехнулся.
Воспоминания о далекой юности, видимо, были очень притны ему. – А ты вон
попался с первого раза... Да я твои бутылки еще за сто метров разглядел. И
хотел промолчать. А ты даже веревку не мог по-настоящему завязать! Эх,
неумека... Этому вас тоже, что ли, надо было учить?
Я молчал, не зная, чем отвечать на подобную откровенность.
– Говори честно, что несешь?
– Портвейн, товарищ капитан, – как на духу признался я. – Две бутылки...
– По какому поводу будете пить?
– За дембель, товарищ капитан, – приставил я руку к пилотке, – и за звездочки...
– Только это вас и оправдывает, – снова улыбнулся он. – Это единственный повод, за который я не наказываю. Идите! – кивнул он мне. – Но только не думайте, что меня можно провести. Понятно?
– Так точно, товарищ капитан! – Снова отдал я ему честь.
– Ну ладно, все...
Он повернулся и усталой походкой зашагал к штабу части. Почему-то с этой минуты больше не захотелось мне называть его Солдафоном.
В тот вечер, после ужина, мы с Зарецким весьма славно посидели в заповедных кустах у забора. Саня и в самом деле принес к праздничному столу по котлетке и по бутерброду с колбасой. И стол наш, потемневший от старости осиновый пенек, просто ломился от яств.
В первую очередь, выпили мы за наш завтрашний дембель, во вторую очередь, – за лейтенантские звездочки, которых, впрочем, мы так никогда и не увидели, а в третью – за капитана, за его курсантскую юность, за его строгость и придирчивость к нам, которые, как оказалось в будущем, пошли нам на пользу.
«Рукописи из сундука», №7, 2008 г.
Метки: МГУ. журфак, Дальний свет факультета, Рукописи из сундука, 40 лет спустя
018. Дальний свет... С. Николаев. Поучительный арбуз. Рассказ.
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука», № 7. М., 2008 г.
Сергей Николаев
Я до сих пор отчетливо и ясно, словно это было вчера, помню, как увидел на столе при входе в казарму конверт с дорогим для меня почерком.
«Тамбовская область, – было выведено на нем маминой рукой, – пос. Новая Ляда, в/ч 4967, курсанту Николаеву Сергею Леонидовичу».
«Мама, мамочка, – возликовал я. – Письмо прислала! Ох, хорошо-то как!»
Схватив письмо, я поспешил в казарму и, расположившись на своей койке, надорвал конверт.Кроме письма в конверте оказался какой-то чистый листок бумаги, сложенный вдвое и склеенный по краям. Сперва я просто не понял его назначения и взялся за письмо.
Мама писала, что дома у нас, слава Богу, все нормально, что братик мой подрастает и скоро уже пойдет в детский сад, что отчим передает мне привет и так далее, и так далее…
Милое, доброе и родное письмо прочитал я одним духом, и стало от него на душе моей тепло.
В конце письма мама подписала следующее: «Посылаю тебе, сынок, три рубля. Купи себе на них чего-нибудь сладенького. Кормят ведь вас там, наверное, скромно и однообразно. Целую еще раз. Пиши. Жду твоих писем. Мама».
«Спасибо, мамочка», – мысленно произнес я и снова заглянул в конверт. Только теперь стало понятно мне назначение склеенного листка – мама запрятала туда деньги.
Надорвав листок, достал я оттуда зелененькую трёшку и, сунув ее в карман гимнастерки, мечтательно откинулся на подушку.
Да, мама была права, кормили нас в военных лагерях, конечно же, весьма скромно и однообразно: гороховый суп, по прозвищу размазня, перловка, по прозвищу шрапнель, и жидкий чай, по прозвищу бурда, – вот что чаще всего ели мы тут.
И потому было о чем помечтать мне, откинувшись на подушку.
При воинской части нашей был небольшой ларек, в котором продавались сигареты, печенье, сахар, тушенка и прочие солдатские радости.
Но денег ни у меня, ни у моего друга Сани Зарецкого давно уже не было ни копейки, и потому, чтобы себя не мучить, мы просто не подходили к ларьку, пытаясь забыть про него.
Итак, я лежал на своей койке и, прикрыв глаза, мечтал, что бы купить нам с Санькой. То представлялась мне банка сгущенки, то являлось в воображении юбилейное печенье, то виделись пряники, то орехи…
Но судьба этой маминой трешки, оказывается, уже была предрешена, потому что, предаваясь чревоугодным мечтаниям, вдруг услыхал я голос Зарецкого над собой.
– Николаев, – страдальчески произнес он, – как жаль, что у нас нет ни копейки денег…
Раскрыв глаза, я увидел его печальное лицо.
– А что такое? – не стал я сразу делиться радостью, желая оттянуть приятный момент.
– Арбузы привезли в ларек, – продекламировал Зарецкий печальным тоном Гамлета. – Вот такие… – развел он руки в стороны. – Но есть их будут другие. Мы – чужие на этом
празднике жизни…
– А вот и нет, – загадочно произнес я и сунул руку в карман гимнастерки. – Вот и нет… –
размахивал я трешкой, как флажком.
– Откуда, Николаев? – он тогда, в пору нашей юности, часто, почти всегда, называл меня по фамилии.
– Мамочка прислала… – кивнул я на письмо. – Говорит, купи себе чего-нибудь сладенького. А что может быть слаще спелого арбуза?
В этот момент в казарму начали заходить наши сослуживцы, такие же, как мы, курсанты, студенты МГУ: филологи, историки и наши однокашники – журналисты.
Именно в этот миг и произошло то, о чем я никак не могу забыть, хотя с тех пор минуло уже так много лет: ни слова не говоря, я сунул руку в тумбочку, вынул оттуда складной нож и, поднявшись с кровати, кивнул Зарецкому:
– Пошли!
– Вы далеко, мужики? – спрашивали нас встречающиеся нам товарищи.
– Да так… Покурить… – отмахивались мы.
Будто сговорившись, мы с Зарецким молчали о том, что идем покупать арбуз, хотя прекрасно помнили, как многие из тех, кого обманывали мы, совсем недавно угощали нас то печеньем, то пряниками, то сигаретами.
Потом мы шли по части к ларьку, и совесть мучила нас.
– Сань, – вдруг не выдержал я. – Ну что? Мы не правы, что ли?
– Да нет… Все нормально, – потупил взор Зарецкий, и я заметил, как краснеют от стыда его щеки.
Да, нам было стыдно, но жадность преодолевала стыд.
– Сань, – продолжал оправдываться я, – ну если бы мы с собой хоть одного кого-нибудь позвали, то набежало бы человек десять. И всем досталось бы по кусочку. И ничего бы мы с тобой не почувствовали. А так хоть наедимся вдоволь.
На эти слова Зарецкий ничего не отвечал, но щеки его становились еще пунцовее.
Наконец подошли мы к ларьку. Огромные полосатые арбузы лежали в решетчатом ящике близ стены.
– Вам что, мальчики? – спросила миловидная продавщица.
– Нам арбуз… Самый большой… Вон тот… – указал я пальцем на полосатого великана. – И на остальные – сигарет…
Продавщица вышла из ларька, отомкнула на ящике замок и указала на весы:
– Кладите…
Арбуз потянул почти на два рубля. На оставшиеся мы получили четыре пачки сигарет.
– Ну что, Сань, – с трудом оторвал я арбуз от весов, – куда пойдем-то?
– А вон туда… – указал Зарецкий на кусты у забора.
– Да, – кивнул я утвердительно.
– Там нас никто не увидит. Пошли...
Арбуз весил килограмм пятнадцать, с трудом удерживали мы его в руках. Нас даже пот прошиб, пока мы дотащили его до кустов.
Когда зеленая листва скрыла нас от посторонних, мы опустили арбуз на землю. Я достал и раскрыл нож.
– Давай! Режь! – нетерпеливо махнул рукой Зарецкий.
Я занес нож над арбузом и со всего маху вонзил лезвие в его полосатый бок. Потом начал разрезать жесткую кожуру.
«Сейчас, сейчас, – ликовала моя душа, – сейчас он развалится на две половины, и мы увидим его красную, его сладкую, его сочную мякоть. Ох, и насытимся мы! На двоих тут по самое горло будет! Как же хорошо, что мы никого не позвали!»
Нож мой все смурыгал и смурыгал по арбузной корке. Наконец кожура была надрезана. Я отложил нож и взялся за половинки арбуза.
– Разламывай! – исходил от нетерпения Зарецкий.
Я дернул половинки в стороны, арбуз разломился и… У меня до сих пор замирает сердце, когда я вспоминаю увиденное! Нашим взглядам представилась не красная, сочная и сладкая мякоть, а белая, как лист бумаги, твердая и жесткая неспелая арбузная плоть.
Ковырнув ножом из середины, я попробовал арбуз на вкус. Сырая картошка была вкуснее.
Мы поднялись от арбуза и полезли за сигаретами. Долго стояли мы над белыми половинками арбуза и осмысляли произошедшее.
Когда сигареты были докурены, я спросил у Зарецкого:
– Ну что, Сань, ты на это скажешь?
– А что тут сказать? –
Зарецкий, взглянув сперва на небо, потом на арбуз, а потом уж на меня, грешного, изрек философски: – Бог, Он все-таки есть… Единственное, что можно сказать об этом… Как бы нам не втолковывали противоположное на лекциях по материализму…
«Рукописи из сундука», №7, 2008 г.
Метки: 40 лет спустя, Рукописи из сундука, Дальний свет факультета, МГУ. журфак
017. Дальний свет... Л. Арефьева. Гриша Бурлак. Рассказ
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука», № 6 М., 2007 г.
Лидия Арефьева
Истории со знаменитым на весь курс Гришей Бурлаком начались с первого же дня.
Накануне первого сентября, когда седьмой общежитский корпус гудел прибывшими к началу занятий гуманитариями, первокурсники обживали общественные места: кухню, душ. Мы тоже, всей нашей двести пятой комнатой, отправились в душ. Через некоторое время в соседнем, мужском, душе через стенку, послышался шум, возгласы, а когда мы вышли и спросили, что же произошло, нам сказали, что упал в обморок некий первокурсник
– Гриша Бурлак, ударился об угол кабинки и разбил голову. И его на «Скорой»
увезли в больницу. Мы поахали, поахали и разошлись.
А на следующий день, когда наша маленькая 101 испанская группа собралась в аудитории, то среди трех студентов мужского пола сидел один с перевязанной головой, и мы поняли, что это и есть Гриша Бурлак, так оно и оказалось. И дальнейшие наши пять лет прошли под знаком приключений с Гришей Бурлаком.
Будучи членом КПСС и вообще человеком убежденным и целеустремленным, он с первых же дней заявил, что по окончании университета намерен стать Генеральным секретарем партии и тогда подумает, кого из нас троих, почему-то именно нас троих, сделает министром культуры, как Фурцеву сделал Хрущев. Каждый день он менял свое решение. То говорил: тебя, Терехова, сделаю министром культуры, а Токареву нельзя ставить, хоть она и член партии, но несерьезная, много и громко хохочет, а Скворцова – хитрая, и никогда не улыбается, боится морщинок нажить. Я тебя, Токарева, так и быть, сделаю министром, но печати, там все равно с журналистами «зубы мыть будешь», они люди сами несерьезные, за исключением меня. А тебя, Скворцова, так и быть, поставлю в Союз театральных деятелей, театрами ведать. Артистам такие, как ты, нравятся.
Однажды, месяца через два после начала занятий, мы стали готовиться к соревнованиям по легкой атлетике на первенство МГУ. Наш преподаватель физкультуры, Наум Моисеевич, подошел к Грише, как самому дисциплинированному студенту, посещавшему его занятия, и спросил, может ли тот ездить на велосипеде, а то у нас не было человека по этому виду спорта. Гриша сказал, что, конечно, может, потому что в деревне здорово гонял на велосипеде.
За день до соревнований ему выдали гоночный велосипед, показали, куда нажимать, чтобы тормозить, как увеличивать скорость. Да разве все с первого раза запомнишь. Однако на следующий день в десять ноль-ноль Гриша был на старте.
Мы собрались, чтобы поболеть и поддержать Гришу, он гоголем ходил вокруг велосипеда, отпуская шуточки в адрес своих конкурентов, обещая оставить их на первом же километре. Те с опаской поглядывали на рослого парня, уверенного и бойкого.
Дали старт. Колеса завертелись, Гриша рванул вперед, сразу включив, наверное, все скорости. Велосипед летел вперед, мы бежали и орали во все глотки: «Гриша, давай, давай, крути!!!» И Гриша раскрутил так, что, не успев или позабыв, как переключать скорости, на полном ходу, не вписавшись в первый же поворот, врезался в деревянный забор. Народ ахнул и рванулся к месту происшествия. Как-то быстро на месте объявилась скорая помощь, и Гришу, по второму разу, отправили в 1-ую Градскую больницу на Ленинский проспект.
Очнувшись, он попросил позвонить папе и назвал номер телефона нашего классного «папы» Семена Моисеевича Гуревича, и, когда поздним вечером тому позвонили из больницы и сказали, что его сын лежит у них с тяжелой травмой головы, он страшно
перепугался, ведь собственного сына дома не было, и думай, что хочешь. Он
поймал такси и помчался в больницу.
Входит в палату, а там… Гриша.
Одним словом, Грише отчего-то везло на всякие травмы и приключения. Мы его по-своему жалели и любили, как некую достопримечательность группы.
После окончания все мы разъехались, кто куда. Мне говорили, что Гриша не поехал в свою родную Украину, а взял распределение в Воронеж.
С тех пор долгие годы я ничего о нем не слышала.
И вот однажды, было это в
первые годы горбачевской перестройки, когда мы еще жили надеждами и довольно
часто собирались с друзьями вспомнить былое, помечтать о будущем, кто-то из ребят
вдруг воскликнул: «Слушайте, знаете, кого я недавно встретил в командировке на
Ставрополье? – Мы с интересом примолкли. – Нашего Гришу Бурлака. Не верите?
Едем мы на обкомовской «Волге» в район, вдруг через дорогу стадо коров
переходит, ну, мы, конечно, остановились. Смотрю, пастух идет с рюкзаком за
плечами, с плеткой, как водится, в кепочке, ну вылитый Гриша Бурлак. Не
выдержал я, взял и окликнул. Он и действительно оказался Гришей. Минут тридцать
мы с ним говорили. Ему, конечно, неловко как-то передо мной было. Особо ни о
чем не распространялся. Сказал только, что двое детей у него, жена – медсестра.
В Воронеже не сложилось, перебрался сюда, на родину жены, а работы
журналистской нет, городок маленький, в городской газете все места заняты, а
жить-то надо. А пастуху «мир» платит не так уж и плохо. Вот вспомнил детство,
пошел коров пасти. А как дальше будет, кто его знает.
Передавай, мол, привет ребятам и девчатам, кого увидишь.
«Рукописи из сундука», №6, часть 2, 2007 г.
Метки: МГУ. журфак, Дальний свет факультета, Рукописи из сундука, 40 лет спустя
016. Дальний свет... В. Бубнов. Моё открытие Америки, этап 1-ый
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука. № 10. М., 2011
Владимир Бубнов. Южно-Сахалинск
В июне 2010 года руководитель Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству Александр Савельев, говоря о том, как пришел в рыбную промышленность, сказал: «Опыт работы в рыбохозяйственной отрасли – три года. Даже с удочкой не рыбачил. Неинтересно. Как раз отсутствие опыта считаю позитивным: это позволяет свежим взглядом увидеть проблемы отрасли. Да и чтобы написать «Преступление и наказание» Достоевскому не надо было убивать старушку. Далее Савельев назвал: юриста Валерия Аграновского, который написал лучший репортаж о расщеплении атома, Владимира Путина, который не имел опыта руководства страной, журналиста Владимира
Бубнова, который прекрасно разбирается в проблематике рыболовства.
Бубнов Владимир Филиппович – это я. Выпускник факультета журналистики МГУ 1971 года, с 1987 года – редактор областной газеты «Рыбак Сахалина», до этого, с 1976 года, редактор областной молодежной газеты «Молодая гвардия», а после окончания университета, – корреспондент, заведующий отделом газеты «Советский Сахалин».
Приятно, конечно, оказаться в компании таких уважаемых людей. Со стороны, как говорится, виднее. Правда, неделей раньше в СМИ прошла такая информация: «Как сообщил РИА Fishnews.ru Александр Савельев, Федеральное агентство по рыболовству обратилось в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой принять меры прокурорского реагирования к редакции газеты «Рыбак Сахалина». По мнению руководителя центра общественных связей Росрыболовства, издание опубликовало материалы, содержащие признаки преступлений. Речь шла о клевете и оскорблении представителя власти. Но, осознав, видимо, бесперспективность обращения к Уголовному кодексу ведомство решило сменить кнут на пряник.
Ни один капитан, отправляясь в многомесячный рейс, не покинет порт в понедельник – день несчастливый. Не была нарушена традиция и в понедельник 1 апреля 1974 года. Большой морозильный траулер «Тигиль» жил в предотходной суете: заканчивали погрузку, заливали в танки питьевую воду, в машинном отделении то запускали, то выключали дизеля, комсостав с бумагами убегал на берег, возвращался с другими бумагами и снова убегал.
До меня никому не было дела. Капитан-директор траулера Валентин Бурков, дав команду поселить меня пока в любой свободной каюте, чтобы было, где бросить кости и сумку, исчез в чреве административного здания Корсаковского управления океанического рыболовства, и до вечера я его не видел.
Походил по палубам, заглянул на камбуз, в рыбцех и даже в трюм и принял единственно правильное решение – пошел помогать тому, кому было нечего делать, в рубку. Там хоть поболтать можно – не будешь же приставать с вопросами и байками к замотанным юдям.
Итак, никому до меня не было дела.
Появился на судне некто новый – ну появился, может, забыл чего. Ходит – ну ходит,
может, ищет кого. Мужской коллектив он и есть мужской, к любопытству особо не
расположен. Это вам не плавконсервный завод. Вот где радостно новичков
встречают! Чуть на шею не бросаются. Сказав «чуть», я, правда, немного
преувеличил – в смысле, что чуть. Как раз-то наоборот.
В прошлом году, то есть в 1973-м, прибыл на плавконсервный завод «Николай Чернышевский». Махина под 20 тысяч тонн водоизмещением – чисто броненосец «Потемкин», только еще побольше. Доставивший меня к борту плашкоут (это такая морская баржа) казался беззащитной щепкой, которую вот-вот утянет под киль. Стоишь на палубе плашкоута, голову задираешь – а перед тобой всё железо и железо, уходящее в верхотуру: борт плавзавода. Если считать привычными этажами – даже и не знаю, сколько их будет: четыре? пять? шесть?
С палубы спустили корзину – меня поднять на борт. Привычно запрыгиваю, корабельный кран поднимает меня выше палубы, с высоты своего парящего над всеми положения вижу десятка два-три девушек. Задрав головы, смотрят, как меня плавно опускают на палубу и отчего-то машут руками: то ли указывают крановщику, куда меня удобнее опустить, то ли выражают восторг от моего явления. Я чувствовал себя каким-нибудь Зорро или, на крайний случай, Лимонадным Джо, лихо прыгающим со скалы с двумя кольтами в руках.
Впрочем, что это я вру? Никем таким я себя не чувствовал, но вот захотелось сейчас придать себе значимости: не каждому ведь доводилось висеть в корзине над морем на высоте этак 30-40 метров, когда каждая чайка готова махнуть по тебе крылом. И в корзинах к тому времени я парил уже не раз: дело привычное. Правда, не на такой высоте. В Южно-Курильске, например, подобным способом на рейде выгружают пассажиров с теплохода на баржу, которая потом доставит всех на берег. Тихий океан хоть и рядом, но у берега – мелководье.
Но встречали всё-таки меня. Ну, не лично меня, человека в штанах, а не в юбке. Мужика, одним словом. Он, как я потом понял, был интересен многим. Тем более если ему не 70 лет, а только 25.
Что такое ПКЗ? Это примерно 450 работающих, из которых мужчин – от силы 50 (не то, что на БМРТ, где из 90 членов экипажа женщин только 7-8-9: прачка, официантка, дневальные поварихи).
Остальные – представительницы женского пола в возрасте от 18 и старше, но, как
правило, не выше среднего. Мне бы они сейчас казались молодыми, но тогда…
«Чернышевский» сейчас работал на обработке лосося. День и ночь на палубу подавалась добытая рыба, по желобам уходила в рыбцех, где горбушу потрошили, отделяли икру – и все это укладывалось в миллионы консервных банок под названием «Лосось в собственном соку», «Икра зернистая лососевая». Потом за ними в Москве выстраивалась очередь.
Но не это главное. Главное в том, что плавзавод пришел на лососевую путину сразу то ли из скумбриевой, то ли ивасевой экспедиции, на которой работал с сентября прошлого года. А сейчас был июль. Значит, девять месяцев юные создания, пропитанные запахами открытого моря и мечтами о неземной любви, не видели ни одного «свежего» человека. Одни из них пошли в море за романтикой, другие – искать мужей и все – за деньгами. Их расчетные ведомости рябили от четырехзначных цифр, достаточных для оплаты
трех-четырехкомнатного кооператива или покупки пары «Жигулей», но не деньги,
думаю, грели им сейчас душу.
Сходу засыпали вопросами: будете у нас работать? кем? в командировку? а откуда? а кем работаете? а насколько? И какое-то несмелое, идущее, казалось, сразу ото всех сразу: «А где будете жить?».
Где-где! Где капитан-директор скажет, я же вначале должен к нему зайти, представиться.
Зашел, представился.
Капитан-директор, немолодой, по моим тогдашним понятиям человек (сорок с
небольшим), расспросил о цели командировки, тут же назвал фамилию человека, о
котором обязательно надо написать. Этому
кочегару в прошлом году тому за труд вручили орден Ленина, Я заинтересовался,
что-то спросил, как бы вспомнить лексику того времени, ну, про его жизненную
позицию, про общественную работу. Капитан даже вскинулся: да какая там
общественная работа? Он же, понимаете, 25 лет уголь из трюма таскал и в топку
лопатой бросал! Да за одно это ему Героя надо было давать. У нас же угольщик,
настоящий пароход.
Потом побывал в кочегарке. Несколько
пышущих жаром печей, дающих и ход, и технологический пар для производства.
Низкий туннель, в котором с тележкой угля от угольного склада до печей надо
идти только согнувшись. В эту тележку лопатой надо набросать уголь и так же
лопатой забросить его в топку. И так всю вахту. В общем, если можете, вспомните
фильм «Броненосец Потемкин» – одно к одному.
«Николай Чернышевский» был одним из
уже немногих сохранившихся на тогда тот период угольных пароходов. Германской
1919 года постройки, взят в счет репараций и переоборудован под плавконсервный
завод. Через несколько лет корабль был отправлен на гвозди. На смену ему пришли
современные суда. Но в начале девяностых новые хозяева по-дешевке продали их за
границу.
Говорили мы с капитан-директором в тот день много. Он был в хорошем расположении духа, ничто его не тяготило: завод уже выполнял второй план.Но удивительное дело: рассказав о распорядке работы кают-компании комсостава (а где еще питаться такому уважаемому человеку как журналист!), он почему-то даже не заикнулся о том, где мне предстояло жить всю эту неделю. Но до вечера было далеко – потом спрошу. И решил осмотреться, прогуляться по пароходу.
Капитан знал, что делал!
Когда вышел из его каюты, сразу попал
в окружение девчонок, которые встречали меня на палубе. Числом, понятно, несколько
поменьше, но всё же достаточно, чтобы возгордиться своей неотразимостью.
Всех интересовал один вопрос: где я буду жить?
– Не сказали ещё, – честно ответил я.
И тогда посыпалось:
– Можете у меня!
– У меня в каюте свободная койка, соседка списалась.
– У моей соседки всю неделю ночная вахта.
– А я вообще одна живу, – скромно, не вступая в общий базар, сказала приятной внешности девушка, не обремененная, судя по ухоженным рукам, физической работой на разделке рыбы.
Поколебавшись, я сделал верный выбор.
Оттого, видимо, с тех пор у меня хорошие зубы: она оказалась зубным врачом.
А капитан так и не спросил, где я нашел пристанище для своего юного тела.
… Нет, БМРТ – это не плавконсервный завод!
К вечеру на траулере стало покойно.
Капитан поселил меня к старшему
механику: у того двухкомнатная каюта – спальня, отдельно кабинет с письменным
столом, телевизором, холодильником и диваном. Меня вполне устраивало.
Поужинали. Стемнело. Но траулер
по-прежнему не собирался отходить от стенки. И только когда стрелка перевалила
за полночь, прозвучал приказ команде приготовиться к отходу. Наступил вторник.
Отошли на рейд примерно за милю.
Около двух на верхней палубе
загрохотали сапоги. Это власти – в данном случае пограничники – пришли
прекратить нам всякую связь с родиной. Попросту говоря, проверить документы и
дать «добро» на отход.
Через полчаса БМРТ «Тигиль», подмигивая кормовыми огнями, удалялся на юг.
А я наблюдал за ним с борта рейдового
теплохода «Свирица», на котором пришли снявшие меня с траулера пограничники.
При досмотре они обнаружили, что в полученной мной в отделе кадров управления
океанического рыболовства пачке судовых ролей (это такие листы с впечатанными в
моими данными – их я должен оставлять по одному на каждом судне, где буду жить)
не оказалось какой-то печати. И покидать родину мне было запрещено.
Я очень хотел пойти в эту
командировку. Во-первых, сроком на месяц – таких длительных у меня еще не было.
Во-вторых, не какое-то там Охотское или Берингово море, где я уже бывал, а в
Гавайскую экспедицию, в район Гавайских островов, где, как известно, поют
гавайские гитары и где ходят в ярких одеждах прекрасные гаитянки с красными цветами
в черных волосах. И где, в конце концов, рыбаки добывают вкуснющую рыбу
пристипому, которая в копченом виде прямо-таки истекает кристально-чистой
слезой. Помните такую? В-третьих (или, все же, во-первых?), я очень хотел пойти
в рейс именно на «Тигиле» и именно с Валентином Бурковым. Мы с ним до этого уже
немного подружились, мне очень нравился его легкий характер. И мне было
интересно понаблюдать за Валентином не на берегу, за шашлычком, а в море, в
реальной работе. В тот 1974 год ему исполнилось 34, мне, как известно, 26 –
разница, в принципе, невелика.
«Тигиль» ушел без меня. Родина не
выпустила корреспондента газеты «Советский Сахалин» Владимира Бубнова из своих
цепких объятий.
… Я лежал на жесткой лавке на неотапливаемой нижней палубе «Свирицы». Было очень обидно. И было очень холодно.
На берегу, стуча зубами, ибо еще лежал снег, а я по-южному был одет в легкую ветровку, пошел по снежной каше искать ночлег. Поднялся по трапу на первое попавшееся на причале судно, показал вахтенному матросу редакционное удостоверение, он позвал вахтенного штурмана, и через несколько минут передо мной распахнулась каюта с белоснежной постелью (журналистов в те времена еще очень уважали и любили).
Проходя по верхней палубе, мельком зацепился взглядом за название траулера – «Туркуль».
Проснувшись, побежал в отдел кадров. Там поохали, поахали, по обыкновению свалили вину на неопытную девчушку. Поставили необходимые печати и клятвенно заверили, что уйду в экспедицию на первом же судне – это был уже знакомый мне «Туркуль». Траулер уходил в рейс послезавтра.
Меня это устраивало. Ну что ж, Валентин, встретимся на Гавайях!
Но послезавтра отход не состоялся. То
обнаружилась вдруг какая-то серьезная неполадка, требовалось искать и менять
важную деталь, то внезапно загремел в больницу с аппендиксом стармех, и надо
было срочно искать равноценную замену, то ударился вдруг в запой присланный из
резерва старпом – закрылся в каюте с необходимыми для отхода документами и сосал
водяру, впадая в буйство. Старпома в итоге списали, разжаловав в матросы, а
документы долго искали и нашли в самом неподходящем для них месте – в морозилке
холодильника.
Капитан-директор Юрий Степанов,
прекрасный промысловик и душевный человек, отличный командир (после неожиданной
и очень безвременной смерти его именем назвали новый траулер) при виде сего
безобразия рвал и метал в адрес отдела кадров гром и молнии: «Кого прислали!».
В редакции после высадки я не
появлялся – как бы чего не вышло. Редактор Василий Ильич Парамошкин, тот,
который прислал мне вызов на работу и через два месяца обеспечил нормальной
однокомнатной квартирой в центре города, которого все любили за человечность,
никогда не сдавал своих сотрудников, в какие бы передряги по широте души и
молодости они ни вляпывались – в тот же вытрезвитель, скажем. Меня эта участь
не затронула, но с другими бывало. Главное – приди к нему, чистосердечно расскажи,
а он, прав ты или не прав, сделает всё, чтобы твоя фамилия нигде не была
зафиксирована и не фигурировала ни в одной сводке, особенно в той, которая
поступала в обком партии. Но иногда он бывал и крут – особенно когда маялся
зубами. Попадешься ему под вот такой больной зуб – вполне может осадить мой
телячий тогда еще задор и приказать оставаться в редакции, раз не хватило тяму
уйти в экспедицию. Этого я боялся больше всего.
Я добросовестно каждое утро приезжал
на «Туркуль», перезнакомился со всеми, обедал с ними. Вечером уезжал домой в
Южно-Сахалинск, за 35
километров. Вопреки утверждению газеты «Неделя», которая
однажды на первой полосе еще в те времена, когда во всех серьезных редакциях
существовали бюро проверки, дала крупную фотографию Холмского морского
торгового порта, а под ней информацию о том, что докеры Южно-Сахалинского порта
досрочно выполнили какой-то план, Южно-Сахалинск – вполне сухопутный город.
Ушли только через десять дней.
Ходу до района промысла была неделя.
И хотя основной моей целью был «Тигиль», который находился уже на промысле,
времени не терял и на «Туркуле». Делал зарисовки, какие-то материалы о судьбах,
о подготовке к промыслу, беседовал с шедшим со мной начальником экспедиции Дальрыбы – тем хватало. Писал материалы, вкладывал вместе с ними в конверты проявленные куски пленки, чтобы передать в редакцию с первым отправляющимся на берег перегрузчиком.
Жил в двухместной каюте 24-летнего механика-наладчика Шурика Монастырева. Целый день он мараковал что-то в рыбцеху,
готовя его к работе, прибегал чумазый, умывался, не успеет прилечь, как тут же
по спикеру на весь пароход несется: «Механику-наладчику срочно явиться в
рыбцех!». Подхватывался и бежал: опять что-то слесари не врубились.
Полненькое лицо, улыбчивый, слегка
заикающийся, закончил Тобольский рыбопромышленный техникум. Мы с ним сдружились
настолько, что вскоре он женился на сестре моей жены.
Прошли Сангарским проливом, разделяющим японские острова Хоккайдо и Хонсю и вышли в Тихий океан, смещаясь к юго-востоку в сторону Гавайев. Океан и в самом деле был тихим.
Теплело прямо на глазах. Море из свинцового сахалинского незаметно превратилось в голубое под солнечным голубым небом. Прямо на палубу опустиласть стайка каких-то незнакомых птичек размером с
воробья и очень похожих на них. Они неуклюже ковыляли на своих перепончатых
лапках и никого не боялись. Корабельный пёс Карась с удивлением смотрел на них,
таких независимых, лаял на них, пытаясь сбить спесь, но пришельцы с небес –
никто и не видел, как они оказались на палубе – пустили его в игнор. Карась,
обидевшись подобному невниманию, улегся прямо посреди стаи на нагревшуюся от
солнца палубу, блаженно вытянулся и только косил глазами на птах. Птицы его
нисколько не боялись. Не боялись они и человека, позволяя брать в руки. Видимо,
очень сильная усталость заставила их сесть на палубу траулера. Но от хлебных
крошек отказывались. Ну совсем не понимают, что самый вкусный хлеб в мире
делают в судовых пекарнях – ручной замес, не автоматы, а сам пекарь чутко
следит за его готовностью. Но не их, видимо, еда.
К вечеру стайка, числом около ста,
заволновалась, занервничала. Подходили к фальшборту, одержимо пытались на своих
перепонках вскарабкаться на него. Бесполезно. «Да они улететь хотят», – догадался
кто-то. Ну, летите! Подбрасывали в воздух – сваливаются на палубу.
Предположили, что взлетать могут только с воды.
Застопорили машину. Сбросили несколько птах за борт. Они плавно спланировали на воду, посидели чуть – и побежали по воде аки по суху, увеличивая скорость. И как самолеты, только маленькие, взмывали в воздух.
Вот уже на слип (это наклонный спуск
на корме, по которому спускают и поднимают трал) стали шлепаться летучие рыбки.
Море по ночам стало расчерчиваться светящимися тропическими рыбками. Жарко.
Душно.
Перед подходом в район промысла опробовали трал. Улов был небольшой: открытый океан вообще практически пуст, косяки ходят там, где есть корм, а это – шельф и пришельфовая зона. Попалось несколько очень крупных рыбин. «Рыба-капитан», – определил тралмастер, – свежак на ужин. У неё очень вкусная печень».
Её, кроме всего прочего, и подали – в больших общих тарелках, бери сколько хочешь. Да, вкуснятина, не чета тресковой.
– Много не ешь, – предупредил меня
старший электромеханик, сосед по кают-компании (для тех, кто не знает:комсостав
питается отдельно, в кают-компании, где каждому определено его место. Во главе
стола капитан, по правую и левую руки – старпом и стармех. Блюда подает
официантка. Остальные члены экипажа, рядовой состав, едят в столовой команды –
там самообслуживание).
– Почему?
– В ней витамина А, как идей у дурака. Гипервитаминоз будет.
Что это такое, узнал на следующий
день. В экипаже появились полосатые люди, у них кожа на лице, руках свисала
лохмотьями. Где-то на лбу появилась шелушинка, потянул её, чтобы снять, а она
тонкой ленточкой поползла по всему телу. Неприятных ощущений нет, но
пятнистость на теле весьма веселила: вот кто у нас самый прожорливый.
Пострадали в первую очередь новички, которых либо забыли предупредить, либо они
забыли о предупреждении, соблазнившись великолепнейшим вкусом.
…Чем ближе подходили к заданным
координатам, тем больше мрачнел экипаж. Не вызвали уже интереса встречавшиеся
по курсу супертанкеры, неуклюжие контейнеровозы, белоснежные яхты и яхточки и
даже серая громада авианосца ВМС США: район весьма оживленный. «Рыбы нет!» –
эти два слова молнией поразили всех. Мы шли неизвестно за чем. А ведь в прошлом
году была такая рыбалка, и ветераны вспоминали о тогдашних заработках. Что-то,
видимо, сломалось в природе.
Картина прояснилась, когда вышли на
уровень доступности судового радиотелефона. Вклинились в капитанский час, где
разочарованные обстановкой капитаны грустно делились очередными невеселыми
новостями. Уловы копеечные, эхолоты практически ничего не пишут, рыба
разрежена, больших косяков не образует, обретается у дна, и взять ее очень
трудно. Тут надо пояснить, что пристипому берут на свалах, крутых склонах
островерхих подводных пиков, из которых состоит дно в этом районе Тихого
океана, именно здесь ее ареал обитания. Подводят к скоплению трал, добавляют
скорость, короткая пробежка с захватом косяка и резко вверх, чтобы не порвать
трал об острые каменные уступы. Когда рыба пасется почти на самом склоне, без
порывов не обходится. Некоторые суда оставили на дне уже по два трала и только
по этой причине оказались не у дел. Флот частично возвращается домой.
Убийственная для меня весть: «Тигиль»
и «Тамань» уже неделю назад, поняв бесперспективность дальнейшего здесь
нахождения, пошли на промысел хека к западным берегам США. Туда же повернули
немцы, поляки.
Стало ясно, что ни гавайских островов, ни жгучих гаваек, ни «Тигиля» я здесь не увижу.
Пока капитан размышлял, что делать
дальше, размышлял и я. Командировка сроком на месяц, десять дней я был в
ожидании отхода, неделя ушла на переход. По-хорошему, чтобы возвратиться
вовремя, через неделю надо отправляться в обратный путь. Так ничего и не
сделав?
Капитан решил покрутиться здесь еще
дня три: вдруг ситуация изменится, так бывает. Свой выбор сделал и я. Переправив
пакеты с материалами на перегрузчик, – пусть плывут в редакцию – сделал вид,
что никакого обратного транспорта и в помине нет, и остался на «Туркуле».
Америка – так Америка.
А пристипома с того времени исчезла,
и никто её больше не ловил. Куда делась – никому не ведомо. Может, американцы
ее и ловят понемногу, но нам к Гавайям путь уже закрыт: с 1974 года пошел
передел Мирового океана, стали устанавливаться исключительные экономические
зоны государств.
… Через три дня взяли курс на
северо-восток Тихого океана, к Сан-Франциско. Потянулись томительные
однообразные дни. Пока однажды ночью не проснулся от сильной бортовой качки: то
голова, то ноги бьются о переборки, а в желудке так сосет, будто вечность не
ел. Изловчившись, сполз со второго яруса и вышел в коридор. Меня бросало из
стороны в сторону, палуба, казалось, стояла боком, и идти надо было чуть ли не
под углом в 45 градусов, чтобы соответствовать центру тяжести. Добрел до столовой
команды, где всегда стояли нарезанный хлеб, масло, жареная рыба, сахар, чай в
чайнике. С жадностью набросился на еду. Кто-то, проходя, видимо, в гальюн,
заглянул в елозящую туда-сюда дверь, увидел меня жующего, и я услышал звук
неудержимой рвоты.
После еды стало легче. Добрался до
койки, попытался заснуть, но шторм – это не мерное укачивание в детской
колыбельке. Снова стало сосать в желудке. Услышал, как встал Шурик, полез в
стол, где хранилось несколько килограммов копченой колбасы и стал не очищая жевать.
Запах раздражал, и я последовал его примеру. Пока ел – было хорошо, лёг – и всё
повторилось сначала: дичайшее чувство голода. Это такая своеобразная реакция на
качку, большинство же в такое время на еду и смотреть не могут, их и на пустой
желудок выворачивает.
Мне было хорошо – вахту я не стоял,
работать было не надо. Каково приходилось экипажу – можете представить.
Рулевые, сдерживая подбирающуюся рвоту, пытались держать траулер носом на
волну, чтобы его не опрокинуло на бок. Не всегда это удавалось, и тогда
сильнейший удар клал его на бок, и требовалось немало усилий, чтобы выровнять
судно. Видимо, мы попали в око циклона. Каково приходилось машинной команде,
можно было только догадываться, там не полежишь.
Океан испытывал наш характер четыре
дня. На камбузе не готовили, питались – кто мог, конечно, – всухомятку. Шурикова
колбаса закончилась.
А потом всё как-то внезапно стихло.
За эти четыре дня траулер, работая в полную силу всеми своими дизелями, нисколько
не продвинулся вперед, а, наоборот, возвратился на семь миль. Велика сила твоя,
океан!
…Мы вслед за рыбой медленно
продвигались с юга США на север. В морской многократный бинокль прекрасно
просматривалось побережье Америки. И города, и пустынные гористые районы
Среднего Запада, и лесистый Северо-Запад. В принципе, ничего особенного.
Я переходил с судна на судно, организовывал
капитанские часы, знакомился с людьми, писал, фотографировал. Район был
конвенционный, серьезно контролировался Береговой охраной США и морской
инспекцией, над кораблями то и дело зависали американские вертолеты и смотрели,
что и сколько мы ловим. Промысел шел в их водах, был ограничен какими-то
объемными рамками, которые нельзя было преступать, все переговоры наших судов
прослушивались, подача радиограмм строго регламентировалась. Рыба – это в любой
стране стратегический ресурс, и поэтому открытым текстом мало что можно было
давать. Первая радиограмма от меня в редакцию ушла в начале июня. Нашел повод,
чтобы дать знать о себе – шла подготовка к выборам в Верховный Совет СССР, и
сообщить о том, как она идет в промысловой экспедиции, было просто интересно.
Тогда я еще не знал, что редактор Парамошкин уже забросал управление океанического
рыболовства телеграммами с требованиями возвратиться в редакцию, а, уходя в
отпуск, наказал своему заместителю объявить мне за нарушение трудовой дисциплины
строгий выговор. Куда девались редакционные телеграммы, до сих пор не знаю.
Подозреваю, что начальник управления океанического рыболовства Николай Иванович
Лысенко, с которым у меня были очень хорошие отношения, просто складывал их в
стол, давая мне, с одной стороны, свободу действий, а, с другой, – был
заинтересован в публикациях о деятельности рыбаков руководимого им предприятия.
Кстати, спустя совсем короткое время он стал заместителем министра рыбного
хозяйства СССР.
А первый материал с Гавайской экспедиции пришел в редакцию только в конце мая, когда я уже шел вдоль американского побережья.
16 июня на траверзе небольшого города
Юрика очередной мой траулер сработался с «Тигилем». С мотобота по штормтрапу я
поднялся на палубу и направился в каюту капитан-директора. Валентин Бурков,
увидев меня, машинально посмотрел на часы и сказал: «Ну и долго ты добирался».
И мы оба рассмеялись.
В начале июля, уже в районе канадского Ванкувера, я пересел на зафрахтованный Дальрыбой для перевозки
рыбаков по экспедициям роскошный пассажирский теплоход «Туркмения» и по дуге
Большого круга – кратчайшее, оказывается, расстояние – через Алеутские острова,
Петропавловск-Камчатский и Курилы пошел в Корсаков, из которого уходил три
месяца назад.
Пришел в редакцию. Полистал подшивку.
В каждом номере последних недель были мои материалы из двух экспедиций.
Зам. редактора вызвал на ковер объясняться. Рассказал о том, как искали меня по всем пароходам, что шеф приказал обязательно объявить мне строгача и выразить свое возмущение моим поведением.
Потом я пошел в бухгалтерию и получил
зарплату за три месяца и гонорары. Купил новую мебель в квартиру и, вытирая с
подоконника скопившуюся за время моего отсутствия пыль и вспоминая, как плохо,
что тебя дома никто из командировки не ждет, и нет в нем даже куска хлеба, подумал: пора жениться.
Но прежде чем я отправился в ЗАГС, из отпуска возвратился редактор и назначил меня заведующим отделом рыбной промышленности.
Позднее хватило тяму добраться и до Америки. Но это другая история.
Метки: 40 лет спустя, Рукописи из сундука, Дальний свет факультета, МГУ. журфак
015. Дальний свет... Т. Корсакова. Внутренний цензор не дремал
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука. № 4 (5). М., 2006 г.
Татьяна Корсакова
Изморось, сырость, переходящая в дождь, и наоборот – словом, конец сентября. На мокром асфальте лежат, как приклеенные, мокрые листья ивы: темно-ржавые, если лицевой стороной вверх, и по-летнему белые, если обратной. Они похожи на маленькие кривоватые мечи. С этими листьями, с этим деревом у меня связаны воспоминания о
малозначительном факте моей более чем 25-летней «комсомольскоправдинской» жизни.
О нем мне недавно напомнил Ким Смирнов, зав. отделом студенческой молодежи «Комсомолки» в середине 60-х годов:
– А помнишь, как ты настаивала, чтобы твою фразу не правили и чтобы инверсия осталась? О пароходе, который в ветреный день шел по реке, и «белесой изнанкой листьев своих оборачивались к нему ивы...»
– Неужели помнишь, Ким? Ведь 35 лет прошло.
К нему в отдел я пришла на практику на втором курсе факультета журналистики МГУ, когда вся группа разъехалась по «районкам», а я проболела распределение на практику, и вот «пришлось» идти в «Комсомолку». Вскоре отправилась в первую командировку – в
Иркутск и в Бурятию. На следующее лето – снова практика в «Комсомолке», а
командировка еще интересней: я полетела в Тюмень, а оттуда на Ли-2 в Березово
(где Меншиков был в ссылке), чтобы потом на «кукурузнике» отправиться еще
дальше. В Березове шла из аэропорта в поселок через кладбище. На многих могилах
вместо жестяного памятника со звездочками (кресты тогда устанавливали только
древним старикам) стояли миниатюрные нефтяные вышки – их поставили погибшим
разведчикам нефти. О «большой» тюменской нефти непосвященные совсем ничего не
знали, а теперешние ее «разработчики»-олигархи еще ходили в школу, если не в
детский сад.
Меня интересовал теплоход-поликлиника с днепропетровскими врачами и студентами-медиками на борту. Я проехала с ними по Северной Сосьве, где ловится знаменитая селедка, которую любил Черчилль, а потом написала и опубликовала вполне романтический репортаж о том, как были рады плавучей поликлинике местные жители. В этом репортаже были упомянуты и листья ивы с их белесой изнанкой.
Однако в той поездке ребята-медики надели на меня белый халат, выдали за медсестру, и чего я там только не увидела... о чем написать было никак нельзя. Мы посетили селения
Саранпауль, Ломбовож, Няксимволь (названия пишу по памяти). На одной из остановок
меня позвали посмотреть вполне современное кладбище народа манси, где, видимо,
из-за вечной мерзлоты покойники лежали прямо на земле в прямоугольных деревянных
ящиках с квадратной прорезью прямо над лицом, через которую на нескольких
тризнах после «похорон» их кормили какой-то едой и поили из чайника водкой. Внутренний цензор, странным образом оказавшийся в юной студентке, не позволил мне даже подумать о том, что данный обычай – тема для репортажа: ведь это могло обидеть
власти Ханты-Мансийского национального округа. Рассказать в газете
непроверенные слухи о пациенте окулиста, старом ловеласе манси Алексее
Васильевиче, у которого была уже шестая жена, тоже было неловко: как нам
сообщили деревенские сплетники, прежних, надоевших ему жен, он, по местному
обычаю, убивал, а на расспросы про очередную пропавшую половину отвечал
одинаково: «В тайгу ушел, в болоте утоп!» Этот мужик в ковбойке и кедах играл
на музыкальном инструменте «сангылдоп» – что-то вроде кантеле или гуслей. Его
новой 39-летней жене можно было дать все 65.
На приеме в поликлинике я тоже насмотрелась. Дикую очередь к окулисту – на Севере миопия, т.е. близорукость, считается краевой патологией (короткое пасмурное лето, кое-какие вёсны и осени и долгая темная зима никак не способствуют хорошему зрению). Мы наблюдали детей с огромными животами, сдвинутыми вправо, – больных глистной
инвазией печени: местные жители все как один ели недовяленную сосьвинскую рыбу,
кишащую паразитами. В гинекологическом кабинете я увидела свежую гонорею у мамы
и ее 6-летней дочки. Маму заразил муж, работавший, как и многие его односельчане,
на рудниках Северного Урала, а дочку – мама, которая мылась с ней одной мочалкой.
Все женщины в селениях выглядели очень старо, у всех было по множеству беременностей, и никто и знать не знал ни о каких предохранительных средствах, в том числе, и об изделии № 2. Гинекологический кабинет плавучей поликлиники вынужден был их наскоро оповещать...
Была тут и еще одна «краевая патология» – невероятной мощи пьянство среди обоих полов.
И что было бы, если б я все-таки – вопреки суровому, врожденному внутреннему цензору – написала в репортаже хоть о чем-нибудь из перечисленного? Проследим этапы. Нежелательные подробности были бы, прежде всего, вычеркнуты на первом этапе правки, которую выполнял литсотрудник. В нашем студенческом отделе это были Лена Лосото и Зоя Васильцова (которая вскоре вышла замуж за симпатичного физика-лирика Сережу Крылова, одного из основателей клуба самодеятельной песни); доверяли править и стажеру (студенту на курс старше меня) Коле Боднаруку. Правили, особенно
молодых, жесточайшим образом, иных заставляли переписывать свои творения по 3-5
раз – именно так вырабатывался знаменитый стиль «Комсомолки». После
литсотрудника рукопись попадала в руки заведующего отделом, затем – редактора
отдела (в моем случае это была Инна Павловна Руденко). После нее правил один из
замов ответственного секретаря Григория Суреновича Оганова (тогда это были
Рафаил Абрамович Депсамес, Софья Романовна Фингер и Ерванд Геворкович
Григорянц, все трое чрезвычайно талантливые и требовательные люди). Перед
засылом, набором и корректурой последнюю правку выполняла литературный секретарь
Ираида Федоровна Муравьева, человек изумительного чувства слова. Когда материал
ставили в номер, за него уже отвечали дежурный и ведущий редакторы, а также
дежурный по отделу и «свежая голова». Кто из них позволил бы, чтобы
практикантка написала о «единичных и потому не типичных» язвах одного северного
округа?!
«Комсомолка» прорывалась по-крупному. В 60-е годы это была, например, борьба за смелых учителей-новаторов (работа школьного отдела под руководством Инны Руденко), за новые методы лечения (статьи Николая Боднарука о методе Илизарова). В 80-е
именно «Комсомолка» первая произнесла честное слово о наших солдатах из «ограниченного» контингента в Афганистане – помню партсобрание, на котором хорошо об этом сказал Тимофей Кузнецов, что надо, мол, ребята, нам как-то определяться: либо
мы признаем, что эти люди делают там какое-то стыдное грязное дело, либо пишем
о том, что они честно выполняют свой воинский долг и потому – герои; после
этого Инна Руденко написала и (с огромным трудом) опубликовала очерк «Долг».
…После окончания МГУ мне
пришлось вернуться в родной Саратов, поскольку у меня не было московской
прописки, и честно отработать 3 года по распределению. В Саратове я вступила в
КПСС и Союз журналистов СССР и вышла замуж за журналиста Вадима Рыбенкова. 20
декабря 1974 года бюро ЦК ВЛКСМ утвердило меня собкором по Куйбышевской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областям и Мордовской АССР с местопребыванием в Куйбышеве. Незадолго до этого мне позвонила единственная женщина – член
редколлегии (уже не Руденко) и от имени коллег попросила… года полтора
повременить с ребенком.
До того, как человека брали в собкоры «Комсомолки», его сначала «смотрели» внутри редакции, потом кандидат проходил практику, потом начиналось хождение по отделам ЦК ВЛКСМ…
Бывало и так, что материал без объяснения причин не публиковали. Но… стал собкором – забудь про эмоции.
Только на излете собкорства я поняла, причем сама, без подсказки с «этажа», что «эмоции» – это и есть моя сильная сторона. Не мое, в общем-то, дело – писать о достижениях листопрокатного цеха (хотя и это бывало множество раз). А вот рассказать о хорошем детдоме так, чтобы читатель заплакал, а директор другого детдома меня
возненавидел, – это мое. Но собкор обязан быть универсалом. Хочешь, не хочешь,
а работай и на школьный отдел, и на сельский, и на отдел идеологии. Придумывай
темы, выполняй задания, проверяй письма, встречай гостей. Когда приезжали свои
ребята с этажа – это был праздник. У меня побывал Влад Фронин, тогда, в 1976-м,
еще стажер рабочего отдела (как он умел находить темы – даже из объявлений на
улице!), был Гена Жаворонков, Валера Выжутович, Саша Земляниченко, Женя
Успенский, Володя Степанов и другие. Но вот визиты деятелей из ЦК ВЛКСМ ни мне,
ни им особой радости не доставляли. Особенно им. Мне что – мне всего лишь
приходилось немедленно ехать в «рейд», однако для собкора это дело привычное, а
подпись «цэкашника» под репортажем рядом с подписью корреспондента
гарантировала прохождение материала в газету. Но как же их бесило то, что
собкор – замужняя дама, при которой полагалось сдерживаться. А ведь им и «на
природу» хотелось, расслабиться…
Одного запомнила с лучшей стороны. Звали его Ваня, а фамилия какая-то короткая, украинская. Мы с Ваней и с секретарем обкома комсомола Толей поехали в рейд по подготовке животноводческих ферм к зиме. Теперь я понимаю, что во все времена есть работники-трудяги, которые при любом строе будут работать только так, как требует их совесть, и работники-актеры, которые всегда будут изображать работу. Ваня с украинской фамилией, как заправский корреспондент, вместе со мной честно лазил по коровникам, где коровы стояли по брюхо в холодной жиже, строго спрашивал с руководства, есть ли полотенца у доярок, какого качества на них халаты (а они были сшиты из реденькой тонкой синтетики – хлопок был тогда дефицитом). А вот Толя из обкома комсомола всё нам удивлялся:
– Ребята, да ладно вам. Что вы вдаетесь во все эти подробности?
Ему было действительно
непонятно. Возможно, он был мудрее нас, – наше более высокое общественное
положение склоняло к некоторой романтической надежде на лучшее будущее, ради
которого нам, представителям ЦК комсомола и центральной газеты, стоило
потрудиться толкачами. А может быть, это мы были мудрее, потому что знали, что
время от времени партийные старцы все же читают центральные газеты и принимают
решения, улучшающие жизнь народа…
Кто знает? Что ни говори, а народ в брежневские времена жил сносно, как бы на «четыре» или хотя бы на «три с плюсом». Плюсов было много: бесплатное жилье, нормальная работа, солидная, т.е. достойная пенсия трудящемуся человеку и шиш – лодырю, что для славянского менталитета чрезвычайно важно, доступная медицина со всеми этими обязательными диспансеризациями, а главное, после десятилетий штурма, страха, крови, перемен, болтовни наступила на 15 лет, до Афганистана, эра стабильности, тогда как будоражащих народ диссидентов в российской провинции сроду не было. Вранье властей предержащих? Да простые люди его практически не замечали, как не замечают стука колес, когда едут в поезде, а, замечая, – смеялись, анекдоты
рассказывали. Вранье видели мы, но нас оно тоже скорее веселило. Как-то девушка
из отдела «Комсомольского прожектора» обкома комсомола, назовем ее Людой, при
мне ответила на звонок из Москвы. Ее спросили, каков в области процент
комсомольско-молодежных бригад среди чего-то там. Девушка в буквальном смысле
слова взглянула на потолок и назвала цифру 93 процента. Все оказались при своем
интересе. Она назвала неплохую цифру, невидимый собеседник этой цифре
порадовался, а ни о чем не подозревающие комсомольцы продолжали трудиться не за
славу, а за деньги, которые… некуда было тратить. Люда вообще-то выполняла в
обкоме совсем другую роль: она была доставалой. Добывала продовольственные
заказы и промтоварный дефицит своим начальникам и заодно себе, любимой.
Перевернутая экономика жила по своим перевернутым законам. Когда мы только переехали из Саратова в Куйбышев и поселились в доме с прекрасным видом на Волгу, теплоходы и горы Жигули, вся наша семья поразилась, насколько хорошо по сравнению с нашим Саратовом был обеспечен продовольствием этот замечательный город. В магазинах продавалась даже колбаса разных сортов, в том числе, «Языковая»! Первый секретарь обкома КПСС В.П. Орлов лично каждый день распоряжался насчет поставок продуктов в рабочие столовые и магазины. Потом стало совсем туго, и власти ввели талоны на колбасу и масло. Молочных продуктов хватало и так. Хлеба и пирогов в
Куйбышеве было завались. Другие территории моей зоны жили хуже. Мяса в
провинциальных магазинах не было вовсе, разве что птица «залетала». Но можно
было жить с рынка. В Москве тогда мороженое мясо стоило 2 рубля, а на
куйбышевском рынке парное – от 4,5 до 5 рублей за килограмм. Однажды, перед
Новым, 1979-ым, годом, в Куйбышев приехала в командировку Найя Рожнова из
комсомольского отдела. После выполнения задания она купила на нашем рынке и
повезла в столицу одного или двух гусей, по-моему, по 14 рублей за штуку. Найя
говорила, что по московским меркам это безумно дешево.
Мой оклад составлял в первые годы работы 180 рублей (150 чистыми) плюс гонорар, а под конец мне в порядке поощрения добавили еще десятку. Столько же, сколько я вначале, получала до пенсии мама врач. У моего мужа – журналиста местной газеты – заработок был поменьше. Но мы, конечно же, имели возможность покупать продукты на рынке.
В декабре 1977 года у меня родился сын Денис. Когда ему исполнилось 9 месяцев, я была вынуждена по семейным обстоятельствам выйти на работу. У коллег была поговорка, что форма одежды у собкора – халат и домашние тапочки. Это не совсем так. Да, корпункты у большинства из нас были дома, почему редакция и оплачивала нам 40 процентов за
коммунальные услуги, исключая одну какую-то позицию. К нам домой (т.е. в
корпункт) мог прийти любой автор или читатель. Но собственный корреспондент
должен ездить. Это закон. А я до года кормила ребенка. Утром покормлю, оставлю
Дениса маме, которая с ним и гуляла, и супчик ему варила, а вечером спешу еще
раз покормить. Вызывают по телефону из Москвы – телефонную трубку в одну руку,
а на другой – он, именно так часто и говорила с отделами, и заметки
стенографисткам диктовала. Так что журналистику мой сын впитал с молоком матери
в самом буквальном смысле слова.
После декретного отпуска я немного растерялась, но тут меня неожиданно и точно подбодрил муж Вадим: «Татьяна, тебе надо раскрепоститься». Я так и сделала. Стала браться за любые темы.
Как бы то ни было, но советская промышленность тогда была на подъеме. Правда, в моих областях она чаще всего носила военный мундир, как следует застегнутый на все пуговицы. Тем с большим удовольствием я бывала на «полуоткрытых» предприятиях, например, на Куйбышевском и Саратовском авиационных заводах, на Ульяновском автозаводе. А особенно на ВАЗе. Наши умельцы подправили привезенные из Италии методы организации труда, и получился вполне приемлемый русский вариант, который потом применили и у соседей на КамАЗе. Вот если бы, часто думаю я, Горбачев не исполнял перестройку как Бог на душу положит, а изучил и применил бы все лучшее, что
было изобретено и внедрено советской экономикой за годы брежневской
стабильности, именуемой обидным словом «застой», – России цены бы не было.
Народ стал бы жить достойно, экономика развивалась бы (как развивается,
например, сейчас народное хозяйство Китая), а с идеологической поддержкой такие
бойцы, как мы, обязательно бы справились. Однако мне как профессиональному литературному работнику приходится признать, что сослагательное наклонение в подобном контексте неуместно.
Собкор от заезжего корреспондента отличается очень сильно, по крайней мере, тем, что со своим героем ты можешь встретиться случайно на улице, на совещании, и хотя бы,
поэтому обязан работать так, чтобы не краснеть за ошибки или передергивания в
своих текстах. Кроме подготовки собственных материалов и обязательной
«отработки» («заавторства») собкорам в отличие от спецкоров приходилось
заниматься и совершенно необычными делами. Однажды ко мне обратились бабушка и
мама девочки-дауна: «Татьяна Александровна, очень просим вас, поговорите с
детьми из нашего двора – они обижают Аллочку, смеются над ней». Пришлось
поехать и поговорить. О чем – не помню. А текста, естественно, не осталось –
его вообще не было. Но разговор, насколько я знаю, помог взаимопониманию. Этот
случай не был зафиксирован нигде. Хотя фиксировалось у нас всё до строчки.
«Комсомольская правда» с ее многомиллионными тиражами играла громадную роль в жизни советского народа, который в наши времена не называли пренебрежительно населением или, тем более, электоратом. Она была исповедальней, другом, консультантом, прокурором, адвокатом, судьей, «жилеткой», последней инстанцией. Ее искренняя интонация соответствовала внутренней интонации большинства своих читателей. «Комсомолка» вобрала в себя все лучшее, что было при советской власти и социализме, а этого всего было немало. При всей разноликости редакционного коллектива и жесткости дисциплины в нем никогда не приветствовались хамство, в том числе, и утонченное, злоба – пусть и на пользу дела, неуважение к читателю,
профессиональный цинизм. В известном смысле «Комсомольская правда» всегда была
заповедником добра.
Мое собкорство по чистой случайности закончилось именно в ту ночь, когда в мост, соединяющий две части Ульяновска – коренную, правобережную, и Левобережье, новый район с авиазаводом, – врезался теплоход «Александр Суворов». Это была моя зона, и мне полагалось бы туда поехать, хотя меня вряд ли бы пустили. Но что гадать, если поезд уже вез меня в Москву. Через считанные дни, когда я уже исполняла обязанности заведующей студенческим отделом, в Ульяновск отправился Леонид Репин. Он приехал оттуда очень бледный. Я именно бледность его помню – физическую бледность. И страшное возмущение существующими порядками. (При этих рассказах и шуметь-то особенно нельзя было – на дворе стоял еще 1983 год). Леня рассказывал нам, как пытался добыть в Ульяновске хоть какую-нибудь информацию, но его не пустили на искореженный теплоход, с ним отказывались разговаривать следователи. Подробности были душераздирающими – не для советского народа-оптимиста. Но жизнь совершенно отбивалась от рук, окончательно переставая вписываться в идеологию.
Мы тогда еще не знали, что все переменится, перемешается, станет другим. Что нам придется самим меняться, а часто и приспосабливаться – писать, например, рекламные материалы.
Но не случайно ведь нас называют профессионалами.
Мы только в одном не изменились: мы все так же любим друзей, которыми в избытке одарила нас совместная работа в «Комсомолке». Инна Руденко, Галя Янчук, Юра Данилин, Оля Егорова, Геннадий Селезнев, Лена Липатова-Оберемок, Оля Дмитриева, Саша Дроздов, Ким Смирнов, Таня Яковлева, Василий Песков, Дима Шеваров, Элла Щербаненко, Зоя Крылова, Люся Сёмина, Люда Овчинникова, Коля Кривомазов, Коля Олейников, Володя Сунгоркин, Ира Котенко, Люба Зайцева, Игорь Тетерин, Володя Снегирев, Галя Сапожникова, Сережа Маслов, Толя Строев, Юра Строев, Женя Черных, Юра Лепский, Алина Усанова, Валера Громов, Зоя Ерошок, Леша Романов, Полина Варывдина, Рая Клеткина. Господи, всех перечислить невозможно! Как невозможно забыть Алю Левину, Сашу Афанасьева, Валю Каркавцева, Олега Жадана, Сашу Сарычева, Карла Упмана, Марию Владимировну Хромкову, Катю Благодареву, Ярослава Голованова, двух Иващенко
– Юру и Анатолия, конечно, Юру Щекочихина и других, кого уже нет с нами…
…Я проработала в штате «Комсомольской правды» 25 лет и 11 дней. Сейчас там работает мой сын Денис Корсаков. Стоит ли расшифровывать, какое ощущение судьбы дают мне эти два обстоятельства?
P.S. А как вспомнишь весну 1968 года, себя-второкурсницу, подхватившую простуду и оттого не явившуюся на распределение по поводу практики (ехали после второго курса, в основном, в районки), и милую Лию Ивановну Калашникову, куратора группы…
Ведь если бы я «вовремя»
не заболела, то вообще ничего бы не было! Вся жизнь пошла бы по-другому. Лия
Ивановна сказала мне тогда: «А не хотите ли вы, Танечка, пойти на практику в
«Комсомольскую правду»? Мой сокурсник Ким Смирнов, зав. студенческим отделом,
просил прислать к нему в отдел сильного студента».
Это звучало примерно так, как если бы второкурснице ВГИКа предложили главную роль в советском фильме или пригласили в Голливуд на более или менее заметное участие в массовке. Теперьуже только от меня зависело, удастся ли из массовки выдвинуться. Спустя шесть лет я стала собкором «Комсомолки», а спустя еще девять – заняла пост заведующей отделом студенческой молодежи. И всю жизнь благодарна Лии Ивановне Калашниковой, Элеоноре Анатольевне Лазаревич и Ясену Николаевичу Засурскому за ту роль, которую они сыграли в моей жизни.
«Рукописи из сундука», № 4 (5), 2006 г.
Метки: МГУ. журфак, Дальний свет факультета, Рукописи из сундука, 40 лет спустя, Комсомольская правда
014. Дальний свет... П. Рашков. А тема тебя найдет, или История
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука. № 3, М., 2005 г.
Петр Рашков, Кишинёв
тебя найдет, или История одной публикации
Сто этих строк, опубликованных в газете, тираж которой составлял всего-то несколько сот экземпляров, для меня, тем не менее, особо дороги. Они во многом сыграли
определяющую роль в моем становлении как журналиста-газетчика, призванием
которого должно быть – убежден с той поры – правдивое информирование читателя.
Не агитация и пропаганда, не «организация масс», как нам вдалбливали на
памятном всем «тыр-пыре», порой с иронией воспринимаемом тогда, но все же
весьма полезном для нас предмете (сегодня спустя столько лет я это хорошо
понимаю). «Отсеченная» от определения «партсов» та теория и практика газетного
дела взращивала нас крепкими профессионалами, умеющими делать главное –
правдиво и точно информировать, несмотря ни на какие препоны, читающую публику.
А ведь именно такие
профессионалы и нужны газете и обществу, независимо от того, какой век и какое
десятилетие на дворе!
Несмотря на мизерный
тираж издания, где появилась зарисовка «Кофе, песок и Луговской», оно знакомо
многим ведущим журналистам бывшего СССР, а ныне – пятнадцати суверенных
государств, на его осколках возникших. Речь идет о газете «Журналист», издавать
которую в свое время доводилось всем, кто учился на факультете журналистики
Московского университета.
Двести седьмая наша
группа выпускала тогда учебную газету. Руководил Владимир Маркович Горохов.
Неприметный на первый взгляд человек с негромким голосом, который он не в
состоянии был повысить ни при каких обстоятельствах, наш любимый учитель,
сумевший воспитать, за что все мы ему до сих пор благодарны, не одно поколение
крепких профессионалов, на коих и держится наше, да простят меня коллеги,
ремесло.
Группа – это помнят все
студенты-газетчики – на время стала редакционным коллективом. Задача перед нами
была одна – выпустить лучшую на курсе газету. Каждый обязан был написать
«шедевр». Освободили от этой процедуры только меня, поручив в качестве
ответственного секретаря смакетировать шестистраничный номер, что считалось
делом более сложным, нежели написать заметку.
Перед самым выходом
нашего первого «блина» в «редакции» возник спор по материалам номера. Получился
номер весьма пестрым, хотя и был посвящен одной теме – свободному времени
человека «вообще» и студента, в частности, как одного из представителей
многоликого человечества. Что-то мне, помню, не понравилось. Вот и затеял я на
последнем обсуждении «редколлегии» разговор о том, что реализовать сверхзадачу
нашей газеты – отразить студенческую жизнь сквозь призму свободного времени
столь интересно и многогранно, как это есть на самом деле, – все же не удалось.
Иного: сверхзадача, концепция, их адекватная реализация мы по молодости лет, в
том числе журналистских, не признавали!
Тогда-то колючий наш
Сашка Ветютнев, которого мы дружно недолюбливали за высокомерный характер, но
за которого все-таки так же дружно вступились на комсомольском собрании,
созванном факультетским начальством для того, чтобы исключить парня из
комсомола, а это автоматически означало изгнание с «партийного» факультета.
Вина же Сашки заключалась в следующем: он впал в ужасную по тем временам
«ересь» – в реферате по научному коммунизму дерзко «с антисоветским душком»
высказался по поводу классиков марксизма-ленинизма об их «вечно живом» учении.
Мы его тогда в обиду не дали! Так этот колкий Ветютнев бросил сейчас мне при
всех, что критиковать, мол, просто, когда сам за перо не брался: «Поди, попробуй,
хотя бы найти тему, чтобы идее номера соответствовала».
Сашку, к моему удивлению,
поддержали многие, и я проглотил обиду. А когда все разошлись, во мне что-то
взыграло. Было уже далеко за полночь, но я, к неудовольствию комнаты (все эти
годы я неизменно соседствовал с Олегом Моржавиным, но на втором курсе нас
поселили в «большом» блоке с еще одним однокурсником Толей Халиным), включил
свет и, не обращая внимания на ворчание, взялся за перо.
Жили мы в общежитии, надо
сказать, скудно. На одну стипендию в основном да на редкие приработки, которым
радовались до невозможности, потому что в тогдашней Москве найти работу
студенту было непросто. На первом курсе, помню, почти ничего толком и не
перепадало. Спасала от голода … вобла, которую в огромном количестве присылали
родители Моржавину из Астрахани. Поначалу мы упивались этим, по тем временам,
«деликатесом». Когда же и смотреть на лакомую рыбину стало невтерпеж – так
приелась, придумали торговать воблой (идея принадлежала самому старшему из нас,
Петру Алешину, успевшему уже и отцом стать) в пивнушках, которых в районе коробочек
общежития на Мичуринском было множество. Как-то даже в милицию попали. Но это
уже иная история.
На втором курсе, когда
выпускали первую свою учебную газету, уже наладили тесные связи с хрустальным
заводом, откуда незабвенная Мария Сергеевна (наш работодатель) вызывала нас по
выходным, если приходили вагоны с песком и содой, выгружать которые, особенно с
каустиком, было непросто, но все же денежно.
Неизменным атрибутом наших
общежитейских будней была в то время и поэзия. Увлекались ей если не поголовно,
то в большинстве. Мальчики и девочки из провинции, где Рождественского,
Вознесенского, Евтушенко мало кто знал, а о Цветаевой, Ахматовой, Гумилеве,
Луговском даже и не слышали, жадно впитывали новый таинственный пласт великой
нашей культуры. Устраивая поэтические праздники-читки, если кому-то удавалось
раздобыть – в Москве это тоже было сложным делом – новый томик кого-нибудь из
наших кумиров.
Случалось так, что Мария
Сергеевна своими звонками расстраивала наши вечера поэзии, не ведая даже, что,
давая возможность подработать для бренного тела, лишала нас невольно пищи
духовной. Накануне столкновения с Ветютневым такое как раз и произошло. Вот я и
подумал в тиши нашей общежитейной комнаты, продолжая мысленно разговор с Сашей:
«Чем не тема? Так и просится в номер». И начал кромсать бумагу корявым своим
почерком.
В начале родился
заголовок: «Кофе, песок и Луговской». И тут же он дал направление основной
мысли материала.
А дальше пошло без
заминки – зарисовка родилась почти мгновенно. Рука еле поспевала записывать:
«Звонок, как всегда,
некстати. Лешка только раскрыл «Середину века». Трубка покорно ждала.
– Слушаю!
– Это Мария Сергеевна.
Пришел песок. Приезжайте.
«Жаль. В который раз откладываем. Собрались, наконец, стихи почитать» – с этой мыслью Лешка вернулся в комнату.
– Песок … – начал было он.
Но друзья поняли с полуслова.
– Сэ ля ви, – протянул невозмутимо Женька и стал собираться. – Стихи подождут.
Два огромных вагона пугали, давили своей тяжестью.
«Уймитесь, волнения,
страсти», – Костик, как всегда, первым подошел с ломом к вагону. Удар по крюку.
Люк изрыгает лавину песка.
Серега хлопнул Виктора по плечу: «Это тебе не Луговской», – и полез в вагон.
«А ведь все в сборе. Не
хватает только кофе», – Лешка вспомнил свою комнату, «Середину века», кофейник.
Кофе, песок. Кофе, песок.
Размеренно движется лопата. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Кофе, песок.
Кофе, песок.
«Все выше, выше
Летит форель по склону
водопада,
Как подобает мужеству
людскому,
В паденье подниматься до
предела,
Поднявшись, падать на
седое дно».
– Ты что, бредишь? –
Костик недоуменно посмотрел на Лешку.
«Счастлив ты?
Я не знаю …
Не знаю и я.
Все в порядке –
работа, любовь и семья.
Только, если не замерло
сердце в груди, –
Настоящее счастье
всегда впереди».
Яростно врываясь в песок, Лешка читал Луговского.
– Понятно! – Костик
посмотрел на товарищей. Те равномерно откидывали лопаты. Но только Лешка
кончил, из серегиного угла донеслось:
«Пощади мое сердце
И волю мою
Укрепи,
Потому что
Мне снятся костры
В запорожской весенней
степи».
И пошло по кругу. Как и думали, как и собирались сегодня вечером.
– А песок-то кончился! –
Женька торжествующе прогремел лопатой.
Город спал. Где-то в далекой общежитейной комнате лежал несваренный кофе.
Своей волей – все же
ответственным секретарем значился! – я тут же взялся за макет. Пришлось
несколько полос перерисовывать, выкраивая местечко для себя, родимого. Почти
вся ночь на это ушла. Утром сдал материалы в типографию.
Кроме дежурной группы был
у нас свой корректор, и, естественно, редактор, помимо Владимира Марковича, из
студентов, Валя Смирнова, я ей все объяснил, и она поняла, поэтому до выхода
газеты никто ничего не знал. Когда на очередной семинар по «тыр-пыру» принесли
стопку свежеиспеченной нашей продукции, я испытал нескрываемое наслаждение,
глядя на растерянные лица ребят, обнаруживших в открытии шестой полосы, где
планировался другой материал, мое «Кофе…». Опус «ответственного секретаря» был
оценен довольно терпимо (для юных максималистов это было фактически полным
признанием!), хотя за самоуправство мне все же досталось, и я каюсь, не
выдержал и заметил, под стать своему оппоненту Ветютневу, довольно высокомерно:
«Голову надо иметь. А тема тебя найдет». Как ни странно, это мне сошло с рук.
Годы спустя, став
профессиональным газетчиком, представляя «Труд» в Молдавии, понял, почему
снисходительно простили мне минутную слабость товарищи. Сам того не ведая (да и
они, мои однокурсники, как и я, тогда далеко еще не все в жизни понимали
разумом) в бахвальной в общем-то фразе выразил я суть нашего ремесла:
чувствовать – и уметь беспристрастно передать событие. Время, в котором живешь.
И меньше всего думать о теме. Она, действительно, сама тебя найдет, если ты
будешь правдив.
г.
Метки: 40 лет спустя, Рукописи из сундука, Дальний свет факультета, МГУ. журфак, диссиденты
013. Дальний свет... Е. Дубравный. Мозаика гордости и огорчений
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011 г.
© Рукописи из сундука. № 10. М., 2011
Евгений Дубравный, Белгород
Мозаика гордости и огорчений
Это была не эйфория. Нет. Это было такое возвышенное душевное состояние, которого в свои 24 года я ещё не переживал. Я, деревенский парень, – студент факультета журналистики даже во снах не досягаемого, магического МГУ! Сказочный бред?
Если сказать об этом в своей родной кубанской станице, кто же мне поверит?! Хотя, когда я, девятиклассник, появлялся на главной улице с фотоаппаратом на шее, который мне подарил старший брат Лёшка, то слышал за спиной иронический шепот:
«Корреспондент пошёл». Это потому, что такого фотоаппарата ни у кого не было во
всей нашей станице.
Правда, я и думать не думал о журналистике, мечтал выучиться на строителя. И вот тебе…
Всё сломала матросская служба, куда я попал с пятого курса строительного техникума. Резкая смена ситуации вызвала такое психологическое потрясение, что в ночных караулах я начал писать стихи. Их не очень охотно публиковала газета «На боевой вахте», потому что военным корреспондентам нужны были короткие информации, небольшие репортажи и зарисовки о реальной матросской жизни.
Стали появляться материалы и в газете черноморского флота «Флаг Родины». А когда пришло время увольняться в запас, моряки-газетчики упорно рекомендовали поступать на журфак, а обе редакции дали рекомендации.
Признаюсь, я в эту затею не верил изначально. И вот тебе бабушка – я студент…
Конечно, хотелось сразу научиться писать так, чтобы читатели рвали из рук газеты с моими публикациями.
Таких желающих было на курсе предостаточно – Володя Дегтяров, Леня Речицкий,
Толя Костюков, Гена Бубнов…
В основном – переростки. Успели поработать, отучиться, отслужить и снова сесть за парту. Мы желали одного: чтобы нас научили писать талантливо здесь и сейчас. Но легендарный декан Ясен Николаевич Засурский, видя нашу абсолютную академическую
безграмотность, решил прежде всего вооружить нас глубокими теоретическими знаниями.
Сложилось впечатление, что он специально для нашего курса добился доступа к закрытым книжным фондам Ленинской государственной библиотеки. Но мы жаждали не теории, а живой журналистской практики.
Мы жаждали общения с живыми классиками: Василием Песковым, Ярославом Головановым, Анатолием Аграновским, Иваном Зюзюкиным…
Надо было видеть трагическое огорчение Ясена Николаевича, когда через три месяца он с ужасом увидел, что ни одна редчайшая книга не была востребована его оболтусами.
И тут на наши головы обрушилось ещё одно академическое несчастье – иностранный язык! В трансе были все. Но больше всех страдали, на мой взгляд, «немцы».
Каждую неделю мы отдавали этой ненавистной науке по четыре(!) пары учебных часов. Зачем?! Словно мы снова собирались воевать с немцами и должны были писать политические листовки на немецком языке и озвучивать их через радиоусилители. Боже!!
Это был настоящий инязовский синдром! Лишь три человека воспользовались этим багажом – они пошли работать в КГБ. (Факты на совести автора. Редакция).
Но и нам с Серёжей Николаевым этот опыт оказался кстати. Ясен Николаевич, дай ему Бог здоровья, активно развивал международные связи. И Гана Павловна (наш преподаватель немецкого) объявила конкурс на создание группы для поездки в Лейпцигский университет на двухнедельную разговорную практику.
И мы с Николаевым попадаем в эту группу. Возглавляет её Элеонора Анатольевна Лазаревич – замдекана.
Едем. В Бресте наш состав должны перевести на узкоколейку. Объявили: стоим 2,5
часа. Я за фотоаппарат и в Брестскую крепость, отснял, а назад ехать нечем. Нет
автобусов. Ловлю такси. Приезжаю – половины состава нет. Мой чемодан на
перроне, рядом пограничник с автоматом. Я к чемоданчику: – Назад! Еле уговорил.
Оказывается, наш состав разделили на две части. Мой вагон с Элеонорой Анатольевной ушёл, а вторая часть осталась. Ребята дали бутылку проводнику и он, очень недовольный, впустил меня в их вагон.
Под Варшавой – страшная весть: какой-то пассажир сорвался с подножки, попал под колёса и остался без ног. Элеонора Анатольевна решила, это – я!
Господи! Как она была рада, увидев меня живым и здоровым.
Тяга к практическим знаниям была неукротимой. Мы рвались в ЦДЖ (центральный дом журналистов). Там можно было увидеть не только живых классиков, но и зарубежных публицистов. Но нас по студенческим билетам туда не очень-то пускали. Ясен Николаевич боялся нашего нравственно-теоретического растления.
И тут у меня родилась дерзкая по тем временам идея: создать пресс-клуб и приглашать в общагу талантливых журналистов-практиков.
Но слишком демократическая идея могла не понравиться руководству факультета. Однако мне крупно повезло. Ясен Николаевич только что вернулся из первой поездки в США.
Это было событие и для факультета и для страны. Я пригласил его на встречу первым
и декан несколько часов рассказывал о своей поездке. Слушали все, открыв рты. А
было это в холле общежития на Ленинских горах на седьмом этаже.
Эта встреча зажгла зелёный огонёк нашему пресс-клубу, где побывали Ия Савина, Василий Лановой (они начинали учёбу на нашем факультете), Ярослав Голованов, братья Валерий и Анатолий Аграновские и многие, многие другие.
Так удалось одолеть проблему общения с талантливыми журналистами-практиками. А вскоре нам было дозволено проникать в ЦДЖ по студенческим билетам.
Наши заземленные провинциальные умы, конечно же, испытывали серьёзный философский голод. Ещё ощущалось остывающее дыхание хрущевской оттепели. Ещё кипели разбуженные страсти вокруг полуосвобожденного слова. И нам казалось, что нас не пускают с философско-интеллектуальной обочины на простор прогрессивной человеческой мысли. Главным философским проводником в университетской программе был учебник Валентина Фердинандовича Асмуса. Неподъемный фолиант, вобравший в «пережёванном» виде весь планетарный опыт мыслителей-великомучеников, вызывал отторжение в наших душах, побуждал искать лазейки к первоисточникам. Но выливалось это в унизительные ночные чтения доставляемых «из-за бугра» книжек наших же
соотечественников. Все рекорды бил роман «Доктор Живаго».
Помню, как при встрече с немецкими студентами, они пытались «прижать» нас к Берлинской стене весьма неприятными вопросами: почему в СССР не издается этот безобидный роман? Когда на родине автора будет поставлен художественный фильм?
Мы бодрились, пытались перевести всё в шутку. Но горечь тяжёлым осадком надолго осталась в душе.
Какая-то странная, плохо осязаемая тревога ощущалась в нашей студенческой жизни. Хотя учёба шла по-накатанному. Мы умничали на семинарах, охотно бежали на лекции
профессора Западова, затихали во время зачётов и не без страха, словно в окопах
перед главной атакой, ожидали наступления очередной сессии.
И вот как-то в аудитории появляется куратор нашей учебной группы. Обычно внутренне сосредоточенный и даже немножко замкнутый, на этот раз он источал почти юношескую радость и какую-то незнакомую нам доселе гордость.
Ребята! Я вас попрошу прямо сейчас – пройдите в нашу библиотеку и возьмите новую книгу Левады. Тираж очень маленький, боюсь, её моментально разберут.
Юрий Александрович вёл у нас социологию. Большая умница и очень обаятельный человек, он сразу завоевал студенческие симпатии. На его лекции народ валил валом.
Профессор, доктор наук был ещё и секретарём парткома очень популярного в то
время института конкретных социологических исследований.
Мы ринулись в библиотеку и поступили мудро – на следующий день книжек уже не было. Я буквально «проглотил» этот удивительно смелый по мыслям небольшой двухтомник.
В нём всё было дискуссионным. Талантливый социолог спорил с зубрами от
философии, которые пытались молодую науку «пристегнуть» к научному коммунизму
как прикладное пособие.
Но, признаюсь, ничего крамольного в рассуждениях профессора-революционера я не
обнаружил и поспешил пригласить Юрия Александровича на встречу в наш студенческий
пресс-клуб. Он охотно согласился.
А уже через пару недель библиотекари потребовали срочно вернуть все книжки, не
объясняя причин. Невнятными были и разъяснения преподавателей. Особенно неловко
чувствовал себя наш куратор.
Хотел дать отступного и сам профессор. Но я настоял и попросил ускорить встречу.
Помню, какую неловкость испытывал я, когда мы преодолевали тройной заградительный
барьер при входе в высотное здание. Первую проходную покорили почти без
затруднений. Спокойно отнёся Юрий Александрович и к проникновению в зону «В». А
вот когда на пути возник блок «Д», доктор наук не выдержал и попросил меня
показать левую руку. Я в недоумении протянул кисть. Левада с любопытством
осмотрел её и улыбнулся:
– Я думал увидеть номер, но рад, что не обнаружил страшной метки…
Такие огорчительные ассоциации навевала наша университетская пропускная система.
Встреча вызвала обвальный интерес. Мест не хватило. Студенты стояли не только в холле, но и в коридоре. На Юрия Александровича обрушился шквал вопросов. Долго не
отпускали его, и после завершения встречи. В тот вечер мы ещё не знали, что наш
любимый преподаватель вскоре будет спешно лишён профессорского звания и
отстранён от чтения лекций.
Но Юрий Александрович, похоже, знал обо всём этом: когда я попросил подписать мне
двухтомник, он посмотрел своими мудрыми глазами и тихо сказал:
– Давайте я лучше подпишу вашему пресс-клубу?..
Впереди были госэкзамены, защита диплома и профессор боялся осложнить мою студенческую судьбу. А вскоре я убедился – это был мудрый шаг…
Тревожным эхом прокатился этот неприятный случай по аудиториям факультета и по общежитиям, поднимая волну слухов и самых нелепых кривотолков. Конечно, он взбудоражил студенческие умы, заставил критичнее взглянуть на устоявшуюся систему внедрения знаний. Но никаких радикальных действий не вызвал. Кроме странного поступка вполне благополучного во всех отношениях Саши Ветютнева. У него сложились неприязненные отношениях с преподавателем научного коммунизма. Ох, уж эта философия!
А началось всё с пустяка. Каждую свою лекцию научная дама упреждала проверкой посещаемости. Кандидат философских наук добросовестно, как на солдатской поверке, по журналу зачитывала фамилии студентов (а их более двухсот человек!) и те вставанием
фиксировали своё наличие. Уходило на это минимум 15 - 20 минут.
Вскоре нам надоело такое солдафонство и мы с Сашей послали записку: долго ли высококвалифицированный философ будет воровать у нас учебное время? И подписались…
Дама, получив образец студенческой дерзости, тут же отреагировала:
– Вы очень смелые люди, но, видимо, забыли, что впереди экзамены. Не пожалеть бы…
И надо же случиться, что по семейным обстоятельствам Саша пропустил семинар. Вердикт был суров – немедленно сдать реферат по теме. Ветютнев в одну ночь сочинил свой небольшой научный труд и, никому не показывая, отдал преподавателю, с условием – после прочтения вернуть. Та согласилась.
Но злополучная записка!
Она занозой сидела в оскорблённом преподавательском сердце. Прочитав первую
страницу, философиня изменилась в лице и выскочила в коридор с криком:
– Выкормыши Левады, выкормыши Левады!
Крамольный реферат был доставлен в деканат философского факультета, от которого научная дама работала у нас. Разгорелся сыр-бор. Вывод был более чем суров: срочно отправить смутьяна в академический отпуск с последующим переводом на заочное отделение. Но мы так и не узнали, что же такого недозволенного позволил себе вполне благополучный и довольно пытливый наш собрат. И был ли «профессорский толчок» в этом, по сути, безрассудном поступке или «нестандартные» мысли давно уже зрели в бунтарской голове, возмущенной тем, что мы и впрямь диалектику учили не по Гегелю…
Отрадно, что родной факультет, может быть, не очень ощутимо помогал, но и не мешал этому движению.
Наш курс вышел далеко не самым хилым на факультете. Какими интересными материалами радовала читателей, да и нас – сокурсников, собкор «Комсомолки» Таня Корсакова. А сколько мужества и драматизма было в репортажах Александра Крутова во время чернобыльской трагедии. Наш «спортивный полиглот» Борис Каймаков несколько лет возглавлял бюро АПН в Германии.
А кто мог предположить, что днями гоняющий футбол Володя Кучмий станет создателем редактором газеты «Спорт-экспресс». А наш главный волейболист Женя Воробьёв (Киса Воробьянинов) будет «поставлять» замечательные материалы из Болгарии. Лёвушка Гудков, поражающий всех своей эрудицией, стал известным учёным. Долгие годы работает в Союзе журналистов России неугомонный наш заводила Леня Речицкий…
Прошло сорок лет, да нет, не прошло – пролетело, как мы «птенцы Засурского» покинули своё уютное гнездовье.
Память может упустить какие-то имена. Но как же приятно было приобрести в
книжной лавке на Старом Арбате журнал «Москва» с романом Серёжи Николаева,
который, не стыдясь, трудился то вахтёром, то пожарным и настырно пытался
нащупать свою тропу в… литературе.
И уж нельзя умолчать о настоящем подвижнике – Толе Костюкове. Темой диплома он выбрал творчество поэтов Серебряного века, зная, что ничего не найдёт о них «в открытом доступе». Более того, и стихов-то их мы практически не видели. Это нынче я смотрю на книжные полки своей семейной библиотеки и с горечью радуюсь обилию сборников Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Велимира Хлебникоав, Игоря Северянина… Роскошные издания, золотые корешки, твёрдые переплёты… И среди этой полиграфической роскоши – скромнейшие светлые книжечки с рукодельными названиями на хрупких торцах: Николай Гумилёв, Осип Мандельштам…
Совсем недавно эти, безусловно, раритетные, неповторимые издания у меня выпросили на время работники нашего литературного музея. Они собираются создать экспозицию
самиздатовских книжек 60-70 годов прошлого (!) века. А ведь издатель этих уникальных
сборников наш сокурсник Толя Костюков.
Обнаружив нищету книжных магазинов и нашей факультетской библиотеки по отношению к поэзии Серебряного века, Анатолий днями пропадал в Ленинке, переписывая сборники стихов любимых поэтов, изданных в самом начале прошлого века. И ночами напролёт стучал на своей крохотной пишущей машинке, придавая гениальным строкам божеский вид.
В эти минуты он запирался и никто не догадывался, что там выстукивает его древний печатный механизм. Но однажды у меня закончился чай (а жили мы через холл, где проходили встречи нашего пресс-клуба) и я постучался к нему в дверь. На удивление, он открыл довольно быстро, и я увидел в пишущей машинке листок со стихами.
Нас сближали не только взгляды на жизнь, на систему обучения, но и некоторые сложности с утверждением «нестандартных» тем наших дипломных работ. Ни поэты Серебряного века, ни особенности поэтического перевода с родственных языков никакими гранями не соприкасались с проблемами журналистики. Но темы были утверждены, за что низкий поклон и нашим преподавателям.
Так вот, увидев поэтические строки, я коршуном взвился над Анатолием и выяснил, что он хочет «издать» двухтомник Николая Гумилёва и сборник Осипа Мандельштама. Это было делом не безобидным. И я заверил Толю, что буду молчать как рыба. Один экземпляр достался мне.
Анатолий защитился прекрасно и был рекомендован для продолжения учёбы. Повезло и мне. Но в ту пору поступить в заветную аспирантуру можно было, лишь отработав два года. Обе рекомендации погибли. Но чувство благодарности родному факультету согревает душу и сейчас. 2011 г.
Метки: Рукописи из сундука, Дальний свет факультета, МГУ. журфак, 40 лет спустя, левада
011. Дальний свет... С. Николаев. Интервью с Орфеем. Окуджава
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011
© Рукописи из сундука, № 6. М., 2006 г.
Сергей Николаев
Интервью с Орфеем
Все началась с приятеля моего Лёвы Гудкова… Потому что именно он приставал целый месяц то к Виле Маланьиной, то к Саше Зарецкому (моим друзьям по факультету журналистики МГУ), то ко мне с одной и той же просьбой:
– Ребят! Кто пойдет со мной брать интервью у Солоухина?
Или:
– Ребят, кто пойдет со мной брать интервью у Окуджавы?
Была весна – увы! – теперь уже такого далекого 1968 года, нам было по 20 лет, время дерзаний, время «бури и натиска», мы учились на 2 курсе факультета журналистики МГУ, мы постигали мир, мы осваивали Москву… И если раньше, буквально год назад, когда я еще был заочником, когда работал в родном Серпухове в многотиражной газете «Маяк», эти имена были для меня чем-то заоблачным и недоступным, то теперь в устах Лёвы Гудкова они звучали как-то уж очень обыденно и просто:
– Ребят, кто пойдет со мной брать интервью у?..
– Лёв, – пытался я прояснить ситуацию, – а ты уверен в том, что они захотят с нами встречаться?
– Уверен! – поправлял Лёва пальцем сползающие на нос очки. – Я договорюсь…
– Что-то мне в это слабо верится, – все-таки сомневался я.
– Ну а если получится, пойдешь?
– Пойду, – неожиданно согласился я.
Потом неделю или две я ждал от Лёвы волшебного слова: «Пошли!» Потом неделю или две грезил предстоящей встречей.
При имени Солоухин вставала
перед моими глазами его книга «Владимирские проселки», вспоминалось, как,
будучи еще школьником, зачитывался я ею, вспоминалось, как, оторвав глаза от
страницы, представлял, как когда-нибудь и я вот так же буду описывать родных и
знакомых на страницах своих повестей и романов, и порою в мальчишеских грезах
мне казалось, что я смогу сделать это не хуже, чем знаменитый писатель.
При имени Окуджава вставало в воображении иное – ночной Серпухов, я шагаю с гитарой по родному
городу, со мной рядом человек пять или шесть моих друзей, и все мы в который
уже раз поем одну и ту же так полюбившуюся нам песню:
Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
Последний, случайный…
И хотя уже далеко за
полночь, хотя уже небо светлеет на востоке, хотя уже давно пора расставаться,
мы никак не можем разойтись и, едва закончив песню, снова, уже, наверное, в
десятый раз, запеваем ее.
Вот какие воспоминания
окутывали меня, когда я ждал от Лёвы волшебного слова: «Пошли!» И еще постоянно
гадал я – с кем договорится Лева? С Окуджавой или Солоухиным? Лучше бы и с тем
и с другим…
Но наконец-то однажды, придя на факультет, я услыхал от Лёва долгожданное:
– Сегодня… Окуджава… В ЦДЛ… В шесть часов вечера…
И вот после занятий шагаем
мы с Лёвой по солнечной весенней Москве. Идем от факультета до ЦДЛ пешком. По
пути Лёва посвящает меня в детали своего замысла. Интервью будет посвящено
теме: «Окуджава и кино». Лёва уже придумал несколько вопросов. Я ему нужен для
поддержки. Моральной, в основном… К тому же я знаю много окуджавских песен, и,
может быть, смогу помочь ему в разговоре.
–Поможешь? – Лёва тревожно взглядывает на меня из-под своих запотевших очков.
–Постараюсь,– не менее тревожно отвечаю я.
Вскоре в конце улицы
Герцена (ныне Большая Никитская), различает мой взор контур Центрального Дома
литераторов. Я уже знаю это таинственное здание. Несколько раз проходил мимо.
Но войти туда не пытался. Знал, что не пустят. Но каждый раз, проходя вдоль
знаменитых стен, замирал от обожания и тревоги. Умнейшие, талантливейшие люди
Москвы и Союза – представлялось мне в грезах – приходят туда. Читают свои стихи
и рассказы, обсуждают их, дарят друг другу книги с автографами.
Неужели нас вправду впустят туда? Неужели?
Перед входом в ЦДЛ обнаруживаем мы разнаряженную, взволнованную толпу. Обрывки разговоров, которые случайно ухватывает мой слух, добавляют мне нервности.
– Ну что будем делать?
– Не знаю...
– Неужели не пройдем?
– А, может, попробовать через?..
«Вон оно что? – мгновенно погрустнел я. – Ах, Лёва, Лёва, – взглянул я на приятеля. – И ты думаешь, мы чем-то лучше этих разнаряженных франтов?»
Но Лёва, несмотря на заметное
волнение, целеустремлен, как танк. Раздвигая плечом собравшихся, он все ближе и
ближе продвигается ко входу. Я послушно следую за ним.
И вот мы уже в шаге от заветных
дверей, и вот мы уже делаем этот шаг, и вот уже двое высокорослых дружинников с
красными повязками на рукавах преграждают нам путь:
– Ваши билеты?!
Но Лёва не тушуется. Лёва приближает губы к уху дружинника и что-то
чуть слышно шепчет ему.
И происходит чудо! Лицо дружинника
мгновенно расплывается в улыбке. От былой строгости не остается и следа.
Взглянув на нас взглядом старого
друга, он произносит радостно:
– Вы с факультета журналистики?
– Да, – отвечает насуплено Лёва и поправляет пальцем сползающие на нос очки.
– Вас двое?
– Двое, – бормочет Лёва и зачем-то лезет в карман куртки. –
Мы можем показать студенческие билеты…
– Не надо, не надо, – легко касается его руки дружинник. – Я вам верю. Булат Шалвович нас
предупредил. Проходите! Ребят, пропустите их! Это к Окуджаве!
Под изумленными и завистливыми взглядами шагаем мы через заветный порог, и
дружинники вежливо и даже несколько заискивающе здороваются с нами.
В фойе, однако, робость и растерянность вновь овладевают мной.
Седобородые
мужчины с дымящимися трубками, стоящие по двое и по трое у дверей, ведущие
неторопливые и, наверное, столь умные беседы, что нам, быть может, и понять-то
их невозможно, кажутся мне Платоновыми и Лавреневыми. Изящные женщины с распущенными
по плечам волосами, с роскошными украшениями на шеях и запястьях рук, в
вечерних платьях до пят кажутся мне Цветаевыми и Ахматовыми.
«Боже,
куда мы попали? Не снится ли нам это? Не ошибся ли дружинник, пропустив нас?
Зачем мы Окуджаве? Зачем? Он – небожитель! Он – на пластинках проигрывателей!
Он на пленках магнитофонов! Он – на страницах журналов «Юность» и «Сельская молодежь»!
Он…»
Но тут Лёва незаметно трогает меня за руку, прерывая мои самоуничижительные мысли, и кивает на лестницу, по которой снуют вверх и вниз какие-то дамы и мужчины. Сперва я не понимаю, на кого показывает Лёва, – слишком много народу на
лестнице. Но в следующий миг происходит и вовсе необычное… Только что полная
народу лестница вдруг становится пустой, и на этой пустой лестнице я вижу того,
к кому мы пришли, – Булата Окуджаву.
Это был, конечно же, оптический обман. Конечно же, лестница была полна народу,
конечно же, бородатые мужчины и томные дамы шагали по ней вверх и вниз, конечно
же, это было так, но видел я в тот момент только его одного, и потому в памяти
моей осталась такая картина – лестница пуста, никого нет на ней, кроме Булата
Шалвовича, и он спешным шагом спускается по ней к нам.
Он был в черном костюме, пиджак его был расстегнут, полы пиджака от быстрой ходьбы распахнулись, открыв взору белую рубашку с расстегнутым на шее воротником.
Словно с Олимпа спускался он к нам на грешную землю, и мы, онемевшие от восторга и изумления, зачарованно взирали на него.
Он сразу же разглядел нас, стоящих в толпе перед гардеробом, – двух одуревших от
счастья студентов, и не спускал с нас глаз, пока шагал от лестницы к нам.
Но, несмотря на изумление и восторг, я все-таки каким-то подпольным зрением наблюдал
за ним, точнее, за тем, как воспринимают его стоящие в толпе люди. Многие оборачивались
к нему, многие, толкая в бок своих знакомых, кивали на него, многие, кто мог
себе это позволить, тянулись к нему с рукопожатием. Человек пять или шесть
пожали ему руку, пока он добрался до нас.
И вот наконец-то наступает миг, которого я терпеливо ждал уже две или три недели,
– сам Булат Окуджава подходит к нам и, изучающе окидывая взглядом с головы до
ног, протягивает руку сначала Лёве, а потом мне:
– Здравствуйте, молодые люди… Это вы мне звонили?
– Да, мы… – пытается с места в карьер начать разговор Лёва. – Мы хотели поговорить с вам о…
– Погодите, погодите, – перебивает его Булат Шалвович, кивая на гардероб. – Сначала
вам надо раздеться. Пойдемте…
Очередь у раздевалки уже совсем небольшая, всего два или три человека стоят перед нами, но все равно приходится ждать. Мы молчим, Булат Шалвович молчит тоже, и
молчание наше с каждой секундой становится все более тягостным.
Выручает нас некий человек с широким бородатым лицом, крепкого телосложения, в сером обвисшем пиджаке, в широких давно не глаженных брюках.
– Здравствуй, Булатик, – тянет он к Окуджаве широкую ладонь.
– Здравствуй, Коля! – жмет ему руку Булат Шалвович.
Отойдя от нас на пару шагов, они негромко разговаривают о чем-то, по-приятельски
поглаживая друг друга по плечу.
А мы с Лёвой наконец-то сдаем свои куртки в гардероб и снова подходим к Булату
Шалвовичу и его приятелю.
Увидев нас, они тотчас прерывают разговор.
– Хорошо, хорошо, – долетает до моего слуха голос Окуджавы. – Я скоро поднимусь. Там договорим…
Тот, кого Окуджава назвал
Колей, уходит, а Булат Шалвович провожает его долгим взглядом. Потом, словно
вспомнив о нас, кивает вслед ушедшему:
– Знаете, кто это?
– Нет, – жмем мы плечами.
– Это Глазков… – перст Окуджавы поднимается вверх. – Николай Глазков… Поэт… И очень талантливый… Вы знаете, ведь это он летал на воздушном шаре в «Рублеве» Тарковского… Ведь вы смотрели «Андрея Рублева»?
Нет, мы не смотрели, пока не смогли, ведь его нигде не показывают, но слышали, много слышали об этом фильме и очень хотим посмотреть.
Потом, через год, в 1969,
я написал курсовую работу по сценарию фильма «Андрей Рублев», опубликованному в
журнале «Искусство кино», и сумел прорваться на показ фильма в ДК МГУ на улице
Герцена. Это стало началом моих серьезных занятий русской историей, которые
затем, много позже, вылилось в написание повестей «Сказание об отроках Борисе и
Глебе» и «Ладанка», романов «Шемякины дни», «Княжий крест» и других исторических произведений.
Кто знает, может быть, та
случайная встреча с Николаем Глазковым и добрые слова Булата Окуджавы о нем
подтолкнули меня к этому.
Однако не буду забегать вперед, а возвращусь в 1968 год, в ту счастливую минуту моей жизни, когда Булат
Шалвович Окуджава, легонько взяв нас с Лёвой под локотки, произносит своим
чарующим голосом:
– Пойдемте, пойдемте… Найдем местечко, где бы нам никто не помешал.
Потом мы ходили по коридорам и коридорчикам ЦДЛ, искали свободный диванчик. Но все диваны были заняты, сидели на них вальяжные мужчины и томные женщины, курили, держа перед лицами исходящие синим дымом сигареты, беседовали о чем-то, недоступном нам, грешным.
Многие при виде нас, точнее, Окуджавы, затихали и, оборачиваясь в нашу сторону, улыбались нам, опять, конечно же, не нам, а Булату Шалвовичу, здоровались с ним.
Наконец-то свободный диванчик находится.
Если бы сейчас пройтись
по коридорам ЦДЛ, я бы ни за что не нашел то место, где стоял он. Однако же
диванчик тот помню и окно, длинное, узкое, у которого он стоял, тоже помню, и
фикус между диванчиком и окном.
– Ну вот, – красноречивым жестом приглашает нас Булат Шалвович садиться. – Надеюсь, нам здесь никто не
помешает.
Однако мы с Лёвой не торопимся присесть. Мы почтительно ждем, пока усядется сам метр, и только после располагаемся по бокам.
– Ну что же? – Булат Шалвович неторопливо извлекает из кармана пачку сигарет и спички. – О чем вы хотели со мной поговорить? Слушаю вас…
Я смотрю на Лёву, что скажет он. А Лёва, – будущий академик, социолог, один из учеников знаменитого Юрия Левады, напустив на себя важный вид, по-профессорски поправляя сползающие на нос очки, произносит растерянным, однако, голосом:
– Мы хотели бы поговорить с вами о кино.
– О кино?! – Булат Шалвович изумленно вскидывает брови.
– Да, о кино, – еще более растерянным голосом произносит Лёва. – О вашем месте в нем.
– Да никакого места у меня в нем нет, – рука Булата Шалвовича со спичкой замирает над коробком. – И никакого к кино я не имею отношения.
Признаться честно, слова метра ошарашивают и меня, и Лёву. Потому что другого ожидали мы. Не такого резкого ответа. Но Лёва все-таки находится. Закваска академика уже заложена в нем, и не так-то просто сбить его с толку даже Окуджаве.
– А как же фильм «Женя, Женечка и Катюша»? – морщит он свой высокий лоб. – Ведь вы же писали к нему сценарий.
– А! Так вы об этом? – наконец-то чиркает Булат Шалвович спичкой об коробок и подносит пламя к сигарете.
Зачарованно смотрим мы,
как прикуривает он, как, затянувшись несколько раз, хочет стряхнуть пепел с
сигареты, но, не обнаружив рядом ни пепельницы, ни урны, так и оставляет пепел
на сигарете.
– Так это к кино не имеет ровным счетом никакого отношения, – изрекает Окуджава, заставляя нас изумиться еще более.
Несколько секунд мы смотрим на кончик окуджавской сигареты, как, медленно истлевая, превращается она в серый столбик пепла.
– Почему? – наконец-то решается спросить Лёва. – Ведь это сценарий. Ведь это фильм…
– Потому что не от души я все это писал, – печально улыбается Булат Шалвович и снова затягивается дымом. – Не от души, а для заработка.
Столбик пепла на его сигарете становится все длиннее и длиннее и грозит вот-вот упасть на брюки метра.
– Надеюсь, вы поймете меня. – Печальная улыбка сходит с лица Булата Шалвовича. – Очень грустно и
обидно бывает мне, когда я иду по улице и из многих открытых окон раздаются с
магнитофонов мои песни, а у меня в кармане пусто, хоть шаром покати, даже
сигарет не на что купить. Вот я и решил писать этот сценарий. Но только для
заработка. А к настоящему кино, мне кажется, это не имеет никакого отношения.
Мы изумлены, мы опечалены
подобным развитием разговора. Не того мы ждали. Мы ждали рассуждений об
образах, об идеях фильма, о режиссуре, об актерских работах. А получили
настолько обезоруживающий ответ, что и не знали даже, о чем говорить дальше.
Столбик пепла не сигарете
Булата Шалвовича – печально фиксирую я – вот-вот надломится и упадет на колени
Окуджаве. Но метр словно не видит этого. Взгляд его обращен в сторону, в окно.
Во взгляде его печаль, быть может, оттого, что вдруг пришлось признаться пред
незнакомыми людьми в своей авторской недобросовестности. Ему явно не хочется с
нами дальше говорить. Мы с Лёвой чувствуем это. Но надо, надо как-то продолжить
разговор, иначе какие мы, к шутам, журналисты.
С робкой надеждой Лёва взглядывает на меня. И я понимаю по его взору, что настало время и мне выходить на сцену.
– Булат Шалвович, – с трудом шевелю я онемевшими от робости губами, озвучивая давно заготовленный вопрос, – какие исполнители ваших песен нравятся вам?
– Да никто не нравится! – не менее резко, чем на первый вопрос, отвечает Окуджава.
Пепел от его дыхания срывается с сигареты и падает метру на колени, грозя прожечь отутюженные до блеска брюки.
«Что станет он делать? Что? – начинаю я волноваться.– Чего же он медлит? Ведь брюки могут прогореть!»
Но метр словно не видит
этого. Взгляд его теперь обращен вверх. Он, видимо, перебирает в памяти певцов,
что исполняли его песни. И наконец, словно очнувшись, он резко дует на брюки, и
пепел от его дуновения разлетается в стороны.
– Нет, – категорично качает он головой. – Никто не нравится.
– Недавно, – не успокаиваюсь я, – на телевидении исполнялась ваша песня «Ах, война, что ты сделала, подлая…» Что-то вроде песни-спектакля… Там мужчины были в военной форме образца 41-го года, а девушки в платьях того времени. Это исполнение вам тоже не нравится?
– Ах, да это театр песни!
– улыбается Окуджава и благодарно кивает головой. – Это, пожалуй, единственное,
что мне по душе. Спасибо, что напомнили.
Я тоже улыбаюсь Булату Шалвовичу. Уж как мне-то приятна его благодарность.
Но, как после оказалось,
это была последняя улыбка в той нашей встрече. Потому что, какие еще вопросы
задавать, я не знаю. Точнее, знаю. У меня к нему много есть вопросов. Но они
совсем другие, не журналистские. О многом я хотел бы узнать от него. Но я боюсь
показаться бестактным. Резкость ответов его подействовала на нас угнетающе. И
потому я не хочу более испытывать судьбу и молчу. И будущий академик Лева тоже
молчит. И тишина, окутывающая нас, с каждым мгновением становится все более тягостной.
«Интервью не получилось, – обреченно подвожу я итог. – Не умеем мы брать интервью. Не умеем…»
А Булат Шалвович уже
докурил свою сигарету, к самому фильтру подобралось пламя. Затянувшись в
последний раз, он опять оглядывается по сторонам, высматривая, куда бы бросить
окурок. Но рядом, как и прежде, ни пепельницы, ни урны.
И с этого момента исходящий дымом окурок неожиданно становится главным действующим лицом (точнее, предметом) нашей встречи. Желая как можно быстрее избавиться от него, Окуджава,
как мне кажется, подумывает и о том, как бы быстрее избавиться от нас.
Во всяком случае, поднявшись
словно бы в поисках урны или пепельницы, он неторопливо шагает по коридору, и
мы, понимая, что аудиенция закончена, безмолвно следуем за ним. Мы еще на
что-то надеемся. Хотя бы на пару-тройку слов. Ведь не уйдет же он, не
попрощавшись. Нет, не уйдет. Хотя, кто знает. Быть может, мы ему настолько
скучны, что он может сделать и это.
Но наконец-то урна встречается на нашем пути.
Бросив в нее окурок, Булат Шалвович оборачивается к нам.
– Ну что же… Мне пора
идти… – Голос его становится излишне вежливым, даже официальным. Взгляд
ненадолго задерживается на Лёве и на мне. – У меня больше нет для вас времени.
На прощание я вам вот что хочу сказать. Вы хотели взять у меня интервью, чтобы
на моем имени сделать имя и себе. Но мне это неинтересно. Я от вас, мальчики,
другого ждал. Потому и согласился на встречу. Я ждал от вас стихов, песен,
рассказов… А вы – с интервью! Нет, нет, не буду я вам его давать! Не хочу я
этого. Вот как сделаете что-то серьезное – напишете стихи, песни, рассказы,
повести, то звоните, приходите. Я буду вам рад помочь. А пока… Пока – все! До
свидания…
Он тянет ладонь к Лёве,
потом – ко мне. Мы робко жмем его руку. Рукопожатие его уже не то, что было в
начале нашей встречи. Оно лениво, если не небрежно. Затем, не глядя больше на
нас, он резко разворачивается и уходит…
До сих пор помню, как
развевались полы его пиджака от быстрых шагов. До сих пор помню горечь обиды,
заполнившей мою душу. До сих пор помню, как обжигало меня уязвленное самолюбие.
«Вот он как с нами
обошелся! Вот как… И поделом…Поделом… Хороший он дал нам урок. Не по душе мне
эта журналистика. Не мое это дело. И надобно уже сегодня садиться за стол. И
писать, писать, писать… Рассказы, повести, романы… А уж потом обращаться к
метрам. Да, так я и поступлю…»
«Рукописи из сундука», № 6, часть 1, 2006 г.
Метки: 40 лет спустя, МГУ. журфак, Дальний свет факультета, Рукописи из сундука, Окуджава
010. Дальний свет факультета. А Митько. Как защитить диплом
© Дальний свет факультета. 40 лет спустя. М., 2011
© Рукописи из сундука. № 7. М., 2008
Александр Митько
Весна одна тысяча девятьсот семьдесят первого года выдалась теплая и веселая. Студенты пятого курса факультета журналистики нервно курили: «Меньше тройки не дадут, дальше Сахалина не направят».
На самом деле, распределение, изощренный вид торговли литрабами, прошумело месяца за два до этих дней. Так что господа выпускники ходили, поплевывая, билет в один конец им был обеспечен в любом случае. Даже, если, невероятно,
но факт, дипломная работа не будет защищена, как и произошло со мной, когда,
прочитав пять толстенных томов служебной переписки Интервидения и, не написав
ни единой строчки, я счел за благо не явиться на защиту. То есть получил меньше
тройки. И все равно эти гады из отдела кадров тогдашнего всесоюзного
телевидения гнали меня в Курск, оскорбляли, заявляя, что я за бабью юбку
держусь (а я был женат на москвичке и, как оказалось, удачно), и вообще: «Где
моя комсомольская совесть?!!». На что я резонно отвечал, что выбыл из рядов
славного ВЛКСМ еще в 1968 году, по возрасту.
Чиновники разинули рты, но говорить уже было нечего. Я это так, от злобы, вспоминаю: попортили они мне нервы.
Был день массовой защиты
дипломов. Почти возле каждой аудитории нервно курили дипломники, шли к двери
как на Голгофу и вылетали пулей раскрасневшиеся. Надо было ждать оценки,
обнародования решения закрытого заседания экзаменационной комиссии.
Не помню темы диплома Славы Буторина, темы диплома Славы Ковалева, темы диплома Гриши Манюка.
Знаю твердо одно. Отмечать праздничное событие поехали в Парк культуры имени Горького, в пивную Мекку, в ресторан «Пльзень», где пиво было настоящее, чешское, из алюминиевых
двадцатипятилитровых бочонков, не какое-то двадцатикопеечное «Жигулевское». Мы
раздухарились. Каждый рвался платить за очередную порцию заношенных граненых
кружек.
Я тоже рвался заплатить.
Но мне дружно заявили: «Ты не защитник диплома, мы угощаем!» Пили, закусывая
мокрыми креветками, солеными сухариками, шпекачками.
Время летело незаметно.
Пиво лилось рекой. Вокруг радовались жизни другие компании. Мы были молоды и
любили друг друга.
– Ты будешь фотографом! –
заявил вдруг я, пустив к потолку струю явского дыма и ни на кого особенно не
намекая.
– Дурак! – ответили сразу
двое: Гриша Манюк и Слава Ковалев. – Я и так уже фотограф.
– Ты, Григорий, не
фотограф, твой дрянной увеличитель давно принадлежит мне, – парировал я.
– Ладно, ладно, – примирительно сказал Слава Буторин. – Все будут фотографами. Кроме меня…
– Почему? – недоумевали мы.
– Потому что я подписал распределение в
Газету, буду читать письма.
– Чьи письма? Тебе будут писать письма в газету? – совсем запутались мы.
– Да не мне, не мне, а Газете, – терпеливо ответствовал наш друг.
Мы пили, разглагольствовали, глотали креветочное мясо, хрустели сухариками и набрались в итоге под завязку. Каждый опустошил пятнадцать кружек драгоценной влаги.
Каждый пять или шесть раз удалялся: «Пардон! По малой нужде…» Каждый, но не я. Мне было жалко терять нить
сумбурных разговоров, а только сумбурные разговоры и бывают особенно интересны.
Идти в банальную уборную вместо…
– Слушай, старик, я
больше не выпью…
– А я тоже не-а…
– И я!
– И я!
Вдруг мимо нас потащили картонные коробки с польским пивом, бутылочки 0,33.
– Давай попробуем, а? – промычал кто-то.
– Ну, давай по одной.
– Официант! Нам по одной!
Пиво было как пиво, но в честь польско-чехословацкой дружбы было решено взять ящик и гордо удалиться на
Ленгоры, в общагу.
Платил я, но за половину в общежитии обещал отдать деньги и Славик Ковалев. В тачке же (десять копеек за
километр) договорились: треть ящика взял на себя Григорий. Буторин в сделке не
участвовал.
Весь народ обретался в девятиэтажном корпусе «Д». Я же – чуть-чуть дальше, в одиночном номере корпуса
«Б». В отдельном, по причине особых заслуг перед партией и народом. Вы
спросите: «Каких?» – не скажу!
Итак, веселой ватагой мы потащились в корпус «Д».
Лифт, шестой этаж, блок Славы Ковалева, передышка.
Слава и Гриша побежали искать собутыльников, я от нечего делать заглянул к Мастеру на седьмой.
Мастер заслуживает отдельного абзаца. Во-первых, он был крупнее меня и выше на голову, во-вторых, он был мастером спорта по борьбе, в-третьих, его фамилия была Мастеренко, в-четвертых, в его комнате стоял телефон…
– Привет, Виктор! Ну, как?
– Да никак. Раздавили с ребятами «Старку». Хочется еще.
– Да? Будешь пиво?
– Врешь! – подначил Мастер.
Я развернулся и пошел на седьмой за своей пивной долей.
В комнате Славика яблоку
было некуда упасть. Все ждали хозяина. Я объяснил программу. Мне не поверили.
Даже Вали Мухаммед, которому я помог жениться на Эльке Икаевой, твердил: «Без
Славика нельзя». Гриши тоже не было. Я вначале схватил в охапку семь бутылочек,
повернул к Мастеру.
В предбаннике мастерского
блока меня таки настиг преследователь с бородой, и – какая
предусмотрительность, – с пустым портфелем для моего пива.
На шум скандала – а я был
готов драться – выскочил из комнаты Мастер и, мгновенно не поняв ситуации, взял
меня железной борцовской хваткой. Он поверил чужаку с бородой, а мне – нет.
Затащив меня к себе, он
запер дверь ключом и начал мирные переговоры. Болтал много и долго. Я почти не
участвовал в диалоге. Наконец Виктору надоело болтать, да и, поверив в свою
могучую силу убеждения, он спросил: «Ты успокоился?» Я кивнул утвердительно.
– Не пойдешь качать права?
– Не пойду.
– Ну, давай я тебя провожу.
Он вывел меня в холл, вызвал лифт, нажал кнопку первого этажа, дождался, пока автоматические двери захлопнутся.
Я же не доехал до первого этажа и тут же нажал кнопку шестого.
В комнате Славика было много пустых пивных бутылок и ни одного человека. Я недоумевал. Я бесился. В это время в дверном проеме появилась фигура восточного человека, мужа сестры Славика.
– Ты что здесь делаешь? - спросил восточный человек.
– Мммое пиво! - только и смог я из себя выдавить.
– Где пиво? Я вижу только пустые бутылки.
Я, в ответ на невинную реплику, распоясался окончательно – и начал методично разбивать бутылку о бутылку…
Восточный человек только ухмылялся.
Я тоже пришел в себя и, взяв веник, попытался подмести хоть какие- то стеклянные осколки. Меня шатало. Я был взволнован. Я был пьян.
Восточный человек отобрал
у меня веник. Делать было нечего, надо было уходить.
Я ушел, но не домой. Тянуло на подвиги.
Примечания.
Слава Буторин был вначале в отделе писем Газеты, (конечно, «Правды»), потом в отделе писем ЦК КПСС.
Гриша Манюк работал в Одессе, Кишиневе, Ленинграде. Снимал документальные фильмы. Теперь живет в Германии.
Слава Ковалев стал отличным фотографом, издателем, работал в Алма-Ате.
сундука», №7, 2008 г.
Метки: Дальний свет факультета, МГУ. журфак, 40 лет спустя, Рукописи из сундука
009. Сундук № 10. А. Андронов. У истоков Школы юного журналиста
© Рукописи из сундука. № 10. М., 2011
Нам 40 лет. К юбилею выпуска 71-го года.
Александр Андронов. У истоков Школы юного журналиста
В конце шестидесятых годов по коридорам нашего факультета пробежала волна вдохновения. Заблистала творческая студия «Грезы», мотором которой были студенты нашего курса – Сергей Грызунов, Борис Берман, Александр Юриков и Борис Шихмурадов. Ребята писали острые тексты на «злобу дня» и ставили спектакли в стилистике театра на «Таганке», что вызывало восторг у студентов и раздражение у блюстителей основ. К сожалению, студия существовала недолго. Но творчество Грез» осталось в памяти журфаковцев тех лет.
Более долговечным оказался другой факультетский проект – Школа юного журналиста, которая действует и поныне. В ее становлении активно участвовали студенты нашего курса.
А дело было так. Сначала всевозможные школы и курсы молодых физиков, химиков, биологов, математиков возникли при естественных факультетах МГУ. Старшеклассники были весьма довольны приобщением к университетской среде. На одном из заседаний бюро комсомола нашего факультета кто-то рассказал об этих школах, заметив, почему бы и нам не попробовать? Были сомневающиеся: одно дело, точные науки, а другое – журналистика, процесс творческий, да и вообще, как бы чего не вышло. Возглавлял в те годы факультетскую комсомольскую организацию Александр Суяров. В отличие от пародийных розовощеких комсомольских вождей, это был честный трудяга, умный парень и все дельное поддерживал. Позже он преподавал на факультете и написал «Историю журналистики русского
зарубежья». Добрые слова можно сказать и о его преемнике Викторе Онучко,
который стал известным журналистом, собкором «Комсомолки» в Париже. Конечно,
требовалось согласие руководства факультета и парткома. Суяров рассказал об
инициативе декану Ясену Николаевичу Засурскому и секретарю парткома Сергею
Ильичу Стукалину. На позор скептикам, оба руководителя дали добро, пообещали
помощь и поддержку.
Руководителем школы бюро комсомола утвердило студента-старшекурсника Илью Суслова. Мне, как члену факультетского бюро комсомола, было поручено курировать начинание. Надо сразу сказать, что Илья был человеком с особенностями. Вот как его охарактеризовал психолог и преподаватель МГУ В.В. Шахиджанян: «У нас на факультете журналистики учился хронически больной молодой человек. Илья Суслов. Он еле-еле ходил, не выговаривал многих звуков (слушать его было мучительно, ибо он не произносил слова, а мычал). Это все последствия перенесенного в детстве полиомиелита, других болезней. Но Илья терпеливо учился, преодолевая недуг, много читал для себя. Он мечтал о телевидении – и стал там работать, конечно, не в кадре. Занимался космосом, создавал фильмы, писал книги, объездил мир. У него была очаровательная жена и замечательные дети.
Вместе с тем, надо сказать, что имя первого руководителя ШЮЖ Ильи Суслова сейчас упоминают нечасто. На то есть веские причины. Спустя полтора десятилетия (в 1986 году) Илья был осужден за продажу зарубежным спецслужбам секретных материалов,
касающихся космического корабля «Буран». Военный трибунал признал Суслова
виновным «в измене Родине в форме шпионажа, в подстрекательстве к даче взятки и
в нарушении правил валютных операций, приговорив его к 15 годам лишения
свободы. Определяя такую меру наказания, суд принял во внимание, что Суслов в
содеянном чистосердечно раскаялся. О дальнейшей судьбе Ильи ни мне, ни моим
знакомым не известно. Вот такая нехорошая и печальная история.
Мы с энтузиазмом взялись за организацию работы Школы юного журналиста.
Сразу определили для себя, что ШЮЖ – это не подготовительные курсы для поступления на факультет. Такие курсы уже существовали и там за плату школьников готовили к вступительным экзаменам по русскому языку и литературе, истории и иностранным языкам.
Что же касается ШЮЖ, то это была своего рода школа профориентации, предварительного знакомства с профессией для учащихся 9-ых и 10-ых классов, площадка, где школьник в течение года-двух мог определить для себя, подходит ли ему эта профессия. Сейчас ШЮЖ характеризует себя красиво и амбициозно – «Школа-студия по журналистике». В то время столь высокую планку мы поставить перед собой еще не могли.
Работа была творческая, дискуссии разгорались по любому поводу. Например, как назвать: школа молодого журналиста или школа юного журналиста? Одни спрашивали, почему «юных»? – это ведь старшеклассники, а не дети, к тому же ШЮЖ звучит неблагозвучно: словно как чушь какая-то. И тогда кто-то ввернул «неотразимый» аргумент. «А как будут называться слушатели школы: «шюжики» – весьма симпатично, а то – «шэмэжики» какие-то?».
Слово «юные» было принято и такое название школы существует уже более сорока
лет. Или как величать начальство – директор, руководитель. Тут уж Илья стоял
насмерть – ректор. Ректор школы? Да, ректор школы. В университете будет два
ректора: ректор МГУ академик Петровский и я, ректор ШЮЖ Илья Суслов.
Посмеялись. Но так и повелось.
Те, кто занимался созданием любых новых структур, знает насколько это хлопотно. Нам нужно было оформить необходимые документы, сформировать команду преподавателей, договориться о помещениях, организовать прием и т.д. Вскоре стало ясно, что одному человеку это не под силу. Илья обратился с просьбой к руководству факультета, чтобы на пару с ним в руководстве школы работал человек, отвечающий за организационные дела. Выбор пал на меня. Как пятикурсник, Илья все больше погружался в работу на телевидении, в школе появлялся все реже. И перед тем как окончательно покинуть факультет, он провел общее собрание преподавателей ШЮЖ, где тайным голосованием ректором Школы юного журналиста избрали меня. Возглавлял школу я два года, до весны 1972.
Хотя созданием ШЮЖ по праву гордятся выпускники 1970 года, основная нагрузка, связанная со становлением школы легла на студентов следующего, т.е. нашего курса.
Как была организована работа в те годы. Высший орган – Совет школы – возглавлял профессор И.В. Кузнецов. Собирался совет два-три раза в год. Его задача – координация работы и помощь в решении сложных вопросов. На расширенном заседании совета (с участием всех сотрудников школы) тайным голосованием избирался ректор. Нам помогали авторитетные преподаватели Р.А. Иванова, Э.Г. Багиров, Э.А. Лазаревич. А вот непосредственно работу, в том числе лекционную, организовывали ректор, его заместитель, руководители двух отделений – газетного и телевидения. Занятия проводились дважды в неделю. В Школе, естественно, на общественных началах, трудилось до сорока студентов, а в слушатели записывалось до двухсот парней и девушек, правда, к весне треть отсеивалась.
Практически всю работу вели студенты. Возрастная дистанция между преподавателем и учеником была небольшая – лет пять-семь, и это порождало особую атмосферу взаимоотношений, дух товарищества и доверия. Студенты рассказывали школьникам о профессии, помогали написать и опубликовать материалы, готовить сюжеты в учебной телестудии.
Сейчас, насколько мне известно, в ШЮЖ работают в основном преподаватели
факультета. В этом, конечно, есть резон. Уровень лекций, вероятно, вырос,
повысилась стабильность – в те годы после диплома большинство студентов
покидало и ШЮЖ. И все же что-то ушло, наверное, ощущение принадлежности к
одному поколению.
Искали, как поддержать школьников при практике в прессе, обеспечить им свободный путь на презентации, в музеи и на выставки. Решили сделать внушительное удостоверение. Разработали дизайн-макет. На темно-коричневой обложке с одной стороны – аббревиатура «ШЮЖ», а с другой – крупными золотыми буквами – «ПРЕССА». Внутри тоже по-взрослому: фотография и типографский текст-просьба оказывать содействие в сборе материала для публикаций. Придумать-то придумали, а как сделать? Это ведь не нынешние времена, когда на складном стульчике в подземном переходе можно купить удостоверение хоть генерала, хоть бомжа. В те времена даже эти три строки печатного текста нужно было «литовать», т.е. пройти цензуру в Главлите – органе по охране государственных тайн в печати. Наконец, разрешение получили, вкладыш напечатали в факультетской типографии, а где сделать корочку с золотым тиснением? Ткнулись в одну типографию, в другую – а там везде плановая экономика, несите, говорят, официальное письмо, и постараемся включить в план следующего года. Путь оставался один – договориться напрямую с рабочим классом. Общий язык нашли при помощи универсального по тем временам платежного средства – нескольких бутылок красного вина. Через пару дней наши слушатели были обеспечены «вездеходками» – они могли посещать различные городские мероприятия и писать. Правда, стали доходить слухи, что кое-кто стал злоупотреблять полномочиями, например, норовил бесплатно проникнуть на ВДНХ, чтобы спокойно попить пива. Но это были лишь слухи или клеветническая правда.
Костяк Школы юного журналиста в те годы, как я уже сказал, состоял именно из студентов нашего курса: я – ректор, Сергей Жупанов – заместитель, Николай Плиско – руководитель газетного отделения, Володя Дегтярев, Саша Егоров, Слава Буторин и Толя Жиров – ведущие лекторы и преподаватели.
Слушателям очень нравились лекции Володи Дегтярева. Эмоционально, с подъемом он рассказывал о выдающихся журналистах двадцатого века: о Михаиле Кольцове и Ларисе Рейснер, об Эгоне Эрвине Кише и Юлиусе Фучике, об Илье Эренбурге и Константине Симонове, Анатолии Аграновском и Василии Пескове. Володя был лет на пять старше однокурсников, но при этом сохранил какой-то юношеский, даже подростковый, задор и восторженность, он буквально заражал окружающих оптимизмом. Зал на его лекциях всегда был полон.
Семинары с теми, кто интересовался газетной работой, вел Николай Плиско, ставший впоследствии переводчиком с польского языка и писателем приключенческого жанра. Николай выделялся, с одной стороны, остроумием, а с другой – открытостью и прямодушием.
Помню, он как-то повеселил нас, одногруппников, на зачете по зарубежной
литературе. Всеми любимая Елизавета Петровна Кучборская иногда спрашивала, а
кто Ваш любимый писатель? Методом проб и ошибок студенты установили, что
называть надо любимых преподавателем Гомера, Рабле, Золя и Бальзака. И те, кто
знал эти имена, в глазах Кучборской выглядели серьезными студентами с хорошим
вкусом. Соответственно «интеллектуалы» получали достойную оценку. Выпал такой
вопрос и Николаю. Надо сказать, что у него были тонкие аристократичные черты
лица, вид потомственного интеллигента, и такой человек, конечно же, должен был
дать правильный ответ. Но Коля, то ли не знал пристрастий лектора, то ли и в
этой ситуации решил остаться самим собой и ответил:
– Джек Лондон.
– Кто? – переспросила Кучборская в изумлении.
Николай повторил фамилию
знаменитого американского писателя. Обомлев от такой дерзости, Кучборская
широко открыла глаза и уставилась на Плиско, ибо американской литературы для
нее в принципе не существовало. Мы тоже застыли. У Елизаветы Петровны был
взрывной характер – она могла и зачетку швырнуть, и высказаться весьма ядовито.
В данном случае, она молча взяла синенькую книжечку, что-то записала и вместо
того, чтобы сказать студенту: «идите» – сама тут же покинула аудиторию.
«Покажи, что написала?», – ринулись мы к герою. «Зачет», – спокойно ответил тот.
Все облегченно вздохнули. А вот, если бы Николай «подыграл» преподавателю, то
получил бы еще и восклицательные знаки. Кучборской дозволялось пачкать зачетки
экспрессивными знаками. Ими даже гордились.
На семинарах в ШЮЖе Николай вместе со слушателями разбирал их творческие опыты. Но вот однажды с утра меня разыскивает секретарь декана, звали девушку, кажется, Зоей, и срочно вызывает к Засурскому. Ясен Николаевич озадаченно на меня смотрит, и говорит: «А что, Александр Сергеевич, у вас в школе и о марксизме дискуссии ведутся?» Я в недоумении:
«Нет, такого предмета у нас нет». «А вот мне звонят родители одного из
слушателей и говорят, что вчера не семинаре Плиско выразил несогласие с
основоположниками», наседает декан. «Разберемся», – обещаю я. «Да уж, будьте
любезны», – просит Засурский. Выяснилось, что во время семинара кто-то из
школьников привел цитату из Карла Маркса (тогда даже дети зубрили основоположников),
а Николай как-то так по-вольнодумски ответил, что, мол, и тот мог ошибаться.
Школьник с восторгом пересказал этот диалог дома родителям, а те, уже без
всякого восторга, тотчас через знакомых разыскали номер домашнего телефона Я.Н.
Засурского и наябедничали ему поздно ночью. Новым поколениям, конечно, не
понять, что за горячка. Но не надо забывать, что родители и родители родителей
тех школьников выросли во времена, когда за такую невинную «политику» легко
можно было улететь в тартарары. Конечно, в брежневщину режим смягчился, но и в
те годы за такую «крамолу» могли серьезно наказать. Напомню, что преподававший
на нашем курсе социолог Юрий Левада был отстранен от преподавания именно из-за
несоответствия его взглядов марксизму-ленинизму. Следили за этим соответствующие
органы весьма бдительно. Так что приходилось и нам в те годы не особо отклоняться
от «генеральной линии».
Вместе с Николаем занятия в
газетных группах вел Сергей Жупанов. Уже в те годы он выглядел весьма солидно,
носил костюмы, рубашки с галстуками. Разумеется, брюки были отутюжены, ботинки
блестели. Напоминал он, скорее, студента МГИМо, нежели нашего, несколько
бесшабашного журфака. Внутренняя дисциплина и серьезность Сергея проявлялись и
на занятиях в школе. Готовился он к семинарам ответственно, давал большой объем
информации и на зачетах-экзаменах требовал знаний. Обстоятельный склад
характера и ума привели Сергея впоследствии в аналитическое управление
Администрации президента, а потом и в НИИ Госбанка России.
Назову еще несколько имен наших
однокурсников, работавших в ШЮЖ. Это – Саша Егоров, он помогал и в
организационных делах, и в проведении занятий. Саша по натуре был максималист.
Если дружил, то по-настоящему, бескорыстно, если любил, то до самоотречения.
Помню, он как-то отжимал штангу на занятиях по физкультуре – уже казалось все,
нет сил, но он еще и еще раз отталкивал ее от груди, еще раз… потом лежал в
изнеможении, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. К сожалению, в 90-годы,
работая на пределе сил, Саша сгорел, скончался в сорок с небольшим лет.
Со школой юного журналиста
связана судьба и Вячеслава Буторина. Он вел спецкурс по очерку. До факультета,
насколько я помню, он отслужил в армии, несколько лет работал в районных и
областных газетах. Он понимал реальную жизнь, конечно, глубже многих из нас,
поступивших на факультет сразу после школы. На семинарах у Славы было многолюдно, он рассказывал о ремесле журналиста с глубоким знанием дела. После окончания факультета работал в газете «Правда», а потом в ЦК КПСС. В конце восьмидесятых, когда мы по работе пересеклись с Вячеславом, он уже достиг должности, стал заместителем руководителя подотдела писем. Время было переломное. От негативных эмоций ему прямо на работе стало плохо, разбил паралич. Вячеславу тогда не было и пятидесяти.
И еще об одном нашем однокурснике, стоявшем у истоков Школы юного журналиста, – об Анатолии Жирове. До факультета он получил театральное образование и работал актером. Анатолий профессионально разбирался в вопросах культуры, а если к этому прибавить мастерство подавать материал, то ясно, что слушали его, открыв рот. Фактически это были не лекции, а театр одного актера. В последующие годы Анатолий Жиров трудился начальником управления Министерства культуры РСФСР, возглавлял отдел в аппарате Совмина России. Несколько лет назад мы с ним случайно повстречались на одной из художественных выставок. Оказалось, что на пенсии Анатолий взялся помогать молодым талантам-живописцам, продвигая их работы на различные выставки. Делал это он практически бесплатно, для души.
Постепенно на смену нашей команде стали подтягиваться студенты младших курсов. Наверное, самый известный из них сегодня – это Юрий Щекочихин. Тогда ему было лет двадцать, но он уже прогремел на всю страну, как автор и создатель «Алого паруса» – целевой полосы о жизни подростков в «Комсомольской правде». На занятиях в ШЮЖ Юра помогал школьникам выбрать актуальную тему и интересно ее подать. Несколько слушателей ШЮЖ стали авторами «Комсомолки».
Уже в те годы проявился мощный интеллект Иосифа Дзялошинского, ставшего со временем автором трех десятков книг по вопросам коммуникативистики. В ШЮЖ он вел курс теории журналистики. Иосиф возглавил школу после моего ухода.
Немало для Школы сделали в те годы Юрий Ефименко, Татьяна Алексеева, Никита Банцекин, Валя Тюрина, Марина Островская, Надя Минаева…
В начале учебного года мы проводили общее собрание (родители плюс слушатели). Чтобы сделать это событие
значимым, обратились к руководству Дома журналистов и нам задарма предоставили
зал на Гоголевском бульваре. А вот выпуск приурочили к ежегодному дню встречи
выпускников факультета – тогда это было 4 мая. В битком набитом зале
студенческого театра МГУ, сейчас это вновь церковь святой Татьяны, вручили
удостоверения об окончании ШЮЖ.
О притягательной атмосфере Школы
говорит тот факт, что поступившие на факультет ее выпускники не утрачивали
связь с ШЮЖ и участвовали в ее работе. Хорошо помню одного из них – Андрея
Воронкевича. Поступив на факультет, он энергично включился в работу ШЮЖ. А
запомнился мне Андрей, прежде всего, тем, что, успешно окончив первый курс,
добровольно пошел служить в армию – так уж его воспитали. Студенты и шюжевцы
были приглашены к нему в дом, где познакомились с семьей, с дедушкой –
генералом, героем войны, И, не скрою, знатно погуляли на проводах новобранца.
Думаю, что Школа юного журналиста уже стала неотъемлемой частью факультета журналистики МГУ, и приятно, что наш курс имел к этому отношение. Словом, и в застойные времена были дельные проекты.
Апрель 2011
Метки: Рукописи из сундука, 40 лет спустя, МГУ. журфак, Дальний свет факультета
008. Рукописи из сундука. № 10. К выпускникам 1971 года
© Рукописи из сундука. № 10. М., 2011
40 лет
К выпускникам 1971 года
В 1966-м году возникло наше студенческое сообщество, которое существует и ныне, хоть миновало 40 лет, как мы получили дипломы. Кто-то приходит на ежегодные встречи выпускников, а юбилейные годы собирают многих. Десятилетие нашего выпуска мировая пресса отметила скромно. Вышел специальный номер газеты «Журналист». В наше двадцатилетие журналистам страны было не до юбилеев. Кто вклинился в политическую борьбу, кто спрятался. А вот в 2001-м году, к тридцатилетию окончания нами университета, увидел свет альманах «Дальний свет факультета». Это сделал наш признанный энтузиаст Александра Митько, заручившись поддержкой многолетнего декана, а ныне президента факультета Я.Н Засурского, нынешнего декана Е.Л. Вартановой и других преподавателей. Он смог подвигнуть на бескорыстный труд ради сохранения исторической памяти десятка два сокурсников. Но и этого Митько оказалось мало. Дело продолжили ежегодные сборники «Рукописи из сундука». В них публикуются опусы студентов разных лет, но альманах делается силами в основном нашего курса.
Сейчас Вы держите в руках уже 10-ый номер. Это похоже на мировой рекорд.
А юбилейный сборник, увы, изменил название, На сей раз, он зовётся «Дальний свет факультета. 40 лет спустя».
С праздником, однокашники образца 1971 года!
Метки: Дальний свет факультета, МГУ. журфак, 40 лет спустя, Рукописи из сундука
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу