ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
01-04-2012 20:37
(ссылка)
КОГДА И ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА РАСЫ?
КОГДА И ЗАЧЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА РАСЫ?
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА РАСЫ?
Антропологи
считают, что разделение на большие (главные) человеческие расы (белую, черную
и желтую или европеоидную, негроидную и монголоидную) произошло не раньше,
чем 200 тыс. лет назад и не позже чем 20 тыс. лет назад. Вероятнее всего это
был длительный период целиком охватывающий все 180 тыс. лет. Как это
происходило, пока точно не знает никто. Но, возникает другой не менее важный
вопрос – зачем было необходимо Природе
это разделение?
Вероятная
прародина человечества была довольно обширная и включала значительную
территорию Африки, Южной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии. Следует
отметить, что Америка и Австралия были заселены проникшими из Азии людьми
современного физического типа не ранее 30-35 тыс. лет. назад.
Предполагается, что сначала от общего древа отделилась монголоидная
раса, а потом евроафриканская разделилась на европеоидную и негроидную. Хотя
есть и другие гипотезы.
Раз Природа
решила разделить человечество на расы, естественно напрашиваются вопросы.
Есть ли среди них расы «первого» и «второго» сорта? Какие черты объединяют
людей в единое человечество? Какие черты разделяют их на расы и
национальности? И другие не менее важные вопросы …
Самое интересное
состоит в том, что расы действительно отличаются друг от друга не только
цветом кожи и формой глаз. И современные антропологи нашли большое количество
таких различий (по форме головы, величине мозга, группе крови и др.). Характеризует ли вес или размер мозга
умственные способности? Можно ли по этому признаку противопоставить одну расу
другой? Может быть в этом и
заключается вся суть этого разделения – в историческом противопоставлении
одной расе другой, в интеллектуальной, например, борьбе за выживание вида. То
есть одна «деградирующая», а вторая, например, «развивающаяся»; одна «хуже»,
а другая «лучше»; одна «выше», другая – «ниже» (теория «высших и низших
рас»). Ответ на первый взгляд кажется очевидным, если бы не одно но! Мы об
этом уже говорили в предыдущем разделе. Разум - основная функция мозга и
степень его развития. При этом, говоря о том или ином уровне Разума,
понимается не насколько мозг того или иного существа (представителя той или
иной расы) больше или меньше, а насколько он успел проэволюционировать.
Вспомним, что мозг взрослого человека весит в среднем всего 1.4 кг, а слона,
например, 4-5 кг. У неандертальцев вес мозга был большим, чем у современных
людей. Вряд ли они, однако, были умнее нас с вами. О том, что вес мозга не
характеризует умственного превосходства расы, говорят такие цифры: средний
вес мозга у англичан – 1456, французов – 1473, а индейцев Америки – 1514
граммов.
Мозг всемирно
известного писателя Анатоля Франса весил всего 1077 граммов, тогда как у
нашего не менее знаменитого писателя Ивана Тургенева достигал 2012 граммов.
Все это говорит о том, что размер мозга нам не поможет ответить на вопросы о
путях и целях разделения человечества на расы.
А что нам
может подсказать анализ крови? Оказывается группа крови в той или иной
степени так же может характеризовать расовую принадлежность людей. Учеными
установлено, что людей со второй группой крови больше всего в Европе и совсем
нет в Южной Африке, Китае и Японии; третьей группы почти нет в Америке и
Австралии; из русских, четвертую группу крови имеют менее 10% населения и
т.д. Это позволило, кстати, сделать в настоящее время много важных и
интересных открытий, к примеру, как шло заселение Америки.
Археологи,
много десятилетий искавшие следы древних цивилизаций и человеческих культур в
Америке, должны были констатировать, что люди появились здесь сравнительно
поздно – всего около 30 тысяч лет назад. И произошло это первоначально в
районе Берингова пролива, откуда сравнительно медленно «аборигены»
передвигались на юг, вплоть до Огненной Земли. Причем, среди коренного
населения Америки нет людей с третьей и четвертой группами крови.
Что еще по
этим вопросам нам может сообщить современная наука?
Мы знаем, что человечество как биологический вид
отделилось от мира животных достаточно давно. Считается, что кожа у первых
людей вряд ли была очень темная или очень белая, причем у одних она могла
быть несколько белее (!?), а у других – темнее (!?). Остальное сделали, как
считает большинство ученых, природные условия, в которых оказались те или
иные группы людей. Как же это было?
Какая-то
часть от общего древа человечества оказалась в условиях тропического пояса.
Здесь беспощадная солнечная радиация легко обжигало обнаженную кожу человека.
Но «обжигать», как мы знаем, могут только ультрафиолетовые лучи. Вот от
них-то и ставит наружный покров человека щит пигментной окраски в виде черной
кожи. Причем, опыт показывает: белокожий человек несравненно быстрее получает
солнечный ожог, чем чернокожий. Поэтому лучше выживали в экваториальных
степях Африки люди с более темным цветом кожи, от которых и произошли
негроидные племена. Кроме этого, ведь не только в Африке проживают темнокожие
люди. В Индии, например, ее первообитатели – люди с очень темной кожей. В
Америке, где ее жители оказались в тропических степных районах, кожа намного
темнее, чем у их соседей, обитающих в лесах, тень которых спасает от прямых
лучей Солнца. Оказалось, что не только цвет кожи, но и многие другие
особенности негроидной расы были порождены необходимостью приспособиться к
тропическим условиям жизни. Это и курчавые черные волосы, хорошо
предохраняющие голову от перегрева прямыми солнечными лучами, и узкие
вытянутые черепа и т.д. И действительно, такую же форму черепа имеют папуасы
Новой Гвинеи, а также другие племена островов Океании. У всех этих народов и
форма черепа, и цвет кожи помогали в борьбе за существование.
А что же
европеоидная раса? Почему у нее кожа оказалась более белой, чем была у первых
людей? Здесь причина, видимо, в тех же ультрафиолетовых лучах. Без них в
человеческом организме не может синтезироваться витамин D. Кальциферолы (витамин D) влияют на минеральный
обмен веществ, на костеобразование и т.д. Особенно они необходимы в молодом
возрасте, когда идет интенсивный рост и окостенение скелета. Недостаточное
количество этого витамина в организме приводит к различным патологиям, в
частности, к развитию рахита. Кальциферолы содержатся только в продуктах животного
происхождения, как правило, бедных этим витамином.
В организме
человека синтез витамина D
происходит при солнечном облучении содержащегося в коже провитамина (который
образуется в организме из холестерина). Из кожи витамин переносится в другие
органы, концентрируясь главным образом в плазме крови и печени. Поэтому перед
живущими в умеренных и северных широтах людьми стала задача удержать как
можно больше ультрафиолетовых лучей Солнца, которых здесь явный дефицит. А
это можно, только обладая белой, прозрачной для них кожей. На счет белой кожи
европеоидной расы есть и другие версии.
Ну а что же
третья раса – монголоиды? Под влиянием каких условий сформировались ее
отличительные черты? Скорее всего, цвет кожи у них сохранился неизменным от
самых далеких предков. Он одинаково хорошо приспособлен и к жаркому Солнцу
(китайцы, корейцы, вьетнамцы …), и к суровым условиям Крайнего Севера (чукчи,
эвенки, эскимосы …). Но вот глаза у них особые и отличаются от других рас.
Вероятно, монголоиды впервые появились в районах Центральной Азии, далеко
отстоящих от всех океанов. Климат здесь континентальный – резкая разница
температур между зимой и летом, днем и ночью, да к тому же степи в этих краях
«прослоены» пустынями. Здесь постоянны сильные ветры, почти непрерывно дующие
и несущие огромное количество мелкого песка и пыли. А зимой здесь сверкающее
полотно бесконечных снегов. И сегодня путешественники попадая в такие районы
одевают защитные очки, т.к. наши глаза не приспособлены к этим условиям.
Узкие щелочки глаз – важная отличительная черта монголоидов. Вторая
отличительная черта – маленькая кожная складка, прикрывающая внутренний угол
глаза. Она также помогает уменьшить попадание пыли в этот важнейший орган
чувств человека. Эту складку обычно называют «монгольской складкой». Отсюда,
из сердца Азии, и разошлись люди с выдающимися скулами и узкими щелочками
глаз по Азии, Индонезии, Австралии, Африке и т.д.
Любопытный
факт, некоторые районы Южной Африки населены бушменами и готтентотами –
народами, относящимися к негроидной расе. Однако у бушменов здесь кожа обычно
темножелтая, глаза узкие и на месте «монгольская складка».
Так под
влиянием чисто природных условий сформировались главные расы Земли. Если
приведенные рассуждения верны, значит все люди на Земле независимо от их
национальной и расовой принадлежности равны. Это, однако, не значит, что не существует расовых и национальных
особенностей, они конечно есть. Но они не определяют ни умственных
способностей, ни еще каких-нибудь качеств, которые можно было бы считать
определяющими для разделения человечества на «высшие» и «низшие» расы. И
историки это блестяще подтвердили. Еще за многие тысячи лет до рождения
Христа на широком поясе, протянувшемся из Африки и Средиземноморья через
Средний Восток, Индию и Юго-Восточную Азию до Китая, был достигнут небывало
высокий уровень цивилизации (при этом немногочисленные германские племена,
будущие представители «высшей» расы ХХв., еще жили в своих пещерах, даже не
догадываясь о своей «исключительности»). Другой пояс цивилизации несколько
позже сложился на американском континенте. Причем, в отличие от евразийского
цивилизованного пояса цепь очагов древних культур Америки протянулась не в
широтном, а в меридианном направлении, с севера на юг. Мы не будем на этом останавливаться,
т.к. они блестяще описаны уже не в одной сотне, если не тысяче научных трудов
(например, в книге известного отечественного историка Ю.В.Емельянова
«Рождение и гибель цивилизаций» и др.).
Можно
сказать, что вывод о безусловном равенстве рас, является важнейшим в
антропологии. Но здесь, как и в любой другой науке, еще много «белых пятен»,
так что ей предстоит в дальнейшем сделать немало находок и открытий.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
22-01-2012 07:02
(ссылка)
Самарские корейцы
Есть в моем мире сообщество "Самарские корейцы" http://video.mail.ru/mail/a...; По этой ссылке можно посмотреть интересное видео Александра Цой.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
01-01-2012 23:26
(ссылка)
С Новым Годом!
Дорогие Участники сообщества! Поздравляю вас с Новым Годом! Удачи вам,Здоровья,Счастья, Любви и Взаимопонимания !!! Пусть Новый год принесет вам новые радости,счастливые вести ,хорошую и интересную работу, достаток и благополучие.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
01-01-2012 23:26
(ссылка)
С Новым Годом!
Дорогие Участники сообщества! Поздравляю вас с Новым Годом! Удачи вам,Здоровья,Счастья, Любви и Взаимопонимания !!! Пусть Новый год принесет вам новые радости,счастливые вести ,хорошую и интересную работу, достаток и благополучие.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
11-12-2011 17:11
(ссылка)
о книге "Корейцы Узбекистана"
по этой ссылке можно прочитать книгу П.Г.Ким " Корейцы узбекистана" : http://uznet.biz/Han/Articles/ArticleInfo.aspx?Id=0f846dd3-a414-482a-95fb-9cbde1bf1b49
в этой книге наиболее достоверно и документально подтвержденоа история выселения корейцев с Дальнего востока.
в этой книге наиболее достоверно и документально подтвержденоа история выселения корейцев с Дальнего востока.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
10-01-2011 14:05
(ссылка)
это нужно знать и помнить
Волюнтаристская экономическая политика, проводившаяся
государством во всех отраслях народного хозяйства, привела в 80-х годах
прошлого столетия не просто к экономическому кризису, а к кризису всей системы,
из которого Советский Союз уже не смог выбраться.
Лишь немногие хозяйства даже в условиях волюнтаристской
экономики смогли успешно развивать свою деятельность. В их число, безусловно, входила
группа колхозов, созданных корейскими переселенцами в пойме реки Чирчик.
Корейские колхозы Узбекистана – один из наиболее
поразительных феноменов в истории бывшего СССР Они были созданы корейскими
переселенцами осенью 1937 года. Причем этим хозяйствам были выделены далеко не
лучшие земли. Камышовые заросли, болота, бросовые земли – вот такой престала
перед переселенцами земля, которая должна была прокормить их и их семьи. При
этом нужно учесть, что переселенцы, на которых был навешен ярлык
«неблагонадежных», были ограничены в свободе передвижений, их не брали в армию,
были ущемлены во многих других правах
Не имея порой ни техники, ни других материальных ресурсов,
они за невиданно короткие сроки не просто освоили тугаи – заболоченные солончаковые
земли, – но и стали лучшими не только в республике, но и во всем бывшем СССР
И это были не единичные хозяйства. Люди старших поколений
хорошо помнят, как гремели в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века
колхозы «Полярная звезда», «Северный маяк», имени Микояна, Молотова, Димитрова,
Свердлова, Энгельса, «Правда» и другие корейские хозяйства Ташкентской области.
Были отдельные корейские хозяйства и в других областях Узбекистана, которые
добивались столь же внушительных результатов. Это колхозы имени Сталина (позже
он был переименован в «Коммунизм», а затем – в «Вазир») и «Гулистан» Хорезмской
области, имени Карла Маркса Самаркандской, «Гигант» Наманганской областей и др.
Чем же объяснить взлет корейских колхозов?
Практически во всех публикациях, посвященных истории и
современной жизни корейцев СНГ, говорится о самоотверженности и трудолюбии
корейцев, их сметливости, образованности и других достоинствах и что именно эти
качества способствовали и способствуют их успешной жизнедеятельности. Наверное,
в этих утверждениях есть какая-то доля истины. Но лишь доля!
В принципе такие качества можно приписать любому другому
народу. Были, вероятно, другие, более глубинные причины, которые заставляли
корейцев работать больше и лучше других, стремиться стать более образованными
и жизнеспособными. И причины эти следует искать в психологии корейцев бывшего
СССР
Психология эта начала формироваться с тех пор, как корейцы
во второй половине XIX века стали переселяться в российское Приморье. Уже тогда
отношение властей, да и русских колонистов, было весьма неоднозначным – от
благожелательно-равнодушного до полного неприятия «желтой опасности», если
следовать терминологии некоторых чиновников того времени. И, чтобы выжить, адаптироваться
в этой чужеродной, порой враждебной среде, чтобы «снискать» лояльное отношение
к себе со стороны местных властей, русских колонистов, корейские переселенцы
должны были работать больше и лучше других.
И они работали больше и лучше других. Этим и можно
объяснить тот факт, что корейские села в Приморье еще в царские времена были
обустроены лучше русских сел, а корейские поля были возделаны лучше русских. Об
этом свидетельствуют донесения царских чиновников.
Этот синдром инородца преследовал корейцев и в последующие
десятилетия, в особенности до и после депортации 1937 года. Весь трагизм людей
того поколения состоял в том, что они всецело приняли идеи Советской власти, сражались
за нее на полях гражданской войны, первыми в Приморье стали создавать колхозы, которые
функционировали весьма успешно.
Но, несмотря на это, сталинский режим депортировал все
корейское население из Приморья в Центральную Азию. «В целях пресечения
японского шпионажа», как было сказано в постановлении ЦК ВКП (6) и Совета
Народных Комиссаров СССР от 21 августа 1937 года.
«Работать и учиться больше и лучше других!».
Этот лозунг стал неписаным законом для корейских переселенцев
и в Узбекистане. И этот лозунг они стали претворять в жизнь с первых
дней жизни на чужбине, которая станет родиной для их детей и внуков. В ушах еще
был слышен тревожный перестук колес поезда, а переселенцы уже вгрызались в
тугаи чирчикского левобережья, чтобы подготовить болота под урожай 1938 года. А
старики, женщины, дети рыли землянки, в которых им предстояло пережить первую
зиму на новой земле.
Потом была война, когда весь урожай приходилось отдавать
фронту, а самим питаться корой деревьев, зерном курмака (сорного злака), отвером
(рисовой шелухой), лебедой. Тем не менее, уже через несколько лет, корейские
колхозы стали становиться на ноги. Об их успехах заговорили в газетах, по радио,
на съездах и конференциях. Потом на корейские колхозы посыпался настоящий
золотой звездопад. Начиная с 1948 года, когда среди Героев Труда появились
первые корейские имена, и кончая 1957 годом, около 130 узбекистанских корейцев
были удостоены этой высшего в бывшем СССР звания. И в дальнейшем корейцы
вносили и вносят заметный вклад в экономическое и культурное развитие
Узбекистана.
Безусловно, их успешной адаптации на новой земле
способствовало и радушие и гостеприимство местных жителей, которые, несмотря на
собственные трудности, делились с переселенцами последним куском хлеба. Очень
важно и то, что у корейцев и узбеков очень много общего и в образе жизни, и в
беззаветной любви к земле, и в отношениях в семье.
На пресс-конференции, посвященной итогам государственного
визита Президента Республики Корея Но Му Хена в Узбекистан (10-12 мая 2005 года)
глава нашей республики Ислам Каримов и в шутку и всерьез заметил, что Сталин за
время своего правления совершил один-единственный хороший поступок: переселил
корейцев из Приморья в Узбекистан. Тем самым Президент отметил вклад корейцев, который
они внесли в развитие Узбекистана.
Второй причиной взлета корейских колхозов стало то, что
именно в те годы из рядов переселенцев выдвинулась целая плеяда блистательных
организаторов сельхозпроизводства. И позже, в 60-х годах, эта плеяда
пополнялась новыми, не менее блистательными руководителями.
Их имена хорошо были известны старшим поколениям. Хозяйства,
возглавляемые ими, располагались в основном в трех районах Ташкентской области:
Верхнечирчикском (ныне
Юкоричирчикском) – «Узбекистан» (Цой Август Романович), «Правда» (Цой Иван
Антонович), «Политотдел» (Хван Ман Гым), «Ленинский путь» (Эм Терентий
Васильевич), имени Свердлова (Ким Дмитрий Александрович);
Среднечирчикском (Уртачирчикском) – «Полярная звезда» (Ким
Пен Хва), «Северный маяк» (Цой Сергей Григорьевич);
Нижнечирчикском – имени Димитрова (Шин Ден Дик), имени
Буденного (с 1962 года – «Заря коммунизма» – Тин Чан Ен, имени Энгельса (Хан
Валентин Андреевич).
Были замечательные организаторы сельхозпроизводства из числа
корейцев и в других регионах Узбекистана. Это Ню Гван Сен (имени Сталина
Гурленс- кого района Хорезмской области), Николай Васильевич Ким (директор
совхоза имени Аль-Хорезми Хорезмской области), Лим Мен Гык («Гигант» Задарьин- ского
района Наманганской области) и др. Каждый из них был яркой, самобытной
личностью, но всех их объединяло одно – искреннее, бескорыстное служение людям,
народу, который приютил их. Наверное, было и стремление доказать властям, в том
числе и тем, кто принимал решение о депортации, свою лояльность к Советскому
государству. И доказательства эти были весьма вескими. Достаточно сказать, что
в «Полярной звезде» звания Героя Труда были удостоены 26 колхозников, колхозе
имени Димитрова – 22, имени Свердлова – 20, имени Микояна -18, имени Буденного -16,
«Правде» -12. Столь массового присвоения звания Героя Труда не знала история
советского сельского хозяйства.
В 50-60 годах прошлого века между корейскими колхозами
существовало негласное соревнование: какое хозяйство добьется большей
урожайности кенафа или хлопка, у кого лучший дом культуры, чья футбольная
команда сильнее. И это была здоровая конкуренция, которая во многом
способствовала стремительному социально-экономическому развитию колхозов, росту
благосостояния сельских тружеников.
Еще более впечатляющими были достижения луководов, которые
не просто освоили эту новую для корейцев культуру, но и за несколько лет смогли
на порядок увеличить ее урожайность. В 20-30-е годы урожайность кенафа
составляла 10-15 центнеров с каждого гектара (такая же урожайность была и на
родине кенафа – Индии). К началу 50-х корейские колхозы, которые по существу
монополизировали производство кенафа, добивались 70-80-центнеровой урожайности,
а вскоре и этот рубеж был превзойден в два-три раза – 200.
Благодаря этим поистине выдающимся достижениям многие
корейские колхозы не только прочно встали на ноги, укрепили свое экономическое
положение, но и смогли резко повысить материальное благосостояние людей. Мощное
развитие получили социальная сфера, культура, образование, спорт.
Колхозы «Политотдел», «Правда», «Ленинский путь», имени
Свердлова Верхнечирчикского, «Полярная звезда», «Северный маяк» Среднечирчикско-
го, имени Димитрова, «Заря коммунизма», «Новая жизнь» Нижнечирчикского районов
Ташкентской области, «Коммунизм» (Гурленский район Хорезмской области), «Гигант»
(Задарьинский район Наманганской области), ряд других корейских колхозов по
своим доходам, уровню развития социальной инфраструктуры, материального
благосостояния колхозников входили в число лучших сельхозпредприятий
республики.
Валовой доход колхоза «Политотдел» (его председателем в 1953-84
годах был Хван Ман Гым), например, к середине 80-х годов составлял 17 млн. рублей,
прибыль – 6 млн. рублей при посевной площади св. 4 тыс. га (без богары) и 3,5
тысячи членов колхоза. Рентабельность в лучшие годы здесь достигала до 30
процентов. Даже в животноводстве, которое в условиях Узбекистана, в те годы
считалось нерентабельной отраслью, «Политотдел» получал прибыль.
В колхозе работало 195 специалистов с высшим и средним
специальным образованием. Колхозный дворец культуры (вместимость 1200 чел.) по
своей оснащенности, функциональным возможностям не уступал аналогичным
учреждениям областных центров. В колхозе было воспитано 45 мастеров по
различным видам спорта. Колхозная футбольная команда выступала в классе «Б»
чемпионата страны. Центральная усадьба превратилась в благоустроенный поселок
со школами, больницей, двумя стадионами, дворцом культуры, универмагом, другими
учреждениями.
Трудовые достижения корейских переселенцев по достоинству
были отмечены государством. Тысячи были награждены орденами и медалями. Свыше 130
из них были удостоены высокого звания Героя Труда (почти четверть всех Героев
Труда в Узбекистане). А председатель колхоза «Полярная звезда» Ким Пен Хва был
награжден золотой звездой Героя дважды. Решением руководства Узбекистана после
смерти Ким Пен Хва в 1974 году его именем названы колхоз «Полярная звезда», а
также улица в Ташкенте.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
23-10-2011 19:07
(ссылка)
корни корейского языка
КОРНИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКАЛингвисты саглашаются, что корейский - член алтайского семейства языков, которые зародились в северной Азии, включая монгольский, тюркский, финский, венгерский и тунгузский (Маньчжурский) языки. Несмотря на факт, что корейский и японский имеют некоторые подобные грамматические структуры, исторические отношения между этими двумя языками пока не установлены.
Корейская письменность, использует смесь китайских идеограмм ("Hanja") и родного корейского алфавита, известного как "Хангул". Также, как в индоевропейских языках иногда цифры пишут, используя арабские символы, а иногда символы из собственных алфавитов или некоторую комбинацию обоих форм.
Из-за его большего разнообразия звуков, корейский не имеет проблем с письменным языком, как японский, который по мнению некоторых экспертов требует сохранения значительного набора китайских знаков, чтобы различать большое количество потенциально неоднозначных звуков.
Хотя корейский и китайский языки не связаны в терминах грамматической структуры, более 50 процентов всего корейского вокабуляра позаимствован из китайского, что является отражением культурного господства Китая на протяжении 2 тысячелетий.
Большое число китайских понятий использовались в Японии в девятнадцатом и двадцатом столетиях, для перевода современного западного научного, технического и политического вокабуляра, этот вокабуляр вошел в использование и в Корее в течение колониального периода. После 1945 года влияние Соединенных Штатов отразилось в множестве английских слов, которые были заимствованы корейским. В отличие от китайского, корейский не имеет диалекты, которые взаимно непонятны, однако, имеются региональные различия в вокабуляре и произношении.
Разделение Юг-СеверНеясно, до какой степени язык и его грамматические формы были сохранены на севере. Политика северного корейского режима попыталась устранить, насколько возможно, максимальное число иностранных слов, так же как старинные термины китайского происхождения. Западные заимствования также устраняются.
Пхеньян расценивает "Hanja", или китайские буквы, как символы "подобострастия" и систематически устраняет их из всех публикаций. Также была сдалана попытка создания новых слов исключительно корейского происхождения. Родители поощряются, если дают детям корейские, а не китайские имена.
Корейская письменность, использует смесь китайских идеограмм ("Hanja") и родного корейского алфавита, известного как "Хангул". Также, как в индоевропейских языках иногда цифры пишут, используя арабские символы, а иногда символы из собственных алфавитов или некоторую комбинацию обоих форм.
Из-за его большего разнообразия звуков, корейский не имеет проблем с письменным языком, как японский, который по мнению некоторых экспертов требует сохранения значительного набора китайских знаков, чтобы различать большое количество потенциально неоднозначных звуков.
Хотя корейский и китайский языки не связаны в терминах грамматической структуры, более 50 процентов всего корейского вокабуляра позаимствован из китайского, что является отражением культурного господства Китая на протяжении 2 тысячелетий.
Большое число китайских понятий использовались в Японии в девятнадцатом и двадцатом столетиях, для перевода современного западного научного, технического и политического вокабуляра, этот вокабуляр вошел в использование и в Корее в течение колониального периода. После 1945 года влияние Соединенных Штатов отразилось в множестве английских слов, которые были заимствованы корейским. В отличие от китайского, корейский не имеет диалекты, которые взаимно непонятны, однако, имеются региональные различия в вокабуляре и произношении.
Разделение Юг-СеверНеясно, до какой степени язык и его грамматические формы были сохранены на севере. Политика северного корейского режима попыталась устранить, насколько возможно, максимальное число иностранных слов, так же как старинные термины китайского происхождения. Западные заимствования также устраняются.
Пхеньян расценивает "Hanja", или китайские буквы, как символы "подобострастия" и систематически устраняет их из всех публикаций. Также была сдалана попытка создания новых слов исключительно корейского происхождения. Родители поощряются, если дают детям корейские, а не китайские имена.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
23-10-2011 05:09
(ссылка)
О корейском языке
Корейский язык Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье.
Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье.
Диалекты корейского языка Корейская письменностьКорейский алфавит хангыль является примером уникальной самобытной письменности.
Корейская письменностьКорейский алфавит хангыль является примером уникальной самобытной письменности.
 Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.
Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.
Придание корейскому письму статуса «государственной письменности»Даже после опубликования этого первого памятника корейского алфавита официальные документы составлялись на древнекитайском. Потребовалось ещё 450 лет прежде, чем корейское письмо стало «государственной письменностью», заменив тем самым древнекитайский язык: такой статус был придан хангылю в ноябре 1894 г. Высочайшим указом № 1 «О форме официальных документов».
Корейская письменность в новейшее времяСобственно термин «хангыль» был впервые предложен корейским лингвистом по имени Чу Си Гён (1876 – 1914), и введён в оборот в 1913 г. А с 1927 г. начал издаваться журнал «Хангыль» – периодическое издание, получившее широкое распространение. Само слово можно перевести как «корейская письменность», а также как «великая письменность» и «наилучшая письменность в мире», что передаёт дух первоисточника – трактата «Хунмин чоным». В 1933 г. Обществом по изучению корейского языка был предложен Проект унификации правописания в корейском языке, в соответствии с которой четыре ранее существовавших букв алфавита упразднялись. С тех пор корейское письмо состоит из 24 букв, 10 из которых гласные, а 14 – согласные.
Состав слога в корейском письмеТри буквы корейского алфавита, так называемые «начальная», «средняя» и «конечная», записываясь в определённом порядке, образуют слог. «Начальная» буква представлена согласной. Четырнадцать простых согласных корейского алфавита образуют друг с другом различные комбинации; таким образом, общее число согласных оказывается больше. «Средняя» буква в корейском слоге – это гласная. Простых гласных десять, но они также образуют комбинации, увеличивая реальное количество гласных в корейском алфавите. «Конечная» буква, как и «начальная», является согласной. Она может присутствовать в слоге, но может и отсутствовать.
Особенности корейского письмаСочетания из согласных и гласных образуют слоги, что можно оценить как высоконаучный и в то же время простой для усвоения метод.
 Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье.
Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье. - Алтайская семья языков
- Алтайская семья языков включает в себя тунгусо-маньчжурскую, монгольскую и тюркскую ветви. Она распространена среди народов, населяющих территорию от Сибири до Волги.
- Корейский язык и алтайская языковая семья
- Теория родства корейского языка с языками алтайской семьи основывается на их структурной схожести. В частности, для вокализма корейского языка, как и для большинства алтайских языков, характерен сингармонизм – уподобление гласных звуков в слове корневому гласному. Особенности консонантизма корейского языка (в частности, ограничения на встречаемость фонем в позиции в начале слова) также можно отнести к черте, свойственной фонологическим системам языков алтайской семьи. В части морфологии по своему строю корейский язык, как и другие алтайские языки, агглютинативный, т. е. для него характерно механическое присоединение аффиксов к неизменяемой основе слова.
Диалекты корейского языка
- В корейском языке существует шесть диалектов. К ним относятся:
- северо-восточныйㅡ включает говоры провинций Хамгён-пукто, Хамгён-намдо и Янгандо – на Севере;
- cеверо-западныйㅡ к нему относят говоры таких северокорейских провинций как Пхёнан-пукто, Пхёнан-намдо, Чагандо и северной части провинции Хванхэдо;
- юго-восточныйㅡ на котором говорят в провинциях Кёнсан-пукто, Кёнсан-намдо и прилегающих районах;
- юго-западныйㅡ распространённый в провинциях Чолла-пукто и Чолла-намдо;
- диалект острова Чечжудо и окрестных островов;
- центральныйㅡ включающий говоры провинций Кёнгидо, Чхунчхон-пукто, Чхунчхон-намдо, Канвондо – на Юге, и большей части провинции Хванхэдо – на Севере.
 Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.
Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.Придание корейскому письму статуса «государственной письменности»Даже после опубликования этого первого памятника корейского алфавита официальные документы составлялись на древнекитайском. Потребовалось ещё 450 лет прежде, чем корейское письмо стало «государственной письменностью», заменив тем самым древнекитайский язык: такой статус был придан хангылю в ноябре 1894 г. Высочайшим указом № 1 «О форме официальных документов».
Корейская письменность в новейшее времяСобственно термин «хангыль» был впервые предложен корейским лингвистом по имени Чу Си Гён (1876 – 1914), и введён в оборот в 1913 г. А с 1927 г. начал издаваться журнал «Хангыль» – периодическое издание, получившее широкое распространение. Само слово можно перевести как «корейская письменность», а также как «великая письменность» и «наилучшая письменность в мире», что передаёт дух первоисточника – трактата «Хунмин чоным». В 1933 г. Обществом по изучению корейского языка был предложен Проект унификации правописания в корейском языке, в соответствии с которой четыре ранее существовавших букв алфавита упразднялись. С тех пор корейское письмо состоит из 24 букв, 10 из которых гласные, а 14 – согласные.
Состав слога в корейском письмеТри буквы корейского алфавита, так называемые «начальная», «средняя» и «конечная», записываясь в определённом порядке, образуют слог. «Начальная» буква представлена согласной. Четырнадцать простых согласных корейского алфавита образуют друг с другом различные комбинации; таким образом, общее число согласных оказывается больше. «Средняя» буква в корейском слоге – это гласная. Простых гласных десять, но они также образуют комбинации, увеличивая реальное количество гласных в корейском алфавите. «Конечная» буква, как и «начальная», является согласной. Она может присутствовать в слоге, но может и отсутствовать.
Особенности корейского письмаСочетания из согласных и гласных образуют слоги, что можно оценить как высоконаучный и в то же время простой для усвоения метод.
- Самая научная письменность на планете
- «Самая научная письменность на планете» – такая оценка хангыля получила широкое признание в мире. Основанием для такого утверждения является самобытность корейской письменности и эффективность комбинации различных символов. Гласные и согласные легко отличаются друг от друга, 28 простых букв алфавита размещаются в чёткой последовательности, вступая в различные комбинации как по вертикальной оси, так и по горизонтальной, и образовывая аккуратный квадрат. Особенно следует отметить научный характер написания согласных, которые своим изображением чётко отражают положение губ, рта и языка при их произнесении.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
05-05-2011 23:57
(ссылка)
Желающим изучить корейский язык
http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/r_index.htm по этой ссылке вы можете начать изучегние языка- аудио переводы
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
09-10-2010 21:42
(ссылка)
История имен и фамилий.
Р. Ш. Джарылгасинова
Опорными компонентами антропонимической модели корейцев являются фамилия (сон), или наследственное имя (НИ), и индивидуальное имя (ИИ) (мён ирым). В традиционной антропонимии корейцев фамилия обязательно стоит перед именем. ИИ, как правило, двусложно. В прессе и публицистике ИИ в русской транскрипции пишут в два слова и вся АМ выглядит как трехчленная (Пак Чи Вон). В научной литературе принято слитное написание ИИ (Пак Чивон).
Сложным был набор ИИ в период феодализма; он включал следующие компоненты: детское имя (амён "детское имя" или чхомён "первое имя"); детское прозвище (пёльмён "другое имя", прозвище); официальное имя совершеннолетнего (кванмён "имя, которое дается юноше при достижении совершеннолетия", "имя, которое дается юноше, когда он впервые надевает головной убор совершеннолетнего"); имя, под которым молодой мужчина (после женитьбы) известен в кругу своих родственников и близких друзей (ча); псевдоним, который избирали себе люди, вступившие на путь государственной, научной, литературной или какой-либо другой творческой деятельности (хо); имя, которое давалось после смерти выдающимся деятелям (сихо "посмертный псевдоним").
Детское имя, как правило, отражало пожелания родителей здоровья, счастья, удачи, радости своим наследникам. Поэтому среди имен девочек нередки были такие имена, как Чинджу "жемчужина", Иппун "красавица". В именах мальчиков довольно часто встречалось слово "дракон" (ёнъ), например: Кымёнъ "золотой дракон", Ёнъи "дракон".Иногда в детском имени родители стремились предопределить жизненный путь ребенка, например: Квинон "вернись к земледелию". Нередко эти имена обозначали семейные отношения: Чынсон "внук от сына", Чансон "старший внук". В некоторых детских именах отражались физические качества ребенка: Ссанъгамэ "две макушки".
Особую группу детских имен составляли имена-обереги, которые, по представлениям корейцев, должны были защитить ребенка от всяческих напастей, например Чхильсонтоль "мальчик Семи звезд" (так как созвездию Семи звезд, т.е. Большой Медведице, поклонялись и молились, прося о рождении детей и их здоровье). Встречались среди детских имен имена, с нарочито отрицательной символикой, например Тведжи "свинья", Кэджи "щенок", Туккоби "жаба", которые были призваны "обмануть" злых духов.
Когда ребенок подрастал, ему давали детское имя-прозвище (пёльмён), которое нередко имело значение "коротконогий", Кэгури "лягушка" - "толстый", Токсури "орел" - "бесстрашный".
При достижении совершеннолетия (а в прошлом совершеннолетним считался юноша, вступивший в брак) молодой человек получал официальное имя (кванмён), которое заносилось в официальные посемейные списки и оставалось неизменным на протяжении всей жизни. Чаще всего, кванмён двусложны по составу (Сисып, Ёнхи, Пёнён), хотя встречаются и односложные имена (Гюн, Иль, И). Мужские имена, как правило, отражают пожелания успехов, богатства, счастья, стремление родителей видеть своих сыновей способными, благородными, преуспевающими. Причем эти благопожелания нередко выражались через поэтическую символику, своеобразную метафору.
Так, имя Гюн "бамбук" связано с древней символикой растений, согласно которой бамбук - символ стойкости духа, твердости характера, способности мужественно переносить невзгоды; метафоричными являются и такие имена, как Бёнён "светлый поток", Ягён "подобный большому колоколу", Джэвон "начало нового 60-летнего цикла", Сисып "постоянно постигающий", Бёндо "огненный полог". В последние годы в КНДР появились такие новые имена, как Пхёнхва "мир", Сынни "победа", Сэкиль "новый путь".
Женские имена не имеют каких-либо формальных признаков, позволяющих отличать их от мужских, тем не менее в большинстве случаев выяснить принадлежность имени к определенному полу пожно по лексическому значению. Семантика женских имен обычно связана с понятиями красоты, изящества, добродетели; в качестве женских имен нередко выступают названия драгоценных камней и цветов, например: Ёнок "лотос и яшма", Хоннён "алый лотос". В женских именах в качестве второго компонента часто употребляются следующие слова: ок "яшма", сук "преданная жена", хи "жена", нён "лотос", хва "цветок", воль "луна", мэ "слива", нан "душистая трава", сун "чистая", чон "кристальная", придающие значениям имен эмоционально-ласкательный оттенок.
При выборе официальных имен, особенно мужских, нередко учитывалась система толлимджа, или ханнёльджа, букв. "одинаковый слог в именах родственников". В основе этой системы лежало сложившееся в древнем Китае представление о цикличности пяти стихий: земли, воды, огня, металла, дерева. В антропонимии концепция пяти стихий проявлялась в том, что каждое поколение было якобы связано с той или иной стихией, знак которой присутствовал в именах представителей данного поколения. Так, если поколение отца и его братьев принадлежало к стихии "земли" и соответственно имело знак "земли" в именах, то в именах их сыновей должен был присутствовать знак "металла", а в именах внуков - знак "воды". Иероглифический знак той или иной стихии мог быть либо одним из компонентов имени, либо детерминативом в составе одного из слогов, или же его значение могло содержаться в семантике имени в целом. Система одинаковых слогов в именах родственников могла проявляться и в том, что один из слогов (чаще первый) в именах братьев или сестер был одинаковым: имена братьев - Якчон, Якчонъ, Ягёнъ, имена сестер - Ёнок, Ёнсук, Ёнхи.
В прошлом по достижении совершеннолетия каждый молодой мужчина получал имя (ча), под которым он был известен в кругу своих родственников и друзей. Ча - не псевдоним, и, как правило, каждый человек имел только одно ча. Появление этого имени в корейской антропонимии, возможно, связано с традицией запрета обращаться к тому или иному человеку, называя его личным именем, в данном случае официальным именем. Обычно ча обладало благопожелательной символикой:
Например, Ибджи "утверди его" - ча выдающегося государственного деятеля, ученого, историографа Ким Бусика (1075-1151), Чуни "стремящийся к красоте" - ча знаменитого писателя, ученого, философа Пак Чивона (1737-1805), Танбо "парадное имя" - ча известного писателя Хо Гюна (1569-1618).
Широко распространенным компонентом антропонимической системы корейцев является псевдоним (хо). На протяжении жизни человек мог иметь несколько псевдонимов, которые отражали значительные перемены в его жизни. Псевдонимы могли быть образованы от названий тех или иных мест, но большей частью псевдонимы отражали определенные взгляды, умонастроение, философскую позицию того или иного человека. Псевдонимы многих писателей, ученых, государственных деятелей были нередко более популярны, чем их настоящие имена.
Вот некоторые примеры псевдонимов: Нвечхон "громоподобный поток" - псевдоним Ким Бусика, Мэвольдан "павильон сливы и луны", Тонбон "восточная вершина" - псевдонимы писателя и поэта Ким Сисыпа (1435-1493), Ёнам "ласточкина скала" - псевдоним Пак Чивона, Кёсан "гора водяного дракона", Сонсонун "проницательный старец", Сонсу "бесстрашный старец", Пэкволь-коса "отшельник Светлая луна" - псевдонимы Хо Гюна, Саккат "камышовая шляпа от дождя и солнца" - псевдоним поэта Ким Бёнёна (1807-1863).
Даосско-буддийские настроения, отказ от карьеры и "уход к природе" также нашли свое отражение в псевдонимах.
Так, например, Пэгун-коса "отшельник Белое Облако" - псевдоним известного поэта XIII в. Ли Гюбо, Сонган "сосна и река" - псевдоним знаменитого поэта XVI в. Чон Чхоля (1537-1594).
Однако псевдонимы могли иметь не только деятели творческого труда, псевдонимы-прозвища (пёльхо) были практически у каждого мужчины.
После смерти наиболее известные деятели и выдающиеся люди получали посмертные почетные имена (сихо).
Например, Мунёль "литературный подвиг" - посмертный псевдоним Ким Бусика, Мунтхак "мерило литературы" - посмертный псевдоним Пак Чивона.
Помимо ИИ другим опорным компонентом АМ корейцев является фамилия, или НИ. Большинство корейских НИ сформировалось в период средневековья.
По данным корейской энциклопедии "Мунхон биго", в начале XX в. в Корее насчитывалось 498 фамилий. В 30-х годах, согласно переписи, население Кореи носило 250 фамилий. Список корейских НИ, приведенный в "Корейско-русском словаре" (1958 г.), содержит 217 фамилий. В "Большом корейско-русском словаре" (1976 г.) их насчитывается 208. В корейской энциклопедии "Тэбэкква саджон", изданной в Сеуле в 1958-1959 гг., указывается около 200 корейских фамилий. В энциклопедии "Кукса тэсаджон" список основных фамилий содержит 153 единицы. Таким образом, эти данные свидетельствуют о сужении круга корейских фамилий.
Корейские фамилии, как правило, односложны. Двусложных фамилий немного. Однако исторические материалы свидетельствуют о том, что в прошлом двусложные фамилии встречались чаще. Наиболее распространенными корейскими фамилиями в наши дни являются Ким, Ли, Пак.
В процессе исторического развития корейские фамилии получили иероглифические эквиваленты1. Широко развитая в корейском языке омонимия привела к тому, что в списках корейских НИ немало фамилий, звучащих одинаково, но восходящих к разным понятиям и обозначенных разными иероглифами.
Этимологическая прозрачность фамилий, якобы проистекающая из значения иероглифического знака, иллюзорна. История развития фамилий в Корее показывает, что для обозначения исконно корейских апеллятивов, к которым восходила бОльшая часть корейских фамилий, иероглифы подбирались либо по близости звучания, либо произвольно. Так, например, две наиболее распространенные корейские фамилии Ким и Пак (упоминаемые еще в "Самгук саги", XII в.) не обозначают "золото" и "тыква", как следует из значения соответствующих иероглифических знаков, а восходят в древнекорейским корням: фамильный знак Ким - к древнекорейским кым, ком, кам, гам, обозначавшим старейшину, жреца или вождя; фамильный знак Пак - к исконно корейскому пальк "светлый", "ясный".
Наследование фамилий происходит по отцовской линии. Женщины, выйдя замуж, как правило, сохраняют свою девичью фамилию.
Своеобразием корейской антропонимии является соотнесение каждой фамилии с тем или иным "топонимическим" наименованием. Эти "топонимические" (а вернее, очевидно, патронимические) наименования обозначаются по-корейски терминами пон "корень", "основа", "исток", "начало", понкван "основное место происхождения", кванхян "родина предков" и представляют собой названия мест, откуда якобы ведут свое происхождение члены того или иного пон. Подавляющее большинство пон связано с топонимами, доныне существующими, например: Кёнджу, Мирян, Сувон, Чеджу и т.д.
Каждая фамилия имеет более или менее точно определенное число пон. Так, например, фамилия Ким имеет в своем составе 623 пон, из них в настоящее время наиболее распространенными являются 72; фамилия Ли - 546 пон, из них наиболее распространенными считаются 80; фамилия Пак - 381 пон, из которых особенно распространены 31.
В наши дни "топонимическое" имя не входит в состав официального имени, но до сих пор каждый кореец знает свое пон. Лица, имеющие одно "топонимическое" имя, и в наши дни считаются близкими родственниками, составляющими экзогамную группу. Соотношения фамилии и "топонимического" имени очень сложны. Так, если некоторые фамилии имеют по несколько сот пон, то существуют и такие фамилии, пон которых исчисляются десятками, единицами, а некоторым фамилиям соответствует только одно пон. Нередки случаи, когда разные фамилии имеют одинаковые "топонимические" имена.
Вот классический пример такого рода: фамилии Ко, Пу и Лян имеют одно пон - Чеджу. Носители этих фамилий, принадлежащие к пон Чеджу, не имеют права вступать в брак между собой.
Для различных сфер общественной жизни характерны различные формы именования и обращения, как правило не совпадающие с полной АМ. В семейно-бытовом общении старшие именуют младших по детскому имени. Называть старших по имени считается невежливым2. При упоминании о старших родственниках используются термины родства.
Распространенной формой официального обращения к старшему мужчине в прошлом было: НИ + сонсэнним "учитель", "господин", НИ + ним (частица со значением уважения, почтения), к старшей женщине: НИ + сси (частица со значением уважения, почтения, "госпожа"). В КНДР сейчас наиболее употребительной формой при обращении и к мужчине, и к женщине является НИ + тонму "товарищ", а также использование формы НИ + наименование должности (директор, бригадир, учитель и т.д.).
АМ корейцев за пределами Кореи претерпела изменения, связанные с характером АМ преобладающей языковой среды. В Китае и Японии форма корейской АМ сохраняется, но нередко произносится по-китайски, или по-японски. В англоязычной среде компоненты АМ меняются местами: на первом месте ИИ, на втором - НИ (Chewon Kim), на письме традиционное двойное имя иногда дается в сокращении, т.е. инициалами (W. Y. Lee). Корейцы в ряде случаев получают ИИ, характерное для преобладающей АМ (Peter H. Lee). Стойко сохраняется фамилия. В России у части корейцев сохраняется традиционная АМ (Сун Денхи, Хван Мангым), а нередко наблюдается замена традиционного корейского ИИ на русское имя (или воспринимаемое через русский язык как русское). Наиболее стойко сохраняется фамилия. Встречаются также случаи использования АМ русских: фамилия + ИИ + отчество (Ким Петр Алексеевич, Хван Иннокентий Михайлович). Часто по форме русская АМ, используемая в разговорной речи и в сфере семейно-бытового общения, сосуществует с официальной корейской АМ.
1 В период средневековья на формирование корейской лексики вообще и антропонимии в частности значительное влияние оказали вэньянь (древнекитайский язык) и китайская иероглифическая письменность. Древнекитайские слова в результате длительного развития "в рамках" корейского языка стали органической частью его словарного состава. Таким образом, в корейском языке существуют два разных по происхождению типа слов: исконно корейские и восходящие к китайским корням. Эта особенность проявляется и в корейской антропонимии, причем в одних случаях возобладали слова китайского корня, а в других - слова исконно корейские.
2 Очевидно, это восходит к распространенному в прошлом обычаю табуирования личного имени
Опорными компонентами антропонимической модели корейцев являются фамилия (сон), или наследственное имя (НИ), и индивидуальное имя (ИИ) (мён ирым). В традиционной антропонимии корейцев фамилия обязательно стоит перед именем. ИИ, как правило, двусложно. В прессе и публицистике ИИ в русской транскрипции пишут в два слова и вся АМ выглядит как трехчленная (Пак Чи Вон). В научной литературе принято слитное написание ИИ (Пак Чивон).
Сложным был набор ИИ в период феодализма; он включал следующие компоненты: детское имя (амён "детское имя" или чхомён "первое имя"); детское прозвище (пёльмён "другое имя", прозвище); официальное имя совершеннолетнего (кванмён "имя, которое дается юноше при достижении совершеннолетия", "имя, которое дается юноше, когда он впервые надевает головной убор совершеннолетнего"); имя, под которым молодой мужчина (после женитьбы) известен в кругу своих родственников и близких друзей (ча); псевдоним, который избирали себе люди, вступившие на путь государственной, научной, литературной или какой-либо другой творческой деятельности (хо); имя, которое давалось после смерти выдающимся деятелям (сихо "посмертный псевдоним").
Детское имя, как правило, отражало пожелания родителей здоровья, счастья, удачи, радости своим наследникам. Поэтому среди имен девочек нередки были такие имена, как Чинджу "жемчужина", Иппун "красавица". В именах мальчиков довольно часто встречалось слово "дракон" (ёнъ), например: Кымёнъ "золотой дракон", Ёнъи "дракон".Иногда в детском имени родители стремились предопределить жизненный путь ребенка, например: Квинон "вернись к земледелию". Нередко эти имена обозначали семейные отношения: Чынсон "внук от сына", Чансон "старший внук". В некоторых детских именах отражались физические качества ребенка: Ссанъгамэ "две макушки".
Особую группу детских имен составляли имена-обереги, которые, по представлениям корейцев, должны были защитить ребенка от всяческих напастей, например Чхильсонтоль "мальчик Семи звезд" (так как созвездию Семи звезд, т.е. Большой Медведице, поклонялись и молились, прося о рождении детей и их здоровье). Встречались среди детских имен имена, с нарочито отрицательной символикой, например Тведжи "свинья", Кэджи "щенок", Туккоби "жаба", которые были призваны "обмануть" злых духов.
Когда ребенок подрастал, ему давали детское имя-прозвище (пёльмён), которое нередко имело значение "коротконогий", Кэгури "лягушка" - "толстый", Токсури "орел" - "бесстрашный".
При достижении совершеннолетия (а в прошлом совершеннолетним считался юноша, вступивший в брак) молодой человек получал официальное имя (кванмён), которое заносилось в официальные посемейные списки и оставалось неизменным на протяжении всей жизни. Чаще всего, кванмён двусложны по составу (Сисып, Ёнхи, Пёнён), хотя встречаются и односложные имена (Гюн, Иль, И). Мужские имена, как правило, отражают пожелания успехов, богатства, счастья, стремление родителей видеть своих сыновей способными, благородными, преуспевающими. Причем эти благопожелания нередко выражались через поэтическую символику, своеобразную метафору.
Так, имя Гюн "бамбук" связано с древней символикой растений, согласно которой бамбук - символ стойкости духа, твердости характера, способности мужественно переносить невзгоды; метафоричными являются и такие имена, как Бёнён "светлый поток", Ягён "подобный большому колоколу", Джэвон "начало нового 60-летнего цикла", Сисып "постоянно постигающий", Бёндо "огненный полог". В последние годы в КНДР появились такие новые имена, как Пхёнхва "мир", Сынни "победа", Сэкиль "новый путь".
Женские имена не имеют каких-либо формальных признаков, позволяющих отличать их от мужских, тем не менее в большинстве случаев выяснить принадлежность имени к определенному полу пожно по лексическому значению. Семантика женских имен обычно связана с понятиями красоты, изящества, добродетели; в качестве женских имен нередко выступают названия драгоценных камней и цветов, например: Ёнок "лотос и яшма", Хоннён "алый лотос". В женских именах в качестве второго компонента часто употребляются следующие слова: ок "яшма", сук "преданная жена", хи "жена", нён "лотос", хва "цветок", воль "луна", мэ "слива", нан "душистая трава", сун "чистая", чон "кристальная", придающие значениям имен эмоционально-ласкательный оттенок.
При выборе официальных имен, особенно мужских, нередко учитывалась система толлимджа, или ханнёльджа, букв. "одинаковый слог в именах родственников". В основе этой системы лежало сложившееся в древнем Китае представление о цикличности пяти стихий: земли, воды, огня, металла, дерева. В антропонимии концепция пяти стихий проявлялась в том, что каждое поколение было якобы связано с той или иной стихией, знак которой присутствовал в именах представителей данного поколения. Так, если поколение отца и его братьев принадлежало к стихии "земли" и соответственно имело знак "земли" в именах, то в именах их сыновей должен был присутствовать знак "металла", а в именах внуков - знак "воды". Иероглифический знак той или иной стихии мог быть либо одним из компонентов имени, либо детерминативом в составе одного из слогов, или же его значение могло содержаться в семантике имени в целом. Система одинаковых слогов в именах родственников могла проявляться и в том, что один из слогов (чаще первый) в именах братьев или сестер был одинаковым: имена братьев - Якчон, Якчонъ, Ягёнъ, имена сестер - Ёнок, Ёнсук, Ёнхи.
В прошлом по достижении совершеннолетия каждый молодой мужчина получал имя (ча), под которым он был известен в кругу своих родственников и друзей. Ча - не псевдоним, и, как правило, каждый человек имел только одно ча. Появление этого имени в корейской антропонимии, возможно, связано с традицией запрета обращаться к тому или иному человеку, называя его личным именем, в данном случае официальным именем. Обычно ча обладало благопожелательной символикой:
Например, Ибджи "утверди его" - ча выдающегося государственного деятеля, ученого, историографа Ким Бусика (1075-1151), Чуни "стремящийся к красоте" - ча знаменитого писателя, ученого, философа Пак Чивона (1737-1805), Танбо "парадное имя" - ча известного писателя Хо Гюна (1569-1618).
Широко распространенным компонентом антропонимической системы корейцев является псевдоним (хо). На протяжении жизни человек мог иметь несколько псевдонимов, которые отражали значительные перемены в его жизни. Псевдонимы могли быть образованы от названий тех или иных мест, но большей частью псевдонимы отражали определенные взгляды, умонастроение, философскую позицию того или иного человека. Псевдонимы многих писателей, ученых, государственных деятелей были нередко более популярны, чем их настоящие имена.
Вот некоторые примеры псевдонимов: Нвечхон "громоподобный поток" - псевдоним Ким Бусика, Мэвольдан "павильон сливы и луны", Тонбон "восточная вершина" - псевдонимы писателя и поэта Ким Сисыпа (1435-1493), Ёнам "ласточкина скала" - псевдоним Пак Чивона, Кёсан "гора водяного дракона", Сонсонун "проницательный старец", Сонсу "бесстрашный старец", Пэкволь-коса "отшельник Светлая луна" - псевдонимы Хо Гюна, Саккат "камышовая шляпа от дождя и солнца" - псевдоним поэта Ким Бёнёна (1807-1863).
Даосско-буддийские настроения, отказ от карьеры и "уход к природе" также нашли свое отражение в псевдонимах.
Так, например, Пэгун-коса "отшельник Белое Облако" - псевдоним известного поэта XIII в. Ли Гюбо, Сонган "сосна и река" - псевдоним знаменитого поэта XVI в. Чон Чхоля (1537-1594).
Однако псевдонимы могли иметь не только деятели творческого труда, псевдонимы-прозвища (пёльхо) были практически у каждого мужчины.
После смерти наиболее известные деятели и выдающиеся люди получали посмертные почетные имена (сихо).
Например, Мунёль "литературный подвиг" - посмертный псевдоним Ким Бусика, Мунтхак "мерило литературы" - посмертный псевдоним Пак Чивона.
Помимо ИИ другим опорным компонентом АМ корейцев является фамилия, или НИ. Большинство корейских НИ сформировалось в период средневековья.
По данным корейской энциклопедии "Мунхон биго", в начале XX в. в Корее насчитывалось 498 фамилий. В 30-х годах, согласно переписи, население Кореи носило 250 фамилий. Список корейских НИ, приведенный в "Корейско-русском словаре" (1958 г.), содержит 217 фамилий. В "Большом корейско-русском словаре" (1976 г.) их насчитывается 208. В корейской энциклопедии "Тэбэкква саджон", изданной в Сеуле в 1958-1959 гг., указывается около 200 корейских фамилий. В энциклопедии "Кукса тэсаджон" список основных фамилий содержит 153 единицы. Таким образом, эти данные свидетельствуют о сужении круга корейских фамилий.
Корейские фамилии, как правило, односложны. Двусложных фамилий немного. Однако исторические материалы свидетельствуют о том, что в прошлом двусложные фамилии встречались чаще. Наиболее распространенными корейскими фамилиями в наши дни являются Ким, Ли, Пак.
В процессе исторического развития корейские фамилии получили иероглифические эквиваленты1. Широко развитая в корейском языке омонимия привела к тому, что в списках корейских НИ немало фамилий, звучащих одинаково, но восходящих к разным понятиям и обозначенных разными иероглифами.
Этимологическая прозрачность фамилий, якобы проистекающая из значения иероглифического знака, иллюзорна. История развития фамилий в Корее показывает, что для обозначения исконно корейских апеллятивов, к которым восходила бОльшая часть корейских фамилий, иероглифы подбирались либо по близости звучания, либо произвольно. Так, например, две наиболее распространенные корейские фамилии Ким и Пак (упоминаемые еще в "Самгук саги", XII в.) не обозначают "золото" и "тыква", как следует из значения соответствующих иероглифических знаков, а восходят в древнекорейским корням: фамильный знак Ким - к древнекорейским кым, ком, кам, гам, обозначавшим старейшину, жреца или вождя; фамильный знак Пак - к исконно корейскому пальк "светлый", "ясный".
Наследование фамилий происходит по отцовской линии. Женщины, выйдя замуж, как правило, сохраняют свою девичью фамилию.
Своеобразием корейской антропонимии является соотнесение каждой фамилии с тем или иным "топонимическим" наименованием. Эти "топонимические" (а вернее, очевидно, патронимические) наименования обозначаются по-корейски терминами пон "корень", "основа", "исток", "начало", понкван "основное место происхождения", кванхян "родина предков" и представляют собой названия мест, откуда якобы ведут свое происхождение члены того или иного пон. Подавляющее большинство пон связано с топонимами, доныне существующими, например: Кёнджу, Мирян, Сувон, Чеджу и т.д.
Каждая фамилия имеет более или менее точно определенное число пон. Так, например, фамилия Ким имеет в своем составе 623 пон, из них в настоящее время наиболее распространенными являются 72; фамилия Ли - 546 пон, из них наиболее распространенными считаются 80; фамилия Пак - 381 пон, из которых особенно распространены 31.
В наши дни "топонимическое" имя не входит в состав официального имени, но до сих пор каждый кореец знает свое пон. Лица, имеющие одно "топонимическое" имя, и в наши дни считаются близкими родственниками, составляющими экзогамную группу. Соотношения фамилии и "топонимического" имени очень сложны. Так, если некоторые фамилии имеют по несколько сот пон, то существуют и такие фамилии, пон которых исчисляются десятками, единицами, а некоторым фамилиям соответствует только одно пон. Нередки случаи, когда разные фамилии имеют одинаковые "топонимические" имена.
Вот классический пример такого рода: фамилии Ко, Пу и Лян имеют одно пон - Чеджу. Носители этих фамилий, принадлежащие к пон Чеджу, не имеют права вступать в брак между собой.
Для различных сфер общественной жизни характерны различные формы именования и обращения, как правило не совпадающие с полной АМ. В семейно-бытовом общении старшие именуют младших по детскому имени. Называть старших по имени считается невежливым2. При упоминании о старших родственниках используются термины родства.
Распространенной формой официального обращения к старшему мужчине в прошлом было: НИ + сонсэнним "учитель", "господин", НИ + ним (частица со значением уважения, почтения), к старшей женщине: НИ + сси (частица со значением уважения, почтения, "госпожа"). В КНДР сейчас наиболее употребительной формой при обращении и к мужчине, и к женщине является НИ + тонму "товарищ", а также использование формы НИ + наименование должности (директор, бригадир, учитель и т.д.).
АМ корейцев за пределами Кореи претерпела изменения, связанные с характером АМ преобладающей языковой среды. В Китае и Японии форма корейской АМ сохраняется, но нередко произносится по-китайски, или по-японски. В англоязычной среде компоненты АМ меняются местами: на первом месте ИИ, на втором - НИ (Chewon Kim), на письме традиционное двойное имя иногда дается в сокращении, т.е. инициалами (W. Y. Lee). Корейцы в ряде случаев получают ИИ, характерное для преобладающей АМ (Peter H. Lee). Стойко сохраняется фамилия. В России у части корейцев сохраняется традиционная АМ (Сун Денхи, Хван Мангым), а нередко наблюдается замена традиционного корейского ИИ на русское имя (или воспринимаемое через русский язык как русское). Наиболее стойко сохраняется фамилия. Встречаются также случаи использования АМ русских: фамилия + ИИ + отчество (Ким Петр Алексеевич, Хван Иннокентий Михайлович). Часто по форме русская АМ, используемая в разговорной речи и в сфере семейно-бытового общения, сосуществует с официальной корейской АМ.
1 В период средневековья на формирование корейской лексики вообще и антропонимии в частности значительное влияние оказали вэньянь (древнекитайский язык) и китайская иероглифическая письменность. Древнекитайские слова в результате длительного развития "в рамках" корейского языка стали органической частью его словарного состава. Таким образом, в корейском языке существуют два разных по происхождению типа слов: исконно корейские и восходящие к китайским корням. Эта особенность проявляется и в корейской антропонимии, причем в одних случаях возобладали слова китайского корня, а в других - слова исконно корейские.
2 Очевидно, это восходит к распространенному в прошлом обычаю табуирования личного имени
Григорий Ли,
09-05-2011 08:15
(ссылка)
Без заголовка
Поздравляю всех участников сообщества с праздником Победы!
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
24-04-2011 07:21
(ссылка)
с Праздником.
Христос Воскресе! Удачи,Счастья, Здоровья .... всем участникам сообщества,вашим близким и родным!!!!!
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
22-04-2011 23:39
(ссылка)
Продолжение воспоминаний Тен Г.Д.
Летом воду черпали прямо из реки ведрами, входя в нее метра на 1,5 в высоких сапогах, зимой же опускали ведра в прорубь, где часто резвились мелкие рыбки и иногда сыновья приносили их домой в ведре с водой. дети познакомились с немудреным устройством коромысла. Воду пили только кипяченую. Электричество было, но не всегда можно было надеяться на бесперебойную работу электростанции на берегу реки.
Школа была полная средняя. два старших сына посещали школу, а младший сын детский сад. Сознавая, что дети должны расти рядом с отцом, я ездила вместе с мужем всюду; куда бы его ни направляли. Всегда соглашалась ехать вместе в эти командировки, хотя всегда приходилось жить в плохих климатических условиях, при плохом продовольственном снабжении: в то время в тех краях не было ни овощей, ни, тем более, фруктов.
Муж рано остался без родителей: сначала он жил у бабушки по матери, а с ее смертью он жил у дяди брата матери. Мы поженись по окончании института. Он очень любил детей, тогда ему было 35 лет. О себе мы не думали, были молоды. Некогда было думать о себе, как и многим другим в то послевоенное время.
Годы работы на Камчатке привнесли новые впечатления и новые переживания. В 1953- 1960 гг привелось поработать в средней школе нашего поселка Микояновск Усть Большерецкого района Камчатской области. Моя работа косвенным образом оказалась связана с работой мужа, поэтому ниже несколько слов о его работе.
Муж всегда был доволен иностранными рабочими из КЯДР, их отношением к своим обязанностям. Особенно он был доволен общением с рабочими на родном языке. Они добросовестно выполняли свою работу, была хорошая дисциплина, серьезное отношение ко всему, особенно это касалось выполнения плановых заданий. В семьях все было благополучно, дети ходили в школу без пропусков и опозданий, аккуратно выполняли домашние задания и принимали активное участие во всех мероприятиях, проводившихся в школе в целом.
Работая в школе преподавателем химии и биологии, я изъявила желание помочь родителям этих детей, особенно матерям. в изучении русского языка. Ведь они не знали ни одной буквы, не понимали ни ОДНОГО СЛОВА по русски. Собирались мы на занятия вечерами по З раза в неделю в красном уголке. Начали изучение русского языка с азбуки. Затем стали писать свои имена, фамилии, названия продуктов, запоминали их. Затем осваивали устный счет. Большой интерес был у всех.
По воскресеньям один раз в месяц собирались на родительское собрание, на котором слушали доклады на корейском языке о семейном воспитании детей. А в 1960 г. состоялся 1-й выпуск учащихся семилетней школы. Мне была выражена большая благодарность от родителей за помощь в течение всего этого времени. Все корейские семьи отбыли на Родину осенью в том же году
По окончании срока работы по трудовому договору на рыбокомбинате мужу предоставили выбор места дальнейшей работы. Но к тому времени мы уже сделали выбор: решили снова переехать в Сахалинскую область, город Холмск, что и сделали в том же 1960 г. В то время там еще были корейские школы с частичным обучением на корейском языке, и требовались учителя со знанием языка, о чем сообщил нам мой средний брат Александр. К тому времени и он уже жил в Сахалинской области с семьей. Мы сразу же написали письмо в облоно Сахалинской области и через некоторое время получили ответ - нас приглашали в распоряжение облоно. Мы с мужем были направлены в г. Холмск Сахалинской области, а в Холмском гороно нам дали направление в корейскую среднюю школу № 5. Муж по образованию был преподавателем математики, а я по прежнему стала преподавать химию и биологию. Нам предоставили жилье, дети пошли в русскую среднюю школу № б. Условия жизни здесь были много лучше, чем на Камчатке, и в плане питания, и, что немаловажно, в отношении климатических особенностей, т.к. это непосредственно затрагивало здоровье детей, В магазинах и на рынке были разные овощи и фрукты. Через некоторое время муж был приглашен работать инструктором в горком партии.
В те годы я была очень перегружена уроками в школе, к тому же была еще и общественная работа. Поэтому домой возвращалась всегда поздно. Старшие сыновья помогали по дому, сами вели домашние дела сознательно и добросовестно, знали что делать, как мы когда-то в далеком детстве. Особенно старший сын, Харлам: умел приготовить еду, руководил своими младшими братьями. Работа по дому распределялась так, что старшему выпадало занятие потруднее, а младшему - самое маленькое поручение.
Во всех школах, где я работала в те годы, я неоднократно была награждена грамотами за добросовестную учебно-воспитательную работу и на один срок избиралась народным заседателем Микояновского поселкового Народного суда.
После повторного переезда в Сахалинскую область с июля 1960 по 1972 гг. работала в средних школах г. Холмска Сахалинской области.
Здесь, в городской школе №5, кроме учебно-воспитательной работы по программе школы, я вела внеклассную работу В школе был пришкольный участок, за который я была ответственной. Каждый год осенью, после уборки урожая с нашего участка, организовывались выставки и наша школа неоднократно занимала первое место в течение 6 лет. Большое удивление родителей вызывал хороший сбор урожая с нашего участка. Было составлено описание методов выращивания и применения минеральных удобрений, в результате использования которых собиралось много столовой свеклы, моркови, тыквы крупного размера, прекрасных клубней картофеля и др.
В течение всего лета учащиеся сами дежурили по звеньям, ухаживали за растениями: полив, прополка, окучивание посадок. Соревновались между звеньями. С большим интересом вели наблюдения за вегетацией, дветением, образованием плодов и т.д. Наша полная средняя школа № 5 г. Холмска Сахалинской области принимала активное участие в весенней олимпиаде по художественной самодеятельности.
Две выпускницы нашей школы ныне проживают в г. Москве — это Эльза Ли и Светлана Чу. По окончании института Эльза Ли в течение многих лет работала по специальности в г. Москве, а теперь, став бабушкой и пенсионеркой, продолжает работать на другой работе.. Выпускница Светлана Чу, окончив институт и, став филологом, долгое врем работала по закрытой тематике. Ныне она прекрасный переводчик библейских проповедей в церквях и, кроме того, сейчас занята переводом книги с корейского языка на русский язык для издания в России. Мы дружески общаемся по разным поводам, хотя и не так часто, как хотелось бы. Они с уважением и вниманием относятся ко мне, навещают на дому и, не забывая поздравляют с днем рождения. Как это приятно!
После закрытия корейских школ в Сахалинской области, я продолжила преподавание в школе № 9 г Холмска. При выходе на пенсию в 1972 г. от имени преподавательского коллектива мне подарили большой красивый столовый сервиз и тепло отметили мою работу в школе.
За все время работы преподавателем в школе я побывала в разных городах, т.к. в связи с новыми назначениями мужа приходилось менять и место жительства. Но где бы я ни работала, везде достойно оценивали результаты моего труда и награждали грамотами.
В 1963 г. я была избрана депутатом городского Совета депутатов по избирательному округу 36 г. Холмска Сахалинской области.
В 1964 году награждена значком «Отличник народного просвещения» от Министерства просвещения РСФСР.
В 1972 году, имея 30-летний стаж педагогической работы в средних школах, ушла на заслуженный отдых. Все три сына с высшим образованием: старший сын, Харлам, окончил Ленинградский политехнический институт в 1968 г. Средний сын, Владислав, - Московский инженерно-физический институт в 1970 г., а младший Енгений, так же как и старший брат, - Ленинградский политехнический институт в 1972 г., о чем я еще упомяну ниже.
Часть 10. 0 детстве и юности моих детей
Старший сын Харлам родился в 1944 г. в Узбекистане, а в 1951 г., когда он был учеником второго класса школы, мы жили в г. Хабаровске. Недалеко от нашего дома находился магазин «Молоко», и он уже много раз ходил туда за покупками. В тот день. как обычно, он принес молоко и, перелив его в кастрюлю поставил на электроплитку, чтобы прокипятить. Потом пошел в детский сад за своим братиком Владиком. Вернувшись, увидел у подъезда играющих мальчиков, в том числе и товарища Леню из своего класса. Задержался поиграть и забыл о молоке. Когда вспомнил и поднялся на наш 7-й этаж, то и сам почувствовал залах подгоревшего молока. Мы занимали одну комнату в трехкомнатной квартире. Через стенку жила семья бабушка Наталья Григорьевна и дочь Ольга. Кухня у нас была общая на три семьи. Молодой семьи из третьей комнаты в тот момент не было дома. Но бабушка не знала, что на кухне включена плитка с молоком. Когда она вышла на кухню, все молоко выкипело, эмаль растрескалась, пошел дым. Сын испугался и стал плакать, а за ним и младшие Владик и Женя. Последнего только что привезли из яслей. Бабушке стало жалко детей, и она сказала, что хорошо, что нет пожара. А сын сквозь слезы говорит, что жалко кастрюлю, которую мама купила для молока.
Прихожу из школы после второй смены, и Наталья Григорьевна рассказывает мне, как все случилось, что жалко ребенка, и надо бы ему гулять с товарищами, а на нем такая нагрузка. Заплаканный сынок уснул, а бабушка все продолжала рассказывать о происшедшем. Конечно, мне было жалко сына, ведь он был еще ребенок и перенес такой стресс. Переживал, жалея маму и кастрюлю. Я и сама поплакала, присев на край кровати, не стала его будить, а он, проснувшись, опять стал плакать, а за ним и младшие. Как я себя ругала, что вместо прогулки на воздухе дала ребенку опасное задание. Ему было7 лет, но он был уже во втором классе. В первый класс поступил в неполные 6 лет. В 1950г. после войны недобор был велик, детей было мало. Приняли его в первый класс после того, как он ответил на 5 вопросов по арифметике. Устно решал примеры и считал на счетах. По букварю читал свободно.
Однажды, в третьем классе, сын со средним братом отправились в кино, и на выходе из зала с его головы сорвали шапку, которую муж получил с новым обмундированием. Конечно, пришел домой со слезами, но не из-за того, что замерз, а потому что было обидно. Узнал: есть такие хулиганы, которых не задерживают и не наказывают.
Война закончена, но в период восстановления в разрушенной стране жить было трудно. Я работала в школе в две смены, надеяться только на мужа было нельзя — он сам приходил поздно, когда дети уже спали.
В 7-8 классах школы после выполнения домашних заданий Харпам выходил во двор, рубил дрова, наводил порядок. Соседи говорили, что растет будущий хозяйственник. Учился он хорошо, помогал классному руководителю в оформлении класса. Сам находил себе дела. Был он также и заботливым сыном. Через несколько лет, после переезда в г. Холмск Сахалинской области и окончания школы, он поехал в Ленинград и поступил в Ленинградский политехнический институт. Окончил его в 1968г.
Работал в должности главного технолога на химкомбинате в г. Дзержинске Горьковской области. В 1974-1979 гг. работал на пуске оборудования для химкомбинатов в городах Сумгаит (Азербайджан), Навои (Узбекистан), Стерлитамак (Башкирия), Яван (Таджикистан).
В 1979-1981 гг. привелось поработать и за границей, в Болгарии. В течение 3-х лет работал на пуске химического комбината (Девня) близ г. Варна, где жили советские специалисты. По вызову сына я две недели провела в Варне, побывала в Софии, отдохнула у моря на Золотых песках.
г 23
После возвращения из Болгарии сын долгое время работал в г. Дзержинске Нижегородской области, а в последние годы работает на объектах Газпрома на Севере в городах Уренгой, Новый Уренгой, Ямбург.
Средний сын, Владислав. родился в 1946 г., также в Узбекистане. С 1953 по 1960 гг. мы жили в поселке Микояновск Усть-Большерецкого района Камчатской области, где располагался крупный рыбоперерабатывающий комбинат. Помню, наш дом стоял у пруда, а с другой стороны пруда была улица, дальше которой начинался морской берег. Сын любил проводить время на морском берегу. Был любознательным. Любил наблюдать полет чаек и других морских птиц. С интересом наблюдал живых обитателей моря, работу рыбаков большого рыбокомбината, размещавшегося неподалеку от нашего базового поселка. После прогулки часто приходил домой довольный и говорил, как интересно наблюдать происходящее на берегу и что было бы плохо жить без моря.
Однажды, на исходе зимы, после школы сын с мальчиками играл на берету нашего пруда. Пруд был большой, но каков он по площади, я не знала. Вдруг под одним из мальчиков проломился лед, и он оказался в воде. А дело было к весне. Все закричали, но никто не решился или был не в состоянии оказать помощь. Однако мой сын по сохранявшейся ледяной кромке подобрался к мальчику и, рискуя провалиться так же, как и он, помог выбраться этому мальчику на берег. Потом в местной газете «Коммунист» появилась статья об оказанной моим сыном помощи.
Как-то, будучи в 8-м классе школы, сын отправился в двухдневный поход со своими сверстниками. Когда возвращались домой, сын нарвал полевые цветы и собрал хороший букет для мамы На другой день утром звонит преподаватель физкультуры, который сопровождал классного руководителя в этом походе, и благодарит меня за то, что вырастила сына скромного, внимательного и любяшего свою маму: из всего класса сын был единственным, кто вез цветы для мамы.
После окончания средней школы сын поступил и в 1970г. и окончил Московский инженерно- физический институт. Внук Андрей стал архитектором, окончил Московский архитектурный институт. По его проекту построено несколько объектов в Москве. Жена Ирина - генеральный директор, руководит проектной фирмой.
Младший сын, Евгений, родился в 1949 г. в г. Долинске Сахалинской области. С малого возраста, еще в детском саду он всегда играл с девочками, о чем говорила воспитательница. Вокруг Жени всегда девочки, играют тихо. Очень спокойный был ребенок. В семье не было девочки, трое детей и все мальчики. Быть может, поэтому ему нравилось играть с девочками.
Однажды был случай: пошла я с ним в кино на детский сеанс. Было ему 5 лет. В тот день старшие братья ушли по своим делам. В зале клуба было много детей, и до начала сеанса малыш играл с девочками своего возраста. Кричали громко, смеялись еще громче. Придумали игру ловить друг друга, Было весело и интересно. Вечером после сеанса я готовлю ужин, а сын говорит мне, что у нас нет девочки, и что нам надо купить девочку и как интересно с ними играть. Я не знала, как ему ответить, и пообещала, что потом куплю.
Сын рос спокойным. Чаще находился рядом с мамой, помогал по дому. Особенно часто я посылала его в магазин. Он никогда не отказывался, а если я что-нибудь забывала купить, он спрашивал, почему же я не сказала ему об этом сразу, и все равно опять шел в магазин.
Летом, после окончания младшим сыном второго класса школы, я со старшими сыновьями собиралась съездить на материк. Тогда мы по-прежнему жили в поселке Микояновскс на Камчатке. В Усть-Большерецком районе это известное место. Женя оставался с отцом дома. Пока я готовилась к отьезду, много было сказано о том, почему я беру с собой только старших сыновей. Слез не было. Я не знала, что у него на душе, какая потом будет реакция. За время нашей поездки в Москву Женя должен был с друзьями съездить в пионерский лагерь. В наше отсутствие предполагалось, что он будет питаться с отцом в столовой.
Уезжая, я чуть не плакала, хотя и не показывала виду. Расстались мы спокойно. Не знаю, в каком настроении был ребенок. А когда мы вернулись домой, сын со слезами бежал навстречу нашему катеру. Обнимая сына, я плакала, ругая себя за то, что уезжала без него. Я поняла, что под внешней выдержанностью ребенка на самом деле скрывалось действительно тяжелое для него испытание. Я утешала его и говорила, что больше так не будет. Он еще долго плакал, правда, от радости.
После окончания средней школы в г. Холмске. как и его старший брат, сын поступил в Ленингоаде в Ленинградский политехнический институт, а по окончании в 1972 г. был направлен на работу на Ленинградский машиностроительный завод турбинных лопаток, где и работает по сей день в конструкторском бюро. Жена Валентина — инженер-конструктор. Дочь Наталья окончила факультет экономики и управления государственного Университета телекоммуникаций им. М. А Бонч-Бруевича в г. Санкт-Петербурге. А уж с появлением правнучки-то! Вот где радость!
Итак, от трех сыновей 2 внука, 2 внучки и одна правнучка Ульяна! Ей уже 7 месяцев!
Школа была полная средняя. два старших сына посещали школу, а младший сын детский сад. Сознавая, что дети должны расти рядом с отцом, я ездила вместе с мужем всюду; куда бы его ни направляли. Всегда соглашалась ехать вместе в эти командировки, хотя всегда приходилось жить в плохих климатических условиях, при плохом продовольственном снабжении: в то время в тех краях не было ни овощей, ни, тем более, фруктов.
Муж рано остался без родителей: сначала он жил у бабушки по матери, а с ее смертью он жил у дяди брата матери. Мы поженись по окончании института. Он очень любил детей, тогда ему было 35 лет. О себе мы не думали, были молоды. Некогда было думать о себе, как и многим другим в то послевоенное время.
Годы работы на Камчатке привнесли новые впечатления и новые переживания. В 1953- 1960 гг привелось поработать в средней школе нашего поселка Микояновск Усть Большерецкого района Камчатской области. Моя работа косвенным образом оказалась связана с работой мужа, поэтому ниже несколько слов о его работе.
Муж всегда был доволен иностранными рабочими из КЯДР, их отношением к своим обязанностям. Особенно он был доволен общением с рабочими на родном языке. Они добросовестно выполняли свою работу, была хорошая дисциплина, серьезное отношение ко всему, особенно это касалось выполнения плановых заданий. В семьях все было благополучно, дети ходили в школу без пропусков и опозданий, аккуратно выполняли домашние задания и принимали активное участие во всех мероприятиях, проводившихся в школе в целом.
Работая в школе преподавателем химии и биологии, я изъявила желание помочь родителям этих детей, особенно матерям. в изучении русского языка. Ведь они не знали ни одной буквы, не понимали ни ОДНОГО СЛОВА по русски. Собирались мы на занятия вечерами по З раза в неделю в красном уголке. Начали изучение русского языка с азбуки. Затем стали писать свои имена, фамилии, названия продуктов, запоминали их. Затем осваивали устный счет. Большой интерес был у всех.
По воскресеньям один раз в месяц собирались на родительское собрание, на котором слушали доклады на корейском языке о семейном воспитании детей. А в 1960 г. состоялся 1-й выпуск учащихся семилетней школы. Мне была выражена большая благодарность от родителей за помощь в течение всего этого времени. Все корейские семьи отбыли на Родину осенью в том же году
По окончании срока работы по трудовому договору на рыбокомбинате мужу предоставили выбор места дальнейшей работы. Но к тому времени мы уже сделали выбор: решили снова переехать в Сахалинскую область, город Холмск, что и сделали в том же 1960 г. В то время там еще были корейские школы с частичным обучением на корейском языке, и требовались учителя со знанием языка, о чем сообщил нам мой средний брат Александр. К тому времени и он уже жил в Сахалинской области с семьей. Мы сразу же написали письмо в облоно Сахалинской области и через некоторое время получили ответ - нас приглашали в распоряжение облоно. Мы с мужем были направлены в г. Холмск Сахалинской области, а в Холмском гороно нам дали направление в корейскую среднюю школу № 5. Муж по образованию был преподавателем математики, а я по прежнему стала преподавать химию и биологию. Нам предоставили жилье, дети пошли в русскую среднюю школу № б. Условия жизни здесь были много лучше, чем на Камчатке, и в плане питания, и, что немаловажно, в отношении климатических особенностей, т.к. это непосредственно затрагивало здоровье детей, В магазинах и на рынке были разные овощи и фрукты. Через некоторое время муж был приглашен работать инструктором в горком партии.
В те годы я была очень перегружена уроками в школе, к тому же была еще и общественная работа. Поэтому домой возвращалась всегда поздно. Старшие сыновья помогали по дому, сами вели домашние дела сознательно и добросовестно, знали что делать, как мы когда-то в далеком детстве. Особенно старший сын, Харлам: умел приготовить еду, руководил своими младшими братьями. Работа по дому распределялась так, что старшему выпадало занятие потруднее, а младшему - самое маленькое поручение.
Во всех школах, где я работала в те годы, я неоднократно была награждена грамотами за добросовестную учебно-воспитательную работу и на один срок избиралась народным заседателем Микояновского поселкового Народного суда.
После повторного переезда в Сахалинскую область с июля 1960 по 1972 гг. работала в средних школах г. Холмска Сахалинской области.
Здесь, в городской школе №5, кроме учебно-воспитательной работы по программе школы, я вела внеклассную работу В школе был пришкольный участок, за который я была ответственной. Каждый год осенью, после уборки урожая с нашего участка, организовывались выставки и наша школа неоднократно занимала первое место в течение 6 лет. Большое удивление родителей вызывал хороший сбор урожая с нашего участка. Было составлено описание методов выращивания и применения минеральных удобрений, в результате использования которых собиралось много столовой свеклы, моркови, тыквы крупного размера, прекрасных клубней картофеля и др.
В течение всего лета учащиеся сами дежурили по звеньям, ухаживали за растениями: полив, прополка, окучивание посадок. Соревновались между звеньями. С большим интересом вели наблюдения за вегетацией, дветением, образованием плодов и т.д. Наша полная средняя школа № 5 г. Холмска Сахалинской области принимала активное участие в весенней олимпиаде по художественной самодеятельности.
Две выпускницы нашей школы ныне проживают в г. Москве — это Эльза Ли и Светлана Чу. По окончании института Эльза Ли в течение многих лет работала по специальности в г. Москве, а теперь, став бабушкой и пенсионеркой, продолжает работать на другой работе.. Выпускница Светлана Чу, окончив институт и, став филологом, долгое врем работала по закрытой тематике. Ныне она прекрасный переводчик библейских проповедей в церквях и, кроме того, сейчас занята переводом книги с корейского языка на русский язык для издания в России. Мы дружески общаемся по разным поводам, хотя и не так часто, как хотелось бы. Они с уважением и вниманием относятся ко мне, навещают на дому и, не забывая поздравляют с днем рождения. Как это приятно!
После закрытия корейских школ в Сахалинской области, я продолжила преподавание в школе № 9 г Холмска. При выходе на пенсию в 1972 г. от имени преподавательского коллектива мне подарили большой красивый столовый сервиз и тепло отметили мою работу в школе.
За все время работы преподавателем в школе я побывала в разных городах, т.к. в связи с новыми назначениями мужа приходилось менять и место жительства. Но где бы я ни работала, везде достойно оценивали результаты моего труда и награждали грамотами.
В 1963 г. я была избрана депутатом городского Совета депутатов по избирательному округу 36 г. Холмска Сахалинской области.
В 1964 году награждена значком «Отличник народного просвещения» от Министерства просвещения РСФСР.
В 1972 году, имея 30-летний стаж педагогической работы в средних школах, ушла на заслуженный отдых. Все три сына с высшим образованием: старший сын, Харлам, окончил Ленинградский политехнический институт в 1968 г. Средний сын, Владислав, - Московский инженерно-физический институт в 1970 г., а младший Енгений, так же как и старший брат, - Ленинградский политехнический институт в 1972 г., о чем я еще упомяну ниже.
Часть 10. 0 детстве и юности моих детей
Старший сын Харлам родился в 1944 г. в Узбекистане, а в 1951 г., когда он был учеником второго класса школы, мы жили в г. Хабаровске. Недалеко от нашего дома находился магазин «Молоко», и он уже много раз ходил туда за покупками. В тот день. как обычно, он принес молоко и, перелив его в кастрюлю поставил на электроплитку, чтобы прокипятить. Потом пошел в детский сад за своим братиком Владиком. Вернувшись, увидел у подъезда играющих мальчиков, в том числе и товарища Леню из своего класса. Задержался поиграть и забыл о молоке. Когда вспомнил и поднялся на наш 7-й этаж, то и сам почувствовал залах подгоревшего молока. Мы занимали одну комнату в трехкомнатной квартире. Через стенку жила семья бабушка Наталья Григорьевна и дочь Ольга. Кухня у нас была общая на три семьи. Молодой семьи из третьей комнаты в тот момент не было дома. Но бабушка не знала, что на кухне включена плитка с молоком. Когда она вышла на кухню, все молоко выкипело, эмаль растрескалась, пошел дым. Сын испугался и стал плакать, а за ним и младшие Владик и Женя. Последнего только что привезли из яслей. Бабушке стало жалко детей, и она сказала, что хорошо, что нет пожара. А сын сквозь слезы говорит, что жалко кастрюлю, которую мама купила для молока.
Прихожу из школы после второй смены, и Наталья Григорьевна рассказывает мне, как все случилось, что жалко ребенка, и надо бы ему гулять с товарищами, а на нем такая нагрузка. Заплаканный сынок уснул, а бабушка все продолжала рассказывать о происшедшем. Конечно, мне было жалко сына, ведь он был еще ребенок и перенес такой стресс. Переживал, жалея маму и кастрюлю. Я и сама поплакала, присев на край кровати, не стала его будить, а он, проснувшись, опять стал плакать, а за ним и младшие. Как я себя ругала, что вместо прогулки на воздухе дала ребенку опасное задание. Ему было7 лет, но он был уже во втором классе. В первый класс поступил в неполные 6 лет. В 1950г. после войны недобор был велик, детей было мало. Приняли его в первый класс после того, как он ответил на 5 вопросов по арифметике. Устно решал примеры и считал на счетах. По букварю читал свободно.
Однажды, в третьем классе, сын со средним братом отправились в кино, и на выходе из зала с его головы сорвали шапку, которую муж получил с новым обмундированием. Конечно, пришел домой со слезами, но не из-за того, что замерз, а потому что было обидно. Узнал: есть такие хулиганы, которых не задерживают и не наказывают.
Война закончена, но в период восстановления в разрушенной стране жить было трудно. Я работала в школе в две смены, надеяться только на мужа было нельзя — он сам приходил поздно, когда дети уже спали.
В 7-8 классах школы после выполнения домашних заданий Харпам выходил во двор, рубил дрова, наводил порядок. Соседи говорили, что растет будущий хозяйственник. Учился он хорошо, помогал классному руководителю в оформлении класса. Сам находил себе дела. Был он также и заботливым сыном. Через несколько лет, после переезда в г. Холмск Сахалинской области и окончания школы, он поехал в Ленинград и поступил в Ленинградский политехнический институт. Окончил его в 1968г.
Работал в должности главного технолога на химкомбинате в г. Дзержинске Горьковской области. В 1974-1979 гг. работал на пуске оборудования для химкомбинатов в городах Сумгаит (Азербайджан), Навои (Узбекистан), Стерлитамак (Башкирия), Яван (Таджикистан).
В 1979-1981 гг. привелось поработать и за границей, в Болгарии. В течение 3-х лет работал на пуске химического комбината (Девня) близ г. Варна, где жили советские специалисты. По вызову сына я две недели провела в Варне, побывала в Софии, отдохнула у моря на Золотых песках.
г 23
После возвращения из Болгарии сын долгое время работал в г. Дзержинске Нижегородской области, а в последние годы работает на объектах Газпрома на Севере в городах Уренгой, Новый Уренгой, Ямбург.
Средний сын, Владислав. родился в 1946 г., также в Узбекистане. С 1953 по 1960 гг. мы жили в поселке Микояновск Усть-Большерецкого района Камчатской области, где располагался крупный рыбоперерабатывающий комбинат. Помню, наш дом стоял у пруда, а с другой стороны пруда была улица, дальше которой начинался морской берег. Сын любил проводить время на морском берегу. Был любознательным. Любил наблюдать полет чаек и других морских птиц. С интересом наблюдал живых обитателей моря, работу рыбаков большого рыбокомбината, размещавшегося неподалеку от нашего базового поселка. После прогулки часто приходил домой довольный и говорил, как интересно наблюдать происходящее на берегу и что было бы плохо жить без моря.
Однажды, на исходе зимы, после школы сын с мальчиками играл на берету нашего пруда. Пруд был большой, но каков он по площади, я не знала. Вдруг под одним из мальчиков проломился лед, и он оказался в воде. А дело было к весне. Все закричали, но никто не решился или был не в состоянии оказать помощь. Однако мой сын по сохранявшейся ледяной кромке подобрался к мальчику и, рискуя провалиться так же, как и он, помог выбраться этому мальчику на берег. Потом в местной газете «Коммунист» появилась статья об оказанной моим сыном помощи.
Как-то, будучи в 8-м классе школы, сын отправился в двухдневный поход со своими сверстниками. Когда возвращались домой, сын нарвал полевые цветы и собрал хороший букет для мамы На другой день утром звонит преподаватель физкультуры, который сопровождал классного руководителя в этом походе, и благодарит меня за то, что вырастила сына скромного, внимательного и любяшего свою маму: из всего класса сын был единственным, кто вез цветы для мамы.
После окончания средней школы сын поступил и в 1970г. и окончил Московский инженерно- физический институт. Внук Андрей стал архитектором, окончил Московский архитектурный институт. По его проекту построено несколько объектов в Москве. Жена Ирина - генеральный директор, руководит проектной фирмой.
Младший сын, Евгений, родился в 1949 г. в г. Долинске Сахалинской области. С малого возраста, еще в детском саду он всегда играл с девочками, о чем говорила воспитательница. Вокруг Жени всегда девочки, играют тихо. Очень спокойный был ребенок. В семье не было девочки, трое детей и все мальчики. Быть может, поэтому ему нравилось играть с девочками.
Однажды был случай: пошла я с ним в кино на детский сеанс. Было ему 5 лет. В тот день старшие братья ушли по своим делам. В зале клуба было много детей, и до начала сеанса малыш играл с девочками своего возраста. Кричали громко, смеялись еще громче. Придумали игру ловить друг друга, Было весело и интересно. Вечером после сеанса я готовлю ужин, а сын говорит мне, что у нас нет девочки, и что нам надо купить девочку и как интересно с ними играть. Я не знала, как ему ответить, и пообещала, что потом куплю.
Сын рос спокойным. Чаще находился рядом с мамой, помогал по дому. Особенно часто я посылала его в магазин. Он никогда не отказывался, а если я что-нибудь забывала купить, он спрашивал, почему же я не сказала ему об этом сразу, и все равно опять шел в магазин.
Летом, после окончания младшим сыном второго класса школы, я со старшими сыновьями собиралась съездить на материк. Тогда мы по-прежнему жили в поселке Микояновскс на Камчатке. В Усть-Большерецком районе это известное место. Женя оставался с отцом дома. Пока я готовилась к отьезду, много было сказано о том, почему я беру с собой только старших сыновей. Слез не было. Я не знала, что у него на душе, какая потом будет реакция. За время нашей поездки в Москву Женя должен был с друзьями съездить в пионерский лагерь. В наше отсутствие предполагалось, что он будет питаться с отцом в столовой.
Уезжая, я чуть не плакала, хотя и не показывала виду. Расстались мы спокойно. Не знаю, в каком настроении был ребенок. А когда мы вернулись домой, сын со слезами бежал навстречу нашему катеру. Обнимая сына, я плакала, ругая себя за то, что уезжала без него. Я поняла, что под внешней выдержанностью ребенка на самом деле скрывалось действительно тяжелое для него испытание. Я утешала его и говорила, что больше так не будет. Он еще долго плакал, правда, от радости.
После окончания средней школы в г. Холмске. как и его старший брат, сын поступил в Ленингоаде в Ленинградский политехнический институт, а по окончании в 1972 г. был направлен на работу на Ленинградский машиностроительный завод турбинных лопаток, где и работает по сей день в конструкторском бюро. Жена Валентина — инженер-конструктор. Дочь Наталья окончила факультет экономики и управления государственного Университета телекоммуникаций им. М. А Бонч-Бруевича в г. Санкт-Петербурге. А уж с появлением правнучки-то! Вот где радость!
Итак, от трех сыновей 2 внука, 2 внучки и одна правнучка Ульяна! Ей уже 7 месяцев!
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
20-04-2011 22:30
(ссылка)
продолжение рассказа "Возвращение к истокам "Тен Г.Д.
Плыли 5 суток с большими трудностями, т.к. дети и я плохо переносили морскую болезнь. После прибытия в порт города Петропавловск-Камчатский через день предстояла пересадка на другое судно, но уже, к сожалению, гораздо более мелкого водоизмещения. И опять изнурительньий переход, теперь к оконечности полуострова Камчатка и далее вдоль западного побережья полуострова до пункта Микояновск.
К концу пути я не могла ни вставать, ни есть. Наше судно, а это было рыболовное судно, встало на рейде невдалеке от пункта назначения, т.к. порта как такового здесь просто не было. Дальнейший способ продвижения к берегу и перемещения непосредственно на сушу представлял собой скорее какие-то манипуляции в цирке: к борту нашего судна подали военную баржу и большой рыбацкий кунгас - это такая рыбацкая посудина. Затем прибывших пассажиров с их багажом разместили поочередно на нескольких поддонах из досок, установленных на палубе нашего судна на нескольких больших развернутых рыболовных сетях с захватами по углам, и поднимали эти сети с грузом вверх поочередно с помощью лебедок, причем в условиях волнения на море. Затем стали переносить эти громадные сети-мешки на подошедшие к борту небольшие суда. Так, наконец, пришло осознание сути проводимой операции. Где же все эти описанные в книгах трапы? Где все те немногочисленные, известные нам по литературе, подробности морской жизни? Вот где был страх за детей! Да и самой страшно висеть на большой высоте над водой, при качке, при плохом самочувствии! Тогда я пожалела: ведь можно было остаться в Хабаровске, знай я обо всех приключениях на пути к Камчатке.
И вот перегрузка всех пассажиров, а иначе это не назовешь — это не пересадка, завершена. Направляемся к берегу. Там нас уже ждут. Плохо помню, как сошли на берег. Рядом, на некотором расстоянии от воды, была расположена большая, как потом выяснилось, специальная рыболовная площадка из двух прямоугольных половин, расположенных под небольшим углом друг к другу и по линии сопряжения соединенных специальным широким металлическим желобом для подачи рыбы к транспортеру. Она служила приемной площадкой для разгрузки небольших рыболовных судов: здесь действовал крупный рыбокомбинат. Кунгас с уловом рыбы по рельсам, уходящим в воду с помощью тросов и лебедок подтягивался к площадке, сеть приподнималась над площадкой и рыба серебристой волной высыпалась на площадку. По двум наклонным площадкам и далее по металлическому желобу она направлялась длинным транспортером на рыбокомбинат и подавалась в различные рыборазделочные и другие цехи. А вокруг мальчишки! Интересно!
На берегу нас повезли в гостиницу, а там холод, и нет никакой точки общепита. Надо было немедленно, пока не поздно, сходить в магазин: кормить детей, быстрее кормить детей, ведь день клонился к вечеру. Быстро вскипятила чай, развернула купленный хлеб и соленую селедку — вот и весь ужин. Спустя несколько дней нам предоставили жилье - 1-комнатный домик с кухней. Отапливался он углем. Еду готовили на кирпичной плите с колосниками, маленьким поддувалом и заслонкой, установленной высоко в стене в месте пролегания дымохода. Воду носили из реки под названием «Большеоецк» (видимо по названию районного центра), которая протекала с другой стороны расположившегося вдоль побережья моря нашего поселка Микояновск. Так что поселок разместился фактически между морем и рекой. Он состоял из нескольких, стоявших на удалении в несколько километров друг от друга, базовых поселений от верховья и до устья реки. Наша центральная часть поселка это две параллельные улицы, распадавшиеся на отдельные рукава. Всего населения на всех базах, поговаривали, несколько тысяч, а то и все 10 тысяч. Это был большой поселок, не похожий на сельское поселение - ки по виду улиц и домов, ни по составу населения. Здесь были те, кто проживал постоянно, и много тех, кто приехал на сезонную работы по найму из разных регионов материка,
-. география знаменательная, в том числе и из европейской части страны. Они жили в бараках с земляным полом. Бедность. Пьянство. Из коренных жителей Камчатки - никого. Оно и понятно: рыбной промышленности требовались квалифицированные рабочие определенных профессий.
К концу пути я не могла ни вставать, ни есть. Наше судно, а это было рыболовное судно, встало на рейде невдалеке от пункта назначения, т.к. порта как такового здесь просто не было. Дальнейший способ продвижения к берегу и перемещения непосредственно на сушу представлял собой скорее какие-то манипуляции в цирке: к борту нашего судна подали военную баржу и большой рыбацкий кунгас - это такая рыбацкая посудина. Затем прибывших пассажиров с их багажом разместили поочередно на нескольких поддонах из досок, установленных на палубе нашего судна на нескольких больших развернутых рыболовных сетях с захватами по углам, и поднимали эти сети с грузом вверх поочередно с помощью лебедок, причем в условиях волнения на море. Затем стали переносить эти громадные сети-мешки на подошедшие к борту небольшие суда. Так, наконец, пришло осознание сути проводимой операции. Где же все эти описанные в книгах трапы? Где все те немногочисленные, известные нам по литературе, подробности морской жизни? Вот где был страх за детей! Да и самой страшно висеть на большой высоте над водой, при качке, при плохом самочувствии! Тогда я пожалела: ведь можно было остаться в Хабаровске, знай я обо всех приключениях на пути к Камчатке.
И вот перегрузка всех пассажиров, а иначе это не назовешь — это не пересадка, завершена. Направляемся к берегу. Там нас уже ждут. Плохо помню, как сошли на берег. Рядом, на некотором расстоянии от воды, была расположена большая, как потом выяснилось, специальная рыболовная площадка из двух прямоугольных половин, расположенных под небольшим углом друг к другу и по линии сопряжения соединенных специальным широким металлическим желобом для подачи рыбы к транспортеру. Она служила приемной площадкой для разгрузки небольших рыболовных судов: здесь действовал крупный рыбокомбинат. Кунгас с уловом рыбы по рельсам, уходящим в воду с помощью тросов и лебедок подтягивался к площадке, сеть приподнималась над площадкой и рыба серебристой волной высыпалась на площадку. По двум наклонным площадкам и далее по металлическому желобу она направлялась длинным транспортером на рыбокомбинат и подавалась в различные рыборазделочные и другие цехи. А вокруг мальчишки! Интересно!
На берегу нас повезли в гостиницу, а там холод, и нет никакой точки общепита. Надо было немедленно, пока не поздно, сходить в магазин: кормить детей, быстрее кормить детей, ведь день клонился к вечеру. Быстро вскипятила чай, развернула купленный хлеб и соленую селедку — вот и весь ужин. Спустя несколько дней нам предоставили жилье - 1-комнатный домик с кухней. Отапливался он углем. Еду готовили на кирпичной плите с колосниками, маленьким поддувалом и заслонкой, установленной высоко в стене в месте пролегания дымохода. Воду носили из реки под названием «Большеоецк» (видимо по названию районного центра), которая протекала с другой стороны расположившегося вдоль побережья моря нашего поселка Микояновск. Так что поселок разместился фактически между морем и рекой. Он состоял из нескольких, стоявших на удалении в несколько километров друг от друга, базовых поселений от верховья и до устья реки. Наша центральная часть поселка это две параллельные улицы, распадавшиеся на отдельные рукава. Всего населения на всех базах, поговаривали, несколько тысяч, а то и все 10 тысяч. Это был большой поселок, не похожий на сельское поселение - ки по виду улиц и домов, ни по составу населения. Здесь были те, кто проживал постоянно, и много тех, кто приехал на сезонную работы по найму из разных регионов материка,
-. география знаменательная, в том числе и из европейской части страны. Они жили в бараках с земляным полом. Бедность. Пьянство. Из коренных жителей Камчатки - никого. Оно и понятно: рыбной промышленности требовались квалифицированные рабочие определенных профессий.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
19-04-2011 19:25
(ссылка)
продолжение"Воспоминаний...."
б Из воспоминаний
Возвращение к истокам
(продолжение 3-1)
Тен Галина Дмитриевна
преподаватель средней школы
Другой незабываемый случай в период учебы произошел в первом полугодии на 4-м курсе. Я жила в одной комнате со студенткой Аней Титовой. Она перевелась в наш университет из Казахстана. Был у нее ребенок — мальчик четырех лет. После ухода мужа на фронт одна, без помощи со стороны, она не могла посещать занятия из-за малыша. Отчасти поэтому Лия перевелась к нам, отправив его к матери. Получилось так, что мест в общежитии факультета иностранных языков, куда ее зачислили на 4-й курс с октября, уже не было. Так она попала к нам в комнату общежития биологического факультета. Несколько месяцев спустя она получила письмо с фронта от мужа. Он воевал на западном фронте, не помню где. Письмо было написано в стихотворной форме со словами из песни «Темная ночь». Видимо; он знал слова наизусть, и Аня после получения письма все время напевала эту песню со слезами на глазах. Когда мы приходили в общежитие усталые и голодные, Аня все просила нас спеть вместе с ней и вновь перечитывала письмо. Но проходила ночь, и вот уже скоро нам идти на дежурство! Конечно, нам тоже было грустно, мы жалели Аню и ее мужа-бойца и часто пели с ней со слезами. И вот однажды, получив письмо от матери и узнав, что заболел ее сынишка, она оформила академический отпуск и уехала к маме.
Нам всегда было грустно, когда мы приходили в госпиталь. За что страдают раненые? МЫ с Тоней Бурягиной дежурили на одном посту Нам всегда было жалко раненых у кого-то из-за ранений болели ступни и голени, у кого-то была рана в боку и высокая температура. некоторые громко стонали от боли, некоторые плакали, а кому-то была необходима перевязка головы. Помню, как один раненый просил написать письмо матери, так как правая рука его была ампутирована по локоть, а левой писать он еще не научился. Конечно, Тоня Бурягина написала письмо его матери с его слов, но ответа долго не было. Так что у нас довольно часто бывали грустные случаи, ведь война, как теперь и мы познали, жестока ко всем без разбору.
Конечно, было много молодежи - энтузиастов, патриотов Родины, уходивших на фронт и остававшихся в тылу! Мы хотели быть, как они, уходившие на фронт. У нас на курсе осталось всего З парня, которые были с физическими недостатками, а остальные ушли на фронт, многие добровольно.
Мы много работали, несмотря на голод, холод в общежитии и недостаточный сон. У нас не было денег купить что-нибудь перекусить, в продаже не было ничего съедобного. А в студенческой столовой, где только и можно было хоть как-то пообедать, одна «затируха» и хлеб по карточкам. На наше поколение выпало увидеть тяготы военного времени в тылу — время неизбывного горя, время ожидания и лишений, время личных трагедий и трагедии всего народа. Но что ж тогда на фронте?! Как же трудно там! Сколько же там боли и смертей! Работая в госпитале, мы это, хотя и частично, но все же были в состоянии осознать. И мы просто понимали, что мы здесь, в тылу, нужны, своей крупицей помощи.
Но, по молодости лет, все трудности - неосознаваемые временные, и вот уже близится окончание университета. Это было большое желание моих старших братьев Андрея и Александра, они помогали мне материально по мере возможностей. Выражаю им большую благодарность.
Закалка, которую я приобрела в период депортации с Дальнего Востока и учебы в ВУЗе в военные годы, помогала мне в работе все последующие после окончания университета годы до ухода на пенсию, помогает и сейчас в пенсионном возрасте, в 84 года!
И вот впереди уже и государственные экзамены. В трудных условиях успешно сдала все экзамены. В апреле 1944 года мы окончили ВУЗ, и нам вручили дипломы об окончании
САГУ.
Как я уже отмечала, на время учебы пришлась жестокая война, страна переживала большие трудности, и мы, чем могли, помогали стране и фронту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от б июня 1945 года я была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и много позже мне было присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны и тыла». Кроме того, 21 марта 2001 года мне вручено удостоверение <Ветеран Великой Отечественной войны». И, наконец, я награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».
Итак, война закончилась. Праздник день Победы. На дворе — май 1945 г, т.е. прошел уже один долгий год со дня окончания Университета и вручения дипломов, а я продолжаю работу в госпитале до 1 сентября 1945 г.
Часть 7. Мой средний брат Александр
Выше я уже описывала, как росли мы вместе с братом Сашей, и как я посещала одну с ним семилетнюю школу до ее окончания. И как вместе мы помогали маме по хозяйству.
После школы он поступил на рабфак при педагогическом институте в г. Владивостоке и проучился там до репрессий 1937 г. Был депортирован из Владивостока. Во второй части, было рассказано, как старший брат Андрей, приложив большие усилия, разыскал депортированных из разных мест дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию меня, маму ,братьев Валентина и Александра и собрал всех нас в г. Кзыл-Орде, где мы стали жить вместе. Александр продолжил учебу в пединституте и окончил его в 1941 г. После окончания он работал в школе с большой нагрузкой, чтобы быть в состоянии помогать мне материально, а когда я окончила университет, он переехал в Ташкентскую область, где работал преподавателем в школе в Средне-чирчикском районе. В 1953 г. по приглашению облоно Сахалянской области переехал в г. Холмск для работы директором городской школы № 5. до 1964г. в Сахалинской области было много корейских школ, но позже они были полностью расформированы на том основании, что уровень знания русского языка в корейских школах вполне достаточен для перехода к преподаванию во всех школах на русском языке.
В 1974 г. из-за болезни сердца Александр скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Похоронен в городе Холмск Сахалинской области.
Часть 8. Мой младший брат Валентин. Трудовой фронт
В начале своего повествования я уже рассказывала о детстве, о том, как мы росли, ходили в школу, всеми силами старались поддержать маму. Конечно, детство наше было суровое тяжелые условия жизни, рано не стало отца. Брат Валя был мал, но тоже помогал нам, видимо, больше повинуясь общему настрою старших, нежели осознанно.
Валя с малого возраста всегда был со мной. Старших сестер и брата Андрея не было дома, тем более не было уже и мамы. Он жил в интернате при школе под г. Ташкентом и часто приезжал ко мне в общежитие университета в Ташкент и к сестре Наде, которая заменила ему маму после ее смерти.
Валентин всегда был голоден, Питание в интернате было скудным. Придя к сестре, всегда говорил, что хочет есть. Поэтому сестра прежде всего старалась накормить его, а ведь у нее самой было пятеро детей и семья жила трудно.
В тылу с началом войны было много молодых людей, желавших попасть на фронт однако юношей корейцев на фронт не брали, т.к. мы считались репрессированными. Но многих все-таки забирали на трудовой фронт, в том числе и из числа молодых корейцев. Так на трудовой фронт попал мой младший бра Валентин, 1926г. рождения.
Было очень тяжело расставаться, но ничего
другого не оставалось, как только проводить его со
слезами. Их повели на железнодорожный вокзал в
строю, в сопровождении конвоя, как нарушителей, а
ведь они дети репрессированных родителей. Вместе с Моим братом был отправлен и его товарищ Хан Макс Николаевич. Оба работали на угольной шахте под г. Ухтой. Жили в одной комнате, в общежитии. Едва остались живы, когда случился пожар, выпрыгнув со 2-го этажа.
После окончания работ брат возвратился домой к сестре Надежде в Ташкент. Она рассказывала, что был он худым - один скелет, т.к. работать приходилось много, а питались большей частью упоминавшейся выше так называемой «затирухой» — супом, содержавшим комочки из муки. После возвращения был небольшой отдых, а потом учеба. Окончив институты, он и его товарищ работали, вступили в партию, дружили до конца жизни брата.
Жена брата, Ан Валентина Петровна, ныне председатель женского Общества кореянок г. Москвы. Достаточно успешно в течение десяти лет возглавляет она работу коллектива. Человек, рожденный со способностями организатора, она проводит большое количество разнообразных и интересных мероприятий, радуя людей продуманными решениями. А дочь Вера после окончания института иностранных языков имени Мориса Тореза вот уже больше 10 лет работает референтом-переводчиком в посольстве Республики Корея. Внук Павел заканчивает среднюю школу.
В Москве Валентин работал переводчиком во Всесоюзном радиокомитете 33 года и умер в октябре 1990 года в возрасте 64 лет. Похоронен на Хованском кладбище г. Москвы. Вспоминать всю историю его жизни очень тяжело и грустно.
Часть 9. Послевоенные годы: Средняя Азия. Дальний Восток
В апреле 1944 года, по окончании университета, я получила направление на работу в среднюю школу им. <20-летия Октября» Средне-чирчикского района Ташкентской области учителем химии и биологии, но продолжала работу в госпитале до сентября 1945 года, и уже к работе в школе приступила с 1-го сентября 1945 года.
Вышла замуж, родились дети - двое мальчиков. Старший сын Харлам родился в 1944 г. в Ташкентской области, средний сын, Владислав, родился там же. О младшем скажу ниже.
В послевоенные годы и позже очень трудно было растить и воспитывать детей. По содержанию прочитанных книг и статей из журналов родившимся после войны и, тем более, нынешней молодежи не представить себе полной картины о жизни в те годы. Во-первых, настолько трудно было в материальном отношении, что порой новорожденного ребенка не во что было завернуть: ни пеленок, ни распашонок. В продаже практически не было товаров для малых детей, И это ведь в центре! Что уж тут было говорить о жизни в области. Выдавали по 10 метров ткани для пошива пеленок и распашонок, на последней странице свидетельства о рождении делая отметку, что товар отпущен. Приходилось шить белье, а позже и верхнюю одежду для ребенка из поношенных вещей для взрослых.
Основной продукт питания — рис, а ведь его надо еще самим и вырастить на участке:
учителям выделяли земли по 20 соток. Сами делали прополку следили за тем, чтобы на всех клетках была вода, ведь рисовые поля с начала посева залиты водой. Посев производили коллективно с помощью колхоза. Я помню, как ходила на прополку вместе с мужем, неся ребенка на спине. Придя на участок, устраивали для ребенка на земле постель из ватного матраса под укрытием от солнца. На обед брали с собой рисовую кашу, а иногда лепешки из ячменной муки. Осенью заготавливали топливо, делая на зиму запас - топили сухим камышом. Летом скашивали его серпами, и, после того как он высохнет, связывали в снопы, относили на спине к себе во двор и укладывали штабелем.
В порядке помощи колхозу, летом, по воскресеньям, учителей направляли на прополку, а осенью - на уборку хлопка, причем в самый разгар работ на хлопке мы выезжали на 2-3 недели. с перерывом в школьных занятиях. Поэтому надо было непременно нанимать няню. Так было во время работы в школе в колхозе имени «20-летия Октября;», так было и в других местах.
Хорошо помню русскую бабушку Тамару Сергеевну, няню второго нашего сына, Владика. Он плакал перед сном и отказывался есть, так как скучал по маме, а она жалела его и плакала вместе с ним. Так бывало часто. Сначала Тамара Сергеевна была приходящей няней на каждый день, но, поскольку это было ей тяжело, пробыла она у нас один год, а потом уехала к дочери в колхоз «Северный маяк», у которой родился ребёнок и ей надо было помочь.
В 1948 году муж в числе других 15 членов партии был командирован ЦК партии Узбекистана в распоряжение Сахалинского областного Комитета партии. По этим с е м е й н ы м обстоятельствам и я выехала в Сахалинскую область и продолжила работу в школе.
В январе 1949 года в г. Долинске Сахалинской области у нас родился третий, младший сын. Дали ему имя Евгений.
Воспитывать троих детей там тогда было нелегко - трудности с питанием, и, как следствие резкой смены климатической зоны, — частые болезни детей. Поэтому, по заключению врачей о состоянии здоровья детей и по их настоятельной рекомендации, мужа перевели в г. Хабаровск, где я работала с сентября 1949 г. по июнь 1953 г. в городской средней школе № 35 с преподаванием на русском языке, т.к. учащиеся были русской национальности. Параллельно вела занятия в кружке юных натуралистов при городском Доме пионеров и школьников в г; Хабаровске.
В 1950 году училась на годичных курсах по повышению квалификации учителей при Хабаровском институте усовершенствования учителей. Даже сохранилось удостоверение об окончании.
Двое моих младших сыновей ходили в детский сад, а старший сын уже стал ходить в школу и был моим первым помощником - ходил за хлебом и молоком.
В 1948 году, в момент командирования мужа в Сахалинский обком, каких-либо решений о
реабилитации корейского населения по депортации 1937 года, конечно, не могло быть и в
помине, т.к. закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» вышел только 18
октября 1991 года. Муж, я и два старших сына были реабилитированы в 1996-2001 гг.
В 1953 году муж получил новое назначение, теперь уже от Хабаровского краевого Комитета партии, на работу в должности замдиректора рыбокомбината п. Микояновск Камчатской области по работе с иностранными рабочими - рыбаками из Корейской Народно демократической Республики (КНДР), куда и отбыл незамедлительно.
Я совершенно не представляла себе, какие трудности ожидают нас при отправке морским путем на Камчатку. Сначала мы выехали поездом из Хабаровска во Владивосток, и морем уже от Владивостока до Петропавловска-Камчатского на крупном по тем временам пароходе «Советский Союз».
Возвращение к истокам
(продолжение 3-1)
Тен Галина Дмитриевна
преподаватель средней школы
Другой незабываемый случай в период учебы произошел в первом полугодии на 4-м курсе. Я жила в одной комнате со студенткой Аней Титовой. Она перевелась в наш университет из Казахстана. Был у нее ребенок — мальчик четырех лет. После ухода мужа на фронт одна, без помощи со стороны, она не могла посещать занятия из-за малыша. Отчасти поэтому Лия перевелась к нам, отправив его к матери. Получилось так, что мест в общежитии факультета иностранных языков, куда ее зачислили на 4-й курс с октября, уже не было. Так она попала к нам в комнату общежития биологического факультета. Несколько месяцев спустя она получила письмо с фронта от мужа. Он воевал на западном фронте, не помню где. Письмо было написано в стихотворной форме со словами из песни «Темная ночь». Видимо; он знал слова наизусть, и Аня после получения письма все время напевала эту песню со слезами на глазах. Когда мы приходили в общежитие усталые и голодные, Аня все просила нас спеть вместе с ней и вновь перечитывала письмо. Но проходила ночь, и вот уже скоро нам идти на дежурство! Конечно, нам тоже было грустно, мы жалели Аню и ее мужа-бойца и часто пели с ней со слезами. И вот однажды, получив письмо от матери и узнав, что заболел ее сынишка, она оформила академический отпуск и уехала к маме.
Нам всегда было грустно, когда мы приходили в госпиталь. За что страдают раненые? МЫ с Тоней Бурягиной дежурили на одном посту Нам всегда было жалко раненых у кого-то из-за ранений болели ступни и голени, у кого-то была рана в боку и высокая температура. некоторые громко стонали от боли, некоторые плакали, а кому-то была необходима перевязка головы. Помню, как один раненый просил написать письмо матери, так как правая рука его была ампутирована по локоть, а левой писать он еще не научился. Конечно, Тоня Бурягина написала письмо его матери с его слов, но ответа долго не было. Так что у нас довольно часто бывали грустные случаи, ведь война, как теперь и мы познали, жестока ко всем без разбору.
Конечно, было много молодежи - энтузиастов, патриотов Родины, уходивших на фронт и остававшихся в тылу! Мы хотели быть, как они, уходившие на фронт. У нас на курсе осталось всего З парня, которые были с физическими недостатками, а остальные ушли на фронт, многие добровольно.
Мы много работали, несмотря на голод, холод в общежитии и недостаточный сон. У нас не было денег купить что-нибудь перекусить, в продаже не было ничего съедобного. А в студенческой столовой, где только и можно было хоть как-то пообедать, одна «затируха» и хлеб по карточкам. На наше поколение выпало увидеть тяготы военного времени в тылу — время неизбывного горя, время ожидания и лишений, время личных трагедий и трагедии всего народа. Но что ж тогда на фронте?! Как же трудно там! Сколько же там боли и смертей! Работая в госпитале, мы это, хотя и частично, но все же были в состоянии осознать. И мы просто понимали, что мы здесь, в тылу, нужны, своей крупицей помощи.
Но, по молодости лет, все трудности - неосознаваемые временные, и вот уже близится окончание университета. Это было большое желание моих старших братьев Андрея и Александра, они помогали мне материально по мере возможностей. Выражаю им большую благодарность.
Закалка, которую я приобрела в период депортации с Дальнего Востока и учебы в ВУЗе в военные годы, помогала мне в работе все последующие после окончания университета годы до ухода на пенсию, помогает и сейчас в пенсионном возрасте, в 84 года!
И вот впереди уже и государственные экзамены. В трудных условиях успешно сдала все экзамены. В апреле 1944 года мы окончили ВУЗ, и нам вручили дипломы об окончании
САГУ.
Как я уже отмечала, на время учебы пришлась жестокая война, страна переживала большие трудности, и мы, чем могли, помогали стране и фронту. Указом Президиума Верховного Совета СССР от б июня 1945 года я была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и много позже мне было присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны и тыла». Кроме того, 21 марта 2001 года мне вручено удостоверение <Ветеран Великой Отечественной войны». И, наконец, я награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».
Итак, война закончилась. Праздник день Победы. На дворе — май 1945 г, т.е. прошел уже один долгий год со дня окончания Университета и вручения дипломов, а я продолжаю работу в госпитале до 1 сентября 1945 г.
Часть 7. Мой средний брат Александр
Выше я уже описывала, как росли мы вместе с братом Сашей, и как я посещала одну с ним семилетнюю школу до ее окончания. И как вместе мы помогали маме по хозяйству.
После школы он поступил на рабфак при педагогическом институте в г. Владивостоке и проучился там до репрессий 1937 г. Был депортирован из Владивостока. Во второй части, было рассказано, как старший брат Андрей, приложив большие усилия, разыскал депортированных из разных мест дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию меня, маму ,братьев Валентина и Александра и собрал всех нас в г. Кзыл-Орде, где мы стали жить вместе. Александр продолжил учебу в пединституте и окончил его в 1941 г. После окончания он работал в школе с большой нагрузкой, чтобы быть в состоянии помогать мне материально, а когда я окончила университет, он переехал в Ташкентскую область, где работал преподавателем в школе в Средне-чирчикском районе. В 1953 г. по приглашению облоно Сахалянской области переехал в г. Холмск для работы директором городской школы № 5. до 1964г. в Сахалинской области было много корейских школ, но позже они были полностью расформированы на том основании, что уровень знания русского языка в корейских школах вполне достаточен для перехода к преподаванию во всех школах на русском языке.
В 1974 г. из-за болезни сердца Александр скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Похоронен в городе Холмск Сахалинской области.
Часть 8. Мой младший брат Валентин. Трудовой фронт
В начале своего повествования я уже рассказывала о детстве, о том, как мы росли, ходили в школу, всеми силами старались поддержать маму. Конечно, детство наше было суровое тяжелые условия жизни, рано не стало отца. Брат Валя был мал, но тоже помогал нам, видимо, больше повинуясь общему настрою старших, нежели осознанно.
Валя с малого возраста всегда был со мной. Старших сестер и брата Андрея не было дома, тем более не было уже и мамы. Он жил в интернате при школе под г. Ташкентом и часто приезжал ко мне в общежитие университета в Ташкент и к сестре Наде, которая заменила ему маму после ее смерти.
Валентин всегда был голоден, Питание в интернате было скудным. Придя к сестре, всегда говорил, что хочет есть. Поэтому сестра прежде всего старалась накормить его, а ведь у нее самой было пятеро детей и семья жила трудно.
В тылу с началом войны было много молодых людей, желавших попасть на фронт однако юношей корейцев на фронт не брали, т.к. мы считались репрессированными. Но многих все-таки забирали на трудовой фронт, в том числе и из числа молодых корейцев. Так на трудовой фронт попал мой младший бра Валентин, 1926г. рождения.
Было очень тяжело расставаться, но ничего
другого не оставалось, как только проводить его со
слезами. Их повели на железнодорожный вокзал в
строю, в сопровождении конвоя, как нарушителей, а
ведь они дети репрессированных родителей. Вместе с Моим братом был отправлен и его товарищ Хан Макс Николаевич. Оба работали на угольной шахте под г. Ухтой. Жили в одной комнате, в общежитии. Едва остались живы, когда случился пожар, выпрыгнув со 2-го этажа.
После окончания работ брат возвратился домой к сестре Надежде в Ташкент. Она рассказывала, что был он худым - один скелет, т.к. работать приходилось много, а питались большей частью упоминавшейся выше так называемой «затирухой» — супом, содержавшим комочки из муки. После возвращения был небольшой отдых, а потом учеба. Окончив институты, он и его товарищ работали, вступили в партию, дружили до конца жизни брата.
Жена брата, Ан Валентина Петровна, ныне председатель женского Общества кореянок г. Москвы. Достаточно успешно в течение десяти лет возглавляет она работу коллектива. Человек, рожденный со способностями организатора, она проводит большое количество разнообразных и интересных мероприятий, радуя людей продуманными решениями. А дочь Вера после окончания института иностранных языков имени Мориса Тореза вот уже больше 10 лет работает референтом-переводчиком в посольстве Республики Корея. Внук Павел заканчивает среднюю школу.
В Москве Валентин работал переводчиком во Всесоюзном радиокомитете 33 года и умер в октябре 1990 года в возрасте 64 лет. Похоронен на Хованском кладбище г. Москвы. Вспоминать всю историю его жизни очень тяжело и грустно.
Часть 9. Послевоенные годы: Средняя Азия. Дальний Восток
В апреле 1944 года, по окончании университета, я получила направление на работу в среднюю школу им. <20-летия Октября» Средне-чирчикского района Ташкентской области учителем химии и биологии, но продолжала работу в госпитале до сентября 1945 года, и уже к работе в школе приступила с 1-го сентября 1945 года.
Вышла замуж, родились дети - двое мальчиков. Старший сын Харлам родился в 1944 г. в Ташкентской области, средний сын, Владислав, родился там же. О младшем скажу ниже.
В послевоенные годы и позже очень трудно было растить и воспитывать детей. По содержанию прочитанных книг и статей из журналов родившимся после войны и, тем более, нынешней молодежи не представить себе полной картины о жизни в те годы. Во-первых, настолько трудно было в материальном отношении, что порой новорожденного ребенка не во что было завернуть: ни пеленок, ни распашонок. В продаже практически не было товаров для малых детей, И это ведь в центре! Что уж тут было говорить о жизни в области. Выдавали по 10 метров ткани для пошива пеленок и распашонок, на последней странице свидетельства о рождении делая отметку, что товар отпущен. Приходилось шить белье, а позже и верхнюю одежду для ребенка из поношенных вещей для взрослых.
Основной продукт питания — рис, а ведь его надо еще самим и вырастить на участке:
учителям выделяли земли по 20 соток. Сами делали прополку следили за тем, чтобы на всех клетках была вода, ведь рисовые поля с начала посева залиты водой. Посев производили коллективно с помощью колхоза. Я помню, как ходила на прополку вместе с мужем, неся ребенка на спине. Придя на участок, устраивали для ребенка на земле постель из ватного матраса под укрытием от солнца. На обед брали с собой рисовую кашу, а иногда лепешки из ячменной муки. Осенью заготавливали топливо, делая на зиму запас - топили сухим камышом. Летом скашивали его серпами, и, после того как он высохнет, связывали в снопы, относили на спине к себе во двор и укладывали штабелем.
В порядке помощи колхозу, летом, по воскресеньям, учителей направляли на прополку, а осенью - на уборку хлопка, причем в самый разгар работ на хлопке мы выезжали на 2-3 недели. с перерывом в школьных занятиях. Поэтому надо было непременно нанимать няню. Так было во время работы в школе в колхозе имени «20-летия Октября;», так было и в других местах.
Хорошо помню русскую бабушку Тамару Сергеевну, няню второго нашего сына, Владика. Он плакал перед сном и отказывался есть, так как скучал по маме, а она жалела его и плакала вместе с ним. Так бывало часто. Сначала Тамара Сергеевна была приходящей няней на каждый день, но, поскольку это было ей тяжело, пробыла она у нас один год, а потом уехала к дочери в колхоз «Северный маяк», у которой родился ребёнок и ей надо было помочь.
В 1948 году муж в числе других 15 членов партии был командирован ЦК партии Узбекистана в распоряжение Сахалинского областного Комитета партии. По этим с е м е й н ы м обстоятельствам и я выехала в Сахалинскую область и продолжила работу в школе.
В январе 1949 года в г. Долинске Сахалинской области у нас родился третий, младший сын. Дали ему имя Евгений.
Воспитывать троих детей там тогда было нелегко - трудности с питанием, и, как следствие резкой смены климатической зоны, — частые болезни детей. Поэтому, по заключению врачей о состоянии здоровья детей и по их настоятельной рекомендации, мужа перевели в г. Хабаровск, где я работала с сентября 1949 г. по июнь 1953 г. в городской средней школе № 35 с преподаванием на русском языке, т.к. учащиеся были русской национальности. Параллельно вела занятия в кружке юных натуралистов при городском Доме пионеров и школьников в г; Хабаровске.
В 1950 году училась на годичных курсах по повышению квалификации учителей при Хабаровском институте усовершенствования учителей. Даже сохранилось удостоверение об окончании.
Двое моих младших сыновей ходили в детский сад, а старший сын уже стал ходить в школу и был моим первым помощником - ходил за хлебом и молоком.
В 1948 году, в момент командирования мужа в Сахалинский обком, каких-либо решений о
реабилитации корейского населения по депортации 1937 года, конечно, не могло быть и в
помине, т.к. закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» вышел только 18
октября 1991 года. Муж, я и два старших сына были реабилитированы в 1996-2001 гг.
В 1953 году муж получил новое назначение, теперь уже от Хабаровского краевого Комитета партии, на работу в должности замдиректора рыбокомбината п. Микояновск Камчатской области по работе с иностранными рабочими - рыбаками из Корейской Народно демократической Республики (КНДР), куда и отбыл незамедлительно.
Я совершенно не представляла себе, какие трудности ожидают нас при отправке морским путем на Камчатку. Сначала мы выехали поездом из Хабаровска во Владивосток, и морем уже от Владивостока до Петропавловска-Камчатского на крупном по тем временам пароходе «Советский Союз».
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
16-04-2011 00:06
(ссылка)
Воспоминания Тен Г.Д.(продолжение)
1
Из воспоминаний
Возвращение к истокам
(продолжение)
Тен Галина Дмитриевна
преподаватель средней школы
Часть 3. Воспоминания о маме
В 1940 г., когда я училась на первом курсе САГУ в г. Ташкенте, заболела моя мама из-за проживания в неподходящих климатических условиях. Она умерла 25 марта 1940 г. в возрасте 57 лет, через 3 года после депортации. Похоронена в г. Кзыл-Орде. Вот каким горем обернулась для нас эта депортация.
В детстве я любила маму, как и все дети. Однако моя привязанность к маме была настолько сильной, что не могла я думать о ней спокойно, без слёз, даже будучи ученицей старших классов. Я и теперь, в 84 года, вспоминаю о маме со слезами.
Когда я получила письмо от брата о смерти мамы, а было это на 1-м курсе учебы в Ташкенте, со слезами снова и снова вспоминала я о прошлой жизни с мамой и о том, как сильно я грустила, когда оставалась без неё. За 2 недели до кончины мне сообщили телеграммой, что с мамой плохо, и вызвали меня. Я сразу же выехала к маме в г. Кзыл-Орду. С поезда — на автобус, подъезжаю к дому , вхожу во двор, вижу — горит тусклый свет в её комнате: мама уснула? У неё были настолько сильные отёки, что я расстроилась. Однако, к большой радости, со следующего дня эти отёки начинают проходить, состояние улучшается, и через неделю мне сказали, что можно возвращаться на занятия.
А когда она умерла, меня уже не стали срочно вызывать, а было только письмо. Вспоминаю каждую деталь о маме до сих пор.
Однажды был случай, когда нас, школьников, направили в летний пионерский лагерь после 5-го класса. Там по вечерам в течение многих дней я плакала, уснуть не могла. Так грустно было без мамы, ведь дома я всё время была рядом с ней. Хотелось уехать домой, но я поняла, что этого делать нельзя. Меня утешали свои же девочки, учителя — воспитатели, их было трое, и пионервожатая. Несколько раз с воспитателями заходил даже начальник лагеря. Мне и сейчас кажется удивительным, но никто тогда не ругал, только утешали, сочувствуя мне. днём подружки бегали за полевыми цветами и даже ходили купаться под присмотром, но я всё грустила. А такая красивая была там природа! У подножия гор текла речка, разноцветье трав, да и лес — деревья, кустарники, а у меня не было желания любоваться прекрасной природой, представляя, как мама одна работает по дому и на огороде. Жалко было маму.
Я вспоминала, как после окончания 7-летней школы уезжала учиться в Хабаровск. к старшему брату Андрею, и настало время расставания, мы обе стояли на перроне и плакали. Перед отправлением поезда мама спросила меня, когда я смогу теперь приехать. А что мне было ответить, ведь ехала я к старшему брату, ему со снохой и решать.
Из воспоминаний
Возвращение к истокам
(продолжение)
Тен Галина Дмитриевна
преподаватель средней школы
Часть 3. Воспоминания о маме
В 1940 г., когда я училась на первом курсе САГУ в г. Ташкенте, заболела моя мама из-за проживания в неподходящих климатических условиях. Она умерла 25 марта 1940 г. в возрасте 57 лет, через 3 года после депортации. Похоронена в г. Кзыл-Орде. Вот каким горем обернулась для нас эта депортация.
В детстве я любила маму, как и все дети. Однако моя привязанность к маме была настолько сильной, что не могла я думать о ней спокойно, без слёз, даже будучи ученицей старших классов. Я и теперь, в 84 года, вспоминаю о маме со слезами.
Когда я получила письмо от брата о смерти мамы, а было это на 1-м курсе учебы в Ташкенте, со слезами снова и снова вспоминала я о прошлой жизни с мамой и о том, как сильно я грустила, когда оставалась без неё. За 2 недели до кончины мне сообщили телеграммой, что с мамой плохо, и вызвали меня. Я сразу же выехала к маме в г. Кзыл-Орду. С поезда — на автобус, подъезжаю к дому , вхожу во двор, вижу — горит тусклый свет в её комнате: мама уснула? У неё были настолько сильные отёки, что я расстроилась. Однако, к большой радости, со следующего дня эти отёки начинают проходить, состояние улучшается, и через неделю мне сказали, что можно возвращаться на занятия.
А когда она умерла, меня уже не стали срочно вызывать, а было только письмо. Вспоминаю каждую деталь о маме до сих пор.
Однажды был случай, когда нас, школьников, направили в летний пионерский лагерь после 5-го класса. Там по вечерам в течение многих дней я плакала, уснуть не могла. Так грустно было без мамы, ведь дома я всё время была рядом с ней. Хотелось уехать домой, но я поняла, что этого делать нельзя. Меня утешали свои же девочки, учителя — воспитатели, их было трое, и пионервожатая. Несколько раз с воспитателями заходил даже начальник лагеря. Мне и сейчас кажется удивительным, но никто тогда не ругал, только утешали, сочувствуя мне. днём подружки бегали за полевыми цветами и даже ходили купаться под присмотром, но я всё грустила. А такая красивая была там природа! У подножия гор текла речка, разноцветье трав, да и лес — деревья, кустарники, а у меня не было желания любоваться прекрасной природой, представляя, как мама одна работает по дому и на огороде. Жалко было маму.
Я вспоминала, как после окончания 7-летней школы уезжала учиться в Хабаровск. к старшему брату Андрею, и настало время расставания, мы обе стояли на перроне и плакали. Перед отправлением поезда мама спросила меня, когда я смогу теперь приехать. А что мне было ответить, ведь ехала я к старшему брату, ему со снохой и решать.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
13-04-2011 19:39
(ссылка)
4 выпуск корейской школы №5 1962 год.
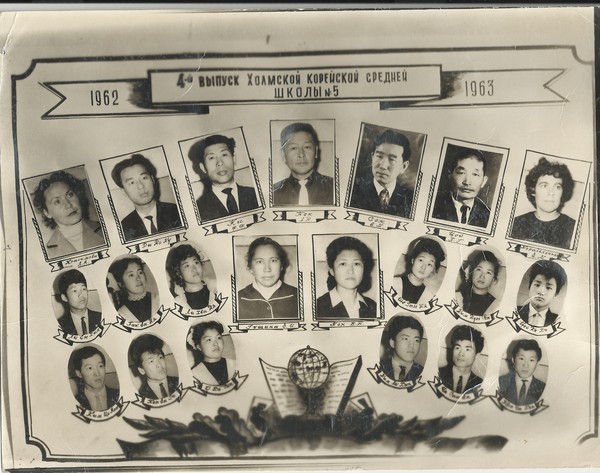 В центре автор воспоминаний "Возвращение к истокам" Тен Галина Дмитриевна (средний ряд четвертая справа) ,директор школы ее брат Тен Александр Дмитриевич -в центре верхнего ряда. третий справа в верхнем ряду ее муж Сон Владимир Миронович,второй справа в верхнем ряду мой отец - муж старшей сестры Галины Дмитриевны -Цой Петр Григорьевич.
В центре автор воспоминаний "Возвращение к истокам" Тен Галина Дмитриевна (средний ряд четвертая справа) ,директор школы ее брат Тен Александр Дмитриевич -в центре верхнего ряда. третий справа в верхнем ряду ее муж Сон Владимир Миронович,второй справа в верхнем ряду мой отец - муж старшей сестры Галины Дмитриевны -Цой Петр Григорьевич.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
02-04-2011 14:36
(ссылка)
История депортации корейцев с Дальнего Востока(продолжение)
Революция 1917 года всколыхнула все население империи, и корейцы не остались в стороне. В отличие от многих других народов, корейцы не стремились к основанию собственной автономии. Зато многие корейцы мечтали о независимости Кореи от ненавистных японцев. Поэтому, когда корейцы выходили на демонстрации протеста, они требовали не «земли и воли», а изгнания японских оккупантов. В марте 1919 года в Сеуле началось восстание против японцев, которое было подавлено с фирменной японской жестокостью – например, несшим корейские национальные флаги отрубали руки. На российских корейцев все это произвело сильное впечатление, и вскоре в Заамурье начали формироваться корейские отряды, которые собирались идти бить японцев. Впрочем, далеко идти было не надо, потому что японцы сами явились в Приморье в качестве интервентов. Теперь самурайские мечи рубили корейцев на российской территории. Рейды японцев по корейским селам стали систематическими. Корейцы же уходили в партизаны и боролись с оккупантами как могли.
Японцы остались в крае даже после того, как белое движение было разгромлено, а все другие интервенты покинули пределы бывшей Российской империи. Между территорией, занятой японцами, и большевиками была создана формально независимая Дальне-Восточная Республика (ДВР), находившаяся под фактическим контролем Москвы, но вынужденная считаться с требованиями японцев. Теперь перед большевиками стояла задача окончательного очищения страны от интервентов, и корейцы, как казалось некоторым советским вождям, могли бы оказаться полезными в этом деле.
В 1921-м корейские партизанские отряды слились в единый Сахалинский партизанский отряд. Находился он, правда, вовсе не на Сахалине, а в непосредственной близости от зоны японской оккупации. Формально отряд подчинялся властям ДВР, фактически – никому. Старый большевик, член Дальбюро ЦК РКП (б) Борис Шумяцкий попытался взять корейские формирования под свой контроль и отправить их воевать против японцев под флагом Коминтерна. Главой Сахалинского отряда Шумяцкий назначил своего ставленника Каландарашвили, которому предстояло превратиться из грузинского героя в корейского. Однако игра Шумяцкого вызвала неудовольствие руководства ДВР, которому были не нужны проблемы с японцами. Глава Совмина ДВР Краснощеков доносил наркому иностранных дел РСФСР Чичерину:
«Считая, что избежание войны с Японией является сейчас еще более необходимым, чем когда-либо, я категорически протестую против затеи Шумяцкого с корейцами, затеи, которая несет с собой крупнейшую провокацию японцев, тем более, что он поставил во главе «похода на Корею» выжившего из ума, известного на всем Востоке партизана Каландарашвили, который с видом и шумом Наполеона уже проехал всю ДВР командовать корейцами. Возмутительные факты: 1) 4000 корейцев сконцентрированы на глазах японцев у Благовещенска, творят безобразия, грабят, насилуют население, подчиняются только выборному из своей среды командованию; 2) корейский полк из Иркутска перебрасывается в Благовещенск, вызвав вопрос японцев; 3) переход старика с корейцами на китайскую территорию для двухтысячеверстного похода на Корею мог зародиться в голове, мягко говоря, поэта, но может вызвать японское наступление, вполне оправданное в глазах Антанты».
В поведении корейских партизан не было ничего необычного. Точно так же в то время вели себя и части Красной армии, включая легендарную Первую конную. Но Чичерин решил, что Шумяцкому не по чину проводить собственную внешнюю политику, и «поход на Корею» был запрещен. Однако корейцы и не думали подчиняться приказу и вышли из повиновения Каландарашвили. Кончилось дело так называемым «амурским инцидентом», когда большевистские войска окружили и уничтожили Сахалинский отряд, убив около 400 корейцев и взяв в плен еще около 900. На этом игры с корейской революцией закончились. Таким образом, новая власть за один год прошла примерно тем же путем, что и старая: от эйфории по поводу корейских начинаний до глубокого недоверия и враждебности.
«Ставится вопрос о внутрикраевом расселении»
В 1920-е годы положение корейцев в России мало изменилось по сравнению с дореволюционным периодом. Большинство по-прежнему арендовало земли у русских крестьян, а остальные страдали от безземелья. Новая власть пыталась решить вопрос по-революционному, то есть отнять землю у тех, у кого она есть, и отдать тем, у кого ее нет. В 1923 году власти решили передать корейцам землю, которую те арендовали у русских крестьян. Крестьянство ответило сгоном корейцев с земли и погромами. Многие корейцы, боявшиеся не дожить до наделения землей, бежали в Китай. К тому же русские, боясь отчуждений, перестали сдавать землю корейцам, что поставило многих из них на грань голода. Тем не менее большевики, умевшие как никто другой доводить экспроприацию до конца, отобрали земли и роздали корейцам, что не прибавило им популярности.
Предпринимавшиеся в те годы отдельные попытки расселить корейцев по территории России тоже приводили к недоразумениям с местным населением. Например, корейскую коммуну, основанную в Ростове-на-Дону, все окрестное население встретило враждебно: лояльные корейцы помогали властям осуществлять продразверстку и проводить раскулачивания. Наслышанные об особенностях корейской национальной кухни местные жители подкидывали в колодцы дохлых собак, а самих корейцев жестоко избивали.
Между тем наделить все дальневосточное «корнаселение» землей никак не получалось, и на повестку дня вновь встал вопрос о расселении корейцев подальше от границы. В 1927 году чиновник дальневосточного крайземуправления писал, что «предварительное обследование позволяет назвать районами желательного корейского расселения Курдаргинский район Хабаровского округа и Бирско-Бджанский район Амурского округа. Таким образом, ставится вопрос о внутрикраевом расселении корейцев со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Решение о «внутрикраевом расселении» действительно было принято, но провести его в жизнь в полном объеме не удалось – большинство корейцев не хотело переезжать. Около 1,5 тыс. человек все-таки расселили, но этого было недостаточно, чтобы решить вопрос с малоземельем. Тогда власти открыли новые направления для корейского переселения.
В это время Казахстан и Узбекистан планировали завести у себя рисоводство, однако в степях и пустынях было тяжело найти людей, сведущих в этом деле. Поэтому руководители обеих республик попросили прислать к ним корейских добровольцев. В 1929 году удалось собрать 220 корейцев, согласившихся ехать в Казахстан. Узбекистан, правда, отказался принять рисоводов, потому что выделенные на их обустройство средства понадобились для других целей. Однако идея переселения корейцев в эти республики была впоследствии реанимирована.
«Шпиону мерещились новые тысячи иен»
Советская власть сталкивалась в корейском вопросе с теми же проблемами, что и царские чиновники. С каждым неурожаем в Корее на советскую территорию перебирались беспаспортные нелегалы, среди которых попадались и японские шпионы. Правда, и советские спецслужбы занимались вербовкой корейцев и заброской их в сопредельную Маньчжурию и Корею. Японская контрразведка ловила этих шпионов и устраивала показательные процессы. Тем же занимались и аналогичные советские службы.
Приток новых иммигрантов старались ограничить, а выдачу паспортов всячески затягивали. Вместе с тем в первую половину 1930-х годов корейцы быстро советизировались, усваивая новый для себя стиль жизни.
Серьезные перемены в отношении к советскому «корнаселению» начались во второй половине 1930-х годов, когда власть все больше заботилась о том, чтобы изолировать страну от контактов с жителями иных государств. В центральной прессе появились многочисленные публикации, намекавшие на то, что восточная граница, конечно, на замке, но замок не столь прочен, как хотелось бы. В частности, «Правда» писала в марте 1937 года: «Шпион-кореец. Он «работает» на своих хозяев – японцев – не первый год. Самые подлые, кровавые дела поручали ему… Недавно японский жандармский офицер поручил ему разведать, силен ли советский строй на Дальнем Востоке. Шпиону мерещились новые тысячи иен. Он согласился отправиться через границу. Поздней ночью шпион двинулся в путь. Но едва он вступил на советскую землю, как его задержал кореец-колхозник. Испытанное оружие провокатора – национальное родство – дало на этот раз осечку. Шпион просчитался. Корейцы – советские граждане – научились распознавать врага. Советский патриот-кореец доставил куда следует врага своего народа. Человекообразный хищник обезврежен». Хотя героем статьи был кореец-патриот, слова о национальном родстве как «испытанном оружии» шпиона звучали довольно зловеще. В июле Япония развязала агрессию против Китая, и дело приняло серьезный оборот.
Решение о переселении корейцев подальше от границы с Кореей и Маньчжурией, которую тоже контролировали японцы, было окончательно принято 21 августа 1937 года. По сталинским меркам условия переселения были относительно гуманными: выселяемым разрешалось брать с собой имущество, им обещали компенсацию, а желающих даже выпускали за границу.
По донесениям с мест, особых проблем с выселением не возникло. Один из офицеров НКВД докладывал: «Основная масса корейцев данное мероприятие встретила одобрительно. Наряду с этим имелись отдельные случаи выражения недовольства, в частности, корейцы жители г. Охи Цой Хун и Огай Хен говорили: «Не все корейцы шпионы, диверсанты, есть преданные советской власти люди, и поэтому и в переселении нужен был индивидуальный подход к людям»". Всего было депортировано 172 тыс. корейцев. Семьи грузили в вагоны для перевозки скота и отправляли в Среднюю Азию, где они надеялись на обещанную помощь и компенсации, но получили нечто совсем другое.
«Строительство для корейцев по существу сорвано»
«Административно переселенных» привозили зимой в необжитые районы, где приходилось размещаться в спешно вырытых землянках, а компенсаций все не было. Впрочем, дело, скорее всего, было в обычном разгильдяйстве и воровстве низовых структур. В сентябре заместитель наркома внутренних дел Чернышов докладывал Молотову: «Вследствие того что СНК Казахской ССР расселением корейцев не руководил, предоставив дело самотеку, расселение корейцев на территории ликвидированных совхозов, утвержденное СНК Союза ССР 20 февраля сего года, не выполнено… На строительство и хозяйственное устройство переселенцев корейцев Совнаркому Казахской ССР в 1938 г. отпущено 81 000 000 руб. Из них Казахская контора Сельхозбанка открыла 37 000 000 руб. Точного учета фактически израсходованных сумм ни Совнарком Казахской ССР, ни Сельхозбанк не имеют. Надлежащий контроль за правильным расходованием средств также не установлен. Совнаркому Казахской ССР отпущено в 1938 г. для корейских переселенцев значительное количество фондируемых стройматериалов, которые до сего времени не использованы и значительная часть которых находится на пристанционных складах и базах потребительской кооперации… Строительство для переселенцев-корейцев выполняется крайне неудовлетворительно, по существу сорвано. Руководство строительством со стороны Совнаркома Казахской ССР и других республиканских организаций отсутствует».
Японцы остались в крае даже после того, как белое движение было разгромлено, а все другие интервенты покинули пределы бывшей Российской империи. Между территорией, занятой японцами, и большевиками была создана формально независимая Дальне-Восточная Республика (ДВР), находившаяся под фактическим контролем Москвы, но вынужденная считаться с требованиями японцев. Теперь перед большевиками стояла задача окончательного очищения страны от интервентов, и корейцы, как казалось некоторым советским вождям, могли бы оказаться полезными в этом деле.
В 1921-м корейские партизанские отряды слились в единый Сахалинский партизанский отряд. Находился он, правда, вовсе не на Сахалине, а в непосредственной близости от зоны японской оккупации. Формально отряд подчинялся властям ДВР, фактически – никому. Старый большевик, член Дальбюро ЦК РКП (б) Борис Шумяцкий попытался взять корейские формирования под свой контроль и отправить их воевать против японцев под флагом Коминтерна. Главой Сахалинского отряда Шумяцкий назначил своего ставленника Каландарашвили, которому предстояло превратиться из грузинского героя в корейского. Однако игра Шумяцкого вызвала неудовольствие руководства ДВР, которому были не нужны проблемы с японцами. Глава Совмина ДВР Краснощеков доносил наркому иностранных дел РСФСР Чичерину:
«Считая, что избежание войны с Японией является сейчас еще более необходимым, чем когда-либо, я категорически протестую против затеи Шумяцкого с корейцами, затеи, которая несет с собой крупнейшую провокацию японцев, тем более, что он поставил во главе «похода на Корею» выжившего из ума, известного на всем Востоке партизана Каландарашвили, который с видом и шумом Наполеона уже проехал всю ДВР командовать корейцами. Возмутительные факты: 1) 4000 корейцев сконцентрированы на глазах японцев у Благовещенска, творят безобразия, грабят, насилуют население, подчиняются только выборному из своей среды командованию; 2) корейский полк из Иркутска перебрасывается в Благовещенск, вызвав вопрос японцев; 3) переход старика с корейцами на китайскую территорию для двухтысячеверстного похода на Корею мог зародиться в голове, мягко говоря, поэта, но может вызвать японское наступление, вполне оправданное в глазах Антанты».
В поведении корейских партизан не было ничего необычного. Точно так же в то время вели себя и части Красной армии, включая легендарную Первую конную. Но Чичерин решил, что Шумяцкому не по чину проводить собственную внешнюю политику, и «поход на Корею» был запрещен. Однако корейцы и не думали подчиняться приказу и вышли из повиновения Каландарашвили. Кончилось дело так называемым «амурским инцидентом», когда большевистские войска окружили и уничтожили Сахалинский отряд, убив около 400 корейцев и взяв в плен еще около 900. На этом игры с корейской революцией закончились. Таким образом, новая власть за один год прошла примерно тем же путем, что и старая: от эйфории по поводу корейских начинаний до глубокого недоверия и враждебности.
«Ставится вопрос о внутрикраевом расселении»
В 1920-е годы положение корейцев в России мало изменилось по сравнению с дореволюционным периодом. Большинство по-прежнему арендовало земли у русских крестьян, а остальные страдали от безземелья. Новая власть пыталась решить вопрос по-революционному, то есть отнять землю у тех, у кого она есть, и отдать тем, у кого ее нет. В 1923 году власти решили передать корейцам землю, которую те арендовали у русских крестьян. Крестьянство ответило сгоном корейцев с земли и погромами. Многие корейцы, боявшиеся не дожить до наделения землей, бежали в Китай. К тому же русские, боясь отчуждений, перестали сдавать землю корейцам, что поставило многих из них на грань голода. Тем не менее большевики, умевшие как никто другой доводить экспроприацию до конца, отобрали земли и роздали корейцам, что не прибавило им популярности.
Предпринимавшиеся в те годы отдельные попытки расселить корейцев по территории России тоже приводили к недоразумениям с местным населением. Например, корейскую коммуну, основанную в Ростове-на-Дону, все окрестное население встретило враждебно: лояльные корейцы помогали властям осуществлять продразверстку и проводить раскулачивания. Наслышанные об особенностях корейской национальной кухни местные жители подкидывали в колодцы дохлых собак, а самих корейцев жестоко избивали.
Между тем наделить все дальневосточное «корнаселение» землей никак не получалось, и на повестку дня вновь встал вопрос о расселении корейцев подальше от границы. В 1927 году чиновник дальневосточного крайземуправления писал, что «предварительное обследование позволяет назвать районами желательного корейского расселения Курдаргинский район Хабаровского округа и Бирско-Бджанский район Амурского округа. Таким образом, ставится вопрос о внутрикраевом расселении корейцев со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Решение о «внутрикраевом расселении» действительно было принято, но провести его в жизнь в полном объеме не удалось – большинство корейцев не хотело переезжать. Около 1,5 тыс. человек все-таки расселили, но этого было недостаточно, чтобы решить вопрос с малоземельем. Тогда власти открыли новые направления для корейского переселения.
В это время Казахстан и Узбекистан планировали завести у себя рисоводство, однако в степях и пустынях было тяжело найти людей, сведущих в этом деле. Поэтому руководители обеих республик попросили прислать к ним корейских добровольцев. В 1929 году удалось собрать 220 корейцев, согласившихся ехать в Казахстан. Узбекистан, правда, отказался принять рисоводов, потому что выделенные на их обустройство средства понадобились для других целей. Однако идея переселения корейцев в эти республики была впоследствии реанимирована.
«Шпиону мерещились новые тысячи иен»
Советская власть сталкивалась в корейском вопросе с теми же проблемами, что и царские чиновники. С каждым неурожаем в Корее на советскую территорию перебирались беспаспортные нелегалы, среди которых попадались и японские шпионы. Правда, и советские спецслужбы занимались вербовкой корейцев и заброской их в сопредельную Маньчжурию и Корею. Японская контрразведка ловила этих шпионов и устраивала показательные процессы. Тем же занимались и аналогичные советские службы.
Приток новых иммигрантов старались ограничить, а выдачу паспортов всячески затягивали. Вместе с тем в первую половину 1930-х годов корейцы быстро советизировались, усваивая новый для себя стиль жизни.
Серьезные перемены в отношении к советскому «корнаселению» начались во второй половине 1930-х годов, когда власть все больше заботилась о том, чтобы изолировать страну от контактов с жителями иных государств. В центральной прессе появились многочисленные публикации, намекавшие на то, что восточная граница, конечно, на замке, но замок не столь прочен, как хотелось бы. В частности, «Правда» писала в марте 1937 года: «Шпион-кореец. Он «работает» на своих хозяев – японцев – не первый год. Самые подлые, кровавые дела поручали ему… Недавно японский жандармский офицер поручил ему разведать, силен ли советский строй на Дальнем Востоке. Шпиону мерещились новые тысячи иен. Он согласился отправиться через границу. Поздней ночью шпион двинулся в путь. Но едва он вступил на советскую землю, как его задержал кореец-колхозник. Испытанное оружие провокатора – национальное родство – дало на этот раз осечку. Шпион просчитался. Корейцы – советские граждане – научились распознавать врага. Советский патриот-кореец доставил куда следует врага своего народа. Человекообразный хищник обезврежен». Хотя героем статьи был кореец-патриот, слова о национальном родстве как «испытанном оружии» шпиона звучали довольно зловеще. В июле Япония развязала агрессию против Китая, и дело приняло серьезный оборот.
Решение о переселении корейцев подальше от границы с Кореей и Маньчжурией, которую тоже контролировали японцы, было окончательно принято 21 августа 1937 года. По сталинским меркам условия переселения были относительно гуманными: выселяемым разрешалось брать с собой имущество, им обещали компенсацию, а желающих даже выпускали за границу.
По донесениям с мест, особых проблем с выселением не возникло. Один из офицеров НКВД докладывал: «Основная масса корейцев данное мероприятие встретила одобрительно. Наряду с этим имелись отдельные случаи выражения недовольства, в частности, корейцы жители г. Охи Цой Хун и Огай Хен говорили: «Не все корейцы шпионы, диверсанты, есть преданные советской власти люди, и поэтому и в переселении нужен был индивидуальный подход к людям»". Всего было депортировано 172 тыс. корейцев. Семьи грузили в вагоны для перевозки скота и отправляли в Среднюю Азию, где они надеялись на обещанную помощь и компенсации, но получили нечто совсем другое.
«Строительство для корейцев по существу сорвано»
«Административно переселенных» привозили зимой в необжитые районы, где приходилось размещаться в спешно вырытых землянках, а компенсаций все не было. Впрочем, дело, скорее всего, было в обычном разгильдяйстве и воровстве низовых структур. В сентябре заместитель наркома внутренних дел Чернышов докладывал Молотову: «Вследствие того что СНК Казахской ССР расселением корейцев не руководил, предоставив дело самотеку, расселение корейцев на территории ликвидированных совхозов, утвержденное СНК Союза ССР 20 февраля сего года, не выполнено… На строительство и хозяйственное устройство переселенцев корейцев Совнаркому Казахской ССР в 1938 г. отпущено 81 000 000 руб. Из них Казахская контора Сельхозбанка открыла 37 000 000 руб. Точного учета фактически израсходованных сумм ни Совнарком Казахской ССР, ни Сельхозбанк не имеют. Надлежащий контроль за правильным расходованием средств также не установлен. Совнаркому Казахской ССР отпущено в 1938 г. для корейских переселенцев значительное количество фондируемых стройматериалов, которые до сего времени не использованы и значительная часть которых находится на пристанционных складах и базах потребительской кооперации… Строительство для переселенцев-корейцев выполняется крайне неудовлетворительно, по существу сорвано. Руководство строительством со стороны Совнаркома Казахской ССР и других республиканских организаций отсутствует».
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
12-04-2011 18:49
(ссылка)
фото тех лет
 Коллектив учителей национальной средней школы в колхозе имени Молотова Ср.-Чирчикского района Ташкентской областив первом ряду слева -Пак Михаил Васильевич.во втором ряду второй справа мой отец Цой Петр Григрьевич. Может быть кто то узнает других преподавателей сообщите.
Коллектив учителей национальной средней школы в колхозе имени Молотова Ср.-Чирчикского района Ташкентской областив первом ряду слева -Пак Михаил Васильевич.во втором ряду второй справа мой отец Цой Петр Григрьевич. Может быть кто то узнает других преподавателей сообщите.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
11-04-2011 19:38
(ссылка)
Возвращение к истокам (стр.9-10)
9-10 А теперь, забегая вперед, в этой части моего рассказа я сделаю небольшое отступление — расскажу о знаменательных для меня встречах, которые произошли в моей жизни и связаны с депортированными людьми и членами их семей. И думаю, что читатели, несомненно, поймут, почему я делаю это именно здесь. Эти встречи — светлая часть моей долгой жизни, хотя и связаны они с нелегкими событиями. Так устроен человек — он противоречив по природе своей: помнит и хорошее, и плохое, может радоваться и плакать в одно и то же время. Хотя по пословице, образно говоря, «гора с горой не сходится», судьбы живых людей в этой жизни могли непредсказуемо переплетаться, так было в нашей жизни. Прошло много лет после депортации, но все еще встречаю людей, которых даже не видела и не знала ни до, ни во время депортации по причине разницы в возрасте, однако же людей, имевших к ней самое непосредственное отношение и которые через свои родственные узы обозначили как бы связь поколений, а значит, как я полагаю, незримую связь и со мной.
Как-то в 1972 г., когда мы переехали в г. Москву, узнали, что учитель Ким Хеннюн с семьей живет в Москве и, будучи художником, состоит членом Союза художников. С тех пор мы поддерживали дружеские отношения в течение нескольких лет, бывая друг у друга в гостях. Но через несколько лет, к большому сожалению, после болезни учитель умер, а позже, через 2 года, ушла из жизни и его жена Вера Андреевна. А однажды, в 1997 г., я болела и лечилась в больнице, а после выписки меня навещали на дому мои знакомые женщины, их было трое — члены женского общества кореянок г. Москвы. Сидели, пили чай, ели гостинцы, что с собой они принесли, да и разговорились обо всем. Вот тут-то одна из трех гостий спрашивает меня, где я научилась говорить по-корейски. Ее звали Эльмирой. Я ответила, что училась в г. Кзыл-Орде после депортации и окончила Кзыл-ординскую корейскую среднюю школу в 1939 году, К большому удивлению она и говорит, что тогда в этой школе директором работал ее дедушка, Я спрашиваю ее, как его фамилия. Оказалось:фамилия — Пак, имя — Чиннай. Тогда я на всякий случай, мало ли что бывает в жизни, спрашиваю, помнит ли она его лицо тех лет ,и узнала бы его на фотографии или нет. Ответ был утвердительный. Тогда я достала с полки книжного шкафа фотографию нашего выпускного класса, показываю ей. Она сразу же признала своего дедушку и сказала с улыбкой: «Да, это мой дед, а фото 1939 года. Так вы его ученица из 1-го после депортации выпуска кзыл-ординской корейской средней школы! Как тесен мир! Галине Дмитриевне 83 года, а с тех пор прошло более 60 лет!»
Казалось бы, история не смешная, а, пожалуй, немного грустная, но мы почему-то смеялись. Конечно, от радости! Редко бывает такая случайная встреча, спустя столько лет после таких событий, как депортация 1937 года. В настоящее время мы с Эльмирой встречаемся на вечерах, собраниях, на богослужении в церкви «Скиния» по возможности каждый воскресный день.
В 1978 году я встретилась в Москве с Ним Лидией Ивановной, с которой я училась в 9
— 10-х классах в г. Кзыл-Орде. Я депортирована из Хабаровска, а Лидия из Владивостока. Когда открыли корейскую среднюю школу и начались занятия, то с первого дня и до окончания школы мы сидели с Лидой за одной партой. Потом я по совету старшего брата Андрея поехала в г. Ташкент учиться в САГУ (Среднеазиатский госуниверситет), об учебе в котором я расскажу подробнее ниже, а Лила — в город Саратов, так и разъехались. Через столько лет мы встретились уже бабушками. В 1978 г. ее адрес в Москве мне передал один человек, приехавший из Кзыл-Орды. Несколько последних десятилетий Лидия прожила в г. Кзыл-Орде, а переехала в Москву в 1977 г. Я же проживаю в Москве с 1972 г. Мы были очень рады этой встрече. В Москве мы жили в разных районах, и я сразу написала ей письмо и пригласила ее с мужем в гости. Вот так мы и встретились через 39 незабываемых лет.
Многие помнят, как в 1998 году была открыта «для пожилых» под руководством пастора Ли Хен Кына, и мы с Лидой и много других бабушек и дедушек собирались каждый месяц по субботам в помещении русско-корейской средней школы. К большому сожалению, муж Лидии Ивановны — Сергей Федорович — ушел из жизни в 1999 г., а Лядия Ивановна скончалась в январе 2003 г. Так мы и расстались, подруги со школьной скамьи.
Интересно вспомнить 1992 год, когда нам с мужем привелось повстречаться с Ким Нарой Динховной, дочерью моего учителя по химии в кзыл-ординской корейской средней
школе Ким Динхо, учителя уважаемого и любимого всеми учениками. Добрый, внимательный, всегда готовый помочь учащимся, даже тем, кто позабыл выполнить домашнее задание. Сразу он не ругал, а сначала ВЫЯСНЯЛ причину невыполнения задания, и после выяснения сам же и объяснял непонятное, находя дополнительное время после уроков. Но уж потом требовал знания материала очень строго. Когда в старших классах он демонстрировал опыты, с ним всегда было интересно. Успеваемость была высокой. Большинство учащихся в нашем классе учились по химии на 4 и 5. Я очень уважала учителя химии и любила этот предмет, так что не случайно в жизни я стала преподавать химию и биологию в средней школе, в течение 30 лет. Среди моих учеников тоже были такие, кто заинтересовался этим предметом.
Однако же, вернусь ненадолго к тому, как состоялось наше знакомство с Ким Нарой Динховной. В 1992 г. был организован новогодний вечер в ресторане при гостинице «Космос» на Проспекте Мира, не помню, в каком зале. К началу вечера мы с мужем, Владимиром Мироновичем, подходим к столу, согласно номерам на наших пригласительных билетах, занимаем свои места и видим, что нам выпало сидеть за одним столом с молодым мужчиной, к которому вначале присоединилась одна приятная молодая женщина, а чуть позже и другая. По их разговору я поняла, что они-то знают друг друга. Мы с мужем сидим молча. Это было совсем не по настроению. И я решила сама познакомиться с ними, хотя вижу, что они намного моложе нас, почему поначалу и были у меня сомнения относительно моего намерения. Однако все же я решила познакомиться с ними.
Пожалуйста, извините, сидим мы за одним столом и, не зная друг друга, не разговариваем. Давайте познакомимся!» — обратилась я к женщине первая. «Как вас по имени-отчеству?» А в ответ; : Нара Динховна Ким. Мне показалось, что я расслышала отчество «Динховна», поэтому переспрашиваю: «Простите, как отчество?» Но нет, все было правильно — слух меня тогда ещё не подводил. И я говорю ей, что много лет тому назад, когда я, девочка, после депортации корейского населения с Дальнего Востока училась в г. Кзыл-Орде, моим школьным учителем по химии был Ким Динхо и что поэтому я переспрашиваю. А женщина сразу же подтверждает: «Действительно, это был мой отец. Ко времени выхода его на пенсию мои родители жили в Москве. Но теперь их нет с нами. Они умерли.
Я очень была рада, что встретила дочь уважаемого мной учителя Ким Динхо. А рядом с Нарой сидела ее сестра Мира Динховна, оказывается это была старшая дочь покойного учителя. Слева от Нары Динховньт сидел ее муж Тен Алексей Петрович. Он говорит мне:
«У меня был один знакомый человек, однофамилец, Тен Валентин Дмитриевич, старше меня, только его уже нет, он умер. Мы дружили с ним. «Валентин Дмитриевыч — мой родной младший брат, а приехали мы в Москву в 1972 отвечаю я.»
Вот такова история нашего знакомства с Нарой Динховной, которая характером вся в отца: добрая. чуткая. внимательная. И по сей день относится ко мне с уважением и заботой, Немедля оказывает мне помощь и поддержку, если я оказываюсь в больнице. Навещает с передачей, а после выписки из больницы посещает дома, зная, что я живу одна, и обязательно скажет, чтобы я поела, предварительно разогрев принесенный обед. Закладывает все в холодильник, погостит и уходит. Также внимательна и заботлива она ко всем, кто нуждается в помощи. Активная общественница, она помогает в работе женского Общества кореянок г. Москвы. Очень жаль, что сестра ее, Мира Динховна, ушла из жизни преждевременно. Жестокая болезнь победила медицину, ведь Мира Динховна сама была врачом.
На этом заканчиваю свое отступление о незабываемых встречах в моей жизни, так неожиданно напомнивших мне такие далекие годы.
Как-то в 1972 г., когда мы переехали в г. Москву, узнали, что учитель Ким Хеннюн с семьей живет в Москве и, будучи художником, состоит членом Союза художников. С тех пор мы поддерживали дружеские отношения в течение нескольких лет, бывая друг у друга в гостях. Но через несколько лет, к большому сожалению, после болезни учитель умер, а позже, через 2 года, ушла из жизни и его жена Вера Андреевна. А однажды, в 1997 г., я болела и лечилась в больнице, а после выписки меня навещали на дому мои знакомые женщины, их было трое — члены женского общества кореянок г. Москвы. Сидели, пили чай, ели гостинцы, что с собой они принесли, да и разговорились обо всем. Вот тут-то одна из трех гостий спрашивает меня, где я научилась говорить по-корейски. Ее звали Эльмирой. Я ответила, что училась в г. Кзыл-Орде после депортации и окончила Кзыл-ординскую корейскую среднюю школу в 1939 году, К большому удивлению она и говорит, что тогда в этой школе директором работал ее дедушка, Я спрашиваю ее, как его фамилия. Оказалось:фамилия — Пак, имя — Чиннай. Тогда я на всякий случай, мало ли что бывает в жизни, спрашиваю, помнит ли она его лицо тех лет ,и узнала бы его на фотографии или нет. Ответ был утвердительный. Тогда я достала с полки книжного шкафа фотографию нашего выпускного класса, показываю ей. Она сразу же признала своего дедушку и сказала с улыбкой: «Да, это мой дед, а фото 1939 года. Так вы его ученица из 1-го после депортации выпуска кзыл-ординской корейской средней школы! Как тесен мир! Галине Дмитриевне 83 года, а с тех пор прошло более 60 лет!»
Казалось бы, история не смешная, а, пожалуй, немного грустная, но мы почему-то смеялись. Конечно, от радости! Редко бывает такая случайная встреча, спустя столько лет после таких событий, как депортация 1937 года. В настоящее время мы с Эльмирой встречаемся на вечерах, собраниях, на богослужении в церкви «Скиния» по возможности каждый воскресный день.
В 1978 году я встретилась в Москве с Ним Лидией Ивановной, с которой я училась в 9
— 10-х классах в г. Кзыл-Орде. Я депортирована из Хабаровска, а Лидия из Владивостока. Когда открыли корейскую среднюю школу и начались занятия, то с первого дня и до окончания школы мы сидели с Лидой за одной партой. Потом я по совету старшего брата Андрея поехала в г. Ташкент учиться в САГУ (Среднеазиатский госуниверситет), об учебе в котором я расскажу подробнее ниже, а Лила — в город Саратов, так и разъехались. Через столько лет мы встретились уже бабушками. В 1978 г. ее адрес в Москве мне передал один человек, приехавший из Кзыл-Орды. Несколько последних десятилетий Лидия прожила в г. Кзыл-Орде, а переехала в Москву в 1977 г. Я же проживаю в Москве с 1972 г. Мы были очень рады этой встрече. В Москве мы жили в разных районах, и я сразу написала ей письмо и пригласила ее с мужем в гости. Вот так мы и встретились через 39 незабываемых лет.
Многие помнят, как в 1998 году была открыта «для пожилых» под руководством пастора Ли Хен Кына, и мы с Лидой и много других бабушек и дедушек собирались каждый месяц по субботам в помещении русско-корейской средней школы. К большому сожалению, муж Лидии Ивановны — Сергей Федорович — ушел из жизни в 1999 г., а Лядия Ивановна скончалась в январе 2003 г. Так мы и расстались, подруги со школьной скамьи.
Интересно вспомнить 1992 год, когда нам с мужем привелось повстречаться с Ким Нарой Динховной, дочерью моего учителя по химии в кзыл-ординской корейской средней
школе Ким Динхо, учителя уважаемого и любимого всеми учениками. Добрый, внимательный, всегда готовый помочь учащимся, даже тем, кто позабыл выполнить домашнее задание. Сразу он не ругал, а сначала ВЫЯСНЯЛ причину невыполнения задания, и после выяснения сам же и объяснял непонятное, находя дополнительное время после уроков. Но уж потом требовал знания материала очень строго. Когда в старших классах он демонстрировал опыты, с ним всегда было интересно. Успеваемость была высокой. Большинство учащихся в нашем классе учились по химии на 4 и 5. Я очень уважала учителя химии и любила этот предмет, так что не случайно в жизни я стала преподавать химию и биологию в средней школе, в течение 30 лет. Среди моих учеников тоже были такие, кто заинтересовался этим предметом.
Однако же, вернусь ненадолго к тому, как состоялось наше знакомство с Ким Нарой Динховной. В 1992 г. был организован новогодний вечер в ресторане при гостинице «Космос» на Проспекте Мира, не помню, в каком зале. К началу вечера мы с мужем, Владимиром Мироновичем, подходим к столу, согласно номерам на наших пригласительных билетах, занимаем свои места и видим, что нам выпало сидеть за одним столом с молодым мужчиной, к которому вначале присоединилась одна приятная молодая женщина, а чуть позже и другая. По их разговору я поняла, что они-то знают друг друга. Мы с мужем сидим молча. Это было совсем не по настроению. И я решила сама познакомиться с ними, хотя вижу, что они намного моложе нас, почему поначалу и были у меня сомнения относительно моего намерения. Однако все же я решила познакомиться с ними.
Пожалуйста, извините, сидим мы за одним столом и, не зная друг друга, не разговариваем. Давайте познакомимся!» — обратилась я к женщине первая. «Как вас по имени-отчеству?» А в ответ; : Нара Динховна Ким. Мне показалось, что я расслышала отчество «Динховна», поэтому переспрашиваю: «Простите, как отчество?» Но нет, все было правильно — слух меня тогда ещё не подводил. И я говорю ей, что много лет тому назад, когда я, девочка, после депортации корейского населения с Дальнего Востока училась в г. Кзыл-Орде, моим школьным учителем по химии был Ким Динхо и что поэтому я переспрашиваю. А женщина сразу же подтверждает: «Действительно, это был мой отец. Ко времени выхода его на пенсию мои родители жили в Москве. Но теперь их нет с нами. Они умерли.
Я очень была рада, что встретила дочь уважаемого мной учителя Ким Динхо. А рядом с Нарой сидела ее сестра Мира Динховна, оказывается это была старшая дочь покойного учителя. Слева от Нары Динховньт сидел ее муж Тен Алексей Петрович. Он говорит мне:
«У меня был один знакомый человек, однофамилец, Тен Валентин Дмитриевич, старше меня, только его уже нет, он умер. Мы дружили с ним. «Валентин Дмитриевыч — мой родной младший брат, а приехали мы в Москву в 1972 отвечаю я.»
Вот такова история нашего знакомства с Нарой Динховной, которая характером вся в отца: добрая. чуткая. внимательная. И по сей день относится ко мне с уважением и заботой, Немедля оказывает мне помощь и поддержку, если я оказываюсь в больнице. Навещает с передачей, а после выписки из больницы посещает дома, зная, что я живу одна, и обязательно скажет, чтобы я поела, предварительно разогрев принесенный обед. Закладывает все в холодильник, погостит и уходит. Также внимательна и заботлива она ко всем, кто нуждается в помощи. Активная общественница, она помогает в работе женского Общества кореянок г. Москвы. Очень жаль, что сестра ее, Мира Динховна, ушла из жизни преждевременно. Жестокая болезнь победила медицину, ведь Мира Динховна сама была врачом.
На этом заканчиваю свое отступление о незабываемых встречах в моей жизни, так неожиданно напомнивших мне такие далекие годы.
ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,
11-04-2011 19:07
(ссылка)
Воспоминания ,продолжение стр.7-8
7-8 Наутро я поехала в школу, где собрали всех учащихся в актовом зале, и директор школы Ли Хенсик коротко объявил нам, что людей корейской национальности выселяют и что через два дня за нами приедут и отвезут на вокзал к поезду. У учащихся старших классов было много вопросов, но, к сожалению, директор школы был не в состоянии ответить на все вопросы. Через два дня после предупреждения тех членов нашей семьи, кто на этот момент не был в отъезде, вместе с другими корейскими семьями стали вывозить на железнодорожный вокзал для посадки, как выяснилось, в товарные вагоны, внутри которых были полки, а на полу сено. Мне, 17-летней школьнице, было особенно трудно, потому что брат Андрей на тот момент был в Крыму, в Ялте, на излечении, а я оставалась одна со снохой, которая была в положении на 7-м месяце, и двумя племянниками дошкольного возраста.Положение было страшное! Мы ничего не знали о маме, и потому не было конца нашим слезам.
Собрались мы быстро и скромно, потому что и без того жили без лишних вещей, захватили с собой, кроме книг и одежды, что на себе, постели, одеяла и подушки. Не было с собой и большого запаса продуктов, т.к. нас предупредили не делать запасов на дорогу, пообещав, что якобы все в пути будет. Поэтому взяли с собой то, что было, дня на З — 4. Питались очень скромно с первого дня пути: кусок хлеба, чай с сахаром.
Брат Андрей в Ялте сам каким-то образом узнал о событиях на Дальнем Востоке, немедля собрался и на скором поезде выехал на Восток, намереваясь перехватить нас в пути. На каждой остановке и на каждом вокзале он пытался выяснить у дежурных и начальников станций, когда и куда проследовали товарные эшелоны с людьми корейской национальности. Раньше мы видели, что в таких товарных составах возили животных: крупный рогатый скот, свиней, а также строительные материалы и уголь и т.д., а здесь нас, людей, как животных, с таким унижением грузили в эти вагоны! Посадка продолжалась всю ночь, и только к утру тронулись в путь. Посадка, видимо, намеренно проводилась в ночное время. Очень старались замолчать, скрыть это беззаконие, граничившее с варварством. Нам не было известно, куда нас везут. Не было никакой информации о нашей дальнейшей судьбе. По прибытии на очередную станцию состав, из-за движения вне графика, направляли на запасный путь. В вагонах не было условий для приготовления ни корейского супа, ни каши. В каждом вагоне была печка-буржуйка, на которой кипятили чай, и днем, как только эшелон прибывал на станцию, люди бежали с чайниками за водой на большое расстояние. Трудно было с хлебом. Большая очередь: часто не хватало хлеба для всех людей в очереди. Наши ежедневные продукты питания — хлеб и чай с сахаром, причем сахар купить было еще труднее. Ограниченная сумма денег не позволяла купить и какие-либо другие продукты.
Люди, с которыми мы ехали в одном вагоне, относились к нашей семье с большим сочувствием, т.к. снохе Вере нельзя было бежать за хлебом, а племянники были ещё слишком маленькими. Помогали нам соседи: приносили для нас лишнюю буханку хлеба, а когда я плакала вместе со снохой, соседние женщины плакали вместе с нами, утешая тем, что вскоре мы встретимся с братом Андреем.
Состояние наше было омрачено также и из-за полной потери связи с мамой, которая меня вырастила и отправила продолжать учебу к старшему брату, отсутствовавшему в такое трудное время. Вот так, не в военное лихолетье, но по государственному принуждению мы, полноправные граждане своей страны, потеряли друг друга: я не знала, где мама с младшим братом Валей и где второй брат Александр, учившийся в то время в педагогическом институте в г. Владивостоке. Никакой информации.
Ехали больше 40 дней. Ехали с большими трудностями. То, что обещали нам в пути, — все оказалось обманом! Жестокая государственная политика Сталина! Когда люди бежали за водой и хлебом, многие, бывало, падали, не могли встать, так и умирали. Слишком были слабые, истощены, а многие были больны. Не было никакой медицинской помощи.
Моя тетя, родная сестра моего отца, ехала одна с тремя детьми, попала под колеса поезда и умерла. В вагоне не работал туалет и она побежала на станцию, а, когда возвращалась, поезд тронулся. Тетя не успела вскочить на подножку вагона, упала и попала под колеса. Какая это была трагедия для всех нас! Депортация принесла горе в каждую корейскую семью!
Когда мы ехали по Сибирско-Туркестанскому участку пути, брат Андрей наконец-то напал на наш след и на скором поезде, на рассвете, догнал наш эшелон на станции Арысь уже на территории Казахстана. Мы встретились со слезами от радости и горя, а о маме по-прежнему ничего не было известно.
Привезли нас в Актюбинскую область. За 200 км от города Актюбинск, в голую степь с колючими травами, где паслись овцы да были еще пастухи. А холод стоял! там надо побывать самому, иначе не представить, как «заботливо» было государство, обрекая людей на лишения, а зачастую и смерть, без теплых вещей, без медицинской помощи, в товарных вагонах.
Уже наступала зима. Привезли нас на грузовых машинах: несколько семей в одно отделение какого-то совхоза, а остальных — по другим местам. Там было несколько полуразрушенных глиняных домов, в которых жили несколько чабанов. Домов этих не хватило на всех, и нам пришлось выкопать окопы, чтобы укрыться от холода. Через несколько дней два пожилых человека умерли от холода и голода, они были больны. Нашим слезам не было конца.
В нашей семье беда была особенная: у снохи начинались роды. Какая это жестокость — сталинский приказ в 1937 г.! С большим трудом сохранили мы жизнь снохи Веры и новорожденного в антисанитарных условиях, в отсутствие света и элементарных удобств.
Потом, наконец, отвезли нас в город Кзыл-Орду, где поместили нас в клубе: несколько семей на полу клуба по одной стене и столько же по другой стене зала. Некоторых привезли раньше нас и разместили в других помещениях.
Через некоторое время брат Андрей, собрал всю информацию о других эшелонах с корейским населением, отправился в Узбекистан на поиски мамы, где и нашел ее с двумя братьями, один из которых, Валентин, был моложе меня. Он привез их в город Кзыл-Орду и теперь вся семья была в полном сборе, жили вместе под присмотром старшего брата Андрея, а было ему тогда 30 лет. Пока несколько семей жили в помещении клуба, пищу готовили по очереди на железной печке.
В том же, 1938 году, арестовали дядю, Николая Тен, родного брата моего отца. Он был военным летчиком, служил в г. Оренбурге в звании майора. Много позже на наш запрос нам был дан ответ, что он расстрелян, Узнали мы об этом только в 1960 г., когда был еще жив мой старший брат Андрей.
Такова предыстория возникновения мест компактного проживания советских корейцев в Средней Азии и Казахстане.
Но как бы ни было тяжело вспоминать обо всем этом, мы тем не менее не должны забывать, что жестокие репрессии коснулись не только одних нас, корейцев, но пострадали и все народы нашей Родины, и здесь нет места обидам -и упрекам в адрес каких-либо национальностей. Мы все были равны перед жестокостью властей и беззаконием.
Собрались мы быстро и скромно, потому что и без того жили без лишних вещей, захватили с собой, кроме книг и одежды, что на себе, постели, одеяла и подушки. Не было с собой и большого запаса продуктов, т.к. нас предупредили не делать запасов на дорогу, пообещав, что якобы все в пути будет. Поэтому взяли с собой то, что было, дня на З — 4. Питались очень скромно с первого дня пути: кусок хлеба, чай с сахаром.
Брат Андрей в Ялте сам каким-то образом узнал о событиях на Дальнем Востоке, немедля собрался и на скором поезде выехал на Восток, намереваясь перехватить нас в пути. На каждой остановке и на каждом вокзале он пытался выяснить у дежурных и начальников станций, когда и куда проследовали товарные эшелоны с людьми корейской национальности. Раньше мы видели, что в таких товарных составах возили животных: крупный рогатый скот, свиней, а также строительные материалы и уголь и т.д., а здесь нас, людей, как животных, с таким унижением грузили в эти вагоны! Посадка продолжалась всю ночь, и только к утру тронулись в путь. Посадка, видимо, намеренно проводилась в ночное время. Очень старались замолчать, скрыть это беззаконие, граничившее с варварством. Нам не было известно, куда нас везут. Не было никакой информации о нашей дальнейшей судьбе. По прибытии на очередную станцию состав, из-за движения вне графика, направляли на запасный путь. В вагонах не было условий для приготовления ни корейского супа, ни каши. В каждом вагоне была печка-буржуйка, на которой кипятили чай, и днем, как только эшелон прибывал на станцию, люди бежали с чайниками за водой на большое расстояние. Трудно было с хлебом. Большая очередь: часто не хватало хлеба для всех людей в очереди. Наши ежедневные продукты питания — хлеб и чай с сахаром, причем сахар купить было еще труднее. Ограниченная сумма денег не позволяла купить и какие-либо другие продукты.
Люди, с которыми мы ехали в одном вагоне, относились к нашей семье с большим сочувствием, т.к. снохе Вере нельзя было бежать за хлебом, а племянники были ещё слишком маленькими. Помогали нам соседи: приносили для нас лишнюю буханку хлеба, а когда я плакала вместе со снохой, соседние женщины плакали вместе с нами, утешая тем, что вскоре мы встретимся с братом Андреем.
Состояние наше было омрачено также и из-за полной потери связи с мамой, которая меня вырастила и отправила продолжать учебу к старшему брату, отсутствовавшему в такое трудное время. Вот так, не в военное лихолетье, но по государственному принуждению мы, полноправные граждане своей страны, потеряли друг друга: я не знала, где мама с младшим братом Валей и где второй брат Александр, учившийся в то время в педагогическом институте в г. Владивостоке. Никакой информации.
Ехали больше 40 дней. Ехали с большими трудностями. То, что обещали нам в пути, — все оказалось обманом! Жестокая государственная политика Сталина! Когда люди бежали за водой и хлебом, многие, бывало, падали, не могли встать, так и умирали. Слишком были слабые, истощены, а многие были больны. Не было никакой медицинской помощи.
Моя тетя, родная сестра моего отца, ехала одна с тремя детьми, попала под колеса поезда и умерла. В вагоне не работал туалет и она побежала на станцию, а, когда возвращалась, поезд тронулся. Тетя не успела вскочить на подножку вагона, упала и попала под колеса. Какая это была трагедия для всех нас! Депортация принесла горе в каждую корейскую семью!
Когда мы ехали по Сибирско-Туркестанскому участку пути, брат Андрей наконец-то напал на наш след и на скором поезде, на рассвете, догнал наш эшелон на станции Арысь уже на территории Казахстана. Мы встретились со слезами от радости и горя, а о маме по-прежнему ничего не было известно.
Привезли нас в Актюбинскую область. За 200 км от города Актюбинск, в голую степь с колючими травами, где паслись овцы да были еще пастухи. А холод стоял! там надо побывать самому, иначе не представить, как «заботливо» было государство, обрекая людей на лишения, а зачастую и смерть, без теплых вещей, без медицинской помощи, в товарных вагонах.
Уже наступала зима. Привезли нас на грузовых машинах: несколько семей в одно отделение какого-то совхоза, а остальных — по другим местам. Там было несколько полуразрушенных глиняных домов, в которых жили несколько чабанов. Домов этих не хватило на всех, и нам пришлось выкопать окопы, чтобы укрыться от холода. Через несколько дней два пожилых человека умерли от холода и голода, они были больны. Нашим слезам не было конца.
В нашей семье беда была особенная: у снохи начинались роды. Какая это жестокость — сталинский приказ в 1937 г.! С большим трудом сохранили мы жизнь снохи Веры и новорожденного в антисанитарных условиях, в отсутствие света и элементарных удобств.
Потом, наконец, отвезли нас в город Кзыл-Орду, где поместили нас в клубе: несколько семей на полу клуба по одной стене и столько же по другой стене зала. Некоторых привезли раньше нас и разместили в других помещениях.
Через некоторое время брат Андрей, собрал всю информацию о других эшелонах с корейским населением, отправился в Узбекистан на поиски мамы, где и нашел ее с двумя братьями, один из которых, Валентин, был моложе меня. Он привез их в город Кзыл-Орду и теперь вся семья была в полном сборе, жили вместе под присмотром старшего брата Андрея, а было ему тогда 30 лет. Пока несколько семей жили в помещении клуба, пищу готовили по очереди на железной печке.
В том же, 1938 году, арестовали дядю, Николая Тен, родного брата моего отца. Он был военным летчиком, служил в г. Оренбурге в звании майора. Много позже на наш запрос нам был дан ответ, что он расстрелян, Узнали мы об этом только в 1960 г., когда был еще жив мой старший брат Андрей.
Такова предыстория возникновения мест компактного проживания советских корейцев в Средней Азии и Казахстане.
Но как бы ни было тяжело вспоминать обо всем этом, мы тем не менее не должны забывать, что жестокие репрессии коснулись не только одних нас, корейцев, но пострадали и все народы нашей Родины, и здесь нет места обидам -и упрекам в адрес каких-либо национальностей. Мы все были равны перед жестокостью властей и беззаконием.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу


