Александр Голубев,
16-12-2016 13:53
(ссылка)
Зимой на Черное
Озеро Черное расположенное в трех километрах южнее деревни Хутор по праву может считаться одним из чудес Усть-Ишимского района. Каких только легенд о нем не рассказывают: и об утопленном в нем золоте сибирского хана Кучума убегавшего от казачьей дружины атамана Ермака, и о живущем в его глубинах духе озера принимающем образ огромной щуки рвущей сети рыбаков… Но не только преданиями седой старины славится эта таежная жемчужина: с конца 2014 года озеро Черное занесено в справочники, как самое глубокое озеро Омской области. Экспедиция Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии установила, что его глубина - не менее 22 метров. Жаль, что бессовестно дорогое американское оборудование не было рассчитано на сибирский октябрьский морозец и быстроразряжающиеся аккумуляторы не позволили полностью исследовать озеро. А так может быть и подтвердилась бы глубина в 30 метров о которой рассказывают старожилы.
За последние годы кого только не приходилось мне сопровождать на Черное: и географов и журналистов и упомянутых гидрологов и, даже, одного ботаника. Но все это случалось либо летом, либо осенью, а вот зимой мне самому ни разу не доводилось побывать на его берегах. Поэтому, когда в конце февраля мне позвонил Павел Самсонов с предложением съездить на Черное пришлось по такому случаю отложить домашние дела и пожертвовать ради такой поездки выходным днем.
Настораживало лишь одно: от Хутора до озера три километра которые зимой можно одолеть разве что на лыжах. Да вот беда, стойкое отвращение к лыжам мне привили еще в школе на уроках физкультуры. Не чего и удивляться, что мне, как не большому любителю зимних прогулок, и в голову не приходило обзавестись этим предметом в личном хозяйстве. Однако, желание посетить это уникальное озеро зимой пересилило ненависть к физической культуре, а проблема с отсутствием лыж решилась тем, что мне их любезно предоставил еще один участник поездки заядлый зимний рыболов Ю.М. Отмахов.
До Хутора по разбитой большегрузами со стройки Ухтырминского моста и аномальным для февраля теплом дороге доехали без приключений. Сверток с большака встретил нас ощеренной пастью неглубокого но довольно большого по площади карьера из которого возят глину для строительства подъездных путей к новому мосту. В 2014 году на этой полянке через которую вилась, исчезая в лесу, дорога на Черное озеро экспедицией РГО был обнаружен первый не то за Уралом, не то в России гибрид лесного и полевого хвоща. Теперь же вместо вместо зелени редкой флоры куда не глянь красовалось разверстое нутро земли щетинящееся комьями мерзлой глины оставленных работой экскаватора. Не утруждая себя понапрасну приезжие дорожники “пошли” не в глубь, а в ширь и теперь, когда по весне края котлована обрушатся останется на его месте к вящей радости хуторчан и не озеро и не болото, а так - непросыхающая лыва, извечный рассадник комаров и прочей гадости.
Миновав эту “отрыжку” технического прогресса мы подъехали к кромке леса. Отсюда к озеру вела едва заметная лыжня широких охотничьих лыж. И где-то в глубине души появился тот знакомый каждому рыбаку зуд от предвкушения близкой ловли. Юрий Михайлович, как рыболов с самым большим из нас стажем, не вытерпел первым - вышел из машины и одев лыжи двинулся в лес. Мы последовали за ним.
Лес по дороге на озеро хоть и изрядно прорежен вырубками все еще несет на себе печать сурового таежного очарования свойственного нашей природе. Здесь было где “пощелкать” фотоаппаратом, чем я и занялся постепенно отставая. Павел Самсонов и Денис Остриков убежали вперед наперегонки я остался с Юрием Михайловичем уступившем лыжню молодым. Километра через полтора в моем мозгу стало медленно зарождаться осознание того, насколько я был несправедлив к лыжам. Героический трехкилометровый переход по снежной целине они с легкостью превратили в непринужденную прогулку по зимнему лесу. Вот только настоящие лыжи должны быть именно такими какие были надеты на мне сейчас - не длинные и очень широкие идеально держащие вес человека на снежном насте. И ничего, что выглядят они отнюдь не гламурно и краска местами облупилась… Да любые самые дорогие пластиковые лыжи, пусть даже снятые с олимпийской сборной оказались бы здесь лишь красивыми но абсолютно бесполезными игрушками! А эти кондовые доски помнящие еще сытый брежневский “застой” прекрасно справлялись с задачей. Правда, чего греха таить, с непривычки я пару раз успел с них упасть: один раз глупо потеряв лыжину, а второй раз еще более глупо засмотревшись на лесной пейзаж и потеряв равновесие, чем, наверняка, сильно потешил шедшего за мною Юрия Михайловича, к чести которого нужно сказать, что он и виду не подал, ни как не прокомментировав мою неуклюжесть.
Вскоре лес расступился и мы вышли на небольшую поляну на краю которой притулился длинный дощатый стол со скамейками. Летом здесь располагается рыбацкое кострище и даже обычно заготовлено немного дров. Сейчас же все было покрыто толстым снежным покрывалом. С поляны дорога делает поворот на запад и тут же упиралась в берег озера. Границы самого озера, сейчас неразличимого под слоем снега легко угадывались по зарослям тростника и темнеющему на дальнем берегу сосняку.
Само озеро имеет форму неправильного овала вытянутого по оси северо-запад - юго восток с размерами полтора километра на километр. Из-за его нетипичной для большинства болотных озер большой глубины и твердого песчаного дна многие любители сенсаций поспешили объявить о его метеоритном происхождении. Жаль их разочаровывать, но никаких признаков того, что данное озеро образовалось в результате столкновения какого-либо небесного тела с нашей планетой - не обнаружено. Впрочем, как не обнаруженно их и у широко распиаренных среди любителей различного рода мистики и фантастики так называемых “Пяти озер” Муромцевского района. Но так уж устроены люди: им гораздо проще и приятней поверить в метеорит или, того пуще, в разбившийся инопланетный корабль везущий на землю капсулу с сокровенными знаниями внеземной цивилизации (доводилось мне слышать и такое), чем в то, что причиной возникновения этого таежного озера стало сочетание целого ряда процессов: суффозионно-просадочных, торфо-деструционных и прочих. Что поделать, научные термины звучат для нашего слуха далеко не так романтично, как пришельцы из космоса. Впрочем у Черного озера и без всякой уфологии хватает загадок. На нем например никогда не бывает заморов случающихся на прочих озерах едва ли не каждый год. Это можно объяснить лишь наличием на его дне большого количества ключей приносящих свежую воду. Но куда уходит вся это вода если озеро бессточное? Отсюда-то и родилась легенда о подземной реке связывающее Черное с другими озерами, и через них с Иртышом.
Тем временем народ разбрелся по льду в поисках самой уловистой лунки и я последовал их примеру. К концу зимы озерный лед достигает максимальной толщины, бур уходил в него под самую рукоятку. Первая поклевка не заставила себя долго ждать и вот уже на снегу возле моей лунки трепыхается первый представитель озерных глубин - небольшой окунь.
Тут нужно сделать небольшое отступление и рассказать немного о местной фауне. Черное озеро и здесь выбивается из общей массы: такой типичный представитель болотных озер с кислой водой как карась, который, казалось бы должен водится здесь в изобилии - в нем полностью отсутствует. С чем это связано - еще одна загадка озера. Обитают в нем лишь окунь и щука, да и те от длительного проживания в изолированном водоеме приобрели ряд особенностей. Первое, что бросается в глаза - это окраска рыбы. Гуминовые кислоты в изобилии содержащиеся в озерной воде окрашивают ее в темные тона. У выловленного мною окуня почти полностью отсутствовал обычный для этой рыбы зеленый цвет: бока - золотисто черные, антрацитово-черная спина, а брюшные и хвостовой плавники ярко-алые, как кумачовые флаги на советской демонстрации. Туловище более прогонистое, чем у его иртышских собратьев и невероятно большие глаза навыкате. Предполагают, что название “окунь” произошло от славянского названия глаза “око” и что в древности прозвище “окунь” давали всем глазастым людям и животным. Но своей “глазастостью” черноозерский окунь выделяется даже на фоне своих собратьев. С чем это связанно? Могу лишь предположить, что в условиях необычно прозрачной воды именно глаза, а не боковая линия стали основными органами рыбьих чувств и тысячи лет естественного отбора в кишащем хищниками озере привели к выживанию самых зорких особей способных заметить врага с дальнего расстояния
А вода в озере, действительно, по прозрачности не уступает Данилову озеру - самому известному из пяти муромцевских озер. Уже упомянутые мною гуминовые кислоты подавляют развитие микроскопических водорослей от которых мутнеет вода. Благодаря этому, летом в солнечную безветренную погоду дно просматривается до пяти метров в глубину. Сейчас гуминовые кислоты активно входят в моду. Их используют в косметологии а также продают в качестве так называемых БАДов - “биологически-активных добавок”. Если верить сайтам распространителей препаратов из гуминовых кислот, то они являются прекрасными антиоксидантами, детоксикантами и гепатопротекторами, повышают иммунитет организма, спасают от аллергии и стресса и много чего еще в том числе превращают обычную воду в “талую”. В общем - очередная панацея от всех недугов. Как тут не вспомнить фразу из одного советского фильма: “Моя бабушка принимала этот бальзам много лет, и умерла абсолютно здоровой!”.
Одной из целей моей нынешней поездки на Черное было взять озерную воду на пробу. Забегая вперед, расскажу, что уже в понедельник на работе я провел со взятой водой тесты на жесткость и ph-баланс. Не знаю уж благодаря гуминовым кислотам или чему-то другому общая и карбонатная жесткости оказались нулевыми. Прям-таки мечта хозяйки уставшей чистить чайник от накипи. Ph-баланс, как и предполагалось, был отклонен в сторону кислотности и равнялся - 5,5. Пять с половиной - это немного. Для сравнение такой же кислотностью обладает свежезаваренный чай средней крепости, а еще 5,5 - это ph кожи здорового человека. Так что, при желании, найти целебные свойства в черноозерской воде можно без особого труда.
Сидя за монитором, набирая этот небольшой очерк, я нет-нет да брошу взгляд на привезенную с Черного полулитровую пластиковую бутылочку. За три прошедших недели вода в ней ничуть не помутнела, оставшись все такой же прозрачной и без запаха. Хотя пить ее сырой я бы все ж таки не стал. Ибо, как говорится: “На бога надейся, а святую воду прокипяти!”.
Но вернемся к рыбалке. Про Черное мне говорили, что там клюет всегда. Но сегодня что-то рыба брала неохотно и вскоре стало ясно почему. Погода резко менялась. После обеда задул сильный порывистый ветер, не по-зимнему яркое солнышко скрылось за слоем свинцовых туч. Рыбачить стало мягко говоря не комфортно, к тому же тонкая зимняя леска часто путалась на ветру. Рыбаки недовольные уловом засобирались домой. Мою добычу за пол дня рыбалки составили 44 окуня и пара килограммов роголистника - надоедливой водоросли устилающей все дно и цепляющейся за мормышку.
Если спросите меня: стоит ли ездить на Черное озеро зимой? Отвечу вопросом на вопрос - А Вам зачем? Если ради рыбы, то не надо. Черноозерский окунь - мелкий. Здесь нет горбачей-рекордсменов, которыми можно хвастать в рыбацких байках. Но если же Вы хотите приобщиться к тайнам этого уникального природного объекта, взглянуть на него с другой, еще не известной Вам стороны, тогда - добро пожаловать!
За последние годы кого только не приходилось мне сопровождать на Черное: и географов и журналистов и упомянутых гидрологов и, даже, одного ботаника. Но все это случалось либо летом, либо осенью, а вот зимой мне самому ни разу не доводилось побывать на его берегах. Поэтому, когда в конце февраля мне позвонил Павел Самсонов с предложением съездить на Черное пришлось по такому случаю отложить домашние дела и пожертвовать ради такой поездки выходным днем.
Настораживало лишь одно: от Хутора до озера три километра которые зимой можно одолеть разве что на лыжах. Да вот беда, стойкое отвращение к лыжам мне привили еще в школе на уроках физкультуры. Не чего и удивляться, что мне, как не большому любителю зимних прогулок, и в голову не приходило обзавестись этим предметом в личном хозяйстве. Однако, желание посетить это уникальное озеро зимой пересилило ненависть к физической культуре, а проблема с отсутствием лыж решилась тем, что мне их любезно предоставил еще один участник поездки заядлый зимний рыболов Ю.М. Отмахов.
До Хутора по разбитой большегрузами со стройки Ухтырминского моста и аномальным для февраля теплом дороге доехали без приключений. Сверток с большака встретил нас ощеренной пастью неглубокого но довольно большого по площади карьера из которого возят глину для строительства подъездных путей к новому мосту. В 2014 году на этой полянке через которую вилась, исчезая в лесу, дорога на Черное озеро экспедицией РГО был обнаружен первый не то за Уралом, не то в России гибрид лесного и полевого хвоща. Теперь же вместо вместо зелени редкой флоры куда не глянь красовалось разверстое нутро земли щетинящееся комьями мерзлой глины оставленных работой экскаватора. Не утруждая себя понапрасну приезжие дорожники “пошли” не в глубь, а в ширь и теперь, когда по весне края котлована обрушатся останется на его месте к вящей радости хуторчан и не озеро и не болото, а так - непросыхающая лыва, извечный рассадник комаров и прочей гадости.
Миновав эту “отрыжку” технического прогресса мы подъехали к кромке леса. Отсюда к озеру вела едва заметная лыжня широких охотничьих лыж. И где-то в глубине души появился тот знакомый каждому рыбаку зуд от предвкушения близкой ловли. Юрий Михайлович, как рыболов с самым большим из нас стажем, не вытерпел первым - вышел из машины и одев лыжи двинулся в лес. Мы последовали за ним.
Лес по дороге на озеро хоть и изрядно прорежен вырубками все еще несет на себе печать сурового таежного очарования свойственного нашей природе. Здесь было где “пощелкать” фотоаппаратом, чем я и занялся постепенно отставая. Павел Самсонов и Денис Остриков убежали вперед наперегонки я остался с Юрием Михайловичем уступившем лыжню молодым. Километра через полтора в моем мозгу стало медленно зарождаться осознание того, насколько я был несправедлив к лыжам. Героический трехкилометровый переход по снежной целине они с легкостью превратили в непринужденную прогулку по зимнему лесу. Вот только настоящие лыжи должны быть именно такими какие были надеты на мне сейчас - не длинные и очень широкие идеально держащие вес человека на снежном насте. И ничего, что выглядят они отнюдь не гламурно и краска местами облупилась… Да любые самые дорогие пластиковые лыжи, пусть даже снятые с олимпийской сборной оказались бы здесь лишь красивыми но абсолютно бесполезными игрушками! А эти кондовые доски помнящие еще сытый брежневский “застой” прекрасно справлялись с задачей. Правда, чего греха таить, с непривычки я пару раз успел с них упасть: один раз глупо потеряв лыжину, а второй раз еще более глупо засмотревшись на лесной пейзаж и потеряв равновесие, чем, наверняка, сильно потешил шедшего за мною Юрия Михайловича, к чести которого нужно сказать, что он и виду не подал, ни как не прокомментировав мою неуклюжесть.
Вскоре лес расступился и мы вышли на небольшую поляну на краю которой притулился длинный дощатый стол со скамейками. Летом здесь располагается рыбацкое кострище и даже обычно заготовлено немного дров. Сейчас же все было покрыто толстым снежным покрывалом. С поляны дорога делает поворот на запад и тут же упиралась в берег озера. Границы самого озера, сейчас неразличимого под слоем снега легко угадывались по зарослям тростника и темнеющему на дальнем берегу сосняку.
Само озеро имеет форму неправильного овала вытянутого по оси северо-запад - юго восток с размерами полтора километра на километр. Из-за его нетипичной для большинства болотных озер большой глубины и твердого песчаного дна многие любители сенсаций поспешили объявить о его метеоритном происхождении. Жаль их разочаровывать, но никаких признаков того, что данное озеро образовалось в результате столкновения какого-либо небесного тела с нашей планетой - не обнаружено. Впрочем, как не обнаруженно их и у широко распиаренных среди любителей различного рода мистики и фантастики так называемых “Пяти озер” Муромцевского района. Но так уж устроены люди: им гораздо проще и приятней поверить в метеорит или, того пуще, в разбившийся инопланетный корабль везущий на землю капсулу с сокровенными знаниями внеземной цивилизации (доводилось мне слышать и такое), чем в то, что причиной возникновения этого таежного озера стало сочетание целого ряда процессов: суффозионно-просадочных, торфо-деструционных и прочих. Что поделать, научные термины звучат для нашего слуха далеко не так романтично, как пришельцы из космоса. Впрочем у Черного озера и без всякой уфологии хватает загадок. На нем например никогда не бывает заморов случающихся на прочих озерах едва ли не каждый год. Это можно объяснить лишь наличием на его дне большого количества ключей приносящих свежую воду. Но куда уходит вся это вода если озеро бессточное? Отсюда-то и родилась легенда о подземной реке связывающее Черное с другими озерами, и через них с Иртышом.
Тем временем народ разбрелся по льду в поисках самой уловистой лунки и я последовал их примеру. К концу зимы озерный лед достигает максимальной толщины, бур уходил в него под самую рукоятку. Первая поклевка не заставила себя долго ждать и вот уже на снегу возле моей лунки трепыхается первый представитель озерных глубин - небольшой окунь.
Тут нужно сделать небольшое отступление и рассказать немного о местной фауне. Черное озеро и здесь выбивается из общей массы: такой типичный представитель болотных озер с кислой водой как карась, который, казалось бы должен водится здесь в изобилии - в нем полностью отсутствует. С чем это связано - еще одна загадка озера. Обитают в нем лишь окунь и щука, да и те от длительного проживания в изолированном водоеме приобрели ряд особенностей. Первое, что бросается в глаза - это окраска рыбы. Гуминовые кислоты в изобилии содержащиеся в озерной воде окрашивают ее в темные тона. У выловленного мною окуня почти полностью отсутствовал обычный для этой рыбы зеленый цвет: бока - золотисто черные, антрацитово-черная спина, а брюшные и хвостовой плавники ярко-алые, как кумачовые флаги на советской демонстрации. Туловище более прогонистое, чем у его иртышских собратьев и невероятно большие глаза навыкате. Предполагают, что название “окунь” произошло от славянского названия глаза “око” и что в древности прозвище “окунь” давали всем глазастым людям и животным. Но своей “глазастостью” черноозерский окунь выделяется даже на фоне своих собратьев. С чем это связанно? Могу лишь предположить, что в условиях необычно прозрачной воды именно глаза, а не боковая линия стали основными органами рыбьих чувств и тысячи лет естественного отбора в кишащем хищниками озере привели к выживанию самых зорких особей способных заметить врага с дальнего расстояния
А вода в озере, действительно, по прозрачности не уступает Данилову озеру - самому известному из пяти муромцевских озер. Уже упомянутые мною гуминовые кислоты подавляют развитие микроскопических водорослей от которых мутнеет вода. Благодаря этому, летом в солнечную безветренную погоду дно просматривается до пяти метров в глубину. Сейчас гуминовые кислоты активно входят в моду. Их используют в косметологии а также продают в качестве так называемых БАДов - “биологически-активных добавок”. Если верить сайтам распространителей препаратов из гуминовых кислот, то они являются прекрасными антиоксидантами, детоксикантами и гепатопротекторами, повышают иммунитет организма, спасают от аллергии и стресса и много чего еще в том числе превращают обычную воду в “талую”. В общем - очередная панацея от всех недугов. Как тут не вспомнить фразу из одного советского фильма: “Моя бабушка принимала этот бальзам много лет, и умерла абсолютно здоровой!”.
Одной из целей моей нынешней поездки на Черное было взять озерную воду на пробу. Забегая вперед, расскажу, что уже в понедельник на работе я провел со взятой водой тесты на жесткость и ph-баланс. Не знаю уж благодаря гуминовым кислотам или чему-то другому общая и карбонатная жесткости оказались нулевыми. Прям-таки мечта хозяйки уставшей чистить чайник от накипи. Ph-баланс, как и предполагалось, был отклонен в сторону кислотности и равнялся - 5,5. Пять с половиной - это немного. Для сравнение такой же кислотностью обладает свежезаваренный чай средней крепости, а еще 5,5 - это ph кожи здорового человека. Так что, при желании, найти целебные свойства в черноозерской воде можно без особого труда.
Сидя за монитором, набирая этот небольшой очерк, я нет-нет да брошу взгляд на привезенную с Черного полулитровую пластиковую бутылочку. За три прошедших недели вода в ней ничуть не помутнела, оставшись все такой же прозрачной и без запаха. Хотя пить ее сырой я бы все ж таки не стал. Ибо, как говорится: “На бога надейся, а святую воду прокипяти!”.
Но вернемся к рыбалке. Про Черное мне говорили, что там клюет всегда. Но сегодня что-то рыба брала неохотно и вскоре стало ясно почему. Погода резко менялась. После обеда задул сильный порывистый ветер, не по-зимнему яркое солнышко скрылось за слоем свинцовых туч. Рыбачить стало мягко говоря не комфортно, к тому же тонкая зимняя леска часто путалась на ветру. Рыбаки недовольные уловом засобирались домой. Мою добычу за пол дня рыбалки составили 44 окуня и пара килограммов роголистника - надоедливой водоросли устилающей все дно и цепляющейся за мормышку.
Если спросите меня: стоит ли ездить на Черное озеро зимой? Отвечу вопросом на вопрос - А Вам зачем? Если ради рыбы, то не надо. Черноозерский окунь - мелкий. Здесь нет горбачей-рекордсменов, которыми можно хвастать в рыбацких байках. Но если же Вы хотите приобщиться к тайнам этого уникального природного объекта, взглянуть на него с другой, еще не известной Вам стороны, тогда - добро пожаловать!
Александр Голубев,
07-10-2010 07:42
(ссылка)
В Никольск за артефактами. Путевые заметки.
Разлив рек в нашем районе в этом году был весьма невелик. А сейчас вода и вовсе спала, обнажив те участки которые, на моей памяти всегда были под водой. Для рыбы малая вода — конечно же беда. Для рыбаков, которые этой рыбы жаждут — то же. Но для нас — это шанс исследовать ранее недоступные места.
Идея обследовать осыпь Никольского городища принадлежала Анатолию Чепикову. Не откладывая дело в долгий ящик, решили выйти в субботу, 25 сентября, тем более, что прогноз погоды на этот день был исключительно благоприятен.
Так как суббота законный выходной и каждый норовит в этот день отоспаться «по полной» - вышли только в десять. Прогноз не подвел, с утра светило не по-осеннему яркое солнце и даже небо утратило свой траурный свинцовый оттенок.
Руслан Роголевич, который также намеревался пойти с нами, поначалу отказался, так как только приехал из Омска, но потом любопытство взяло верх и он пообещал догнать нас на пароме, как только разгрузится.
Путь наш лежал из центра села прочь от серых коробок благоустроек по улице Советской и дальше на Агалакова. Здесь Толя зашел к матери чтобы переодеться в походное. Там-то за нами и увязалась маленькая собачонка с буржуйским именем Джина. Этот вислоухий щенок, не обладая интеллектом и рассудительностью взрослой псины, вместо того чтобы лежать дома нежась под осенним солнцем и наслаждаться последними теплыми деньками, всю дорогу нарезал вокруг нас круги и бросался под ноги с отвагой камикадзе. За свою назойливость животное еще раньше удостоилось от Анатолия прозвища — Вехотка. И, если честно, это имя шло ей гораздо больше.
Напротив метеостанции с берега Иртыша поднялся и метнулся с запалошными воплями в сторону старого усть-ишимского пляжа серый дикий гусь. Бедолага видно отстал от стаи, сел отдохнуть, а мы его вспугнули.
Когда проходили через поселок нефтебазы, местные собаки изъявили желание познакомится с Вехоткой поближе. Та же, враз растеряв свою прыть, поджала хвост и зашипела на противников по-кошачьи, чем повергала в шок и нас и нефтебазовских собак. Видно недостаток общения с себе подобными она компенсировала общением с домашней кошкой, вот и нахваталась дурных привычек.
Так неспеша добрались до коммерческого парома. Пока ждали Руслана один паром пропустили. Ко второму он все-таки успел. Прилетел на своем грузовичке KIA, так спешил, что даже борт забыл закрыть. Оставив грузовик на берегу взошли на паром. Вехотка за нами идти наотрез отказалась, пришлось Толе взять ее на руки. Не бросать же животное на берегу, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Самый красивый вид на Никольские горы открывается с нашего, левого берега. Отсюда их можно разглядеть полностью: от кромки берега и до верхушек берез на них растущих. Издалека все кажется таким маленьким, но по мере приближения понимаешь их истинный масштаб, а если встать у их подножия, то невольно осознаешь всю свою ничтожность перед мощью природы.
Это место как магнит, всегда притягивало людей. В окрестностях Никольска — 6 археологических памятников разных эпох. Самый впечатляющий из них это конечно городище «Голая Сопка», на одноименной горе. Название свое она получила из-за отсутствия леса на ее вершине, хотя все окрестные сопки им изрядно поросли. Второе ее название — Лысая гора. Так что следуя традиции здесь могли бы собираться на шабаши местные колдуны и ведьмы. :-) Однако известность этот огромный останец в пойме Иртыша получил не из-за названия, а в связи с тем, что на его вершине расположено древнее городище, в котором люди жили с конца каменного века и до позднего средневековья. Многие исследователи отмечали, что по форме оно сильно напоминало Искер — последнюю столицу сибирских ханов. Но это было давно... В 60-ых годах прошлого века большая его часть обвалились. Десятки тонн земли рухнули в воды Иртыша. Говорят, волна от обвала поднялась такая, что идущий мимо паром вынесло на противоположный берег. Так городище «Никольское I» (под таким названием оно было известно археологам) почти полностью перестало существовать.

Теперь на месте обвала иртышская вода каждый год вымывает из песка и ила все новые свидетельства давно минувших эпох. В причудливой каше рухнувшей породы перемешались все века. Здесь, на берегу можно встретить каменную ножевидную пластину лежащую рядом с керамикой сибирских татар. Для профессиональных археологов — это уже не памятник, а так, свалка древностей. Зато это место стало своеобразной Меккой для усть-ишимских краеведов и тех кто пытается таковыми казаться.
Естественно сойдя с парома мы направились прямо сюда. Берег Иртыша здесь, как впрочем и в большинстве мест в наших краях, илистый, а у кромки воды и вовсе топкий. Так что поиски были сопряжены с возможностью принять грязевую ванну, что в сентябре месяце представляется весьма сомнительным удовольствием. Поначалу находки были весьма редки. Лишь несколько фрагментов керамических сосудов, большинство из которых даже не были орнаментированы. Но дальше, что называется, поперло. Россыпи керамики и костей под ногами ясно говорили о том, что мы находимся в «эпицентре» обвала.
Керамика попадалась в ассортименте: осколки размерами от ногтя мизинца и до ладони взрослого мужчины устилали берег. От обилия и разнообразия орнаментов рябло в глазах. Тут вам и богочановские «жемчужины» раннего железного века, и средневековый карымский ромбический штамп, и частые ряды ямок по венчику потчеваша, и усть-ишимская «елочка», и татарские защипы, и еще черт знает что...

Костяная индустрия была представлена гораздо слабее. Костей-то было много, но в основном - остатки древних трапез. Позднее, однако, мне посчастливилось найти в разных местах несколько наконечников стел. Особенно понравился один, довольно большой — длинной 15 сантиметров, трехгранный, вырезанный из трубчатой кости животного таким образом, что по одной грани проходил глубокий желоб для стока крови. Всего костяных наконечников нашлось три и плюс еще один трехгранный сломленный и одна заготовка так и не доведенная до ума древним мастером.
Еще меньше было металлических вещей. Правда о одном месте остроглазый Анатолий на площади не больше двух квадратных метров насобирал пол горсти бронзовых пластинок бывших когда-то, по-видимому, бронзовым сосудом. Руслан тоже не остался в стороне и поднял из ила железную подвеску. Кульминацией же стала находка Анатолием почти целого железного перстня.
Все это время Вехотка как могла мешала нам, носясь от одного к другому, кусая за руки, прыгая и марая грязными лапами и без того уже нечистую нашу одежду. Однако, не смотря на попытки саботажа с ее стороны, минут за сорок мы сумели набрать килограммов семь артефактов. Кроме выше перечисленного, из заслуживающих внимания находок следует упомянуть: обломок железного ножа, точильный камень и керамическое пряслице (грузик для веретена).
Ну и конечно какой поход в Никольск без восхождения на Голую Сопку?! Кто удержится от удовольствия постоять на краю обрыва глядя сверху вниз на бегущий Иртыш и лежащий за ним Усть-Ишим? Правда к «штурму вершины» мы подошли по разному: я, не желая зазря тратить силы, обошел останец и поднимался с юго-западной стороны, где есть натоптаная тропинка, а Толик и Руслан - два экстримала пошли напролом решив покорить почти отвесный южный склон, подумав, что так будет быстрее. Однако, мне еще пришлось подождать их наверху, пока эти два альпиниста карабкались по обрыву.

Само городище, как явствует из названия, лишено древесной растительности, однако заросло высокой травой, в которой прячутся ямы старых раскопов. Так что передвигаться по нему следует осторожно. Зато какой вид отсюда открывается! Весь Усть-Ишим от взлетки до «Шанхая» — как на ладони. А глянешь на восток, там петляя уходит в даль Иртыш и выстроились вдоль него желто-красные по случаю наступившей осени высокие мысы коренного берега: Панный Бугор и Наримановская сопка Синер и у каждого из них своя древняя история. Красотища невообразимая, и как назло никто из нас троих не взял фотоаппарата!
На северо-восточной оконечности этого же останца всего в каких-то метрах пятидесяти от Голой Сопки находится еще одно городище. Никакого поэтического названия у этого места нет поэтому на археологических картах оно отмечено просто — Новоникольское III. Площадь его сильно заросла лесом, возможно поэтому оно и сохранилось лучше. Городище — средневековое. Уже самой природой оно сильно укреплено крутыми склонами. Однако древним жителям этих мест природной обороны показалось недостаточно и они умело используя рельеф окружили свое поселение двумя рядами глубоких рвов. Масштабы древнего строительства потрясают даже сейчас, спустя тысячу лет. А если учесть, что все это делалось вручную самыми примитивными орудиями, то с одной стороны невольно проникнешься уважением к этим трудолюбивым людям, а с дугой стороны понимаешь какой великий страх они испытывали пред врагами, раз тратили драгоценное время не на добывание пищи, а на возведение вот таких вот сооружений. Но все ухищрения не спасли это поселение. В конце концов жители либо покинули его, либо были истреблены завоевателями, и уже в XIV веке на месте бывшего городища новые хозяева края — сибирские татары, расположили свой могильник. Однако и сейчас еще можно разглядеть едва видимую тропу пересекающую рвы и спускающуюся по северному склону холма — древний путь на поселение давно исчезнувшего народа. По этой тропе мы и спустились с останца попав прямо на большак ведущий к Никольску.
Следующим пунктом в нашей культурной программе был подъем (ну или спуск — это смотря с какой стороны к делу подойти) по самой длинной лестнице усть-ишимского района. Но видимо «альпинистский этюд» лишил моих спутников последних сил, так что на мое предложение они ответили кислыми лицами и взглядами в сторону парома. Ну что ж, будет повод вернуться!
Не знаю как остальные, а лично я получил от этой субботней прогулки массу положительных эмоций. И даже не устал, а скорее наоборот. Да к тому же археологическая коллекция усть-ишимского музея пополнится новыми интересными экспонатами. Одно обидно — никто так и не взял с собой фотоаппарата.
Идея обследовать осыпь Никольского городища принадлежала Анатолию Чепикову. Не откладывая дело в долгий ящик, решили выйти в субботу, 25 сентября, тем более, что прогноз погоды на этот день был исключительно благоприятен.
Так как суббота законный выходной и каждый норовит в этот день отоспаться «по полной» - вышли только в десять. Прогноз не подвел, с утра светило не по-осеннему яркое солнце и даже небо утратило свой траурный свинцовый оттенок.
Руслан Роголевич, который также намеревался пойти с нами, поначалу отказался, так как только приехал из Омска, но потом любопытство взяло верх и он пообещал догнать нас на пароме, как только разгрузится.
Путь наш лежал из центра села прочь от серых коробок благоустроек по улице Советской и дальше на Агалакова. Здесь Толя зашел к матери чтобы переодеться в походное. Там-то за нами и увязалась маленькая собачонка с буржуйским именем Джина. Этот вислоухий щенок, не обладая интеллектом и рассудительностью взрослой псины, вместо того чтобы лежать дома нежась под осенним солнцем и наслаждаться последними теплыми деньками, всю дорогу нарезал вокруг нас круги и бросался под ноги с отвагой камикадзе. За свою назойливость животное еще раньше удостоилось от Анатолия прозвища — Вехотка. И, если честно, это имя шло ей гораздо больше.
Напротив метеостанции с берега Иртыша поднялся и метнулся с запалошными воплями в сторону старого усть-ишимского пляжа серый дикий гусь. Бедолага видно отстал от стаи, сел отдохнуть, а мы его вспугнули.
Когда проходили через поселок нефтебазы, местные собаки изъявили желание познакомится с Вехоткой поближе. Та же, враз растеряв свою прыть, поджала хвост и зашипела на противников по-кошачьи, чем повергала в шок и нас и нефтебазовских собак. Видно недостаток общения с себе подобными она компенсировала общением с домашней кошкой, вот и нахваталась дурных привычек.
Так неспеша добрались до коммерческого парома. Пока ждали Руслана один паром пропустили. Ко второму он все-таки успел. Прилетел на своем грузовичке KIA, так спешил, что даже борт забыл закрыть. Оставив грузовик на берегу взошли на паром. Вехотка за нами идти наотрез отказалась, пришлось Толе взять ее на руки. Не бросать же животное на берегу, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Самый красивый вид на Никольские горы открывается с нашего, левого берега. Отсюда их можно разглядеть полностью: от кромки берега и до верхушек берез на них растущих. Издалека все кажется таким маленьким, но по мере приближения понимаешь их истинный масштаб, а если встать у их подножия, то невольно осознаешь всю свою ничтожность перед мощью природы.
Это место как магнит, всегда притягивало людей. В окрестностях Никольска — 6 археологических памятников разных эпох. Самый впечатляющий из них это конечно городище «Голая Сопка», на одноименной горе. Название свое она получила из-за отсутствия леса на ее вершине, хотя все окрестные сопки им изрядно поросли. Второе ее название — Лысая гора. Так что следуя традиции здесь могли бы собираться на шабаши местные колдуны и ведьмы. :-) Однако известность этот огромный останец в пойме Иртыша получил не из-за названия, а в связи с тем, что на его вершине расположено древнее городище, в котором люди жили с конца каменного века и до позднего средневековья. Многие исследователи отмечали, что по форме оно сильно напоминало Искер — последнюю столицу сибирских ханов. Но это было давно... В 60-ых годах прошлого века большая его часть обвалились. Десятки тонн земли рухнули в воды Иртыша. Говорят, волна от обвала поднялась такая, что идущий мимо паром вынесло на противоположный берег. Так городище «Никольское I» (под таким названием оно было известно археологам) почти полностью перестало существовать.

Теперь на месте обвала иртышская вода каждый год вымывает из песка и ила все новые свидетельства давно минувших эпох. В причудливой каше рухнувшей породы перемешались все века. Здесь, на берегу можно встретить каменную ножевидную пластину лежащую рядом с керамикой сибирских татар. Для профессиональных археологов — это уже не памятник, а так, свалка древностей. Зато это место стало своеобразной Меккой для усть-ишимских краеведов и тех кто пытается таковыми казаться.
Естественно сойдя с парома мы направились прямо сюда. Берег Иртыша здесь, как впрочем и в большинстве мест в наших краях, илистый, а у кромки воды и вовсе топкий. Так что поиски были сопряжены с возможностью принять грязевую ванну, что в сентябре месяце представляется весьма сомнительным удовольствием. Поначалу находки были весьма редки. Лишь несколько фрагментов керамических сосудов, большинство из которых даже не были орнаментированы. Но дальше, что называется, поперло. Россыпи керамики и костей под ногами ясно говорили о том, что мы находимся в «эпицентре» обвала.
Керамика попадалась в ассортименте: осколки размерами от ногтя мизинца и до ладони взрослого мужчины устилали берег. От обилия и разнообразия орнаментов рябло в глазах. Тут вам и богочановские «жемчужины» раннего железного века, и средневековый карымский ромбический штамп, и частые ряды ямок по венчику потчеваша, и усть-ишимская «елочка», и татарские защипы, и еще черт знает что...

Костяная индустрия была представлена гораздо слабее. Костей-то было много, но в основном - остатки древних трапез. Позднее, однако, мне посчастливилось найти в разных местах несколько наконечников стел. Особенно понравился один, довольно большой — длинной 15 сантиметров, трехгранный, вырезанный из трубчатой кости животного таким образом, что по одной грани проходил глубокий желоб для стока крови. Всего костяных наконечников нашлось три и плюс еще один трехгранный сломленный и одна заготовка так и не доведенная до ума древним мастером.
Еще меньше было металлических вещей. Правда о одном месте остроглазый Анатолий на площади не больше двух квадратных метров насобирал пол горсти бронзовых пластинок бывших когда-то, по-видимому, бронзовым сосудом. Руслан тоже не остался в стороне и поднял из ила железную подвеску. Кульминацией же стала находка Анатолием почти целого железного перстня.
Все это время Вехотка как могла мешала нам, носясь от одного к другому, кусая за руки, прыгая и марая грязными лапами и без того уже нечистую нашу одежду. Однако, не смотря на попытки саботажа с ее стороны, минут за сорок мы сумели набрать килограммов семь артефактов. Кроме выше перечисленного, из заслуживающих внимания находок следует упомянуть: обломок железного ножа, точильный камень и керамическое пряслице (грузик для веретена).
Ну и конечно какой поход в Никольск без восхождения на Голую Сопку?! Кто удержится от удовольствия постоять на краю обрыва глядя сверху вниз на бегущий Иртыш и лежащий за ним Усть-Ишим? Правда к «штурму вершины» мы подошли по разному: я, не желая зазря тратить силы, обошел останец и поднимался с юго-западной стороны, где есть натоптаная тропинка, а Толик и Руслан - два экстримала пошли напролом решив покорить почти отвесный южный склон, подумав, что так будет быстрее. Однако, мне еще пришлось подождать их наверху, пока эти два альпиниста карабкались по обрыву.

Само городище, как явствует из названия, лишено древесной растительности, однако заросло высокой травой, в которой прячутся ямы старых раскопов. Так что передвигаться по нему следует осторожно. Зато какой вид отсюда открывается! Весь Усть-Ишим от взлетки до «Шанхая» — как на ладони. А глянешь на восток, там петляя уходит в даль Иртыш и выстроились вдоль него желто-красные по случаю наступившей осени высокие мысы коренного берега: Панный Бугор и Наримановская сопка Синер и у каждого из них своя древняя история. Красотища невообразимая, и как назло никто из нас троих не взял фотоаппарата!
На северо-восточной оконечности этого же останца всего в каких-то метрах пятидесяти от Голой Сопки находится еще одно городище. Никакого поэтического названия у этого места нет поэтому на археологических картах оно отмечено просто — Новоникольское III. Площадь его сильно заросла лесом, возможно поэтому оно и сохранилось лучше. Городище — средневековое. Уже самой природой оно сильно укреплено крутыми склонами. Однако древним жителям этих мест природной обороны показалось недостаточно и они умело используя рельеф окружили свое поселение двумя рядами глубоких рвов. Масштабы древнего строительства потрясают даже сейчас, спустя тысячу лет. А если учесть, что все это делалось вручную самыми примитивными орудиями, то с одной стороны невольно проникнешься уважением к этим трудолюбивым людям, а с дугой стороны понимаешь какой великий страх они испытывали пред врагами, раз тратили драгоценное время не на добывание пищи, а на возведение вот таких вот сооружений. Но все ухищрения не спасли это поселение. В конце концов жители либо покинули его, либо были истреблены завоевателями, и уже в XIV веке на месте бывшего городища новые хозяева края — сибирские татары, расположили свой могильник. Однако и сейчас еще можно разглядеть едва видимую тропу пересекающую рвы и спускающуюся по северному склону холма — древний путь на поселение давно исчезнувшего народа. По этой тропе мы и спустились с останца попав прямо на большак ведущий к Никольску.
Следующим пунктом в нашей культурной программе был подъем (ну или спуск — это смотря с какой стороны к делу подойти) по самой длинной лестнице усть-ишимского района. Но видимо «альпинистский этюд» лишил моих спутников последних сил, так что на мое предложение они ответили кислыми лицами и взглядами в сторону парома. Ну что ж, будет повод вернуться!
Не знаю как остальные, а лично я получил от этой субботней прогулки массу положительных эмоций. И даже не устал, а скорее наоборот. Да к тому же археологическая коллекция усть-ишимского музея пополнится новыми интересными экспонатами. Одно обидно — никто так и не взял с собой фотоаппарата.
Александр Голубев,
07-12-2015 08:42
(ссылка)
Ирбашская Копань
Свидетельств былых эпох на земле Усть-Ишимской хватило бы с избытком на целую область: седая древность, увлекающая нас на десятки тысячелетий назад, во времена младенчества человечества, и следы недавнего прошлого, места боевых походов и сражений соседствуют с памятниками мирного трудового прошлого населения края. Все смешалось здесь в этакий своеобразный исторический коктейль с терпким вкусом тайны, которую еще только предстоит открыть.На мой взгляд, в каждой эпохе есть своя изюминка, тот неповторимый шарм, присущий только ей, но кого-то больше влекут археологические древности, кого-то, напротив, больше интересует недавнее прошлое. К слову, мой сегодняшний рассказ, скорее, о последнем пункте, ведь сто с небольшим лет в масштабе тысячелетий это все равно, что вчера.
Первый раз об Ирбашской, или как ее чаще называют Граковской Копани я услышал от своего одноклассника, проживавшего на тот момент в Граковке. Дело было недалеко от этой деревни, можно даже сказать, за ее околицей, на берегу небольшого притока речки Ик (опять же больше известной в народе под названием Граковской речки), где мы компанией отмечали его день рождения.
– Вот посмотри, – не без гордости произнес он, указывая мне на текущую внизу речушку, – этот канал наши деды прокопали, чтобы болота осушить.
Посмотрел я на речку, полную по случаю майского половодья темной, пахнущей торфом воды, на ее извилистое, проложенное явно самой природой, а вовсе не человеком, русло и ничего ему не ответил. Да и что тут ответишь? Каждый кулик свое болото хвалит. Каждый человек считает место, в котором живет, исключительным, и перед этим мой одноклассник уже успел рассказать мне несколько бытовавших среди местных баек-страшилок: о «бездённых» Ирбашских озерах, о Черном лесе, из которого, если уж ты забрел в него по глупости, можно выбраться только чудом, и о запутанном клубке тропинок, по которым можно перейти за большак, не пересекая его. Так что причина моего скепсиса была вполне оправдана и нет ничего удивительного в том, что искусственное происхождение Копани (как мой одноклассник назвал эту речушку) я отнес к рангу небылиц, находящихся где-то между говорящими дубами и чистыми на руку чиновниками.

Речка Копань
Шли годы, я уж и думать забыл об этом граковском феномене и лишь изредка когда кто-нибудь спрашивал меня:
– А правда, что есть у нас в районе такое…
Уверенно кидал в ответ:
– Брехня! Сам видел. Ничего подобного!
И продолжалось так до тех пор, пока мне в руки не попала машинопись неизданной книги нашего известного краеведа В. А. Фатеева о туристических путешествиях по Усть-Ишимскому району. Была там и глава о путешествии к озеру Ирбаш, в которой мое внимание привлек следующий абзац:
«Граковка расположена по обоим берегам речки Ик. Раньше на речке стояла водяная мельница, здание ее, потемневшее от времени и полусгнившее, сохранялось долгое время в долине речки. Ближе к осени речка мелела. Чтобы мельница могла работать круглогодично, крестьяне решили прокопать канал из находящихся неподалеку озер. В 1905 году такой канал был выкопан. Сейчас необходимость в нем отпала, да и воды стало гораздо меньше, повысохли болота, питавшие озера, однако память о строителях осталась».
Сомневаться в компетентности Валерия Андреевича не приходилось. Работа мельницы как причина строительства канала выглядела очень правдоподобно в отличие от осушения болот, которое стало лишь побочным эффектом строительства этого объекта, весьма даже нежелательным для самих строителей. Все, с одной стороны, казалось логичным, но с другой, то, что показали мне, меньше всего напоминало рукотворный канал, и это, признаться, ставило меня в тупик, выйти из которого можно было лишь тщательно изучив «объект» на местности.
Но несколько лет подряд дорога на Граковку у меня, что называется, не лежала. Если и доводилось бывать в тех краях, то все проездом на Таву. Однако граковская загадка не шла у меня из головы: природа или человек стали творцами русла, по которому вода из Ирбашских озер поступает в речку Ик? Истина, как всегда, оказалась посередине. Но об этом позднее, а пока мне оставалось только разглядывать карты местности, от которых не было никакого толку. Немногим больше пользы было от спутниковых снимков, доступных в сети. На лучших из них можно было разглядеть тонкую прямую линию, тянущуюся от озера Малый Ирбаш на полтора километра почти строго на запад, затем поворачивающую на юго-запад и, спустя еще полкилометра, исчезающую в лесу. Что это? Просека или тот самый канал? Но даже при максимальном увеличении невозможно было разглядеть, что же темнеет на дне этой узкой ленты – водная поверхность или же просто тень от окружающих ее деревьев.
Как знать, может, и не довелось мне ответить на этот вопрос, кабы не Сергей Викторович Реут. По долгу службы мне едва ли не каждый день приходится бывать в Центре финансового и экономического обеспечения учреждений культуры района, который он возглавляет. Сергей Викторович, как бы написали в советских газетах, – человек интересной судьбы. Долгое время работал в Заполярье, многое повидал и пережил. Его рассказы о бескрайних северных просторах, студеном Карском море, белых медведях и прочей приполярной экзотике частенько увлекали меня, ждущего, пока готовятся бухгалтерские документы. Но однажды разговор переключился на местные достопримечательности:
– А Граковский канал видел? – как-то спросил он меня. – Неужели они и правда его вручную выкопали?
В ответ я высказал свои сомнения по данному поводу.
– Так это ты возле деревни был, – возразил мне Сергей Викторович. – А дальше он совсем другой – прямой, хотя и не такой глубокий.
– Так, может, съездим, посмотрим? – предложил я, в принципе, не особо надеясь на успех. – Покажете мне его, раз хорошо знакомы с тамошними местами?
На удивление, он охотно поддержал эту идею.

Сергей Викторович Реут
Выезд был назначен на ближайшие дни. На дворе стояла солнечная и морозная октябрьская погода. Сборы были недолгими. Для фотофиксации взял с собой уже объездившую со мной полрайона зеркалку Nikon, для «отбивки» точек на местности – GPS-навигатор, презент от главы района А. С. Седельникова (сей факт прошу воспринять не как рекламу, а как выражение благодарности), сапоги-болотники (а как без них на болоте?), ну и, конечно, побольше теплой одежды, ведь, как говаривал один мой хороший знакомый: «В тайге сопревших не находили – только замерзших!».
До Граковки доехали без приключений. Дорога, на удивление, была хорошей и ничего интересного, кроме вспорхнувшей стайки «пасшихся» в дорожном песке молодых рябчиков, нам не попалось. Когда впереди отчетливо замаячили крыши деревенских домов, машина свернула с большака и, повиляв меж рулонов заготовленного сена, пересекла поле последнего на всю область колхоза «Путь Ильича». Отсюда начиналась лесная дорога. О том, чтобы проехать по ней, нечего было и думать. У первого же овражка Сергей Викторович выскочил из кабины, огляделся и, решив не рисковать, махнул рукой шоферу, подавая знак глушить мотор. Дальше отправились пешком.
Прогулка по осеннему лесу практически всегда удовольствие: воздух свеж, нет в нем той тяжелой, влажной духоты, царящей под пологом листвы летом, а главное, нет надоедливой армии насекомых, которые, даже будучи отпугнутыми «комариной мазью», все равно неотступно сопровождают тебя плотным звенящим роем, ожидая окончания действия репеллента. Сейчас же лес словно вымер, лишь стрекот сорок изредка нарушал тишину. Ноги сами несли вперед. Дорога, ныряя в многочисленные овраги, уводила нас на восток, иногда забирая на север. Видно было, что место относительно посещаемое: несколько раз попадались места охотничьих привалов, легко угадываемых по водочным бутылкам.
Прошагав немногим больше километра, мы впервые вышли к водному потоку. Его высокие берега густо заросли кустарником, вода с шумом неслась по забитому упавшими деревьями руслу. Само же русло извилистое, как движения змеи, явно возникло многие века, а то и тысячелетия назад в результате естественного процесса меандрирования. Оставалось только надеяться на слова Сергея Викторовича, что дальше «канал» станет другим.
Еще через полкилометра показался остов невесть как оказавшейся здесь избушки. На бревнах некогда добротного сруба до сих пор видны были порядковые метки, сделанные зеленой краской, но крыша строения давно обвалилась, и сквозь нее проросли молодые березки. Кто выстроил ее здесь и для чего, осталось для меня загадкой: до озер, да и вообще до воды далековато, чтобы здесь могли обосноваться охотники. Разве что лесозаготовители могли жить в ней во время работы в делянах.

Руины избушки
Если до руин избушки наш путь, хоть и с большой натяжкой можно было назвать дорогой, то далее, вниз под уклон сбегала лишь узенькая тропка, заканчивающаяся в болотце, густо заросшем осокой и тростником, который у нас почему-то называют камышом. Не смотря на морозец, болотная жижа покрылась лишь тонкой коркой смерзшейся грязи, неспособной выдержать вес человека. Ноги вязли в ней до колен. Пришлось раскатать бродни.
За болотцем начинался рямовый лес с преобладанием березы. Впереди вновь заблестела вода и через некоторое время мы вышли на берег неширокой, около двух метров, канавы, по которой с негромким журчанием текла болотная вода. С первого взгляда было понятно, что это творение человеческих рук. Канал был прям, как натянутая веревка. Вода в нем стояла практически вровень с невысокими отвесными торфяными берегами, глубина в этом месте достигала полутора метров, ровное дно устилал слой опавшей листвы. Ниже по течению поток, почти теряясь в кустарниках и тростнике, краем болотца уходил в сторону виденной нами ранее речушки. Его же верховья, уходящие на юго-юго-восток, терялись меж белых стволов берез.
Теперь все встало на свои места: рукотворный канал действительно был, хоть выглядел и не так впечатляюще, как его рисовало мое воображение. Да и не нужно было его строителям копать траншею до самой речки Ик, у которой уже был безымянный приток, ведущий в нужную сторону. Достаточно было прокопать канал до его верховьев и спустить в него воду Ирбашских озер. Так что речка, которую мне показывали возле деревни, называя «Копанью» получила это имя от искусственного канала, впадающего в нее в нескольких километрах вверх по течению.

Искусственная Копань какой я ее увидел впервые

Далее наш путь лежал по тропе, идущей вдоль правого (северного) берега Копани, то подходя к ней вплотную, то отбегая подальше, обходя самые крупные бочажины. Нынешний год выдался, мягко говоря, влажным, и березовый лес превратился в настоящее болото, пройти по которому можно только в сапогах-болотниках. Так же бросалось в глаза огромное количество выворотней, чьи грязные пятна, достигавшие порою пяти метров в диаметре, темнели буквально повсюду. Видимо, переувлажненная почва уже не держит в себе корни деревьев, и ветра выворачивают их из земли, вместе с корнями поднимая в воздух пласты мха и грунта. В одном месте тропа прошла через один из таких выворотней, поднимаясь на него выше чем на два метра и спускаясь с обратной стороны, превратив его таким образом в прекрасную смотровую площадку, которой я незамедлительно воспользовался для фотосъемки.
Выворотни
Прошагав около полукилометра, мы увидели, как Копань делает аккуратный поворот на восток. Тот самый поворот, виденный мной еще на спутниковом снимке местности, когда я первоначально принял канал за просеку из-за его излишней прямизны. Еще через километр правый берег стал слишком топким, и тропинка незаметно перебралась на левый (южный) берег канала. Проблем с переправой не возникло. Здесь хватало и упавших через русло деревьев, и искусственных мостков из срубленных жердей. Отсюда начиналось настоящее бобровое царство. Если раньше следы жизнедеятельности этих заполонивших в последние годы все водоемы района животных попадались лишь изредка, то теперь деревья, стоящие вдоль берега, через одно несли на себе отметины их зубов. У одного из таких обреченных деревьев мы специально остановились полюбоваться разбросанной вокруг щепой. Некоторые щепки были больше сантиметра в толщину! Это какие ж нужны зубищи, что бы легко отгрызать от дерева такие пласты! Видимо, особь была немаленькой, килограммов под тридцать. К счастью, быстрое течение и низкие берега не позволяют им строить здесь свои плотины. Иначе бы и без того заболоченный лес превратился в просто непролазную топь. По силе воздействия на природу бобры стоят на втором месте среди животных, уступая только человеку. И так же, как человек, они далеко не всегда меняют окружающую их среду в лучшую сторону.
Одна из встретившихся нам берез погрызенных бобрами
Наконец, вдалеке за деревьями показалась обширная водная поверхность, и через некоторое время мы вышли к озеру Малый Ирбаш, или как его немудрено называют охотники «Первое». Оно мало чем отличалось от других небольших болотных озер. Топкие берега, многочисленные осоковые острова и слой сапропеля таящийся под водой. Расстояние от берега до берега в самом широком месте не превышало 400 метров, а его форма походила на плохо выраженный овал, лишь слегка вытянутый по оси запад-восток. Хотя само озеро уже покрылось прозрачной коркой льда, в том месте, где в него упирается Копань, сильное течение не позволило воде застыть. Я некоторое время любовался, как озерная вода устремляется в выкопанную сто лет назад траншею и с шумом и водоворотами уносится на запад крутить жернова уже несуществующей мельницы.
Место выхода Копани из озера Малый Ирбаш
Пока я любовался местными красотами, Сергей Викторович уже успел уйти далеко от меня, лишь спина в потертом камуфляже с закинутым за нее стареньким ружьем иногда мелькала среди деревьев. Пришлось ускориться, чтобы нагнать его. У озера тропа поворачивала на юг вдоль берега и, постепенно отходя от него, выводила к озеру Ирбаш, возле которого и находилась наша конечная цель – охотничья избушка. Расстояние между озерами составляло около 300 метров, и в самом узком месте мы вновь увидели прямую траншею, соединяющею озера. Видимо, для работы мельницы потребовалась вода обоих озер. Через траншею был перекинут мосток из жердей, которым мы и воспользовались. За деревьями уже отчетливо виднелось большое озеро. Наконец, шедший впереди Сергей Викторович, разглядев что-то для меня еще невидимое, произнес:
– Смотри-ка, избушка-то совсем завалилась.
Через мгновенье охотничья избушка открылась и моему взору – низкое бревенчатое строение, изрядно завалившееся на один угол. Войти в нее можно было только согнувшись, а войдя, нечего было и мечтать о том чтобы разогнуться. Впрочем, заходить в нее мы и не собирались. Окрестности строения буйно заросли багульником, из которого вверх уходили редкие сосны. Мимо избушки тропа уходила к озеру, до которого оставалось метров 70. Озеро Ирбаш раза в три крупнее и глубже своего меньшего побратима. По форме напоминает гигантскую фасолину, обращенную выгнутой стороной на северо-запад. Само название Ирбаш татарское и состоит из двух корней «йир» и «бош», что можно перевести на русский язык, как «земляная голова» или «голова земли». Трудно сказать, откуда оно взялось. В. А. Фатеев предполагал, что изначально так называлась грива, подходящая к озеру с запада, чье название передалось и самому водоему.
Охотничья избушка
Миновав отдыхавшую на берегу флотилию рыбацких лодок, мы на конец-то вышли на заросший тростником берег, из которого тут и там торчали коричневатые шишки рогоза, пушащиеся на ветру. Это озеро тоже замерзло, и от поднятых нашими шагами по зыбкому берегу волн тонкий, едва сформировавшийся лед трескался, отчего над озером прокатывался чистый хрустальный звон. На юго-западном берегу едва различимые глазу сидели две пары лебедей, не проявлявших к нам никакого интереса. Слишком далекие, чтобы быть опасными, мы были безразличны этим благородным птицам. По левую руку от нас в тростнике спрятался охотничий скрадок, а справа обнаружилось начало Ирбашской Копани. Здесь озеро Ирбаш изливалось в прокопанный людьми канал, чтобы, пройдя через озеро поменьше, вновь устремиться в рукотворную протоку.
Озеро Ирбаш. Начало Копани.
Теперь уже можно было в уме представить более или менее полную картину водного пути от озера Ирбаш до речки Ик и даже дальше. Начинаясь от северного берега этого озера, канал разрезает перемычку между водоемами в самом узком месте и выходит на южный берег Малого Ирбаша. Длинна этого отрезка около 250 метров. Следующий, гораздо более продолжительный участок Копани, начинается от западного берега озера Малый Ирбаш и тянется на полтора километра на запад, лишь на пару градусов отклоняясь на север. Это самый длинный участок канала. Его ширина здесь составляет от одного до двух метров, а глубина колеблется от 80 сантиметров до полутора метров. Далее Копань делает поворот на западо-западо-юг и через 600 метров впадает в небольшую речушку, дав ей свое название. Пропетляв с ней около двух километров, вливается в речку Ик на окраине Граковки. Название Ик, так смешно звучащее для русского слуха, на самом деле не имеет ничего общего с икотой и восходит к тюркскому корню «ык», означающему текущую воду или течение. Часто, видимо, из нежелания употреблять такое странное название, речку называют просто Граковской. Она пересекает деревню, деля ее своим глубоким руслом на западную и восточную части, ныряет под большак и, миновав бывшую деревню Михайловка, впадает в одну из многочисленных ишимских стариц, чтобы из нее уже влиться в сам Ишим напротив Святого озера.
Общий план Ирбашской Копани
Глядя на бегущую воду, начинающую свой путь к Ишиму длиной в 12 километров, из которых почти два с половиной ей придется пройти по руслу специально для этого прорытому человеком, невольно думалось о строителях этого канала. Кто они были? Что подвигло их на это трудовое деяние? Сдается мне, ответы на эти вопросы просты и тривиальны, как любая правда. Были они простыми крестьянами, на которых испокон веков держалась Россия, а затем и Сибирь. Строили они Копань для того, чтобы мельница работала круглый год, а деревня всегда была со своим хлебом. Чтобы не ездить «на поклон» к соседям и жить сыто, богато, самодостаточно. Вот такое простое человеческое желание. Поэтому вряд ли сооружение канала длиной в две с лишним версты казалось им чем-то героическим. Так, рутина. Лишь бы самим пожить хорошо да детям оставить.
Но вот можно ли представить такое в наше время? Способны ли на такое наше современники? И хотелось бы дать положительный ответ, но вывод очевиден: нет, измельчал народ. Видно это по пустеющим деревням, откуда молодежь уезжает в города за легкой жизнью, по полям, зарастающим лесом. Да что там поля! Огороды зарастают бурьяном! Лень, апатия и полнейшее нежелание что-либо изменить в своей жизни – вот они, признаки нашего поколения, которое историки наверняка назовут «потерянным».
Участок Копани между озерами Ирбаш и Малый Ирбаш
Но хватит о грустном. Путь от кромки леса до охотничьей избушки с остановками на фотографирование, отбивку координат и просто любование прелестями болотного края, занял у нас почти два часа. Можно было бы и передохнуть. К тому же, условия располагали: возле избушки было оборудовано кострище, имелся и стол со скамейками. Позаимствовав из местного инвентаря небольшое ведерко, я отправился к началу Копани за водой. Здесь через канал был переброшен добротный мостик, для удобства даже оборудованный перильцем. С него можно было зачерпнуть чистой воды без боязни увязнуть. Сергей Викторович к моему возвращению уже развел костер. Поставив кипятится воду на чай, мы достали из рюкзаков свою нехитрую снедь. Основу принесенного с собой рациона, естественно, составляли хлеб и сало – самая «лесная» еда. Пока закипала вода, Сергей Викторович учил меня жарить сало, завернув его в кусок газеты, что бы с него не стекал жир, я же угощал его салом с чесноком, засоленным по своему особому рецепту. Ну и, конечно, были разговоры у костра, таежные байки: кто и где побывал, что повидал, чему научился. А вокруг только озера да болота... Впечатление от единения с природой портили только надоедливые телефонные звонки. Как назло, сотовая связь, и в райцентре-то не всегда ведущая себя адекватно, здесь работала просто исключительно. Не отпускала нас цивилизация, напоминая о работе, отчетах, важных совещаниях и прочих вещах, которыми так любит усложнять себе жизнь «цивилизованный» человек.
Как ни хорошо посидеть с кружкой чая у костра, но привал подошел к концу. Настала пора возвращаться, а на обратном маршруте нужно было еще посетить приглянувшиеся места, «отбить» координаты нескольких точек – в общем, сделать все, что не успели по дороге сюда.
Обратный путь не доставил никаких неприятностей, до Усть-Ишима добрались засветло. Встав на следующее утро и подойдя к окну, я увидел, что все вокруг замело толстым покрывалом снега. Ночной снегопад поставил точку на исследовательском сезоне 2015 года. Позади остались экспедиции и поездки по родному району. Какие-то задумки удалось осуществить, еще больше по тем или иным причинам осталось не сделанным, перекочевав в планы на следующий год. Настало время для работ «кабинетного периода» – подведения итогов, осмысления накопленной информации. Волей судьбы именно этот, давно желанный, но свершившийся совершенно спонтанно, выезд на Ирбашскую Копань стал финальным аккордом сезона. Я стоял у окна, смотрел на падающий снег и думал: «Как хорошо, что мы успели!»
Участники "вылазки" на Ирбаш С.В. Реут (слева) и А.С. Голубев
Александр Голубев,
28-04-2011 21:27
(ссылка)
Усть-Ишим - 375 лет. История и современность.
Брошюра эта была моим первым
опытом. Конечно, до этого я публиковался в газете (еще бы, я ведь там работал J),
но что бы издать отдельную, пусть и маленькую, но все же книжку, такого до
этого не было. Сейчас я написал бы ее по-другому, но ведь и я тогда был другой.
Это теперь смешно вспоминать, как я до утра сидел за компом рисуя карту
Усть-Ишима, тогда же, казалось, что я делаю важное дело.
Как ни странно, но этот, с моей точки зрения, корявый опус оказался востребованным.
С тех пор я часто встречал
этот текст в школьных рефератах, курсовых и даже дипломной работах, ну, и,
конечно же, в интернете. Правда почти никогда не указывался автор, что, знаете
ли, как-то обидно.
Устав бороться за авторские права,
я выкладываю текст брошюры здесь. Пользуйтесь, кому надо. Но пусть горит в аду,
кто не укажет меня в списке литературы .
Усть-Ишим - 375 лет. История и современность.
Село Усть-Ишим расположено на левом берегу Иртыша при впадении в него реки Ишим, от которой он и получил своеназвание. Удобное расположение у слияния двух крупных рек способствовало
раннему заселению этого края человеком. Древнейшая обжитая и наиболее
приподнятая часть территории нынешнего села находится на левом берегу речки Крушинки
(часть улицы Советской со зданиями церкви и администрации). Это место некогда называли
городком. Здесь при копке погребов и обработке огородов часто находят древние
вещи. Знаменитым краеведом А. Ф. Палашенковым, посетившим в 1962 году
Усть-Ишим, в старой части села были обнаружены фрагменты керамических сосудов.
Самые старые из них относились к третьей четверти второго тысячелетия до нашей эры,
то есть к бронзовому веку.
С 13 века на территорию таежного Прииртышья
с юга начинают проникать тюркские племена, которые позднее сложились в народ
сибирских татар. Сохранилась легенда, согласно которой первоначально владения
татар в Сибири находились в устье Ишима. Их столицей был город Кызыл-Тура
(Красный Город), стоявший вероятнее всего, на противоположном от Усть-Ишима
берегу Иртыша. Этот городок связывают с именем легендарного родоначальника
династии сибирских ханов - Тайбуги. Потомок Тайбуги хан Мамет в 1495 году
разгромил Тюменское ханство и перенес свою столицу в город Кашлык, став первым
великим ханом Сибири. «И с тех пор»,-как пишет Есиповская летопись,
-«Пресеклося царствие на реке Ишиме».
Известно, что во времена
Сибирского ханства на месте нынешнего Усть-Ишима стоял татарский городок
Ишим-Тамак. Летом 1585 года в своем последнем походе по Сибири Ермак дважды
проплывал мимо него. В устье Ишима произошло сражение между отрядом Ермака и
войском местного татарского князя. Причем, как повествует летопись, застигнутые
врасплох казаки вынуждены были схватиться с татарами в рукопашную. Казаки
смогли одержать победу, но пятеро из них погибло. Похоронив убитых, Ермак
продолжил свой путь вверх по Иртышу. Об этом сражении татары сложили песню, слова
которой дошли до наших дней.
С завоеванием Сибирского ханства
русскими, местное население было обложено данью - ясаком. В 1631 году
Тебендинская волость, куда входило и поселение Ишим-Тамак, подверглась
нападению кочевников калмыков, которые разграбили многие татарские юрты
(деревни), «посекли многих ясашных татар, а скот их и жен с собой увели».
Посланный вдогонку отряд из Тары настиг налетчиков на Ишиме у урочища
Кош-Карагай и сумел отбить пленных. Однако, в том же году из Москвы в Тару был
прислан царский указ где говорилось, что татары «нижних Тарских волостей, для
оберегания их, просят поставить на Ишим-реку заставу русских людей». Татары обещали
построить «усть Ишима-реки русским людям острожек. А по вестям (при известии о
приближении кочевников), учнут в тот острожек вбегать с женами и детьми, а из
острожку по вестям же учнут ходить на промыслы». В ответ на челобитную ясашных
татар было велено «в том месте острог поставить, изыскав крепкое и угожее место
и к реке и к воде и людей в нево служилых русских с вогненным боем поставить».
В соответствии с этим указом в
1631 году на левом берегу Иртыша в километре ниже ишимского устья был поставлен
Ишимский острог. Этот год и принято считать годом основания Усть-Ишима. Долгое
время единственными русскими людьми здесь были казаки-годовалыцики, присылаемые
на год из Тары для несения воинской службы. За стенами же острожка находилось
татарское село Саргатка. В Ишимском Острожке начинал службу вместе со своим
отцом знаменитый сибирский летописец, картограф и архитектор С. У. Ремизов,
составитель ремизовской летописи и чертежной книги Сибири. Здесь среди местных
татар он собрал множество легенд, позднее легших в основу его летописи.
С момента своего возникновения
Ишимский острог занимал несколько особое место в линии русских укреплений по
Иртышу: во-первых, он был ключом к водному пути по Ишиму на юг в казахстанские
степи к соленым озерам; во-вторых, находился на половине пути между Тобольском
и Тарой и служил удобным перевалочным пунктом. Поэтому он не исчез даже, когда
русские границы отодвинулись далеко на юг, и острожек, потеряв свое военное
значение, превратился в заурядную тыловую крепостицу. В 1720 году на его месте
была основана Усть-Ишимская слобода, в которой поселились русские крестьяне и
отставные служилые люди, решившие сменить саблю на плуг.
Русские первопоселенцы с самого
начала должны были соседствовать здесь с коренным народом - сибирскими
татарами. Несмотря на то, что русские и татарские дома зачастую стояли рядом, в
устье Ишима до начала ХХ-го века четко выделялось два населенных пункта:
русский -Усть-Ишим и татарский - Саргатка.
Население слободы неуклонно
росло. В 1868-69 гг. в ней уже насчитывалось 44 двора русских крестьян.
Существовала также православная церковь. Здесь же находилось волостное
правление Саргатской ясачной волости, объединявшей татарские деревни на
территории нынешнего Усть-Ишимского района.
Крестьяне кроме хлебопашества
занималось и другими промыслами: смолокурением, сбором грибов, ягод, кедровых
орехов, позднее заготовкой дров для проплывающих по Иртышу пароходов. Были
здесь и свои кузнецы и пимокаты. Особо славились усть-ишимские рыбные пески,
где ежегодно вылавливалось рыбы на 10-15 тыс. рублей. Для торговли и обмена
дважды в год на 9 мая и 6 декабря (дни, посвященные чудотворцу Николаю) в
Усть-Ишиме собиралась Никольская ярмарка.
Христианский святой Николай
считался покровителем села Усть-Ишимского и Усть-Ишимской церкви. Среди
верующих людей сохранилась легенда о том, что при выборе места для
строительства церкви по Иртышу пускали икону с ликом этого святого. Трижды
пускали ее вниз по течению реки и трижды она приставала к берегу в устье Ишима.
Таким образом, в Усть-Ишиме появилась первая церковь. В 1844 году здание церкви
сгорело, но через два года та самая икона святого Николая была найдена на
пепелище. После этого она была признана чудотворной. Икона хранилась в
Усть-Ишимской церкви вплоть до ее закрытия в начале 30-х гг. ХХ-го века. После
этого ее следы теряются. Вместо сгоревшей устьишимцы выстоили новую церковь,
тоже деревянную, но она со временем обветшала. В1904 году было заложено
кирпичное здание, постройка которого завершилась в 1906 году. Это здание
сохранилось до наших дней, однако во времена борьбы с религией с него были
убраны купола и колокольня. За свою столетнюю историю здание церкви успело
побывать и складом, и кинотеатром, и спортшколой. Теперь же оно вновь
возвращено верующим.
После октябрьского переворота
1917 года и последовавшим за ним периодом многовластия Усть-Ишим в конце концов
оказался под контролем правительства А. В. Колчака. В сентябре 1919 года
Усть-Ишим был взят 454 полком Красной армии, но вскоре оставлен под натиском
белых. Однако уже восьмого ноября вновь был взят красными, на сей раз
окончательно. Отступавшие на пароходах по Иртышу колчаковские части
обстреливали входящих в село красных из орудий. Многие старые дома по улице
Советской долго несли на своих стенах отметены осколков разорвавшихся
артиллерийских снарядов.
В годы советской власти в
Усть-Ишиме на улице Советской напротив Дома культуры была установлена стела в
память о павших за власть Советов. Еще одним памятником, относящимся к тому
времени, является обелиск Карою Балогу - венгру, сражавшемуся на стороне
красных. Балог - один из руководителей партизанского движения, был убит колчаковцами
в селе Слободчики, а с приходом красных перезахоронен с почестями в Усть-Ишиме.
Его именем названа одна из улиц нашего села.
С установлением советской власти
в Сибири Усть-Ишим становится центром волости (4 августа 1920 г.), в которую вошли
близлежащие русские деревни и села. Все окрестные татарские поселения
по-прежнему относились к Саргатской национальной волости, в которой даже
делопроизводство велось на татарском языке арабскими буквами.
В феврале 1921 года во время
восстания чембарников (Ишимское восстание) Усть-Ишим был захвачен восставшими.
Волостное руководство спешно бежало на восток по направлению к Таре. Секретарь
Усть-Ишимской партийной ячейки И. К.
Гаврин был схвачен восставшими и
расстрелян. Но уже через несколько дней чембарники были выбиты из села
подошедшими частями регулярной армии.
В 1924 году произошло упразднение волостей.
Усть-Ишимская, Слободчиковская, Тавинская, Кайлинская и Саргатская волости были
объединены в один район с центром вУсть-Ишиме.
Первым председателем районного
исполкома стал бывший глава продотряда С. Г. Кочетов. Он так вспоминал события
того времени: «По ликвидации продотрядов я собрался домой в Москву. В это время
здесь проходило районирование. Меня как члена партии с 1921 года попросили
провести районный съезд Советов. На съезде меня избрали председателем
райисполкома. Это было 5 февраля 1924 года. В райисполкоме нас было трое, а на
весь район было только восемь коммунистов. Секретарем райкома партии был
Григорьев - грамотный, закончил Свердловский коммунистический институт. Был в
Усть-Ишиме театральный кружок, ставили спектакли. Дороги были совсем плохие -
там, где сейчас улицы Советская и Горького, лошади тонули в грязи».
В 1926 году прошла первая
всесоюзная перепись населения, по ее данным в Усть-Ишиме насчитывалось 135
хозяйств с населением 473 человека. Кроме районного исполкома и сельского
совета в райцентре также имелись: библиотека, изба-читальня, амбулатория,
агрономический и ветеринарный пункты, семилетняя школа, сберкасса,
потребительская лавка, пристань.
В конце 20-ых годов татарское
село Саргатка окончательно исчезло, полностью слившись с Усть-Ишимом. Однако
деление по национальному признаку еще долго сохранялось. Даже колхозов в
Усть-Ишиме было два: русский - «Память Ленина» и татарский - «Вторая
пятилетка». В двадцатых же годах впервые в Усть-Ишиме была открыта татарская
школа, дом под которую отдал богатый татарин Таушев.
В 30-е годы село, ставшее
районным центром, быстро росло. В 1935 году появляется контора связи, в ее
задачи входила доставка почты, обслуживание телеграфной и появившейся в районе
телефонной связи. Почту доставляли по Иртышу на пароходах, а зимой на конных
перекладных.
В конце 30-ых годов была
построена новая просторная двухэтажная школа, рядом с которой расположилась
метеостанция.
В 1938 году начала выходить
районная газета «На сталинском пути». Выходила она на одном листе с двух
сторон. И набор текста газеты, и ее печать осуществлялась вручную.
Вскоре Усть-Ишиму уже
понадобилось собственное коммунальное хозяйство. В 1938 году был образован
райкомхоз. Построены помещения заезжего дома и общественной бани. Год спустя
открылась заготконтора, закупавшая у населения мясо, шкуры, собранные грибы и
ягоды.
На берегу Крушинки возводятся
деревянные больничные корпуса. В 1937 году после окончания мединститута на
работу в Усть-Ишимскую больницу приехала В. С. Панишева и сразу же стала
главным врачом. Полвека лечила Валентина Семеновна устьишимцев. Старшее
поколение еще помнит ее красивый дом, стоявший на горе над речкой. Место это
так и называлось «Панишева Горка». Зимой это было излюбленное место детворы для
катания на санках. Теперь это улица Больничная.
Весна 1941 года ознаменовалась
самым крупным в наших краях наводнением. Усть-Ишим, стоящий на трех реках, сильно
пострадал. «Городок» с церковью, как самое высокое место, остался
незатопленным, но превратился в остров, до которого приходилось добираться на
лодках. Но, как известно, беды этого года наводнением не закончились.
Начавшаяся война не обошла стороной ни одну семью. Многие устьишимцы так и не
вернулись на родину, однако многие вышли из войны, покрыв себя славой. Примером
тому может служить М. 3. Агалаков, большую часть жизни отдавший Усть-Ишиму.
Митрофан Захарович закончил войну полным кавалером ордена Славы. Теперь улица,
на которой он жил, носит его имя.
В честь победы в Великой
Отечественной войне улицу Береговую переименовали в улицу Победы, а 9 мая 1970
года на 25-летие окончания войны в Усть-Ишиме был открыт памятник
Воину-Освободителю.
Послевоенное время - период
бурного строительства и улучшения жизни населения. В 1946 году в райцентре
появился аэропорт. Связь с областным центром осуществлялась самолетами «ЛИ-2» и
«ПО-2», которые позднее заменили на «АН-2». Позднее на территории аэропорта
были построены помещения зала ожидания, склада ГСМ, столовой.
В 1949 заработал пищекомбинат,
чьей задачей стало обеспечение населения хлебом, кондитерскими изделиями,
безалкогольными напитками. В 1951 году открыла свои двери для посетителей
Усть-Ишимская чайная, а в 1955 году для самых маленьких устьишимцев открылся
ясли-сад на 60 мест по улице Советской.
50-е года - время укрупнения и
централизации. Новые веяния не обошли стороной и нашу глубинку. В 1950 году
было проведено укрупнение колхозов - все колхозы Усть-Ишимского сельсовета были
объединены в один с центральной усадьбой в Усть-Ишиме. А в 1959 году к
Усть-Ишимскому был полностью присоединен Тюрметякский сельский совет.
Большое строительство, которое
велось в районе в 60-70-ых годах, потребовало создания собственных строительных
организаций. В 1966 году была образовано межколхозная передвижная
механизированная колонна (МПМК), занимавшаяся строительством по всему району, а
в следующем 1967 году- передвижной механизированный участок №2 (ПМУ №2), чьей
задачей было строительство объектов соцкультбыта в райцентре.
Растущее село должно было обеспечивать
себя электричеством. Старая электростанция, стоявшая на берегу Крушинки с двумя
локомобилями, работавшими на дровах, с этой задачей уже не справлялась. Рядом с
ней в 1963 году было построено здание новой электростанции с двумя стационарными
дизельными двигателями мощностью по 600 л.с.
В 60-ых годах ведется активное
строительство на правом берегу Крушинки. Еще в конце 50-ых село заканчивалось
улицей Горького. Дальше за речкой располагалось только кладбище. Теперь же
здесь вырастают новые улицы: 40 лет Октября, Карбышева, Гагарина, Рабочая...
Сюда же, на правый берег, переносится Усть-Ишимский стадион, на месте старого
стадиона было построено здание райкома партии.
В 1969 году открылась новая
трехэтажная школа, в старом двухэтажном деревянном здании теперь занимались
только начальные классы. Начинается строительство двухэтажных панельных жилых
домов. Постепенно в районе улиц Школьной и Новой из них вырос небольшой
микрорайон.
Постепенно культурный центр села
смещается на улицу Горького. Именно здесь возводятся новые здания школы,
райкома партии, кинотеатра, почты, телеграфа, красивые помещения магазинов:
гастронома, универмага, культтоваров.
После постройки
взлетно-посадочной полосы в 1974 году Усть-Ишимский аэропорт смог принимать
самолеты АН-24 и чехословацкий Л-410. Возросшие грузоперевозки потребовали
развития и речного транспорта. В начале 80-ых годов Усть-Ишимская пристань
получила статус порта. Было построено здание речного вокзала, установлен
большой портовой кран, в устье Ишима в поселке речников Затоне открылась
ремонтно-эксплуатационная база флота. Давно ушли в прошлое тихоходные катера,
теперь в Тобольск и Омск из Усть-Ишима можно было уехать на скоростных пассажирских
теплоходах «Ракета» и «Восход». По внутрирайонным линиям из райцентра ходил
теплоход «Заря»
Районная больница долгое время
вынуждена была ютится в деревянных постройках барачного типа, но в 80-ых годах
был построен больничный городок, в котором выросли новые корпуса хирургии,
терапии, детского отделения, поликлиники. В тоже время велось строительство
второй школы, так как одна школа уже не могла вместить всех учащихся.
Во второй половине 80-ых годов
запустили в работу асфальто-бетонный завод. В первую очередь были
заасфальтированы центральные улицы:
Советская и Горького. В 1985 году
закончено строительство здания гостиницы и столовой на 50 посадочных мест.
В целом за период с 1945 по1990
год Усть-Ишим показал себя как динамично развивающееся село, центр лесной и
деревообрабатывающей промышленности области. Его население возросло за это
время почти в три раза и составило на 1991 год 6262 человека.
90-е годы стали для него нелегким
испытанием. Большинство предприятий не смогли выжить в новых условиях, что больно
ударило по населению. За нерентабельностью был закрыт в середине 90-ых
Усть-Ишимский аэропорт, речпорт - вернулся к статусу пристани...
Некоторое оживление в жизни села
начало наблюдаться лишь в начале нового века: было продолжено асфальтирование
улиц райцентра, вновь по Иртышу стал ходить теплоход «Заря»... Остается
надеяться, что эти положительные тенденции будут иметь продолжение.
Также в брошюре отдельными короткими
статьями было помещено несколько фактов, которые как мне казалось, будут
интересны читателям.
Знаете ли вы, что...
…Усть-Ишим дал название одной из
археологических культур таежного Прииртышья. Усть-Ишимская культура,
существовавшая на территории от Тобольска на западе до Тары на востоке в
IX-XIII веках, была названа так после раскопок курганов, расположенных на
берегу Иртыша напротив Усть-Ишима. Вероятнее всего древние «устьишимцы» были
предками современных хантов, то есть не имели к нынешнему Усть-Ишиму никакого
отношения.
...Усть-Ишим, став в 1924 году
центром района, не всегда им оставался. Дважды за свою историю Усть-Ишимский
район исчезал с карты области, а его территория присоединялась к соседнему
Тевризскому. Первый раз район был упразднен постановлением Запсибкрайисполкома
от 17 января 1931 года и образован заново лишь 15 мая 1934 года. Второй раз –
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года и появился
снова 4 марта 1964 года.
…первый самолет прилетел в
Усть-Ишим в 1943 году. Это был двухместный «ПО-2». Такой самолет мог взять на
борт лишь 160 кг
опытом. Конечно, до этого я публиковался в газете (еще бы, я ведь там работал J),
но что бы издать отдельную, пусть и маленькую, но все же книжку, такого до
этого не было. Сейчас я написал бы ее по-другому, но ведь и я тогда был другой.
Это теперь смешно вспоминать, как я до утра сидел за компом рисуя карту
Усть-Ишима, тогда же, казалось, что я делаю важное дело.
Как ни странно, но этот, с моей точки зрения, корявый опус оказался востребованным.
С тех пор я часто встречал
этот текст в школьных рефератах, курсовых и даже дипломной работах, ну, и,
конечно же, в интернете. Правда почти никогда не указывался автор, что, знаете
ли, как-то обидно.
Устав бороться за авторские права,
я выкладываю текст брошюры здесь. Пользуйтесь, кому надо. Но пусть горит в аду,
кто не укажет меня в списке литературы .
А. Голубев
Усть-Ишим - 375 лет. История и современность.
Исторический очерк.
Село Усть-Ишим расположено на левом берегу Иртыша при впадении в него реки Ишим, от которой он и получил своеназвание. Удобное расположение у слияния двух крупных рек способствовало
раннему заселению этого края человеком. Древнейшая обжитая и наиболее
приподнятая часть территории нынешнего села находится на левом берегу речки Крушинки
(часть улицы Советской со зданиями церкви и администрации). Это место некогда называли
городком. Здесь при копке погребов и обработке огородов часто находят древние
вещи. Знаменитым краеведом А. Ф. Палашенковым, посетившим в 1962 году
Усть-Ишим, в старой части села были обнаружены фрагменты керамических сосудов.
Самые старые из них относились к третьей четверти второго тысячелетия до нашей эры,
то есть к бронзовому веку.
С 13 века на территорию таежного Прииртышья
с юга начинают проникать тюркские племена, которые позднее сложились в народ
сибирских татар. Сохранилась легенда, согласно которой первоначально владения
татар в Сибири находились в устье Ишима. Их столицей был город Кызыл-Тура
(Красный Город), стоявший вероятнее всего, на противоположном от Усть-Ишима
берегу Иртыша. Этот городок связывают с именем легендарного родоначальника
династии сибирских ханов - Тайбуги. Потомок Тайбуги хан Мамет в 1495 году
разгромил Тюменское ханство и перенес свою столицу в город Кашлык, став первым
великим ханом Сибири. «И с тех пор»,-как пишет Есиповская летопись,
-«Пресеклося царствие на реке Ишиме».
Известно, что во времена
Сибирского ханства на месте нынешнего Усть-Ишима стоял татарский городок
Ишим-Тамак. Летом 1585 года в своем последнем походе по Сибири Ермак дважды
проплывал мимо него. В устье Ишима произошло сражение между отрядом Ермака и
войском местного татарского князя. Причем, как повествует летопись, застигнутые
врасплох казаки вынуждены были схватиться с татарами в рукопашную. Казаки
смогли одержать победу, но пятеро из них погибло. Похоронив убитых, Ермак
продолжил свой путь вверх по Иртышу. Об этом сражении татары сложили песню, слова
которой дошли до наших дней.
С завоеванием Сибирского ханства
русскими, местное население было обложено данью - ясаком. В 1631 году
Тебендинская волость, куда входило и поселение Ишим-Тамак, подверглась
нападению кочевников калмыков, которые разграбили многие татарские юрты
(деревни), «посекли многих ясашных татар, а скот их и жен с собой увели».
Посланный вдогонку отряд из Тары настиг налетчиков на Ишиме у урочища
Кош-Карагай и сумел отбить пленных. Однако, в том же году из Москвы в Тару был
прислан царский указ где говорилось, что татары «нижних Тарских волостей, для
оберегания их, просят поставить на Ишим-реку заставу русских людей». Татары обещали
построить «усть Ишима-реки русским людям острожек. А по вестям (при известии о
приближении кочевников), учнут в тот острожек вбегать с женами и детьми, а из
острожку по вестям же учнут ходить на промыслы». В ответ на челобитную ясашных
татар было велено «в том месте острог поставить, изыскав крепкое и угожее место
и к реке и к воде и людей в нево служилых русских с вогненным боем поставить».
В соответствии с этим указом в
1631 году на левом берегу Иртыша в километре ниже ишимского устья был поставлен
Ишимский острог. Этот год и принято считать годом основания Усть-Ишима. Долгое
время единственными русскими людьми здесь были казаки-годовалыцики, присылаемые
на год из Тары для несения воинской службы. За стенами же острожка находилось
татарское село Саргатка. В Ишимском Острожке начинал службу вместе со своим
отцом знаменитый сибирский летописец, картограф и архитектор С. У. Ремизов,
составитель ремизовской летописи и чертежной книги Сибири. Здесь среди местных
татар он собрал множество легенд, позднее легших в основу его летописи.
С момента своего возникновения
Ишимский острог занимал несколько особое место в линии русских укреплений по
Иртышу: во-первых, он был ключом к водному пути по Ишиму на юг в казахстанские
степи к соленым озерам; во-вторых, находился на половине пути между Тобольском
и Тарой и служил удобным перевалочным пунктом. Поэтому он не исчез даже, когда
русские границы отодвинулись далеко на юг, и острожек, потеряв свое военное
значение, превратился в заурядную тыловую крепостицу. В 1720 году на его месте
была основана Усть-Ишимская слобода, в которой поселились русские крестьяне и
отставные служилые люди, решившие сменить саблю на плуг.
Русские первопоселенцы с самого
начала должны были соседствовать здесь с коренным народом - сибирскими
татарами. Несмотря на то, что русские и татарские дома зачастую стояли рядом, в
устье Ишима до начала ХХ-го века четко выделялось два населенных пункта:
русский -Усть-Ишим и татарский - Саргатка.
Население слободы неуклонно
росло. В 1868-69 гг. в ней уже насчитывалось 44 двора русских крестьян.
Существовала также православная церковь. Здесь же находилось волостное
правление Саргатской ясачной волости, объединявшей татарские деревни на
территории нынешнего Усть-Ишимского района.
Крестьяне кроме хлебопашества
занималось и другими промыслами: смолокурением, сбором грибов, ягод, кедровых
орехов, позднее заготовкой дров для проплывающих по Иртышу пароходов. Были
здесь и свои кузнецы и пимокаты. Особо славились усть-ишимские рыбные пески,
где ежегодно вылавливалось рыбы на 10-15 тыс. рублей. Для торговли и обмена
дважды в год на 9 мая и 6 декабря (дни, посвященные чудотворцу Николаю) в
Усть-Ишиме собиралась Никольская ярмарка.
Христианский святой Николай
считался покровителем села Усть-Ишимского и Усть-Ишимской церкви. Среди
верующих людей сохранилась легенда о том, что при выборе места для
строительства церкви по Иртышу пускали икону с ликом этого святого. Трижды
пускали ее вниз по течению реки и трижды она приставала к берегу в устье Ишима.
Таким образом, в Усть-Ишиме появилась первая церковь. В 1844 году здание церкви
сгорело, но через два года та самая икона святого Николая была найдена на
пепелище. После этого она была признана чудотворной. Икона хранилась в
Усть-Ишимской церкви вплоть до ее закрытия в начале 30-х гг. ХХ-го века. После
этого ее следы теряются. Вместо сгоревшей устьишимцы выстоили новую церковь,
тоже деревянную, но она со временем обветшала. В1904 году было заложено
кирпичное здание, постройка которого завершилась в 1906 году. Это здание
сохранилось до наших дней, однако во времена борьбы с религией с него были
убраны купола и колокольня. За свою столетнюю историю здание церкви успело
побывать и складом, и кинотеатром, и спортшколой. Теперь же оно вновь
возвращено верующим.
После октябрьского переворота
1917 года и последовавшим за ним периодом многовластия Усть-Ишим в конце концов
оказался под контролем правительства А. В. Колчака. В сентябре 1919 года
Усть-Ишим был взят 454 полком Красной армии, но вскоре оставлен под натиском
белых. Однако уже восьмого ноября вновь был взят красными, на сей раз
окончательно. Отступавшие на пароходах по Иртышу колчаковские части
обстреливали входящих в село красных из орудий. Многие старые дома по улице
Советской долго несли на своих стенах отметены осколков разорвавшихся
артиллерийских снарядов.
В годы советской власти в
Усть-Ишиме на улице Советской напротив Дома культуры была установлена стела в
память о павших за власть Советов. Еще одним памятником, относящимся к тому
времени, является обелиск Карою Балогу - венгру, сражавшемуся на стороне
красных. Балог - один из руководителей партизанского движения, был убит колчаковцами
в селе Слободчики, а с приходом красных перезахоронен с почестями в Усть-Ишиме.
Его именем названа одна из улиц нашего села.
С установлением советской власти
в Сибири Усть-Ишим становится центром волости (4 августа 1920 г.), в которую вошли
близлежащие русские деревни и села. Все окрестные татарские поселения
по-прежнему относились к Саргатской национальной волости, в которой даже
делопроизводство велось на татарском языке арабскими буквами.
В феврале 1921 года во время
восстания чембарников (Ишимское восстание) Усть-Ишим был захвачен восставшими.
Волостное руководство спешно бежало на восток по направлению к Таре. Секретарь
Усть-Ишимской партийной ячейки И. К.
Гаврин был схвачен восставшими и
расстрелян. Но уже через несколько дней чембарники были выбиты из села
подошедшими частями регулярной армии.
В 1924 году произошло упразднение волостей.
Усть-Ишимская, Слободчиковская, Тавинская, Кайлинская и Саргатская волости были
объединены в один район с центром вУсть-Ишиме.
Первым председателем районного
исполкома стал бывший глава продотряда С. Г. Кочетов. Он так вспоминал события
того времени: «По ликвидации продотрядов я собрался домой в Москву. В это время
здесь проходило районирование. Меня как члена партии с 1921 года попросили
провести районный съезд Советов. На съезде меня избрали председателем
райисполкома. Это было 5 февраля 1924 года. В райисполкоме нас было трое, а на
весь район было только восемь коммунистов. Секретарем райкома партии был
Григорьев - грамотный, закончил Свердловский коммунистический институт. Был в
Усть-Ишиме театральный кружок, ставили спектакли. Дороги были совсем плохие -
там, где сейчас улицы Советская и Горького, лошади тонули в грязи».
В 1926 году прошла первая
всесоюзная перепись населения, по ее данным в Усть-Ишиме насчитывалось 135
хозяйств с населением 473 человека. Кроме районного исполкома и сельского
совета в райцентре также имелись: библиотека, изба-читальня, амбулатория,
агрономический и ветеринарный пункты, семилетняя школа, сберкасса,
потребительская лавка, пристань.
В конце 20-ых годов татарское
село Саргатка окончательно исчезло, полностью слившись с Усть-Ишимом. Однако
деление по национальному признаку еще долго сохранялось. Даже колхозов в
Усть-Ишиме было два: русский - «Память Ленина» и татарский - «Вторая
пятилетка». В двадцатых же годах впервые в Усть-Ишиме была открыта татарская
школа, дом под которую отдал богатый татарин Таушев.
В 30-е годы село, ставшее
районным центром, быстро росло. В 1935 году появляется контора связи, в ее
задачи входила доставка почты, обслуживание телеграфной и появившейся в районе
телефонной связи. Почту доставляли по Иртышу на пароходах, а зимой на конных
перекладных.
В конце 30-ых годов была
построена новая просторная двухэтажная школа, рядом с которой расположилась
метеостанция.
В 1938 году начала выходить
районная газета «На сталинском пути». Выходила она на одном листе с двух
сторон. И набор текста газеты, и ее печать осуществлялась вручную.
Вскоре Усть-Ишиму уже
понадобилось собственное коммунальное хозяйство. В 1938 году был образован
райкомхоз. Построены помещения заезжего дома и общественной бани. Год спустя
открылась заготконтора, закупавшая у населения мясо, шкуры, собранные грибы и
ягоды.
На берегу Крушинки возводятся
деревянные больничные корпуса. В 1937 году после окончания мединститута на
работу в Усть-Ишимскую больницу приехала В. С. Панишева и сразу же стала
главным врачом. Полвека лечила Валентина Семеновна устьишимцев. Старшее
поколение еще помнит ее красивый дом, стоявший на горе над речкой. Место это
так и называлось «Панишева Горка». Зимой это было излюбленное место детворы для
катания на санках. Теперь это улица Больничная.
Весна 1941 года ознаменовалась
самым крупным в наших краях наводнением. Усть-Ишим, стоящий на трех реках, сильно
пострадал. «Городок» с церковью, как самое высокое место, остался
незатопленным, но превратился в остров, до которого приходилось добираться на
лодках. Но, как известно, беды этого года наводнением не закончились.
Начавшаяся война не обошла стороной ни одну семью. Многие устьишимцы так и не
вернулись на родину, однако многие вышли из войны, покрыв себя славой. Примером
тому может служить М. 3. Агалаков, большую часть жизни отдавший Усть-Ишиму.
Митрофан Захарович закончил войну полным кавалером ордена Славы. Теперь улица,
на которой он жил, носит его имя.
В честь победы в Великой
Отечественной войне улицу Береговую переименовали в улицу Победы, а 9 мая 1970
года на 25-летие окончания войны в Усть-Ишиме был открыт памятник
Воину-Освободителю.
Послевоенное время - период
бурного строительства и улучшения жизни населения. В 1946 году в райцентре
появился аэропорт. Связь с областным центром осуществлялась самолетами «ЛИ-2» и
«ПО-2», которые позднее заменили на «АН-2». Позднее на территории аэропорта
были построены помещения зала ожидания, склада ГСМ, столовой.
В 1949 заработал пищекомбинат,
чьей задачей стало обеспечение населения хлебом, кондитерскими изделиями,
безалкогольными напитками. В 1951 году открыла свои двери для посетителей
Усть-Ишимская чайная, а в 1955 году для самых маленьких устьишимцев открылся
ясли-сад на 60 мест по улице Советской.
50-е года - время укрупнения и
централизации. Новые веяния не обошли стороной и нашу глубинку. В 1950 году
было проведено укрупнение колхозов - все колхозы Усть-Ишимского сельсовета были
объединены в один с центральной усадьбой в Усть-Ишиме. А в 1959 году к
Усть-Ишимскому был полностью присоединен Тюрметякский сельский совет.
Большое строительство, которое
велось в районе в 60-70-ых годах, потребовало создания собственных строительных
организаций. В 1966 году была образовано межколхозная передвижная
механизированная колонна (МПМК), занимавшаяся строительством по всему району, а
в следующем 1967 году- передвижной механизированный участок №2 (ПМУ №2), чьей
задачей было строительство объектов соцкультбыта в райцентре.
Растущее село должно было обеспечивать
себя электричеством. Старая электростанция, стоявшая на берегу Крушинки с двумя
локомобилями, работавшими на дровах, с этой задачей уже не справлялась. Рядом с
ней в 1963 году было построено здание новой электростанции с двумя стационарными
дизельными двигателями мощностью по 600 л.с.
В 60-ых годах ведется активное
строительство на правом берегу Крушинки. Еще в конце 50-ых село заканчивалось
улицей Горького. Дальше за речкой располагалось только кладбище. Теперь же
здесь вырастают новые улицы: 40 лет Октября, Карбышева, Гагарина, Рабочая...
Сюда же, на правый берег, переносится Усть-Ишимский стадион, на месте старого
стадиона было построено здание райкома партии.
В 1969 году открылась новая
трехэтажная школа, в старом двухэтажном деревянном здании теперь занимались
только начальные классы. Начинается строительство двухэтажных панельных жилых
домов. Постепенно в районе улиц Школьной и Новой из них вырос небольшой
микрорайон.
Постепенно культурный центр села
смещается на улицу Горького. Именно здесь возводятся новые здания школы,
райкома партии, кинотеатра, почты, телеграфа, красивые помещения магазинов:
гастронома, универмага, культтоваров.
После постройки
взлетно-посадочной полосы в 1974 году Усть-Ишимский аэропорт смог принимать
самолеты АН-24 и чехословацкий Л-410. Возросшие грузоперевозки потребовали
развития и речного транспорта. В начале 80-ых годов Усть-Ишимская пристань
получила статус порта. Было построено здание речного вокзала, установлен
большой портовой кран, в устье Ишима в поселке речников Затоне открылась
ремонтно-эксплуатационная база флота. Давно ушли в прошлое тихоходные катера,
теперь в Тобольск и Омск из Усть-Ишима можно было уехать на скоростных пассажирских
теплоходах «Ракета» и «Восход». По внутрирайонным линиям из райцентра ходил
теплоход «Заря»
Районная больница долгое время
вынуждена была ютится в деревянных постройках барачного типа, но в 80-ых годах
был построен больничный городок, в котором выросли новые корпуса хирургии,
терапии, детского отделения, поликлиники. В тоже время велось строительство
второй школы, так как одна школа уже не могла вместить всех учащихся.
Во второй половине 80-ых годов
запустили в работу асфальто-бетонный завод. В первую очередь были
заасфальтированы центральные улицы:
Советская и Горького. В 1985 году
закончено строительство здания гостиницы и столовой на 50 посадочных мест.
В целом за период с 1945 по1990
год Усть-Ишим показал себя как динамично развивающееся село, центр лесной и
деревообрабатывающей промышленности области. Его население возросло за это
время почти в три раза и составило на 1991 год 6262 человека.
90-е годы стали для него нелегким
испытанием. Большинство предприятий не смогли выжить в новых условиях, что больно
ударило по населению. За нерентабельностью был закрыт в середине 90-ых
Усть-Ишимский аэропорт, речпорт - вернулся к статусу пристани...
Некоторое оживление в жизни села
начало наблюдаться лишь в начале нового века: было продолжено асфальтирование
улиц райцентра, вновь по Иртышу стал ходить теплоход «Заря»... Остается
надеяться, что эти положительные тенденции будут иметь продолжение.
Также в брошюре отдельными короткими
статьями было помещено несколько фактов, которые как мне казалось, будут
интересны читателям.
Знаете ли вы, что...
…Усть-Ишим дал название одной из
археологических культур таежного Прииртышья. Усть-Ишимская культура,
существовавшая на территории от Тобольска на западе до Тары на востоке в
IX-XIII веках, была названа так после раскопок курганов, расположенных на
берегу Иртыша напротив Усть-Ишима. Вероятнее всего древние «устьишимцы» были
предками современных хантов, то есть не имели к нынешнему Усть-Ишиму никакого
отношения.
...Усть-Ишим, став в 1924 году
центром района, не всегда им оставался. Дважды за свою историю Усть-Ишимский
район исчезал с карты области, а его территория присоединялась к соседнему
Тевризскому. Первый раз район был упразднен постановлением Запсибкрайисполкома
от 17 января 1931 года и образован заново лишь 15 мая 1934 года. Второй раз –
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года и появился
снова 4 марта 1964 года.
…первый самолет прилетел в
Усть-Ишим в 1943 году. Это был двухместный «ПО-2». Такой самолет мог взять на
борт лишь 160 кг
Александр Голубев,
24-07-2012 09:57
(ссылка)
О бедном компьютере замолвите слово.
Недавно разгребая завалы на жестком диске наткнулся на свою древнюю статью. Тематика статьи - довольно нетрадиционная для этого сообщества: История появления компьютеров в нашем Усть-Ишиме. Тем не менее решил ее выложить, вдруг кто прочтет. Статья писалась для усть-ишимского электронного журнала, который так никогда и не вышел. И было это в те стародавние времена когда Целерон 2800 действительно был «ужасно мощным процессором», что теперь конечно вызывает улыбку. PS. А Spectrum я все еще иногда достаю и, даже, включаю. )))
О бедном компьютере замолвите слово.
Тем для разговора можно выбрать много. Но уж о чем действительно стоит рассказать так это о вещи, без которой этого журнала вообще бы не было – о компьютере. Точнее о компьютерах и о том, как они появились в славном граде Усть-Ишиме.
Сегодня, когда мы произносим слово компьютер, у нас в головах рождается образ параллелепипеда системного блока с подключенной к нему периферией – короче говоря, бессмертное творение фирмы IBM. Название компьютера этой фирмы- «РС» стало нарицательным для всех машин от разных производителей начавших выпускать свои собственные «писюки». Но это сейчас, а вот тогда…
Тогда в самом конце 80-ых годов прошлого столетия в людских умах царили разброд и шатания. В компьютерном мире господствовала мультиплатформенность ( вот ведь слово то какое выдумал! ) или проще говоря айбиэмовское детище тогда еще не было единственной достойной внимания компьютерной платформой и подавляющее большинство из тогдашних электронных монстров и монстриков поселявшихся в квартирах советских обывателей были made in USSR. Ну, что тут скажешь. Да здравствует отечественный производитель!
Первый компьютер увиденный мной в Усть-Ишиме назывался «Партнер 01.01». Было это в году 89-том и купили его моему другу. ( Серега, привет!) Мы с ним частенько просиживали перед монитором-телевизором играя в «вертолетики» или «бармена». В то время я жил в городе и в школе ходил играться в компьютерный класс, где стояли «Искры» - отечественные аналоги буржуйских айбиэмовских PC/XT. Но тут я увидел перед собой нечто качественно новое: оказывается, компьютер не был уделом только школ и институтов – его можно было заиметь и дома! Более того, не надо было покупать дорогостоящий монитор, ведь при помощи нехитрых манипуляций с ломом, кувалдой и паяльником :-) его можно было подключить к обычному телевизору.

Вот примерно такой Партнер 01.01 был у моего друга Густенева Сергея. Насколько мне известно, это был первый компьютер в Усть-Ишиме
Вспоминать без содрогания этот, с позволения сказать, компьютер нельзя. О, боги, что это было за чудовище! Серый корпус из толстого пластика с клавиатурой над которой щетинились зубами контактов четыре огромных слота под платы различных расширений. Пускай, для своего времени, это был довольно продвинутый агрегат, но дизайн его хромал на обе ноги.
И тем не менее, факт остается фактом – информатизация населения таежной глубинки началась. Как грибы после дождя стали появляться в домах устьишимцев «Радио 86РК», «Кристы», импортые «Atari» и прочие, и прочие, и прочие… Где ж их всех упомнишь. Имя им легион! Ничего конкретного об этих машинках рассказать не могу так как работать мне с ними не приходилось. Хотя, недавно отдали мне, ради смеха, старенькую «Аtari», покрутил я ее так и сяк. Чего с ней делать без проводов и блока питания? В общем, отдал одному мальцу – нехай доламывает. А может следовало оставить для музея?
Где-то в году в 90-том в усть-ишимской школе оборудовали компьютерный класс, до этого информатику преподавали, что называется, «на пальцах». В классе установили персональные компьютеры «Корвет». Именно на них-то молодые устьишимцы поколения 90-ых годов постигали под мудрым руководством Розы Халиловны основы информатики и вычислительной техники. Не избег сей печальной участи и ваш покорный слуга. Ох уж эти страшные аббревиатуры: ОЗУ, ПЗУ и самая ужасная - НГМД (это ж как нужно ненавидеть дисковод, что бы так его обозвать?!). Роза Халиловна со всей старательностью объясняла нерадивым отрокам что нет компьютера, а есть ЭВМ, и принтер на самом деле не принтер вовсе, а ПУ – печатное устройство. Неудивительно, что хотя я в то время уже вовсю писал простенькие игры на бейсике мне все равно как-то поставили двойку.

Учительский "Корвет" Розы Халиловны - теперь экспонат музея
ПК «Корвет» - вершина отечественного компьютеростроения изначально создавался для того чтобы измерять какие-то процессы в плазме, но в итоге стал самым распространенным компьютером советских школ. Никаких грандиозных показателей от него не требовалось. Он обладал небольшим количеством видеопамяти и одноканальным звуком. Советский процессор КР580ВМ80А выдавал на гора лишь 2,5 мегагерца. Больше всего «Корвет» походил на зарубежные компьютера формата ММХ, хотя и значительно уступал им в быстродействии. Однако у него был один большой в сравнение с другими русскими ЭВМ плюс – богатое программное обеспечение. В конце 80-ых – нач. 90-ых годов для «Корветов» было написано множество обучающих и системных программ, а так же конечно же игр. Хотя большинство игрушек было тупо портировано с японской «Ямахи». Из корветовских операционных систем мне известны СРМ – предшественница DOS-а для 8-битных компьютеров и MicroDOS – это уже отечественная разработка. Работал «Корвет» с дисководами на 5,25 дюйма. Каталоги операционками не поддерживались. Но все это меня тогда волновало слабо, ибо умом моим уже безраздельно владел другой аппарат.
Spectrum – как много в этом слове для сердца русского слилось! В середине 90-ых годов вопрос – Есть ли у тебя дома компьютер? – обычно означал – Есть ли у тебя Spectrum? К тому моменту на Западе это творение Клайва Синклера уже почти умерло, но на постсоветском пространстве «Спекки» переживал свой второй рассвет. Причин на мой взгляд три: во-первых, дешевизна – Spectrum можно было собрать на отечественной элементной базе (ну, за исключением процессора конечно, впрочем процессор Z80 стоил чуть больше двух зеленых); во-вторых – огромное количество написанных для него программ счет которым пошел уже на десятки тысяч, и в основном это игры; в-третьих – необычайная легкость в освоении. Я в жизни еще не встречал более простого компьютера. Он обладал встроенным в ПЗУ бейсиком основанном на принципе: одна команда – одно нажатие клавиши, так что учить такой язык было легко и приятно и каждого кто просидел за «спектрумом» пару годиков и при этом не только резался в игрушки, можно с уверенностью назвать программистом. Недаром все самые талантливые современные программисты вышли из спектрумистов.
Почти у всех моих друзей были спектрумы, а мне долго не везло. И вот наконец счастье пришло и ко мне. Счастье принесли в картонной коробке и называлось оно ПК «Компаньон» - Spectrum-совместимый компьютер, выпущенный в Ижевске на каком-то оборонном заводе в рамках конверсии. 48 килобайт безудержного восторга! В довершение ко всему в «Компаньоне» еще был прошит в ПЗУ русский шрифт, что позволяло писать по-русски сразу после включение компа, без нудной процедуры подзагрузки. Однако, как потом выяснилось, за такое новаторство пришлось заплатить совместимостью – некоторые спекковские программулины на «Компаньоне» идти отказывались.

Тот самый "Компаньон"
Вся информация сохранялась на магнитных кассетах, для загрузки использовался магнитофон. Не специальный стример, а именно бытовой магнитофон. Так что прежде чем поиграть в игру нужно было несколько минут посидеть слушая писк и скрежет при помощи которого машинный код записывался в микросхемы памяти. Но оно того стоило! Мне до сих пор не понятно как в 48 килобайт оперативной памяти можно было уместить полтора миллиона игровых экранов!? Но ведь как-то умудрялись. Из игр можно вспомнить хотя бы легендарную «Elite». Сколько часов мы провели убегая от полиции, перевозя контрабанду с планеты на планету, попутно сражаясь с космическими пиратами… Или русский шедевр «Черный Ворон» - Warcraft отдыхает.
Позднее появились спектрумы с дисководами: «Pentagon», «Scorpion», «ATM» «Didactic». У них было 128 килобайт памяти и встроенный музыкальный сопроцессор позволявший извлекать звук такого качества, что «писюки» со своими спикерами и рядом не ночевали. В Усть-Ишиме они были у многих, но мне такой компьютер в то время получить так и не удалось.
Что же случилось потом? Случилось то, что и должно было случиться – техника стала дешеветь и все больше и больше народу могло себе позволить иметь «писюк» дома, а не только на работе. Обладание этим чудом стало показателем достатка и престижа. Не могу сказать,что в начале 90-ых Spectrum сильно уступал РС, например, сам был свидетелем как одна и та же игрушка на Спектруме шла в легкую а на Двойке жутко тормозила. Все изменилось с началом гонки за мегагерцами и мегабайтами. РС вырвался вперед и задавил всех конкурентов. А «старички» для которых не нашлось места в быстро меняющемся мире либо пали жертвами охотников за КМками, либо просто перекочевали с наших рабочих столов на антресоли, а с них уже на свалку.
Сейчас я набираю этот текст сидя за 2800-ым Целероном, тупым, но жутко мощным агрегатом. Заниматься на нем такой работой, все равно что стрелять из пушки по мухам – ресурсов сожрет немерено, а результата –пшик. Вот она пагубность экстенсивного пути развития!
Конечно остальные платформы загнулись не сразу, а многие живы и до сих пор, просто приобрели узкую направленность: «Макинтоши» стали машинами для профессиональной работы с изображениями, «восьмибитки» теперь устанавливаются на заводах для автоматизации производства, тот же «Spectrum» стал любимым компьютером отечественных радиолюбителей – ему расширили память, разогнали процессор, подключили винчестер,Cdrom, модем… Но все это где-то далеко, а в Усть-Ишиме одноплатформенность, похоже, восторжествовала. Или нет? Может остался у нас еще кто-то, в ком живут отблески зари компьютерной эры?
Многие не понимают, а зачастую и не одобряют моего увлечения старой техникой. Спрашивают – Ну что ты нашел в этой груде металлолома?! Ответить на такой вопрос довольно трудно, но я все-таки попытаюсь. Когда сегодня я включаю свой «Celeron» и загружаю винду, колочу по кнопкам в Ворде и занимаюсь прочей ерундой, я чуствую себя тупым юзером. Ведь все уже сделано до меня, я работаю в готовых и тысячи раз перепроверенных программах! Но когда я садился за Spectrum – я ощущал себя творцом создающим новый мир. Даже сейчас в сумасшедшем беге времени я иногда достаю из под дивана моего видавшего виды старичка, включаю и… превращаюсь из злого циничного дядьки в наивного мальчугана у которого еще все впереди.
Александр Голубев,
30-07-2012 13:48
(ссылка)
Крушинка. Красота в простоте.
В плане рек Усть-Ишиму повезло – тут тебе и Иртыш, и Ишим. Однако, как ни странно, у большинства людей, особенно старшего возраста, наше село в первую очередь ассоциируется не с седым Иртышом и не тихим Ишимом, а с маленькой не то речкой, не то озером – Крушинкой. Именно с ней связаны детские самые теплые воспоминания многих поколений устьишимцев.
Да... Если б эта речка могла говорить, она бы поведала нам о многом. Даже Ишимский острог, положивший начало Усть-Ишиму, хоть и назван так, но стоял отнюдь не на Ишиме, до которого было больше версты, а на высоком мысу между Иртышом и Крушинкой. Правда, тогда, в XVII веке, названия «Крушинка» еще не существовало. Но об этом чуть позже.
Люди облюбовали берега Крушинки для своих поселений очень давно. Это место было обжито в бронзовом веке, задолго до острога и сибирских татар. Еще одно поселение, но уже средневековое, находилось между современными улицами Заречной и Кароя Балога. Прошли века, на месте маленькой крепостицы и облепившего ее татарского поселка выросло село с торговыми лавками, волостным правлением, мечетью и церковью.

Крушинка. Вид с первой дамбы
Краснокирпичная красавица-церковь, построенная в начале прошлого века на усть-ишимском мысу и одинаково хорошо видная что с Иртыша, что с Крушинки, должна была свидетельствовать о богатстве села. Даже в Слободчиках, которым до революции подчинялась русская часть Усть-Ишима, церковь была деревянной, да и поменьше размером. Южную часть мыса (та, что обращена к Крушинке) почти полностью занимало приходское кладбище, уничтоженное в 40-х годах прошлого века. Те надгробия, что не пригодились в народном хозяйстве, сбросили в речку, и еще два десятка лет спустя местные мальчишки удили рыбу, стоя на каменных могильных плитах с крестами и уже плохо различимыми надписями. Теперь они скрыты под толстым слоем ила.
Строительство села шло не только вдоль Иртыша, но и по левому берегу Крушики. Когда, уже в советское время, в Усть-Ишиме появились названия улиц, улицу, идущую вдоль Крушинки, назвали Береговой. Это уже намного позднее, в 1965 году, в честь 20-летнего окончания Великой Отечественной войны ее переименовали в улицу Победы. На Береговой стояла общественная баня, к которой вела улица Банная (нынешняя Островского), а рядом – электростанция. Сейчас о ней напоминает лишь фундамент на берегу, а когда-то она снабжала электроэнергией весь райцентр. Отработанная теплая вода из нее по деревянному желобу возвращалась в речку. Вот под этим-то желобом летом и плескалась вся окрестная ребятня. В 1963 году немного дальше от берега было построено большое новое здание электростанции с мощными дизелями, но и от него теперь осталась лишь часть северной стены.

По старому кладбищу можно судить о том, как выглядели крушинские берега век назад.
Нужно сказать, что Крушинка вообще была излюбленным местом усть-ишимской ребятни: летом здесь тебе и рыбалка, и купание, а зимой речка покрывалась «проплешинами» катков, а склоны были изъезжены санками едва ли не до земли. Особенно любили кататься на санках с «Панишевой горки» – так назывался крутой берег Крушинки по теперешней улице Больничной. Здесь стоял дом первого усть-ишимского врача Валентины Семеновны Панишевой. Дом этот в детстве мне казался очень большим и красивым, возможно, благодаря такой нетипичной для усть-ишимской архитектуры детали, как резной балкон. При доме был сад, где росли клены и яблони-дички. Затем дом снесли, а территорию застроили. Саму Валентину Семеновну я застал уже очень старенькой, почти глухой и плохо видящей старушкой. Мне довелось часто бывать дома у ее внука, моего сверстника Андрея Задворнова. У них в ограде рос тщательно оберегаемый дуб – реликт панишевского сада. Года два назад новые хозяева его срубили. Теперь все что напоминает о саде – это несколько куцых кленов.
С застройкой «Панишевой горки» центр санного катания переместился на мыс со старым кладбищем. Здесь собиралась вся местная детвора, и никого не пугало наличие рядом могил. Само «старое» кладбище действительно довольно старо. Трудно сказать, когда впервые этот мыс стали использовать для захоронений. Но показательно, что Кароя Балога в ноябре 1919 года хоронили еще на кладбище возле церкви, а Ивана Карпеевича Гаврина, секретаря партийной ячейки, убитого в феврале 1921 года – уже за рекой. Так что этому кладбищу без малого век.
Село долго не решалось перейти за речку. Только в 1957 году появляются первые дома улицы 40 лет Октября. Но затем, в начале 60-х, вдоль западного берега озера до второго моста протянулась улица Заречная (нынешняя Грязнова), а в 80-х улицы Кароя Балога и новая Заречная шагнули еще дальше, опоясав озеро с юга.
Как уже заметил внимательный читатель, говоря о Крушинке, я употребляю то слово «речка», то «озеро». Так что же она такое? Ответ хранится в самом ее имени. С первого взгляда, логично было бы предположить, что название произошло от кустарника крушины, что любит расти в сырых местах по берегам малых рек. Лично мне встречать крушину на Крушинке не приходилось, но ведь можно предположить, что она росла здесь раньше. Достаточно просто нарисовать у себя в голове картину таежной речки с безлюдными еще берегами, заросшими ветвями этого ломкого кустарника. Но все это не так.
Если взглянуть на карту С. У. Ремезова конца XVII века, то вы не увидите никакой Крушинки, зато найдете речку «Куру Ишим», что, в свою очередь, является искаженным татарским «Коры Ишим», то есть «Сухой Ишим». Таки образом, Крушинка – это старица или, как говорят местные татары, «бурень» Ишима. Ее изогнувшееся подковой русло многие века, а то и тысячелетия назад было частью этой реки. Постепенно Ишим спрямил русло, прокопав более прямую дорожку к Иртышу, а эта излучина, хоть и сильно обмелев, осталась нам напоминанием о былых временах и просто украшением природы. А неудобопроизносимое название «Куру Ишим» в русской речи слилось в одно слово и превратилось во всем знакомую «Крушинку».

Крушинский мыс. Когда-то здесь речка Крушинка впадала в Ишим.
Старицу питают две речки, впадающие в нее с запада: первая, побольше, между улицами Горького и 40 лет Октября, образуя при впадении тот самый мыс, на котором находится кладбище, вторая, значительно меньше, – между Грязнова и Кароя Балога. Обе берут начало в болотах, отсюда и цвет крушинской воды – цвет густого торфяного настоя. Обе речки мы по привычке также называем Крушинками, хотя правильно так называть можно только первую как более крупную.
Сейчас в районе «второй» речки на территории бывшей «Сельхозхимии» активно ведется жилищное строительство. На сходе будущих жильцов строящуюся улицу было решено назвать Береговой.
Сток из озера только один – в Ишим. Однако, если бы не дамба возле здания районной администрации, то никакого озера бы и не было. Ибо когда ее прорывало, а такие случаи в прошлом веке редкостью не были, вся вода из старицы уходила, обнажая илистое дно, покрытое водорослями. Оставался лишь убогий ручеек немногим больше метра в ширину. Восстанавливали дамбу быстро, но, тем не менее, у усть-ишимских мальчишек было предостаточно времени, чтобы побродить по вязкой жиже, извлекая из нее закопавшихся крушинских карасей.
Зато в пору весеннего половодья из Крушинки на лодках плавали напрямую не только в Ишим, но и в Иртыш через протоку, отделяющую остров «Шанхай» от остального села. Теперь так уже не получится: во-первых, разливы уже не те, а во-вторых, вместо старого деревянного моста на листвяжных опорах эту протоку теперь намертво перегородили прогнувшаяся до самого дна старая баржа и не так давно построенная дамба, шутливо прозванная в народе «Мостом тысячелетия». Но старые люди еще могут вспомнить, как с катера, поднявшегося с Иртыша по Крушинке, тушили большой пожар на улице Садовой. Да и сам я, будучи ребенком, гуляя с другом по берегу Крушинки под улицей Победы, находил корабельный якорь, уже почти полностью затянутый илом.
Путешествие к истоку
У каждой вещи есть начало, а начало реки, как известно, – это ее исток. Истоки всех крупных рек уже давно обозначены. Месту, где рождается река, люди всегда предавали особый, зачастую сакральный смысл. Примеров тому весьма много. Хан Хубилай – монгольский правитель Китая в XIII веке отправил целую экспедицию с одной лишь целью – найти исток реки Хуанхэ. Над ручейком, дающим начало Волге, стоит часовня, а вся окрестная территории объявлена заповедником. Наша Крушинка, естественно, таких почестей не удостаивалась – масштабом не вышла, но лично я бы не променял ее ни на какие чужедальние Волги и Хуанхэ. Да и писать о водоеме, не узрев воочию его истока, я посчитал ниже своего достоинства и решил непременно там побывать.
Наверное, каждый устьишимец примерно представляет, где он находится: извиваясь через весь райцентр, речка проходит через три дамбы, поддерживающие уровень воды в ней, и, нырнув под обводную дорогу, исчезает в лесу за кормоцехом. В попутчики мне вызвался сотрудник районной редакции, мой хороший друг Андрей Отмахов, живущий неподалеку и отлично знающий окрестности. Импровизированный поход состоялся 11 июня. Пройдя через территорию бывшего межколхозлесхоза, мы вышли к обводной дороге как раз к тому месту, где из трубы, весело журча, вырывались коньячного цвета струи крушинской воды. Пойма реки хорошо прослеживалась по обе стороны дороги, но самой речки видно не было – так густо она заросла кустарником. За дорожной насыпью простиралось поле. Когда-то здесь располагались картофельные огороды, а еще раньше две пилорамы. Парочка огородов еще осталась, а вот остатки пилорам уже и не найти, если не знать точно, где они находились. Особо огорчили кучи мусора, разбросанные по территории в живописном беспорядке. И действительно, зачем вести свои отходы на далекую кыртовскую свалку, если здесь, у самого села, можно сказать, под боком, столько места пропадает? Подобных мест в нашей округе, к сожалению, становится все больше, и каждый раз, попадая в одно из них, мнится мне, что не прав был Чарльз Дарвин, выводя род человеческий от обезьян, и что люди, во всяком случае, некоторые, произошли от свиней. Ведь как иначе объяснить тот факт, что мы с тупым поросячим упорством гадим возле своих домов?

Кормоцех - памятник погибшему сельскому хозяйству района.
На этом фоне возвышающаяся над пейзажем десятиметровая хмурая махина кормоцеха смотрелась особенно драматично. Мы, конечно, не удержались и вошли внутрь. Мародеры давно освободили его от всех металлоконструкций, оставив пустой бетонный остов, стоящий на окраине села, словно мрачный памятник безвременно почившим колхозам района.
И вновь об ошибке Чарльза Дарвина. Пока мы осматривали руины, метрах в ста от нас остановился бортовой УАЗик с номером р893тм, из которого вышел мужчина и вывалил из кузова мешки с тухлой картошкой. Его не смутило даже то, что все происходящее снималось на камеру. Воистину, наглость – второе счастье!
Но хватит о грустном. Если когда-нибудь будете в тех краях, пройдитесь по опушке леса к западу от кормоцеха. Здесь вас ждет небольшой сюрприз в виде настоящих и таких нетипичных для наших широт дубов. Кто и когда их здесь посадил, лично для меня загадка. Но вопреки природе они разрослись, окрепли и теперь уже рядом с ними тянется к небу подрост молодых дубков. Вот вам и «удивительное рядом»!

Дуб - это не дебил. Дуб - это дерево.
Но вернемся к нашей цели. Подпертая дорожной насыпью речка здесь образует небольшую мелкую запруду, берега которой заросли кустарником. Саму Крушинку здесь почти не видно из-под разросшегося белокрыльника, затянувшего почти всю запруду, оставив лишь несколько окон чистой воды. Мы угадали прийти сюда как раз в пору его цветения. Нужно сказать, что это растение только под его латинским названием «калла» многие любят выращивать дома. Конечно, дикий белокрыльник помельче будет, но, как говорится, любое качество можно перешибить количеством, а здесь вся водная поверхность была покрыта белыми цветами, радующими глаз.
Верховье Крушинки
Дальше вверх по течению речка резко сужается, во многих местах ее можно перейти по стволам упавших деревьев. Чтобы не потерять речку из виду, приходилось двигаться вдоль нее. В лесу стояла влажная духота. Идти становилось все труднее: сначала мешала высокая осока и кочкарник в пойме, потом они сменились настоящим рямовым болотом. Под ногами беспощадно хлюпало, а с коряг за нами невозмутимо следили местные гадюки. Чтоб не начерпать в сапоги, приходилось перемещаться, прыгая по корням деревьев, торчащим из земли. Благо, их хватало. Неожиданно для себя набрели на скопление княженики. Ну, скопление – это громко сказано. Просто то там, то здесь виднелись на мху розовые цветочки. Впрочем, эта удивительная ягода, растущая, как земляника, выглядящая, как малина, и при всем при том, как утверждают многие, с привкусом ананаса никогда не встречается в больших количествах.
В конце концов, мы добрались до поросшего травой болота, из которого вытекало несколько мелких ручейков, сливаясь в один. Мох под ногами был буквально пропитан водой. Отовсюду слышалось журчание. Дошли! Здесь на ближайшей березе мы прикрутили скромную белую табличку с зелеными буквами «ИСТОК РЕКИ КРУШИНКИ».
Вот такая табличка и вот такой Андрей)))
Вот так, пусть не часовней и не каменной стелой, но мы все-таки обозначили это место.
А место, меж тем, и правда было какое-то особенное. Вроде и до цивилизации рукой подать, но словно в другой мир попал: мягкий зеленый мох, деревья, скрывающие небо, и мерное журчание рождающейся реки. Все это так мало походило на скорлупки наших душных квартир… Здесь не хотелось думать о не окученной картошке или о том, что выходные кончаются. Умиротворение – вот, пожалуй, слово, пусть не точно, но наиболее близко передающее чувство, возникающее здесь.
Но пора было отправляться назад, и, вдоволь нафотографировавшись, мы выдвинулись в обратный путь. Подошло к концу путешествие к истоку Крушинки и наш с вами экскурс в ее историю. Так что в следующий раз, прежде чем вывалить в нее гнилую картошку со своего огорода или просто швырнуть мусор с моста, посмотрите, как красива речка-озеро, на которой вы живете. Ибо много на свете прекрасных мест, но нет прекраснее места, где ты родился.
В заключение же этого своеобразного путешествия приведу стих местного поэта Михаила Усова, который, как никто другой, сумел передать чувства, которые вызывает у каждого настоящего устьишимца этот, казалось бы, простенький водоем.
Волей прихоти нашей природы
Разделила село Усть-Ишим
Руслом малая речка Крушинка,
Что упорно стремиться в Ишим.
Не из лучших в природе творений,
Но дарована лучшей судьбой.
Жизни многих людских поколений
С детства связаны тесно с тобой.
В твоих водах мы плавать учились
И резвились в заречных лугах.
Здесь впервые в любви объяснились,
На пологих твоих берегах.
Люди рядом с тобой вечно жили,
Ты влюбленным надежный причал,
Еще деды к тебе приходили,
Чтоб развеять кручину-печаль.
Среди рек – словно в море песчинка,
Но завидная доля твоя,
Усть-Ишимская речка Крушинка –
Былой юности память моя.
Александр Голубев,
25-03-2011 12:02
(ссылка)
В поисках Кызыл-Туры
Каждый кто читал об основании Усть-Ишима, наверняка знает о Кызыл-Туре древнем татарском городке стоявшем в устье Ишима. Ни один исследователь наших краев не обошел ее стороной, а многие даже считают Усть-Ишим преемником этой сибирской столицы. Однако, все что нам известно об этом городе — всего лишь легенды и о его расположении до сих пор идут споры среди ученых.
Многие татарские предания связывают возникновение первого татарского государства в Сибири с рекой Ишим. Даже в русских летописях есть упоминания о нем. Например в Есиповской летописи этому посвящена целая глава в которой рассказывается о хане Оне жившем на реке Ишиме и убитом неким Чингисом, который захватил его царство. В живых из наследников Она остался лишь один его сын — Тайбуга, основавший Тюмень и ставший родоначальником местной династии тайбугинов. Потомок Тайбуги — Мамет перенес столицу в Искер и как пишет летопись «оттоле пресечеся царство на реце Ишиме». Однако летопись ничего не говорит о столице хана Она.

Большинство исследователей связывают убийство Она со временем походов Чингисхана то есть с Х111 веком. Если же верить татарской легенде записанной И. Введенским и опубликованной им в газете «Тобольские губернские ведомости» еще в Х1Х веке. То хан Он (или Он-сом) был еже 17 правителем Ишимского ханства. Введенский писал, что Кызыл-Тура была основана на Ишиме, а Он-сом был изгнан из нее своим старшим братом — правителем Мунчаком. После чего он отравился с верными ему людьми в устье Ишима и подчинив живших здесь угров основал свое государство.
Таким образом, если верить этой легенде, то Кызыл-Тура была основана гораздо раньше Х111 века и вовсе не в устье Ишима, а выше по течению, где-нибудь на территории современной Тюменской области иди даже Северного Казахстана. Но о месте нахождения древнего города молчит и эта легенда.
Лишь один источник дает четкую локализацию Кызыл-Туры — это летопись написанная С.У. Ремезовым, который как известно еще будучи простым казаком служил в Ишимском остроге (будущем Усть-Ишиме) и хорошо знал местные легенды. Вот что он писал : «Первоначальные сначала въка цари бусурманские именемъ: Онсомъ ханъ кочуя по Ишиму и живше на усть Ишима ръки, град на Красном Яру Кызылъ-Тура и трои окопи». Таким образом Ремезов не только дает место нахождения города но и описывает его. Кызыл-Тура должна стоять на высоком Красном Яру и быть окруженной тремя рядами защитных рвов.
Непосредственно в самом устье Ишима таких археологических памятников обнаружено не было. Зато на правом берегу Иртыша находятся два крупных городища на которых археологами был обнаружен культурный слой татарского времени — это Новоникольское городище возле паромной переправы и Красноярское, возле одноименной деревни.
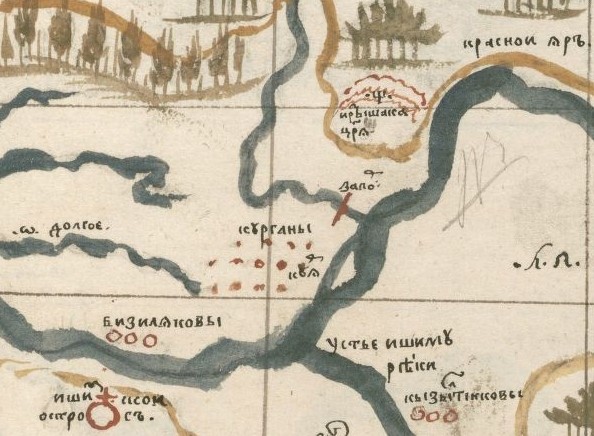
Связать Кызыл-Туру с Новоникольским городищем попытался профессор В.А. Могильников заметивший, что оно имеет большое сходство с последней столицей Сибирского ханства — Искером. При раскопках на городище было найдено много татарских вещей в том числе жернов и даже кость верблюда вероятно пришедшего сюда с торговым караваном из Средней Азии. С натяжкой можно сказать, что Новоникольское городище окружено тремя рядами фортификационных сооружений. В любом случае, даже если это и не Кызыл-Тура, в татарское время здесь находился важный укрепленный пункт.
На Красноярском же городище с 1991 года велись раскопки под руководством омского археолога Е.М. Данченко. Это вероятно самый большой археологический памятник на территории нашего района, его площадь составляет несколько гектаров. Мыс на котором находится городище хоть и невысок (около 14 метров) но весьма крут и с напольной стороны защищен как раз тремя рядам рвов и валов. За время раскопок здесь были найдены фрагменты среднеазиатской поливной керамики, железные замки, ножи, наконечники стрел, фрагменты кольчуги, бронзовые и серебряные перстни, серьги и браслеты, бусы из стекла сердолика и янтаря. За пределами крепостных стен находилось кладбище. Многие вскрытые погребения были сделаны в стиле мусульманской обрядности. Причем погребения находились не только за пределами поселения, но даже на рвах и на самом городище. Значит здесь продолжали хоронить людей даже когда поселение было покинуто или уничтожено. Видимо, место это считалось очень важным и играло большую роль в жизни местных жителей.
Находок могло бы быть и больше если бы в 60-ых годах всю центральную часть этого уникального памятника не пустили под нож бульдозера чтобы построить спуск дороги к речке Исте. Теперь уже и дорогой этой давно никто не пользуется, а истории нашего края нанесен непоправимый урон.
Но вернемся к Кызыл-Туре. На какое же из этих двух древних поселений указывал С.У. Ремезов писав о Кызыл-Туре. Поможет в этом разобраться написанная или точнее нарисованная им «Хорографическая книга Сибири» - географический атлас конца ХУ11 — начала ХУ111 веков. В нем возле современного Никольска отмечено безымянное городище и урочище Красный Яр. Казалось бы вот она! Но если посмотреть в этой книге на окрестности Красноярки и Утускуна, которые прорисованы даже на двух листах, то вы так же увидете надпись Красный Яр, а на месте самого Красноярского городища: в первом случае «Город Иртышака царя» (согласно Ремезову хан Иртышак правил в Кызыл-Туре после Онсома), а во втором случае «Царство Она царя первого сибирского». Сомнения полностью исчезают если посмотреть на иллюстрацию изображающую Кызыл-Туру, помещенную в летописи. Если наложить ее на современную карту, то древний город точно ложиться на окрестности современной Красноярки.

Понятно, что Семен Ульянович живший в ХУ11-ХУ111 веках считал именно этот археологический памятник первой сибирской столицей, но может быть он ошибался? Во всяком случае, ставить точку в этом вопросе еще рано. Возможно Кызыл-Тура еще преподнесет нам сюрприз.
Александр Голубев,
24-02-2011 12:41
(ссылка)
Зарево над Ишимом или горячая зима двадцать первого
История нашего края — это частичка истории большой страны. В ней так же существовали периоды долгих мирных лет и кровавых войн и многим событиям даже сейчас нельзя дать однозначной оценки — отделить черное от белого,правых от виноватых. Одним из таких событий стало Ишимское восстание, произошедшее 90 лет назад и почти полностью охватившее территорию будущего Усть-Ишимского района.
Авансцена
К началу 1921 года Западная Сибирь стала глубоким тылом большевиков: На востоке Красная армия вошла в Читу, на западе в Крыму «добили» барона Врангеля. Но положение большевиков на фронте вовсе не было безоблачным: Тухачевский потерпел сокрушительное поражение от поляков, в результате чего были потеряны Западная Украина и Западная Белоруссия, зрел конфликт с меньшевистской Грузией, шли бои в Дальневосточной республике... Содержание городов и армии требовало колоссального количества продуктов и это тяжкое бремя ложилось на плечи крестьянства. Продразверстка, сохранившаяся со времен первой мировой войны и подразумевавшая изъятие у крестьян избытков хлеба, овощей, мяса и прочего, была ужесточена. Вот только излишков этих оказалось слишком мало, а только одного хлеба урожая 1920 планировалось вывезти из Сибири 118 миллионов пудов. Чтобы выполнить план, продотрядам приходилось изымать у крестьян не только излишки, но и то зерно, что было запасено на еду. Местные власти понимали, что таким образом зажиточное когда-то сибирское крестьянство ставится на грань голода. В центры уездов шли телеграммы о недопустимости подобных действий продотрядов, однако, план заготовок был превыше судеб крестьян — недовольные отстранялись. Но подлинная трагедия разразилась, когда новая власть решила взять под контроль запасы посевного зерна. После таких действий тлевшее в народе недовольство вырвалось наружу и крестьяне стали браться за оружие.
Первые всполохи
Первоначальный район восстания находился на северо-востоке Ишимского уезда, теперь это территория Викуловского района. 2 февраля восставшие захватили Викулово. Волнения распространялись быстрее лесного пожара, восстали в том числе и волости Кайлинская, Слободчиковская, Тавинская. Считая, что все зло исходит от большевиков, забирающих продукты, восставшие выступали «За советскую власть без коммунистов». Крестьяне копировали советское устройство выбирая, своих председателей волисполкомов и военных комиссаров. При этом все коммунисты и те кто так или иначе был с ними связан арестовывались, а зачастую и убивались с особой жестокостью. Была объявлена и мобилизация в повстанческую армию.
Уже 3 февраля восставшие вошли в Усть-Ишим, бывший центом Усть-Ишимской и Саргатской волостей. Волнения распространялись так быстро, что произошедшее было для усть-ишимских властей полной неожиданностью. В протоколе граждан Усть-Ишимского юрта Саргатской волости это событие описано так: «3 февраля в наш юрт явилось население волостей Слободчиковской, Тавинской, Кайлинской, многие были вооружены, арестовали
милицию, партийных работников, закрыли телеграф и поставили заставы на всех путях, начали собирать у всех оружие и мобилизовывать под страхом угроз до 35 лет.»
Все волостное начальство включая председателя Усть-Ишимского волисполкома Ивана Карповича (Карпеевича) Гаврина и начмилиции 10-го участка Ивана Ильича Антонова оказалось под арестом. С захватом Усть-Ишима перед восставшими открылись дороги, как на восток в сторону Утьминской и Тевризской волостей,так и на запад — на Загваздино и Карагай. Выбор восставших пал на восточное направление — 4 февраля они вошли в Утьму. При чем, если в случае с Усть-Ишимом речь шла об отряде в 100 человек, то в сообщении из Утьмы сообщалось уже о банде в 150 человек.
Арестованных в Усть-Ишиме партработников и милицию восставшие везли с собой. Однако те, воспользовавшись плохой охраной, смогли сбежать, и собрав по окрестным деревням бывших партизан и просто сочувствующих, создали отряд, который возглавил И.И. Антонов.
Для Утьмы, как и для Усть-Ишима, произошедшее было полной неожиданностью. Все члены военкомата, волкомячейки и милиции были заключены под стражу. Из военкомата и милиции захвачено оружие. Однако, вместо того чтобы развивать успех и наступать дальше, на Тевриз, восставшие почему-то, продержав под арестом местных коммунистов 7 часов, внезапно отступают в сторону Усть-Ишима, оставив в Утьме лишь четверых человек, тут же арестованных местными властями. Возможно это как-то связано с действиями отряда Антонова, который уже 5 февраля после короткой перестрелки взял Усть-Ишим.
В 3 часа ночи 5 февраля из Утьмы телеграфировали о случившемся в Тевриз. Еще через пять часов о восстании наконец-то узнали в Таре. В донесениях предводителем восстания назван сын усть-ишимского крестьянина, школьный работник Мокринский, именующий себя избранником народа. Так же сообщается, что в охваченных восстанием волостях проводится мобилизация граждан 25-35 лет. На подавление движения из Тары с небольшим отрядом вышел уездный военком Ю.Г. Циркунов.
Пожар разгорается
В это время в Усть-Ишиме отряд Антонова вел агитацию среди населения. На юг, в сторону Слободчиков была выслана конная разведка. Одним из самых деятельных членов отряда был И.К. Гаврин. Он ездил по окрестным деревням, беседовал с жителями, пытаясь не допустить новых волнений. Последний раз он ездил в Ашеваны. Вернувшись, направился не домой, а в штаб, который был организован в дьяковском доме (на месте нынешнего РДК). Здесь же он лег спать. По иронии судьбы именно в этот момент в Усть-Ишим вновь вошли восставшие. Коммунисты в спешке отступили в сторону Тевриза (по другой версии в Утускун). Все произошло так быстро, что про Гаврина просто забыли. Когда его разбудила прибежавшая женщина было уже поздно. Выскочив из дома он столкнулся с повстанцами и был застрелен. Над трупом долго издевались, а затем бросили прямо у дороги. Очевидцы так описали его: «Лежал возле дороги в луже замерзшей крови. Несколько ран в голове. Проткнуто, видимо штыком, ухо. Валенки и шапка сняты, шуба пробита.».
Его жена, Васса Никитична вместе с золовкой (сестрой убитого) попытались забрать тело и погрузив на сани повезли его домой. Однако восставшие остановили их и заставили выгрузить тело возле клуба. Саму Вассу Никитичну арестовали и продержали взаперти двое суток. Только ночью несколько татар забрали тело Ивана Карповича, пока рядом никого не было и спрятали.
9 февраля отряд тарского военкома Циркунова, вобрав в себя по пути отряды местных коммунистов, подошел к Утьме. В 8 часов село было взято. Потери повстанцев составили 25 человек и много раненых. Потери отряда Циркунова — двое раненых и 4 лошади, убитых под конной разведкой. Среди трофеев, собранных после боя числятся: 3 винтовки трехлинейки, 300 патронов к ним, 15 охотничих ружей и 100 патронов к винтовке системы Бердана. Бой показал, что воставшие плохо вооружены и еще хуже организованы. Вместо арестованного Антоновым Мокринского, Циркунов называет руководителями восстания Александра Парыгина и Смолина.
На следующий день, 10 февраля в Усть-Ишим из Загваздино прибыл отряд конной разведки тобольского боевого участка под руководством Смехова. Повстанческий отряд из 61 человека вооруженных в основном дробовиками предпочел ретироваться в сторону Слободчиков, предпочтя не вступать в бой с 20 красноармейцами. Смехов доносит в Загваздино о двух расстрелянных восставшими: председателе волисполкома и одном коммунисте. Так же он пишет о том, что «вольные граждане просят красноармейцев не уходить, а остаться в Усть-Ишиме. Они,по-видимому, боятся банд». Далее Смехов спрашивает стоит ли ему продолжать наступление или лучше остаться в Усть-Ишиме. «Прошу вашего распоряжения, как поступить дальше: двигаться ли мне вперед, так как разбитых бандитов и контрреволюционеров приходится встречать на каждом шагу. Много, даже без счету, арестовано сегодня контрреволюционеров: главарей восстания, разных уполномоченных. Контрреволюционеров не щадим, а вырываем в корень.»
Перелом
Уже 11 февраля тарское политбюро докладывало в омскую ГубЧК: «Усть-Ишим очищен от банд. Сообщение с Усть-Ишимом не имеем. По слухам, испорчен аппарат. По моему распоряжению туда выехал механик с аппаратом.»
Но западнее Усть-Ишима, в Тобольском уезде дела у большевиков обстояли не так хорошо. Начальник вооруженных сил Тобольского боевого участка Муркин одну за другой слал в сиббюро РКП(б) и помглавкому по Сибири Шорину телеграммы полные панических фраз: «Весь уезд унизан белогвардейскими бандами...», «Положение безвыходное...», «Патронов хватит на два дня...», «500 чел. коммунистов погибнут ни за грош...», «Категорически настаиваем дать наивозможно скорейшую помощь, иначе мы погибли».
Ширящееся восстание вызывало жуткую неразбериху. Командиру конной разведки Смехову было приказано отступить из Усть-Ишима для соединения с другими частями. Следом был отправлен приказ оставаться в селе и занять линию Усть-Ишим Слободчики, но Смехов уже вышел на запад. В ночь на 12 февраля в Усть-Ишим оставленный тобольчанами вошел тарский отряд. Но нужно было еще очистить от воставших Слободчиковскую и Кайлинскую волости, где восстанием руководил бывший подпрапорщик Орехов.
Повернув на юг отряд Циркунова прошел через эти волости и 23 февраля взял Викулово. Но к этому времени под натиском восставших пал Тобольск. Эвакуированные из Тобольска коммунисты отошли сначала в Дуброво, а затем еще дальше на восток в село Загваздино. Другой отряд через Тукуз и Уватские озера вышел к Слободчикам. Для того чтобы исправить положение было решено присоединить тобольские отряды к тарскими и объединенными силами провести наступление. Но тоболяки подчинялись неохотно. Из Слободчиков начальник вооруженных сил Тобольского боевого участка Муркин спрашивал помглавкома по Сибири И.В. Шорина: «В Слободчиках был уездвоенком Тары Циркунов. Ему якобы предписано руководить подавлением восстания в Тарском, Ишимском и Тобольском уездах. В настоящее время Циркунов в Викулово. Как мне поступить: войти к нему в подчинение или действовать самостоятельно?». На что получил категоричный ответ: «Приказываю Вам немедленно войти в связь с тов. Циркуновым и поступить к нему в подчинение.»
Тобольские отряды хоть и были многочисленны ( 380 человек в Загваздино и еще 150 в Слободчиках), но боевой дух их был подорван отступлением, патронов почти не было, причем треть была вооружена устаревшими берданами. Переоснащение заняло некоторое время, но уже 4 марта Циркунов, наступая из Загваздино, занял Карагай. А 10-11 марта была проведена последняя операция так или иначе связанная с территорией будущего Усть-Ишимского района: оставив небольшой заслон в Карагае тобольско-тарский отряд через Слободчики зашел в тыл повстанцев и разгромил «банду», засевшую в Вершинских юртах, тем самым обезопасив от атаки Викулово.
Финал предопределен
Советская власть оправилась от первого потрясения и начала реагировать быстро и жестко. Не смотря на то, что восстание охватило огромную территорию от казахских степей до северной тундры — оно было обречено. Лишенные единого командования разрозненные крестьянские отряды гибли один за другим или же попросту разбегались под омам при виде подступающих войск. Наступление коммунистов затруднялось начавшейся распутицей, но уже 8 апреля был взят мятежный Тобольск, а 2 июня пал последний оплот восставших — Обдорск (ныне — Салехард). Однако, отдельные отряды повстанцев еще год скрывались по лесам, постепенно превращаясь из партизан в обыкновенных бандитов.
Уже в апреле в наших краях начались аресты. В тарском архиве сохранился документ той эпохи «Список дезертиров, арестованных и убитых по Кайлинской волости». Составлен он явно человеком имевшим об орфографии весьма отдаленное представление. Смешно читать в графе «вина» фразы такого типа : «занимал караул у арестованных семей кумунистов и приставлял двери у избы и закрывал окна и никуда не выпусчцал», «производил обыск в домах кумунистов искал бомбы» или «выгонял молодых мужвчин на войну а кто не шол он на них доказывал в исполком». Но вот если вдуматься, что стоит за этими словами и как это повлияло на судьбы этих людей, то становиться не до смеха. Порой арестовывались целые семьи, так например в деревне Ильиной в розыск были объявлены «Бобровский Иван Степанович яго жена Екатерина и их сын Леонтей Иванович»
Зигзаг истории
Большую часть арестованных продержав в тюрьме почти почти полгода отпустили по амнистии в начале октября. Однако, в разгул репрессий 30-ых годов многих из них снова арестовали, и на сей раз власть не была столь благосклонна. Но система уже не щадила никого. Тот же Юлиан Гаврилович Циркунов, бывший военкомом Тарского уезда, так успешно подавивший антикоммунистическое восстание на вверенной ему территории, а позднее ставший известным краеведом, автором книги об отряде красноармейца Петра Сухова, в 1938 году был обвинен в троцкизме и, получив 20 лет исправительно-трудовых лагерей, умер в лагерной больнице.
Конечно восстание потерпело поражение, и поражение жестокое. Но именно Ишимское или как его принято называть в официальной литературе Западно-Сибирское восстание показало советскому правительству, бесперспективность продолжения продразверстки и что оно совершенно не разбирается в ситуации на местах. Позднее в редких публикациях об этом восстании его называли кулацким. Это теперь понятно, что большая часть восставших были доведенные до крайности беднота и середняки. Это были те самые крестьяне, которые чуть больше года назад уходили в партизанские отряды, чтобы вместе с красными бить Колчака. Теперь же в отчаянии они повернули оружие против своих «освободителей».
И все же, пусть и ценой поражения, повстанцы заставили правительство всерьез задуматься над положением дел в стране. В марте, когда по всей Западной Сибири бушевал пожар восстания в Москве на десятом съезде РКП(б) был провозглашен переход от военного коммунизма к НЭПу (новой экономической политике). Продразверстку признали пагубным наследством царского режима и заменили ее продналогом.
А в самом Усть-Ишиме о событиях той горячей зимы 21-го напоминает разве что «обелиск над Иртышом». Так романтично в советское время называли памятник павшим в борьбе за властьСоветов, поставленный в 1969 году рядом с тем местом, где восставшими был убит Иван Карпович Гаврин.

Авансцена
К началу 1921 года Западная Сибирь стала глубоким тылом большевиков: На востоке Красная армия вошла в Читу, на западе в Крыму «добили» барона Врангеля. Но положение большевиков на фронте вовсе не было безоблачным: Тухачевский потерпел сокрушительное поражение от поляков, в результате чего были потеряны Западная Украина и Западная Белоруссия, зрел конфликт с меньшевистской Грузией, шли бои в Дальневосточной республике... Содержание городов и армии требовало колоссального количества продуктов и это тяжкое бремя ложилось на плечи крестьянства. Продразверстка, сохранившаяся со времен первой мировой войны и подразумевавшая изъятие у крестьян избытков хлеба, овощей, мяса и прочего, была ужесточена. Вот только излишков этих оказалось слишком мало, а только одного хлеба урожая 1920 планировалось вывезти из Сибири 118 миллионов пудов. Чтобы выполнить план, продотрядам приходилось изымать у крестьян не только излишки, но и то зерно, что было запасено на еду. Местные власти понимали, что таким образом зажиточное когда-то сибирское крестьянство ставится на грань голода. В центры уездов шли телеграммы о недопустимости подобных действий продотрядов, однако, план заготовок был превыше судеб крестьян — недовольные отстранялись. Но подлинная трагедия разразилась, когда новая власть решила взять под контроль запасы посевного зерна. После таких действий тлевшее в народе недовольство вырвалось наружу и крестьяне стали браться за оружие.
Первые всполохи
Первоначальный район восстания находился на северо-востоке Ишимского уезда, теперь это территория Викуловского района. 2 февраля восставшие захватили Викулово. Волнения распространялись быстрее лесного пожара, восстали в том числе и волости Кайлинская, Слободчиковская, Тавинская. Считая, что все зло исходит от большевиков, забирающих продукты, восставшие выступали «За советскую власть без коммунистов». Крестьяне копировали советское устройство выбирая, своих председателей волисполкомов и военных комиссаров. При этом все коммунисты и те кто так или иначе был с ними связан арестовывались, а зачастую и убивались с особой жестокостью. Была объявлена и мобилизация в повстанческую армию.
Уже 3 февраля восставшие вошли в Усть-Ишим, бывший центом Усть-Ишимской и Саргатской волостей. Волнения распространялись так быстро, что произошедшее было для усть-ишимских властей полной неожиданностью. В протоколе граждан Усть-Ишимского юрта Саргатской волости это событие описано так: «3 февраля в наш юрт явилось население волостей Слободчиковской, Тавинской, Кайлинской, многие были вооружены, арестовали
милицию, партийных работников, закрыли телеграф и поставили заставы на всех путях, начали собирать у всех оружие и мобилизовывать под страхом угроз до 35 лет.»
Все волостное начальство включая председателя Усть-Ишимского волисполкома Ивана Карповича (Карпеевича) Гаврина и начмилиции 10-го участка Ивана Ильича Антонова оказалось под арестом. С захватом Усть-Ишима перед восставшими открылись дороги, как на восток в сторону Утьминской и Тевризской волостей,так и на запад — на Загваздино и Карагай. Выбор восставших пал на восточное направление — 4 февраля они вошли в Утьму. При чем, если в случае с Усть-Ишимом речь шла об отряде в 100 человек, то в сообщении из Утьмы сообщалось уже о банде в 150 человек.
Арестованных в Усть-Ишиме партработников и милицию восставшие везли с собой. Однако те, воспользовавшись плохой охраной, смогли сбежать, и собрав по окрестным деревням бывших партизан и просто сочувствующих, создали отряд, который возглавил И.И. Антонов.
Для Утьмы, как и для Усть-Ишима, произошедшее было полной неожиданностью. Все члены военкомата, волкомячейки и милиции были заключены под стражу. Из военкомата и милиции захвачено оружие. Однако, вместо того чтобы развивать успех и наступать дальше, на Тевриз, восставшие почему-то, продержав под арестом местных коммунистов 7 часов, внезапно отступают в сторону Усть-Ишима, оставив в Утьме лишь четверых человек, тут же арестованных местными властями. Возможно это как-то связано с действиями отряда Антонова, который уже 5 февраля после короткой перестрелки взял Усть-Ишим.
В 3 часа ночи 5 февраля из Утьмы телеграфировали о случившемся в Тевриз. Еще через пять часов о восстании наконец-то узнали в Таре. В донесениях предводителем восстания назван сын усть-ишимского крестьянина, школьный работник Мокринский, именующий себя избранником народа. Так же сообщается, что в охваченных восстанием волостях проводится мобилизация граждан 25-35 лет. На подавление движения из Тары с небольшим отрядом вышел уездный военком Ю.Г. Циркунов.
Пожар разгорается
В это время в Усть-Ишиме отряд Антонова вел агитацию среди населения. На юг, в сторону Слободчиков была выслана конная разведка. Одним из самых деятельных членов отряда был И.К. Гаврин. Он ездил по окрестным деревням, беседовал с жителями, пытаясь не допустить новых волнений. Последний раз он ездил в Ашеваны. Вернувшись, направился не домой, а в штаб, который был организован в дьяковском доме (на месте нынешнего РДК). Здесь же он лег спать. По иронии судьбы именно в этот момент в Усть-Ишим вновь вошли восставшие. Коммунисты в спешке отступили в сторону Тевриза (по другой версии в Утускун). Все произошло так быстро, что про Гаврина просто забыли. Когда его разбудила прибежавшая женщина было уже поздно. Выскочив из дома он столкнулся с повстанцами и был застрелен. Над трупом долго издевались, а затем бросили прямо у дороги. Очевидцы так описали его: «Лежал возле дороги в луже замерзшей крови. Несколько ран в голове. Проткнуто, видимо штыком, ухо. Валенки и шапка сняты, шуба пробита.».
Его жена, Васса Никитична вместе с золовкой (сестрой убитого) попытались забрать тело и погрузив на сани повезли его домой. Однако восставшие остановили их и заставили выгрузить тело возле клуба. Саму Вассу Никитичну арестовали и продержали взаперти двое суток. Только ночью несколько татар забрали тело Ивана Карповича, пока рядом никого не было и спрятали.
9 февраля отряд тарского военкома Циркунова, вобрав в себя по пути отряды местных коммунистов, подошел к Утьме. В 8 часов село было взято. Потери повстанцев составили 25 человек и много раненых. Потери отряда Циркунова — двое раненых и 4 лошади, убитых под конной разведкой. Среди трофеев, собранных после боя числятся: 3 винтовки трехлинейки, 300 патронов к ним, 15 охотничих ружей и 100 патронов к винтовке системы Бердана. Бой показал, что воставшие плохо вооружены и еще хуже организованы. Вместо арестованного Антоновым Мокринского, Циркунов называет руководителями восстания Александра Парыгина и Смолина.
На следующий день, 10 февраля в Усть-Ишим из Загваздино прибыл отряд конной разведки тобольского боевого участка под руководством Смехова. Повстанческий отряд из 61 человека вооруженных в основном дробовиками предпочел ретироваться в сторону Слободчиков, предпочтя не вступать в бой с 20 красноармейцами. Смехов доносит в Загваздино о двух расстрелянных восставшими: председателе волисполкома и одном коммунисте. Так же он пишет о том, что «вольные граждане просят красноармейцев не уходить, а остаться в Усть-Ишиме. Они,по-видимому, боятся банд». Далее Смехов спрашивает стоит ли ему продолжать наступление или лучше остаться в Усть-Ишиме. «Прошу вашего распоряжения, как поступить дальше: двигаться ли мне вперед, так как разбитых бандитов и контрреволюционеров приходится встречать на каждом шагу. Много, даже без счету, арестовано сегодня контрреволюционеров: главарей восстания, разных уполномоченных. Контрреволюционеров не щадим, а вырываем в корень.»
Перелом
Уже 11 февраля тарское политбюро докладывало в омскую ГубЧК: «Усть-Ишим очищен от банд. Сообщение с Усть-Ишимом не имеем. По слухам, испорчен аппарат. По моему распоряжению туда выехал механик с аппаратом.»
Но западнее Усть-Ишима, в Тобольском уезде дела у большевиков обстояли не так хорошо. Начальник вооруженных сил Тобольского боевого участка Муркин одну за другой слал в сиббюро РКП(б) и помглавкому по Сибири Шорину телеграммы полные панических фраз: «Весь уезд унизан белогвардейскими бандами...», «Положение безвыходное...», «Патронов хватит на два дня...», «500 чел. коммунистов погибнут ни за грош...», «Категорически настаиваем дать наивозможно скорейшую помощь, иначе мы погибли».
Ширящееся восстание вызывало жуткую неразбериху. Командиру конной разведки Смехову было приказано отступить из Усть-Ишима для соединения с другими частями. Следом был отправлен приказ оставаться в селе и занять линию Усть-Ишим Слободчики, но Смехов уже вышел на запад. В ночь на 12 февраля в Усть-Ишим оставленный тобольчанами вошел тарский отряд. Но нужно было еще очистить от воставших Слободчиковскую и Кайлинскую волости, где восстанием руководил бывший подпрапорщик Орехов.
Повернув на юг отряд Циркунова прошел через эти волости и 23 февраля взял Викулово. Но к этому времени под натиском восставших пал Тобольск. Эвакуированные из Тобольска коммунисты отошли сначала в Дуброво, а затем еще дальше на восток в село Загваздино. Другой отряд через Тукуз и Уватские озера вышел к Слободчикам. Для того чтобы исправить положение было решено присоединить тобольские отряды к тарскими и объединенными силами провести наступление. Но тоболяки подчинялись неохотно. Из Слободчиков начальник вооруженных сил Тобольского боевого участка Муркин спрашивал помглавкома по Сибири И.В. Шорина: «В Слободчиках был уездвоенком Тары Циркунов. Ему якобы предписано руководить подавлением восстания в Тарском, Ишимском и Тобольском уездах. В настоящее время Циркунов в Викулово. Как мне поступить: войти к нему в подчинение или действовать самостоятельно?». На что получил категоричный ответ: «Приказываю Вам немедленно войти в связь с тов. Циркуновым и поступить к нему в подчинение.»
Тобольские отряды хоть и были многочисленны ( 380 человек в Загваздино и еще 150 в Слободчиках), но боевой дух их был подорван отступлением, патронов почти не было, причем треть была вооружена устаревшими берданами. Переоснащение заняло некоторое время, но уже 4 марта Циркунов, наступая из Загваздино, занял Карагай. А 10-11 марта была проведена последняя операция так или иначе связанная с территорией будущего Усть-Ишимского района: оставив небольшой заслон в Карагае тобольско-тарский отряд через Слободчики зашел в тыл повстанцев и разгромил «банду», засевшую в Вершинских юртах, тем самым обезопасив от атаки Викулово.
Финал предопределен
Советская власть оправилась от первого потрясения и начала реагировать быстро и жестко. Не смотря на то, что восстание охватило огромную территорию от казахских степей до северной тундры — оно было обречено. Лишенные единого командования разрозненные крестьянские отряды гибли один за другим или же попросту разбегались под омам при виде подступающих войск. Наступление коммунистов затруднялось начавшейся распутицей, но уже 8 апреля был взят мятежный Тобольск, а 2 июня пал последний оплот восставших — Обдорск (ныне — Салехард). Однако, отдельные отряды повстанцев еще год скрывались по лесам, постепенно превращаясь из партизан в обыкновенных бандитов.
Уже в апреле в наших краях начались аресты. В тарском архиве сохранился документ той эпохи «Список дезертиров, арестованных и убитых по Кайлинской волости». Составлен он явно человеком имевшим об орфографии весьма отдаленное представление. Смешно читать в графе «вина» фразы такого типа : «занимал караул у арестованных семей кумунистов и приставлял двери у избы и закрывал окна и никуда не выпусчцал», «производил обыск в домах кумунистов искал бомбы» или «выгонял молодых мужвчин на войну а кто не шол он на них доказывал в исполком». Но вот если вдуматься, что стоит за этими словами и как это повлияло на судьбы этих людей, то становиться не до смеха. Порой арестовывались целые семьи, так например в деревне Ильиной в розыск были объявлены «Бобровский Иван Степанович яго жена Екатерина и их сын Леонтей Иванович»
Зигзаг истории
Большую часть арестованных продержав в тюрьме почти почти полгода отпустили по амнистии в начале октября. Однако, в разгул репрессий 30-ых годов многих из них снова арестовали, и на сей раз власть не была столь благосклонна. Но система уже не щадила никого. Тот же Юлиан Гаврилович Циркунов, бывший военкомом Тарского уезда, так успешно подавивший антикоммунистическое восстание на вверенной ему территории, а позднее ставший известным краеведом, автором книги об отряде красноармейца Петра Сухова, в 1938 году был обвинен в троцкизме и, получив 20 лет исправительно-трудовых лагерей, умер в лагерной больнице.
Конечно восстание потерпело поражение, и поражение жестокое. Но именно Ишимское или как его принято называть в официальной литературе Западно-Сибирское восстание показало советскому правительству, бесперспективность продолжения продразверстки и что оно совершенно не разбирается в ситуации на местах. Позднее в редких публикациях об этом восстании его называли кулацким. Это теперь понятно, что большая часть восставших были доведенные до крайности беднота и середняки. Это были те самые крестьяне, которые чуть больше года назад уходили в партизанские отряды, чтобы вместе с красными бить Колчака. Теперь же в отчаянии они повернули оружие против своих «освободителей».
И все же, пусть и ценой поражения, повстанцы заставили правительство всерьез задуматься над положением дел в стране. В марте, когда по всей Западной Сибири бушевал пожар восстания в Москве на десятом съезде РКП(б) был провозглашен переход от военного коммунизма к НЭПу (новой экономической политике). Продразверстку признали пагубным наследством царского режима и заменили ее продналогом.
А в самом Усть-Ишиме о событиях той горячей зимы 21-го напоминает разве что «обелиск над Иртышом». Так романтично в советское время называли памятник павшим в борьбе за властьСоветов, поставленный в 1969 году рядом с тем местом, где восставшими был убит Иван Карпович Гаврин.

Александр Голубев,
06-12-2010 11:52
(ссылка)
Это странное слово Тюп
Много на земле усть-ишимской странных названий. И не надо ходить далеко — даже рядом с самим Усть-Ишимом: тут вам и Кырт и Тюп и прочие режущие слух неприученного уха слова. Что и неудивительно: каждый когда-то живший здесь народ так и норовил обозвать, что-нибудь по-своему. Затем приходили новые хозяева и, «подвинув» предыдущих либо переназывали все по-новому, либо приспосабливали старые названия под свой язык.

Возьмем хотя бы хрестоматийный пример наших мест — речку Крушинку. Для каждого устьишимца ее название стало родным и вроде бы даже звучит по-русски. Но еще триста лет назад мы не нашли бы на карте речку Крушинку, а нашли бы речку Куруишим, чье название легко переводится с татарского как сухой Ишим.
Однако некоторые названия дошли до нас избежав метаморфоз. На той же карте составленной более трех веков назад С.У. Ремезовым окрестности Усть-Ишима отражены весьма подробно. Много интересного можно почерпнуть разглядывая ее, но одно название сразу бросается в глаза - уже упоминавшийся здесь «Тюп» - та самая ишимская петля в которой до своей безвременной кончины находился школьный культстан. Странно, до того как посмотрел эту карту я никогда не задумывался о происхождении этого названия, а пересмотрев несколько умных книжек нашел, что «тюп» это старый тюркский корень обозначавший полуосторов. Широко этот корень встречается в Крыму, а в Омской области свой тюп есть например в знаменитой деревне Окунево, которую некоторые эзотерики почитают чуть ли не пупом земли. Но иноземные «тюпы» меня не интересовали, к тому же у нашего полуострова как оказалось была довольно интересная история...

В XVII в. шло активное освоение Приишимья русскими, основывались новые деревни и слободы. При этом основной транспортной артерией оставалась конечно же сама река Ишим. Естественно такая длинная петля, как наш Тюп доставляла множество хлопот, кому захочется грести несколько лишних километров? И если плывя вниз по течению, когда вода сама несет тебя к цели, мириться с этим еще как-то можно, то если двигаться вверх по реке — проще было вытащить судно на берег и протащив его волоком две трети версты вновь спустить на воду сразу сократив себе путь верст на пять с гаком. Этот-то волок и отмечен на карте Ремезова пунктиром.

Шло время, легкие деревянные струги сменились тяжелыми металлическими кораблями, такие уже на себе не потаскаешь. О переволоке забыли, но идея сократить путь осталась и в пору существования в Усть-Ишиме РЭБа (ремонтно-эксплуатационной базы флота) было решено спрямить русло Ишима, прокопав канал по которому и должно было пойти судоходство, а в самой петле смогли бы спокойно зимовать суда. Для страны которая весь Иртыш собиралась повернуть в Среднюю Азию на спасение то ли туркменского хлопка, то ли самих туркменов, осуществить подобную затею было раз плюнуть. Быстренько прорыли широкую канаву от одного берега до другого. По этой-то канаве и должна была пойти весной вода. За несколько лет река должна была сделать свое дело прорыв себе по натоптанной дорожке новое русло. Но как всегда что-то пошло не так и от идеи пришлось отказаться,а канал закупорить от греха подальше, загнав в него и утопив пару барж. Так был похоронен великий усть-ишимский проект по повороту Ишима. Ничего белее грандиозного ни до ни после в нашем районе не затевалось...

15 августа сего года, когда вся «прогрессивная общественность» отмечала День археолога, я тихо сатанея сидел дома и проклинал обстоятельства помешавшие мне отбыть в лагерь археологов под Краснояркой, чтобы присоединится к этой самой общественности. В конце концов придя к выводу, что сидеть в такой день дома — просто кощунство, решил сходить хотя бы в Тюп, тем более давно хотел пофотографировать то, что осталось от великой усть-ишимской стройки.
Спустившись к дамбе через Крушинку у здания администрации, вышел на обводную дорогу. Крушинка — старое русло Ишима осталась по правую руку. Нужно сказать, что Ишим за свою жизнь изрядно потрудился изрыв всю пойму от Летних до Усть-Ишима. До сих пор еще видны два его древних устья где он впадал в Иртыш. Крушинка — как раз напоминание о тех днях. Собственно речка Крушинка была тогда намного короче и впадала в Ишим у мыса на котором сейчас находится старое кладбище.

Дойдя до места где раньше сгружали горы песка и щебня уже можно было разглядеть след оставленный строителями. Выглядел он как грязный незатянувшийся рубец на зеленом берегу Ишима. Пройдя дальше за бывшую паромную переправу, свернул в заросли тала и пошел вдоль берега. Наконец показался и сам канал. Баржи его запечатывавшие тоже никуда не делись. Правда одну кто-то уже вытащил наверх и пытался резать на чермет, но то ли разочаровавшись в качестве ржавого металла прямо в руках рассыпавшегося в труху, то ли по каким другим своим причинам, бросил эту затею. Вторая же баржа так и лежала на дне канала прям по фарватеру несостоявшегося русла. Она намертво вросла в ил став неотъемлемой частью ландшафта. Канал был оплывшим от времени, метра три в глубину, но топким, хотя с одной стороны на баржу забраться можно было, чем я и воспользовался.
Походив по ней и сфотографировав все, что мне казалось интересным, я уже было собрался идти дальше, как вдруг мое внимание привлек труп теленка завязшего в илу. Вот тебе раз, - успел подумать я, - еще одна сельскохозяйственная жертва техногенного произвола. И в это время «труп» дернул боком... Жив курилка!
Я спрыгнул вниз и стал подбираться к бедному животному. Черный теленок с коричневой макушкой лежал в илу прижавшись к боку баржи, завидев меня он издал долгое не-то мычание, не-то стон. По всему было видно, что завяз он не сегодня, а может даже провел здесь не одну ночь. Под шкурой уже четко обозначились ребра. Его наверняка искали хозяева, да только канал сверху не просматривается и заметить его можно было только случайно. В общем идеальное место для телячьего суицида. Я попытался вытащить его взяв за рога. Тот не сопротивлялся хотя и помогать мне явно не собирался. Видно, за время проведенное в траншее, животина полностью утратила мужество и веру в себя. Сам теленок в результате с места не сдвинулся, зато мои берцы по щиколотку ушли в черный ишимский ил. Нечего было и думать о том что бы вытащить его в одиночку. К счастью метрах в ста ниже по течению сидели двое рыбаков. Я подошел к ним, описал ситуацию. Рыбаками оказались братья Бураковы Александр и Владимир.
-Мы бы помогли — сказали они — да веревки-то нет.
Веревки и вправду не было, но еще дальше на спуске бывшей паромной переправы мыл свою машину (видимо ничего не зная про водоохранную зону) какой-то автолюбитель. Какой шофер без троса — подумал я и отправился к нему, но у того ничего не оказалось. Пока я ходил до переправы Бураковы уже нашли где-то обрывок веревки и направились к месту которое я им указал. Втроем, обвязав теленка за рога, мы выдернули его из грязи и выволокли на пригорок. За что братьям Бураковым большое спасибо. Теленок лежал на пригорке вытянув ноги, что называется не мычал - не телился, и в общем-то даже непонятно было — благодарен он нам или совсем наоборот. Вот так, пожелав Бураковым удачной рыбалки, а теленку скорейшего выздоровления и возвращения в нестройные ряды усть-ишмского стада, я пошел дальше вдоль канала.
Он отходил от реки все дальше и вскоре вышел из полосы зарослей тала тянущейся вдоль Ишима. Здесь траншея казался поглубже, хотя и поуже и, как любая другая яма наших мест, пыталась заполнится различным мусором. Валы вдоль канала густо заросли колючим осотом и брести по нему было, я вам скажу, то еще удовольствие. Вот вам и великая устьишимская стройка. Строили — строили, а в итоге получилась банальная поросшая осотом канава годная лишь на то, что бы в ней тонули недалекие умом телята.
Впрочем, где-то здесь еще пролегала та самая переволока, но за триста с лишним лет от нее ,конечно, ничего не осталось. Я попытался представить, как бородатые мужики в холщовых рубахах и с лямкой через плечо пыхтя и чертыхаясь волокут за собой груженный чем неведомо дощатый струг. Выходило плохо то ли фантазия дала сбой, то ли просто не очень-то хотелось.
Слева вдали замаячил бывший культстан, нахлынули школьные воспоминания: копка картошки, дерганье турнепса и прочие милые малости в виде первой моей «зарплаты» - страшно подумать, целых 220 еще ходивших тогда по стране, но уже ничего нестоящих советских рублей незамедлительно спущенных на буржуйскую жвачку. В том месте где к кульстану шла дорога, траншею естественно закапали, надо ж как-то попадать на ту сторону. Однако для любителей пеших прогулок могу порекомендовать замеченный мной мостик: этакое гениальное конструкторское решение сочетающее в себе черты куринного насеста с аттракционом «шатающееся бревно».
От дороги до берега оставалось метров сто. Здесь канал снова выходит к Ишиму. Место это в народе называется «дойкой». Сама дойка давно канула в Лету вместе с большей частью усть-ишимского сельского хозяйства, но память о ней жива. Тут Ишим делает поворот на восток как раз и давая начало петле с название Тюп. В тихую погоду это удивительное по красоте место (если конечно отсутствуют купающиеся, оглашающие окрестности радостными хмельными воплями) река лежит перед тобой как темное стекло и кажется только руку протяни и дотянешься до противоположного берега. Вид не портит даже виднеющийся вдалеке ишимский мост, а скорее наоборот органично вписывается в пейзаж сочетая несочетаемое: природу и цивилизацию.
Это и была конечная точка моего маленького путешествия и налюбовавшись вдоволь я оправился в обратный путь. Вот такая у меня получилась прогулка: древний волок не нашел, канал меня откровенно разочаровал, правда поучаствовал в спасении чьей-то говядины и сделал неплохие снимки. Конечно, невелик итог, но ведь не сидеть же дома в день археолога!
Александр Голубев,
21-09-2010 12:17
(ссылка)
Монета-Путешественница
Месяц назад довелось мне держать в руках одну занимательную вещичку — очередную монету, извлеченную на белый свет из глубин обширных усть-ишимских огородов. На сей раз счастье улыбнулось В.П. Шнайдеру проживающему по улице Советской, напротив милиции. Вроде бы ничего особенного: никелевая монета весом 5 граммов. Удивительно другое - ее происхождение. На аверсе (лицевой стороне) ясно читались латинские буквы «RZECZPOSPOLITA POLSKA 1923», на реверсе (оборотной стороне) - «50 GROSZY» Согласитесь неожиданно встретить в Усть-Ишиме иностранный денежный знак, к тому же давно вышедший из обращения у себя на родине. И встретить не в альбоме коллекционера-нумизмата, а вот так вот запросто вскапывая огород.
Я спросил у Владимира Павловича: «Были ли еще подобные находки?» Но в ответ он показал мне лишь две монеты советского периода: серебряный полтинник 1925 и никелевые 20 копеек 1933 годов. Как же эта «иностранная гостья» оказалась в нашей глубинке за тысячи километров от родной Польши?

Пришлось залезть в польские нумизматические каталоги (хорошо,что в студенчестве увлекался польским языком). Монета в каталоге отыскалась довольно быстро: 50 грошей 1923 года. На аверсе: польский орел, вокруг которого и помещена уже знакомая надпись «РЕСПУБЛИКА ПОЛЬСКАЯ 1923», а над лапами орла две маленькие буковки «WJ» (инициалы автора проекта монеты Войцеха Ястребовского); на реверсе: венок из дубовых листьев внутри которого помещен номинал монеты — 50 ГРОШЕЙ; гурт (ребро) — гладкий.
Однако родиной ее оказалась не Польша. Эти монеты чеканились по заказу польского правительства сразу в трех городах: в Вене (Австрия), Утрехте (Нидерланды) и Ле Локле (Швейцария). Общий тираж монеты составил аж 100 миллионов штук. В обращение такие монеты находились с 1924 по 1939 год.
В сентябре 1939 года войска фашистской Германии вторглись в Польшу и меньше чем за месяц, сломив сопротивление польских войск, оккупировали большую ее часть превратив в свое генерал-губернаторство. Оккупационное немецкое правительство тоже чеканило такую монету, только не из дорогого никеля, а из дешевого железа лишь покрытого тонким слоем никеля. Да и год на таких монетах ставился - предвоенный 1938.
Каталоги рассказали многое, но они не поведали (да и не могли), как эта монета оказалась в наших краях. Об этом можно лишь строить догадки, и все же с огромной долей уверенности можно утверждать, что виной этому — вторая мировая война.
Возможно было так: в том же сентябре 1939 года с целью «ограничить зону немецкой оккупации» советские войска вошли на территорию Восточной Польши. В результате Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к СССР. Тысячи поляков проживавшие на этих территория, как чужеродный элемент были высланы в Сибирь. Проживали они в том числе и в Усть-Ишимском районе. Может быть это кто-то из них взял с собой эту монетку, как память о родине?
А вот вторая версия: 1944 год, Советские войска наступают на запад. Прямой путь на Берлин лежит через оккупированную врагом Польшу. Здесь-то кто-то из красноармейцев и подобрал чужестранную денежку, а после окончания войны и демобилизации привез «сувенир» на родину.
Как было на самом деле теперь, конечно, не дознаться, но воистину, пути денег неисповедимы: быть отчеканенной в Западной Европе, служить в Польше и под конец оказаться в далеком сибирском селе... Вот ведь как бывает.
Я спросил у Владимира Павловича: «Были ли еще подобные находки?» Но в ответ он показал мне лишь две монеты советского периода: серебряный полтинник 1925 и никелевые 20 копеек 1933 годов. Как же эта «иностранная гостья» оказалась в нашей глубинке за тысячи километров от родной Польши?

Пришлось залезть в польские нумизматические каталоги (хорошо,что в студенчестве увлекался польским языком). Монета в каталоге отыскалась довольно быстро: 50 грошей 1923 года. На аверсе: польский орел, вокруг которого и помещена уже знакомая надпись «РЕСПУБЛИКА ПОЛЬСКАЯ 1923», а над лапами орла две маленькие буковки «WJ» (инициалы автора проекта монеты Войцеха Ястребовского); на реверсе: венок из дубовых листьев внутри которого помещен номинал монеты — 50 ГРОШЕЙ; гурт (ребро) — гладкий.
Однако родиной ее оказалась не Польша. Эти монеты чеканились по заказу польского правительства сразу в трех городах: в Вене (Австрия), Утрехте (Нидерланды) и Ле Локле (Швейцария). Общий тираж монеты составил аж 100 миллионов штук. В обращение такие монеты находились с 1924 по 1939 год.
В сентябре 1939 года войска фашистской Германии вторглись в Польшу и меньше чем за месяц, сломив сопротивление польских войск, оккупировали большую ее часть превратив в свое генерал-губернаторство. Оккупационное немецкое правительство тоже чеканило такую монету, только не из дорогого никеля, а из дешевого железа лишь покрытого тонким слоем никеля. Да и год на таких монетах ставился - предвоенный 1938.
Каталоги рассказали многое, но они не поведали (да и не могли), как эта монета оказалась в наших краях. Об этом можно лишь строить догадки, и все же с огромной долей уверенности можно утверждать, что виной этому — вторая мировая война.
Возможно было так: в том же сентябре 1939 года с целью «ограничить зону немецкой оккупации» советские войска вошли на территорию Восточной Польши. В результате Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к СССР. Тысячи поляков проживавшие на этих территория, как чужеродный элемент были высланы в Сибирь. Проживали они в том числе и в Усть-Ишимском районе. Может быть это кто-то из них взял с собой эту монетку, как память о родине?
А вот вторая версия: 1944 год, Советские войска наступают на запад. Прямой путь на Берлин лежит через оккупированную врагом Польшу. Здесь-то кто-то из красноармейцев и подобрал чужестранную денежку, а после окончания войны и демобилизации привез «сувенир» на родину.
Как было на самом деле теперь, конечно, не дознаться, но воистину, пути денег неисповедимы: быть отчеканенной в Западной Европе, служить в Польше и под конец оказаться в далеком сибирском селе... Вот ведь как бывает.
Александр Голубев,
28-04-2010 21:38
(ссылка)
На Ковриженскую Пристань или день разочарований.
План похода к этому месту зрел в
моей голове уже давно. Ковриженская Пристань - это название я впервые вычитал года
три назад в неопубликованной книге нашего «летописца» В.А. Фатеева «Туристические
путешествия по Усть-Ишимскому району». Информации было очень мало:
«…старая пристань, названная по
фамилии человека, который командовал ею. Здесь проходящие мимо пароходы
когда-то запасались топливом – дровами. Все это давно ушло в предание, но
память сохраняется, и устьишимцы по старой привычке называют это место
Ковриженской пристанью».
К своему стыду, я не знал даже
этого. Естественно последовали расспросы всех, кто хоть что-то мог знать. Но
лишь трое людей смогли подтвердить. Да, такое место действительно существовало.
Кто-то собирал там бруснику, кто-то опахивал лес от пожара, но рассказать
историю этого места или хотя бы историю названия не смог никто.
Конечно, в таких условиях,
побывать там стало для меня делом чести. Однако неотложные дела все оттягивали
выход. Наконец, этой зимой решил, как только снег сойдет - в путь. Много народа
брать не хотелось. К чему рисковать, вдруг в лесу еще снега полно? Поэтому в
попутчики был выбран проверенный многими сезонами археологических экспедиций
Анатолий Чепиков. Тот самый Анатолий, что в прошлом году принес и сдал в музей
бронзовый нож первого тысячелетия до нашей эры.
Выход наметили на утро 24 апреля,
но выйти удалось только к обеду. Чтобы сократить путь пошли через аэропорт. Тут
то нас и поджидало первое разочарование. Я, конечно, знал, что здание пребывает
в плачевном состоянии, что оно заколочено и что там был пожар. Но руины,
которые предстали нашему взору, больше напоминали «зону» из фильма Тарковского
«Сталкер» или пейзажи из одноименной компьютерной игры: разруха и запустение. Мы
конечно не удержались и по бродили по этому зданию помнящему расцвет района.
Воистину, Помпеи сохранились лучше!
В большом зале, где раньше в
ожидании рейса толпились люди, исчезло все, даже половина пола. Нет больше ни
касс продажи и регистрации билетов, ни даже весов на которых взвешивали багаж,
прежде чем прикрепить на него оранжевый ярлык аэрофлота. Пропала и огромная, во
всю стену карта СССР с маршрутами полетов, которую я так любил разглядывать в
детстве. И кому она могла понадобиться? И такая печальная картина во всех
помещениях, даже за дверь с надписью «посторонним вход строго запрещен» теперь
можно попасть беспрепятственно. Попасть за нее, на узкую лестницу, ведущую в
верхние помещения – было моей детской мечтой. Мне казалось, что там-то и
сокрыта какая-то тайна, позволяющая человеку подниматься в воздух. Да, не
думал, что придется попасть сюда при таких печальных обстоятельствах. Да чего
же нелепо и даже как-то по-издевательски смотрелась на фасаде здания огромная
вывеска цвета выцветшего неба «АЭРОФЛОТ приглашаем в полет».
50 лет аэропорт связывал наш
отдаленный район с центром области, и не только. Отсюда можно было улететь и в
Тару, и Тобольск, и в Ишим, и, даже, в Малую Бичу. Взлетная полоса, которая
сейчас покрылась трещинами и выщерблинами когда-то принимала не только
маленькие АН-2 и ЭЛ-410, но и большой АН-24, на котором я один раз имел
удовольствие летать… Теперь же здание аэропорта стало жертвой больного интереса
окрестных жителей. Печально признавать, но оно вряд ли переживет это лето.
Скорее всего, к сентябрю от него останется один фундамент. Эх, что тут еще
добавишь… Кому интересно смотрите соответствующий фотоальбом.
Перейдя через взлетку и выйдя на
«Загваздинскую дорогу» мы направились по ней на запад. Вскоре показались бывшие
склады райтопсбыта. Даже не знаю, что там сейчас, хотя при взгляде на ворота из
колючей проволоки в голове возникают мысли о 37-годе. J Миновав райтопсбыт,
свалку с новеньким шлагбаумом и сторожкой, перешли через Кыртовскую речку.
Слева от дороги замаячила огромная не то лужа, не то озерко разлившееся по
поводу весеннего таяния снегов.
- Вот те на. - Удивился Анатолий
– Я думал здесь и рыбы-то нет!
Однако рыба была. Мелкие волны,
поднятые легким ветерком, лениво трепали в прибрежной траве серебристые трупы
карасей. В основном конечно мелочь, но были и такие экземпляры, что и жене не
стыдно предъявить по возвращению с рыбалки. Теперь же все это медленно
подъедалось водяной живностью и расклевывалось местными воронами. Замор. Суровая
зима сделала свое дело: ключи перемерзли, и рыба передохла от недостатка
кислорода. Думается, такая картина нынешней весной в нашем районе наблюдается
повсеместно.
Еще через километр начались
еловые посадки. Где-то здесь должна была начинаться дорога, ведущая на
Ковриженскую Пристань. Ноги сами зашагали быстрее, предвкушая легкую прогулку
по лесу. Да и сколько можно уже шагать по грунтовой дороге иссушенной весенним
солнцем, утопая в облаках пыли после каждой проехавшей машины. Однако легкой
прогулки не получилось. Свернув с большака и пройдя метров пятьдесят мы
уткнулись в, так сказать, деляны. Дорога превратилась в месиво из грязи и
опилок, повсюду, сколько хватало глаз, тянулись кучи срубленных ветвей и
сучьев. И над всей этой отрыжкой усть-ишимской лесной промышленности витал
неистребимый дух солярки. А как все красиво было написано у Фатеева:
«Дорожка петляет между деревьями,
огибает небольшие ложки и приводит на берег. Липово-березовые леса красивы в
осеннюю пору, обилие грибов, поэтому многие жители райцентра проводят здесь
время в выходные дни. В начале лета на полях алеет земляника…» Видел бы Валерий
Андреевич во что превратились эти места теперь.
Дальше бредем, утопая в грязи. За
спиной слышу тихий мат Анатолия: «Даже липу всю повывалили, вот бизоны!».
Подобная картина преследовала нас
больше двух километров. Везде одно и тоже: горы неубранных сучьев, канистры из-под
масла и, конечно же, вездесущие пластиковые пивные бутылки. И куда только
контролирующий лесхоз смотрит. Похоже, дело опять пахнет шерстью.
Наконец, оставив позади гримасы цивилизации,
мы вступили в «фатеевские» места. И действительно, запетляла меж сосен и осин
старая лесная дорога уже покрывающаяся молодой зеленой травой, защебетали птицы
обрадованные приходом весны. В Усть-Ишиме лед уже прошел, а здесь стоял
целехонький и только возникающие на нем тут и там торосы говорили о том, какое
большое давление он испытывает.
Уже перед самой целью нашего
путешествия справа, на берегу Иртыша показалось какое-то рукотворное
сооружение. Сказать, что мы удивились, подойдя поближе, - значит, ничего не
сказать. Это было жилище рыбака, но какое! Больше всего оно походило на
земляной чум с прутяным каркасом и подошло бы для какого-нибудь хантыйского
охотника или даже шамана. Если бы не развешанные кругом матрацы и не остатки
резиновой лодки накинутой на это сооружение сверху, можно было легко заблудится
во времени и представить себя каким-нибудь казаком-первопроходцем, осваивающим
просторы бескрайней Сибири.
А в нескольких метрах от этого
реликта ушедших веков начиналась собственно сама Ковриженская пристань –
большая поляна с корабельными створами. Радость от прихода немного омрачили уже
проснувшиеся в этом году клещи. Но настроение тут же подняли перекусив хлебом с
копченым салом. Сало! Как много в это звуке для сердца туристического слилось. Кто
ходил, тот поймет сколь велико значение этого источника калорий.
Но пора было приступать к осмотру
места. По всему было видно, что место это не пользуется особой популярностью
(Владелец чума не в счет), во всяком случае, мусора здесь было поменьше. Как
мне и говорили, Ковриженская Пристань представляла собой осыпающуюся поляну.
Когда-то она, несомненно, была больше, но с тех пор часть ее была подмыта и
канула в воды Иртыша. С востока поляну ограничиваю створы, с запада
искусственный холм с геодезическим указателем. По центру удивительной красоты
одинокостоящая ель. И все. Ни западин от разрушенных строений, ни остатков
техники. НИЧЕГО.
Ничто уже не напоминало о
существовавшем здесь когда-то предприятии, снабжавшем топливом проходившие по
реке суда. Неумолимое время стерло все следы оставив лишь название. Да и оно уже
почти стерлось из памяти устьишимцев. Сменится еще одно поколение и уже никто
не вспомнит о Коврижене и его пристани.
Прощай, Ковриженская Пристань, может,
когда еще и свидимся.
(Все фото выложу позднее в
соответствующем альбоме)
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
