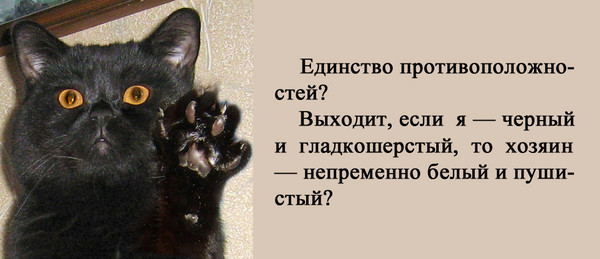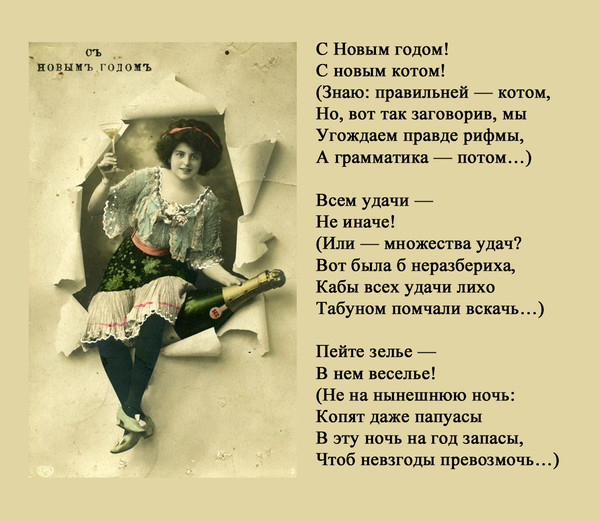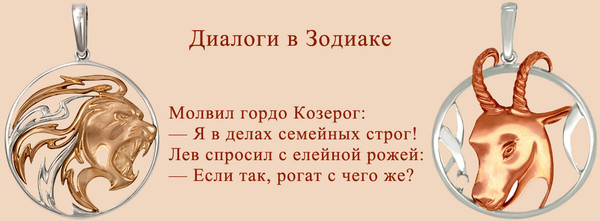Андрей Балабуха,
08-01-2011 22:32
(ссылка)
Информация
По просьбе Дмитрия Каралиса сообщаю всем и каждому, что если пройти по ссылке http://www.litcenter.spb.su... на сайт Центра современной литературы и книги (что, как вы помните, расположен на Васильевском острову, в д. 10 по набережной Макарова), то можно найти много интересного. В частности,
— объявление о наборе слушателей в литературные мастер-классы,
— объявление о конкурсе на лучший научно-фантастический анекдот
и т.д.
— объявление о наборе слушателей в литературные мастер-классы,
— объявление о конкурсе на лучший научно-фантастический анекдот
и т.д.
Андрей Балабуха,
03-01-2011 20:00
(ссылка)
Стишок
Как милы мне оптимисты
Болтовней своей вечерней!
Ты вздыхаешь:
— Путь тернистый…
А они в ответ:
— Уймись ты!
Как же к звездам — да без терний?
Но не хуже фаталисты —
Вот очей моих отрада!
Говоришь им:
— Путь тернистый…
Поглядят светло и чисто
Да промолвят:
— Так и надо!
И, конечно, пессимисты
Замечательные люди —
Скажешь им про путь тернистый,
Так они в ответ раз триста
Предрекут мне:
— То ли будет!
И прирос бы я с охотой
Навсегда хоть к тем, хоть к этим…
Не выходит! Отчего-то
Был я скептиком сработан
До явленья в этом свете.
Болтовней своей вечерней!
Ты вздыхаешь:
— Путь тернистый…
А они в ответ:
— Уймись ты!
Как же к звездам — да без терний?
Но не хуже фаталисты —
Вот очей моих отрада!
Говоришь им:
— Путь тернистый…
Поглядят светло и чисто
Да промолвят:
— Так и надо!
И, конечно, пессимисты
Замечательные люди —
Скажешь им про путь тернистый,
Так они в ответ раз триста
Предрекут мне:
— То ли будет!
И прирос бы я с охотой
Навсегда хоть к тем, хоть к этим…
Не выходит! Отчего-то
Был я скептиком сработан
До явленья в этом свете.
Андрей Балабуха,
04-01-2011 14:11
(ссылка)
Стишок
* * *
Продумано все ловко
(Спасибо небесам!):
Кому нужна дешевка —
Не больно дорог сам…
Продумано все ловко
(Спасибо небесам!):
Кому нужна дешевка —
Не больно дорог сам…
Андрей Балабуха,
03-01-2011 20:12
(ссылка)
Фразы
* * *
Что было до сотворения мира? Конечно, сотворение войны.
* * *
В нашей стране история — не наука и даже не искусство. Это религия, причем вера у каждого своя, а все иноверцы — даже не схизматики, но подлежащие сожжению еретики.
* * *
Чтобы сойти с ума, надо его иметь.
Что было до сотворения мира? Конечно, сотворение войны.
* * *
В нашей стране история — не наука и даже не искусство. Это религия, причем вера у каждого своя, а все иноверцы — даже не схизматики, но подлежащие сожжению еретики.
* * *
Чтобы сойти с ума, надо его иметь.
Андрей Балабуха,
28-12-2010 23:50
(ссылка)
Приятное событие № 3
На заседании Совета Союза писателей Санкт-Петербурга 15 декабря был утвержден протокол Приемной комиссии, что позволяет мне с полным правом поздравить четверых литераторов, моих старых добрых друзей, пополнивших отныне ряды нашей секции.
Вот эта четверка, любуйтесь:

Конечно, можно было сказать о каждом много добрых слов, перечислить их книги... Но стоит ли? Уверен, все они еще не раз подарят мне повод порассказать о них поподробнее.
А сейчас — только радость!
Вот эта четверка, любуйтесь:

Конечно, можно было сказать о каждом много добрых слов, перечислить их книги... Но стоит ли? Уверен, все они еще не раз подарят мне повод порассказать о них поподробнее.
А сейчас — только радость!
Андрей Балабуха,
28-12-2010 21:41
(ссылка)
Приятное событие № 1

А теперь, так сказать, post scriptum.
Вообще-то Леонид Смирнов написал повесть (это сейчас, в новой редакции, она стала романом, а тогда была честной повестью) чуть ли не десяток лет назад, и называлась она «С горки на горку». Когда речь зашла об ее издании (в составе авторского сборника — кажется, в «Азбуке»), мне было предложено написать предисловие, что я с удовольствием и сделал. Однако издание не состоялось.
Для «Ленинградского издательства», чьим радением рукопись превратилась, наконец, в книгу, всякие там предисловия-послесловия, как принято выражаться на постсоветском новоязе, «не формат». Да и сама рукопись изменилась достаточно разительно, появились новые сюжетные линии, персонажи...
И все-таки мне захотелось, воспользовавшись случаем, сделать достоянием гласности добрые слова о творчестве Леонида Эллиевича, сказанные не один год назад.
Что и делаю.
С ГРАБЕЛЬ НА ГРАБЛИ,
или
ДВОЙНАЯ ИГРА
И Морж заводит разговор
О всяческих вещах.
Сначала о капусте речь,
Потом о королях,
Про рачий свист, про стертый блеск
И дырки в башмаках.
Льюис КЭРРОЛЛ
I
Признаюсь откровенно: произведения, объединенные этим томом, оказались для меня (не сейчас, когда перечитывал их, собираясь сесть за статью, а когда читал впервые) равно неожиданными, хотя творчество Леонида Смирнова знаю едва ли не от корки до корки и достаточно ясно представляю себе его эволюцию. Что же, тем интереснее вам будет их читать, а мне сейчас — вести о них речь.
А собственно, почему? Вроде бы, чего уж проще и каноничнее: «С горки на горку» — написанный в 1998–1999 годах и выдержанный в лучших традициях жанра приключенческий роман с элементами фантастики, точнее, собственно, фэнтези; написанное десятилетием раньше (1989–1991) «Возвращение с берега» — столь же классический научно-фантастический короткий роман. Оба отмечены присущим Смирнову мастерством, но это и единственное, что сближает отнюдь не родственные ни по жанру, ни по форме, и лишь в малой мере сходные по стилистике произведения. Ну разве что еще переплет, объединивший их по произволу — то ли авторскому, то ли составительскому. Однако таким образом дело обстоит лишь на первый, беглый и — замечу сразу же — ошибочный взгляд.
Но прежде чем нырять в простирающиеся за текстом глубины, позволю себе поговорить непосредственно о тексте, ибо здесь все тоже далеко не однозначно и отнюдь не так просто, как представляется поначалу. Может, в силу того, что простым (не высшей простотой подлинного искусства, свойственной, скажем, поэзии позднего Пастернака, а тою, что, как говорится, хуже воровства) Смирнов быть органически не в состоянии.
Позволю себе малюсенькое отступление. Нередко писатели, желая придать творению своему дополнительное структурное изящество, закладывают в него некий потаенный (а в иных случаях — и откровенно нескрываемый) скелет. Для «Зазеркалья» Льюиса Кэрролла или «Кварталов Шахматного города» Джона Браннера им послужили шахматные партии; для кэрролловских же «Приключений Алисы в Стране Чудес» — партия карточная; приходит мне на память и американский роман, организованный в четыре неравных по объему части и разбитый на четырнадцать глав, точь-в-точь как классический сонет… Таких примеров можно привести в избытке. Читателю, как правило, кажется, будто все это — не слишком обязательные довески и финтифлюшки, так сказать, «архитектурные излишества», предназначенные исключительно для ублажения вкуса немногочисленных эстетов. А попробуйте-ка извлечь из текста этот костяк — и распадется он, размажется, разом исчезнет изящество, испарится легкость, расплывется стройность повествования.
Но Смирнов не способен без затей идти в кильватере предшественников. Не знаю, сознательно или подсознательно, однако вослед Кэрроллу он поместил в основу «С горки на горку» партию шахматную, а «Возвращения с берега» — карточную. Но если у классика партии были вполне реальные, при желании их можно даже разыграть, то здесь не сама игра, а лишь ее метафора, намек, более свойственный, замечу, нашему постмодернистскому времени. Что, кстати, само по себе весьма любопытно: верный классике, на которой воспитан, и чуждый центонным построениям постмодернизма, Смирнов остается, как видите, верен себе, в то же время доказывая, что никоим образом не чурается веяний времени.
Метафора или нет, а партия в «С горки на горку» блестящая. Да что там партия: и доска, и все фигуры искусно и любовно выточены из эбенового дерева и слоновой кости, причем и то, и другое, замечу, суть символы Африки, где и разворачивается действие романа. Игра идет стремительная, со взятием заложников и побегами, неизбежными драками, перестрелками, авто- и авиакатастрофами, и ведут ее не два гроссмейстера, и уж тем более не один — автор, сам против себя, — но непосредственно фигуры, живые, как в «Багдадском воре», в конце коротенькой главы-эпизода звонко хлопая ладонью по шпеньку шахматных часов и тем самым передавая эстафету повествования следующему персонажу. Кстати, об этих последних. С одной стороны, они именно фигуры, то есть стилизованные, порой даже гиперболизированно-гротесковые объемные изображения, но с другой — достаточно реальны, реальны ровно настолько, чтобы безошибочно распознаваться, чтобы им можно было сопереживать. Конечно, сам по себе фокус не так уж и нов, однако нащупать в этом дуализме столь выверенное равновесие — задача не из легких, и автору, на мой взгляд, удалось-таки с ней справиться.
О доске — то есть плацдарме, на котором раскручивается тугая пружина фабулы — хочется сказать особо. Африка у Смирнова — не просто экзотическое пространстве действия. Верный доброй старой жюль-верновской традиции, писатель здесь скрупулезно точен на уровне доступных знаний. Маршрут его героев можно буквально проверять курвиметром по карте, детали натуралистически достоверны, не воскрешая при этом в памяти навязших в зубах документальных сериалов в духе «Неприрученной Африки». Амьенского затворника я помянул несколькими строками выше отнюдь не зря. Если присмотреться, славившийся стопроцентной достоверностью, жаждавший показать юным и не слишком юным читателя реальный мир, классик французской фантастики описывал, например, Африку (скажем, в «Пяти неделях на воздушном шаре» или «Пятнадцатилетнем капитане») отнюдь не реалистичную, а дуалистичную — в ней достоверные факты мешались с расхожими европейскими мифами о Черном континенте. У Смирнова то же — на реальную географию и политику накладываются нынешние российские мифы об Африке, находится место всему, даже излюбленному криптозоологами доисторическому монстру мокеле-м’бембе, в результате чего происходит естественное сращивание реалистического и фантастического пластов повествования, и действенности колдовства уже не удивляешься, потому оно восходит не к фэнтезийной традиции, но к традиции НФ, в духе «Ста миллионов имен бога» Артура Кларка.
Иначе обстоит дело с «Возвращением с берега». Здесь все куда более размыто. И карточная партия скорее не партия даже, а сложный пасьянс, то есть игра не против другого человека, но против судьбы. И герои обобщены в куда большей мере, представляя собой не столько живые личности, сколько персонификацию взглядов, концепций, позиций, человеческих типов, наконец. И не потому вовсе, что написан роман десятилетием раньше «Горок», когда автор был менее зрел и умел. Ничего подобного! Это — сознательно выбранная установка, которая работает и — прошу удостовериться! — работает хорошо.
Я сознательно ушел от двух тем.
Во-первых, я стараюсь как можно меньше говорить непосредственно об авторе, поскольку Леонид Смирнов принадлежит к числу не только моих сотоварищей по литературному цеху, но, смею надеяться, и друзей, а потому всяк желающий вполне обоснованно мог бы заподозрить меня в необъективности. Это соображение заставляет говорить исключительно о произведениях — тут уж мои слова можно проверить без особого труда, неважно, согласившись с ними или нет.
Во-вторых, в предисловии сами правила жанра запрещают говорить о событиях романов, сюжетах и так далее, дабы не перебить аппетита ни в чем не повинному читателю (это в послесловии — там можно, хотя тоже вряд ли нужно, поскольку здесь каждый сам достаточно авторитетный судия, причем читательский суд куда взыскательной и строже большинства критиков).
Поэтому ограничимся теми мыслями, что невольно возникают при чтении: раскрыть тут заранее ничего нельзя, игры авторской не испортишь, а смирновская проза обладает свойством заставлять задумываться…
II
Что же все-таки роднит оба произведения, превращая сборник в целостную книгу?
Лет сорок назад Рэй Брэдбери заметил в одном из интервью: «Как следует поскребите любого фантаста, и на свет непременно явится моралист». Тезис этот в высшей степени справедлив — по крайней мере для большей части прошлого и начала нашего века (а сдается, и не только для начала). И повинен в этом не проповеднический пыл фантастов, снедающий, прямо скажем, далеко не всех, а сам дух времени.
В первом приближении главным свойством исторического процесса во всех его проявлениях является акселерация, ускорение. В Египте, например, социалистическое Древнее царство просуществовало около тысячелетия, затем рухнуло, на пару веков страна погрузилась в хаос междуцарствия, после чего мало-помалу создалось Среднее царство. У нас в XX веке соответствующие периоды продолжались семь десятилетий и полтора десятка лет (о третьем умолчу, ибо он еще только начинается). А что это значит? За двести лет египетского междуцарствия успело смениться несколько (исходя из разных оценок тогдашней продолжительности жизни, от шести до восьми) поколений. И каждое приходило в мир и покидало его приблизительно в одинаковых условиях. С отдельно взятым человеком могло случиться что угодно, однако мир был стабилен, и всякий мог безошибочно представить себе не только собственное будущее, но и будущее праправнуков. А вот среди нас встречаются еще и те, кто помнит дооктябрьскую эпоху… Бронзовый век тянулся чуть ли не тысячелетие, а славный век пара едва протянул полтораста лет. Вопреки древнему проклятью: «Чтоб вам жить в эпоху перемен!» — страшны не сами по себе перемены, а их темп, ибо со слишком высоким психика людская попросту не справляется, пасует, и начинает истерически искать опору в чем угодно, дабы обрести хоть какую-то иллюзию стабильности. Именно сверхвысокому темпу изменений в окружающем мире и утрате стабильности обязаны, в частности, своим происхождением нынешнее массовое увлечение разного рода верованиями и религиями, переход из одной в другую, увлечение восточной философией, каким-нибудь, к примеру, буддизмом, причем в его сугубо европейском понимании, от которого принца Сиддхартху Гаутаму, подозреваю, бросило бы в жар, беготня по колдунам да астрологам и даже популярность фэнтези, которая, в отличие от твердой НФ, оперирует не свершениями галопирующей и зачастую непредсказуемой науки, а застарелым и неспешливым чародейством.
К чему это я? Да очень просто: чтобы удержаться на ногах в неустойчивом мире, нужен хотя бы кусочек устойчивой почвы. А дать его может только одно — нравственный закон. Помните, некогда Иммануила Канта поражали звездный мир над головой и нравственный закон, который внутри человека? Кстати, дерзну добавить, что человек рано или поздно достигнет тех самых звезд, только опираясь на нравственный закон… А это с неизбежностью приводит к выводу, что всякий уважающий себя писатель (и отнюдь не только фантаст, хотя фантаст, может быть, в первую очередь) просто не может не оказаться моралистом. И Леонид Смирнов в том числе.
Подозреваю, он вовсе не думал об этом, когда писал приключенческо-фантастический роман, но все злоключения его персонажей являют собой расплату за отступление от нравственного закона, кантовского категорического императива добра и знаменитого «Золотого правила» библейский традиции. Так уж устроен наш мир, что любое подобное отступление неизбежно возвращается и бьет в самый неожиданный момент, самым непредсказуемым образом, но неизменно очень больно. Мелочь, пренебрежение, выказанное местному колдуну, ввергает троицу главных героев в такую лихую круговерть и заставляет хлебнуть столько лиха, что… (не буду, не буду, читайте сами!). Предательство любви — а что может быть страшнее? — приводит Вику в гарем арабского шейха, вполне заменяющего в романе короля, причем с изрядным количеством обещанной в эпиграфе капусты. Подобно большинству из нас, герои неизменно наступают на одни и те же грабли — естественно, с неизменным же и результатом, и ничему их это не учит, ведь в противном случае все было бы слишком легко и просто, ведь один ответ, как известно, рождается минимум после семи бед… Лишь Телевичок выступает здесь в роли кэрролловского Белого Конника, рыцаря пусть и не без страха (таких попросту не бывает — за исключением сумасшедших), то уж точно без упрека. Так что если в финале самолет благополучно доберется-таки до родных российских палестин, — это только ему, Телевичку, воздаяние.
И линия фронта той борьбы, что ведется за прошлое ради настоящего в грядущей действительности «Возвращения с берега», тоже проходит по узенькой полоске твердой земли нравственного закона. Да, конечно, и сама по себе фантастическая концепция здесь интересна — особенно для нас, жителей странной страны, где прошлое (не мною сказано!) всегда непредсказуемо, вследствие чего настоящее ужасно, а будущее неопределенно, ибо позабывший, что лежит позади, не в состоянии разглядеть простирающегося впереди. Именно из-за этого уже не отдельные люди, а политические партии, народы, все человечество, в конце концов, также неизменно наступают в своем историческом существовании (боюсь употребить общепринятое слово «развитии» — слишком уж большие сомнения оно вызывает…) на одни и те же грабли, только уже иного, несопоставимо большего, порой даже глобального масштаба, которые бьют намного больнее, причем уже не только виноватых, но и правых, а главным образом — тех, кто вовсе не при чем.
И все-таки побеждает (пусть не всегда, но хотя бы позволяет не заблудиться в неопределенности) не объективная справедливость концепции, а субъективное ощущение все того же «Золотого правила». Лишь следование ему обещает хотя бы зыбкую надежду вырваться из вязкого кошмара…
III
Почти не сомневаюсь: работая над романами, Леонид Смирнов нимало не размышлял надо всем тем, о чем я говорил. Это не его — мои мысли, читателя, не автора. И слава Богу, ибо в противном случае вместо романов из-под пера его вышли бы не увлекательные художественные произведения, а занудные — и потому заведомо бесполезные — проповеди. Но ведь черпает-то писатель материал не откуда-нибудь, а исключительно из самого себя, из нажитого и пережитого, увиденного и осмысленного, из собственных потерь и обретений, из своих болей и радостей, сам неоднократно наступив на пресловутые грабли… И значит, не зря все это приходит в голову при чтении. Глядишь, хоть что-то там и останется.
У меня, например, осталась устойчивая радость от того, что здесь, рядом, в Петербурге, живет человек, который думает совсем не как я, пишет тем более не как я, но с которым во внутренней сущности у меня очень много общего.
И хотел бы я знать, что останется у вас?
Андрей БАЛАБУХА
Андрей Балабуха,
29-12-2010 01:40
(ссылка)
Дополнение к предыдущему
Закончив предыдущую запись словами о том, что еще представится случай поговорить о каждом из четверых, я вдруг сообразил: ведь по крайней мере об одном недавно писал — предисловие к сборнику Павла Алексеева «Непричастные». Писал с удовольствием, потому как у этого автора свое лицо, свой почерк, свое видение мира и своя манера об увиденном рассказывать. Каюсь, подозревал, что лишь мне так кажется, но перед Приемной комиссией Святослав Логинов (а уж кого-кого, но его в недостатке литературно вкуса и взыскательности не заподозришь), к моему облегчению и радости, оценил эту книгу другими словами, но примерно так же,
Книги этой у вас пока нет — «Геликон» г-на Житинского тянет с ее выпуском изо всех сил, причем совершенно непонятно с чего... Впрочем, это не мое дело.
Зато я имею полное право выложить здесь предисловие — а вдруг к выходу сборника у кого-то из вас появится желание его почитать?
ОСТРАНЕННАЯ ПРИЧАСТНОСТЬ,
или
МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР ПАВЛА АЛЕКСЕЕВА
Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Уильям ШЕКСПИР, «Как вам это понравится»
Странное дело! «Непричастные» — так по названию открывающей ее повести озаглавлена эта книга. Однако, перевернув последнюю страницу рукописи, я ощутил острую причастность. И авторскую, и свою. Вот только — к чему? Ощущение-то есть, зато разобраться в его сути… И все-таки попробую — шаг за шагом; так сказать, по буковкам*.
Прежде всего, пожалуй, к литературе. И это далеко не столь самоочевидно, как может показаться на первый взгляд, ибо очень многие книги — особенно из числа увидевших свет в последнее время — к литературе ни малейшего отношения не имеют. Чего не скажешь про только что вами, милые дамы и милостивые господа, прочитанное — творения Алексеева к изящной словесности принадлежат несомненно. Однако ведь и внутри оной существуют свои области… Так в какую же из них нам пришлось заглянуть?
А вот с этим намного сложнее.
Рэй Брэдбери однажды заметил, что стоит как следует поскрести любого фантаста, и взгляду явится моралист, в чьем сочинении без труда прочитываются аллегория или притча. Подобно любой максиме, утверждение это не всеобъемлюще, но справедливо. Однако применимо ли оно к Алексееву? С одной стороны, атрибуты фантастики налицо: тут вам и космические корабли, и всяческие иные измерения, и альтернативности судьбы — хоть отдельно взятой людской, хоть цивилизационной, хоть всего человечества… А с другой — ну какая же это, к ляду, фантастика? Так, театральная маска, под которой самая что ни есть реалистика. Пусть даже весьма и весьма странная.
Стоп! Вот оно, слово — выходит, недаром я с него подсознательно начал. И (спасибо предложившему этот термин еще в год начала Первой мировой войны славному литературоведу Виктору Борисовичу Шкловскому!) становится понятно: мы имеем дело с остраненной прозой. Так он назвал эффект нарушения автоматизма восприятия за счет нового, «странного» взгляда на знакомые явления с целью «дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание». Причем, сдается мне, в слове «видение» тут справедливы оба ударения.
Но не в ярлыках и терминах дело, а в главном — странности, едва ли не ключевом понятии нашего времени. Как не вспомнить тут и блоковский мир, который «предстанет странным, / Закутанным в цветной туман», и — совсем уж из иной епархии — повествующую о проблемах ядерной физики «Неизбежность странного мира» Даниила Данина… Физики, замечу, а не лирики, ввели понятие «странных частиц», которые являются носителями нового квантового числа, названного странностью… Вот и выходит, что в значимости понятия изящные искусства и точные науки сошлись. И не потому ли, что человек способен постигать мир лишь до тех пор, пока сохраняет способность удивляться его странности? Лиши мироздание этого качества — и неизбежно окажется постижимым и в постижимости своей скучным…
Остранение это достигается при помощи целого набора приемов или типов образности. Тут (в полном соответствии с утверждением Брэдбери) и аллегория, основой которой является иносказание — запечатление отвлеченной идеи в зримые картины или умозрительные понятия. И тяготеющая к символу парабола — тоже иносказание, но, в отличие от аллегории, многозначное, допускающее разные толкования. И притча — правда, современная, литературная, лишенная лобовой дидактичности фольклорной. И гипербола — преувеличение, магическая лупа, позволяющая выделить часть общей картины таким образом, что часть вопреки формальной логике становится иногда даже больше целого. И гротеск — причудливое сочетание фантастического и реального, прекрасного и безобразного, трагического и комического, малого и великого, правдоподобия и карикатуры. Перечень, разумеется, неполон, однако из него уже ясно: мы с вами — вослед автору — оказываемся причастными к целому арсеналу приемов художественной литературы.
Но Бог с ней, с литературой — читатель никоим образом не обязан разбираться во всех ее премудростях, как даже самый истый гурман вправе не знать тонкостей поварского искусства на уровне мастера cordon bleu.
Лучше поговорим о жизни. Уж к ней-то мы все a priori причастны.
Последнее, впрочем, вовсе не означает, будто эту самую жизнь надлежит принимать в любых проявлениях. «Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек!» — призывал испанский поэт, нобелевский лауреат 1956 года Хуан Рамон Хименес. «В конечном счете, лучшую фантастику создают те, кто чем-то недоволен в нашем мире и выражает свое недовольство немедленно и яростно», — вторил ему уже упоминавшийся Брэдбери. Не знаю, являются ли бунт и протест свойствами, имманентно присущими всякому писателю. Прямо скажем, не уверен — видится мне в этом, грешным делом, некая интеллигентская ущербность, плохо компенсируемая бездумным фрондерством. Но и безоговорочное всеприятие — не лучше; даже хуже. И получается, что единственно продуктивный взгляд на мир — со стороны, когда он, мир то бишь, «представляется странным», и в странностях этих необходимо разобраться, чтобы понять, где добро, а где — зло (ну что поделаешь, нормальный писатель и впрямь всегда моралист, даже чуть-чуть проповедник; причем проповедовать он может хоть полное отрицание морали, и такие, как вы помните, бывали и ныне есть, да вот беда — одно другому не мешает: ведь безбожник верит в отсутствие Творца не менее истово, нежели верующий в Господа). Ведь «жизнь учит лишь тех, кто ее изучает», как писал замечательный историк Василий Осипович Ключевский. Но в противном случае мы окажемся на позиции шекспировских ведьм из «Макбета». Помните: «Зло есть добро, добро есть зло»… Увы, на столь скользком тезисе далеко не уедешь. Куда продуктивнее призыв Анатоля Франса: «В свидетели и судьи дайте людям иронию и сострадание!» Ему-то Алексеев и следует неукоснительно: согласитесь, иронии предостаточно хоть в заглавной повести, хоть в каждом его рассказе, а написать все это мог только человек, бедам людским и скорбям истории глубоко сострадающий, даже если судит их, и судит весьма сурово.
Но при такой степени причастности к чему, скажите на милость, какое бы то ни было остранение?
А как же иначе? Сейид Идрис Шах, самый значительный из учителей суфизма XX века, потомок Мухаммеда по старшей мужской линии и наследник тайных обрядов, дошедших от его предков-халифов, писал в своем «Волшебном монастыре», что «рыба — наихудший источник знаний о воде». Погруженные в жизнь, можем ли мы судить о ней? Для этого надо вынести жизнь на театральные подмостки — в полном соответствии с шекспировскими словами, предпосланными этому послесловию в качестве эпиграфа. Нам нужно отстраниться от объекта рассмотрения — как сделал это мольеровский портной, снимавший мерку не с человека, но с зеркала, в которое тот смотрится, пусть даже руководствовался при том совсем иными мотивами.
Так незаметно мы с вами подошли к очень важной теме — теме театра. И не только потому, что театр присутствует в «Непричастных», а сам Павел Алексеев был (и в душе, насколько я понимаю, остается) человеком, к театру причастным.
Кто только ни писал за последние сто лет о грядущей, наступающей или уже наступившей смерти театра, могильщиками коего называли сперва — кинематограф, потом — телевидение, в последнее время — цифровые технологии… (Впрочем, о смерти литературы толковали не меньше.) Ан жив курилка! При всех экономических и прочих сложностях нашего времени на месте одного прогоревшего театра вырастают три новых — точь-в-точь как на месте отрубленной головы дракона. И вот что еще любопытно: литературу я поставил в один ряд с театром не случайно; при всем желании не могу вспомнить плохого произведения, театру посвященного — хоть «Театральный роман» Михаила Булгакова вспомните, хоть «Черных лебедей» болгарина Павла Вежинова, хоть повести русских американцев — «Улицу Франсуа Вийона» Аркадия Львова и «Что ему Гекуба» Алексея Ковалева… На мой взгляд, «Непричастные» занимают свое — и достойное — место в ряду. Но это так, a propos.
Главное же — вынеся действие на сцену и наблюдая его из зала (или из-за кулис, что в данном случае то же самое), мы обретаем возможность судить отстраненно, непредвзято, причем совершенно не важно, с какой позиции — зрителя или режиссера; еще вопрос, кто более взыскательный судья.
А там, на подмостках, идет калейдоскопическая смена действий — ведь значительная часть книги представляет собой короткие и очень короткие, вплоть до миниатюр, рассказы (о смерти рассказа тоже, между прочим, говорили до мозолей на языке, утверждая, будто современный читатель воспринимает лишь повествование эпическое, романно-многотомное — так вот же они вам!). Да, рассказы неравноценные (что не всегда есть благо), несхожие (а вот это уже благо всегда), но объединенные авторским отношением. Причем не только к миру, к жизни и к собственноручно и собственнодушно сотворенным героям), но и тексту. Ибо их отличает только Алексееву присущее чувство внутреннего ритма фразы, интонации и ракурса. Говоря «только Алексееву присущее», я отнюдь не подразумеваю, будто автор — величайший из всех. Этим я оказал бы ему, прямо скажем, медвежью услугу. Нет. И я даже под угрозой расстрела не смог и не стал бы писать, как он (читать — иное дело, это я готов). Я лишь хочу сказать, что уже с этой — второй — своей книги писатель обрел четко узнаваемый стиль, индивидуальный голос, а уж вы сами судите, насколько он хорош.
Но одно утверждать я берусь. При всей кажущейся мизантропии некоторых рассказов или эпизодов, в целом литературный театр Павла Алексеева — это (да простит мне покойный Булат Шалвович Окуджава!) надежды маленький театрик. Камерный. Для своей публики. И такой, куда хочется заглянуть снова, как несомненно сделает это
ваш покорный слуга
Андрей БАЛАБУХА
________________________________________________
* Первой частью сборника является повесть «Непричастные», второй — цикл рассказов и миниатюр «Буковки».
Книги этой у вас пока нет — «Геликон» г-на Житинского тянет с ее выпуском изо всех сил, причем совершенно непонятно с чего... Впрочем, это не мое дело.
Зато я имею полное право выложить здесь предисловие — а вдруг к выходу сборника у кого-то из вас появится желание его почитать?
ОСТРАНЕННАЯ ПРИЧАСТНОСТЬ,
или
МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР ПАВЛА АЛЕКСЕЕВА
Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Уильям ШЕКСПИР, «Как вам это понравится»
Странное дело! «Непричастные» — так по названию открывающей ее повести озаглавлена эта книга. Однако, перевернув последнюю страницу рукописи, я ощутил острую причастность. И авторскую, и свою. Вот только — к чему? Ощущение-то есть, зато разобраться в его сути… И все-таки попробую — шаг за шагом; так сказать, по буковкам*.
Прежде всего, пожалуй, к литературе. И это далеко не столь самоочевидно, как может показаться на первый взгляд, ибо очень многие книги — особенно из числа увидевших свет в последнее время — к литературе ни малейшего отношения не имеют. Чего не скажешь про только что вами, милые дамы и милостивые господа, прочитанное — творения Алексеева к изящной словесности принадлежат несомненно. Однако ведь и внутри оной существуют свои области… Так в какую же из них нам пришлось заглянуть?
А вот с этим намного сложнее.
Рэй Брэдбери однажды заметил, что стоит как следует поскрести любого фантаста, и взгляду явится моралист, в чьем сочинении без труда прочитываются аллегория или притча. Подобно любой максиме, утверждение это не всеобъемлюще, но справедливо. Однако применимо ли оно к Алексееву? С одной стороны, атрибуты фантастики налицо: тут вам и космические корабли, и всяческие иные измерения, и альтернативности судьбы — хоть отдельно взятой людской, хоть цивилизационной, хоть всего человечества… А с другой — ну какая же это, к ляду, фантастика? Так, театральная маска, под которой самая что ни есть реалистика. Пусть даже весьма и весьма странная.
Стоп! Вот оно, слово — выходит, недаром я с него подсознательно начал. И (спасибо предложившему этот термин еще в год начала Первой мировой войны славному литературоведу Виктору Борисовичу Шкловскому!) становится понятно: мы имеем дело с остраненной прозой. Так он назвал эффект нарушения автоматизма восприятия за счет нового, «странного» взгляда на знакомые явления с целью «дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание». Причем, сдается мне, в слове «видение» тут справедливы оба ударения.
Но не в ярлыках и терминах дело, а в главном — странности, едва ли не ключевом понятии нашего времени. Как не вспомнить тут и блоковский мир, который «предстанет странным, / Закутанным в цветной туман», и — совсем уж из иной епархии — повествующую о проблемах ядерной физики «Неизбежность странного мира» Даниила Данина… Физики, замечу, а не лирики, ввели понятие «странных частиц», которые являются носителями нового квантового числа, названного странностью… Вот и выходит, что в значимости понятия изящные искусства и точные науки сошлись. И не потому ли, что человек способен постигать мир лишь до тех пор, пока сохраняет способность удивляться его странности? Лиши мироздание этого качества — и неизбежно окажется постижимым и в постижимости своей скучным…
Остранение это достигается при помощи целого набора приемов или типов образности. Тут (в полном соответствии с утверждением Брэдбери) и аллегория, основой которой является иносказание — запечатление отвлеченной идеи в зримые картины или умозрительные понятия. И тяготеющая к символу парабола — тоже иносказание, но, в отличие от аллегории, многозначное, допускающее разные толкования. И притча — правда, современная, литературная, лишенная лобовой дидактичности фольклорной. И гипербола — преувеличение, магическая лупа, позволяющая выделить часть общей картины таким образом, что часть вопреки формальной логике становится иногда даже больше целого. И гротеск — причудливое сочетание фантастического и реального, прекрасного и безобразного, трагического и комического, малого и великого, правдоподобия и карикатуры. Перечень, разумеется, неполон, однако из него уже ясно: мы с вами — вослед автору — оказываемся причастными к целому арсеналу приемов художественной литературы.
Но Бог с ней, с литературой — читатель никоим образом не обязан разбираться во всех ее премудростях, как даже самый истый гурман вправе не знать тонкостей поварского искусства на уровне мастера cordon bleu.
Лучше поговорим о жизни. Уж к ней-то мы все a priori причастны.
Последнее, впрочем, вовсе не означает, будто эту самую жизнь надлежит принимать в любых проявлениях. «Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек!» — призывал испанский поэт, нобелевский лауреат 1956 года Хуан Рамон Хименес. «В конечном счете, лучшую фантастику создают те, кто чем-то недоволен в нашем мире и выражает свое недовольство немедленно и яростно», — вторил ему уже упоминавшийся Брэдбери. Не знаю, являются ли бунт и протест свойствами, имманентно присущими всякому писателю. Прямо скажем, не уверен — видится мне в этом, грешным делом, некая интеллигентская ущербность, плохо компенсируемая бездумным фрондерством. Но и безоговорочное всеприятие — не лучше; даже хуже. И получается, что единственно продуктивный взгляд на мир — со стороны, когда он, мир то бишь, «представляется странным», и в странностях этих необходимо разобраться, чтобы понять, где добро, а где — зло (ну что поделаешь, нормальный писатель и впрямь всегда моралист, даже чуть-чуть проповедник; причем проповедовать он может хоть полное отрицание морали, и такие, как вы помните, бывали и ныне есть, да вот беда — одно другому не мешает: ведь безбожник верит в отсутствие Творца не менее истово, нежели верующий в Господа). Ведь «жизнь учит лишь тех, кто ее изучает», как писал замечательный историк Василий Осипович Ключевский. Но в противном случае мы окажемся на позиции шекспировских ведьм из «Макбета». Помните: «Зло есть добро, добро есть зло»… Увы, на столь скользком тезисе далеко не уедешь. Куда продуктивнее призыв Анатоля Франса: «В свидетели и судьи дайте людям иронию и сострадание!» Ему-то Алексеев и следует неукоснительно: согласитесь, иронии предостаточно хоть в заглавной повести, хоть в каждом его рассказе, а написать все это мог только человек, бедам людским и скорбям истории глубоко сострадающий, даже если судит их, и судит весьма сурово.
Но при такой степени причастности к чему, скажите на милость, какое бы то ни было остранение?
А как же иначе? Сейид Идрис Шах, самый значительный из учителей суфизма XX века, потомок Мухаммеда по старшей мужской линии и наследник тайных обрядов, дошедших от его предков-халифов, писал в своем «Волшебном монастыре», что «рыба — наихудший источник знаний о воде». Погруженные в жизнь, можем ли мы судить о ней? Для этого надо вынести жизнь на театральные подмостки — в полном соответствии с шекспировскими словами, предпосланными этому послесловию в качестве эпиграфа. Нам нужно отстраниться от объекта рассмотрения — как сделал это мольеровский портной, снимавший мерку не с человека, но с зеркала, в которое тот смотрится, пусть даже руководствовался при том совсем иными мотивами.
Так незаметно мы с вами подошли к очень важной теме — теме театра. И не только потому, что театр присутствует в «Непричастных», а сам Павел Алексеев был (и в душе, насколько я понимаю, остается) человеком, к театру причастным.
Кто только ни писал за последние сто лет о грядущей, наступающей или уже наступившей смерти театра, могильщиками коего называли сперва — кинематограф, потом — телевидение, в последнее время — цифровые технологии… (Впрочем, о смерти литературы толковали не меньше.) Ан жив курилка! При всех экономических и прочих сложностях нашего времени на месте одного прогоревшего театра вырастают три новых — точь-в-точь как на месте отрубленной головы дракона. И вот что еще любопытно: литературу я поставил в один ряд с театром не случайно; при всем желании не могу вспомнить плохого произведения, театру посвященного — хоть «Театральный роман» Михаила Булгакова вспомните, хоть «Черных лебедей» болгарина Павла Вежинова, хоть повести русских американцев — «Улицу Франсуа Вийона» Аркадия Львова и «Что ему Гекуба» Алексея Ковалева… На мой взгляд, «Непричастные» занимают свое — и достойное — место в ряду. Но это так, a propos.
Главное же — вынеся действие на сцену и наблюдая его из зала (или из-за кулис, что в данном случае то же самое), мы обретаем возможность судить отстраненно, непредвзято, причем совершенно не важно, с какой позиции — зрителя или режиссера; еще вопрос, кто более взыскательный судья.
А там, на подмостках, идет калейдоскопическая смена действий — ведь значительная часть книги представляет собой короткие и очень короткие, вплоть до миниатюр, рассказы (о смерти рассказа тоже, между прочим, говорили до мозолей на языке, утверждая, будто современный читатель воспринимает лишь повествование эпическое, романно-многотомное — так вот же они вам!). Да, рассказы неравноценные (что не всегда есть благо), несхожие (а вот это уже благо всегда), но объединенные авторским отношением. Причем не только к миру, к жизни и к собственноручно и собственнодушно сотворенным героям), но и тексту. Ибо их отличает только Алексееву присущее чувство внутреннего ритма фразы, интонации и ракурса. Говоря «только Алексееву присущее», я отнюдь не подразумеваю, будто автор — величайший из всех. Этим я оказал бы ему, прямо скажем, медвежью услугу. Нет. И я даже под угрозой расстрела не смог и не стал бы писать, как он (читать — иное дело, это я готов). Я лишь хочу сказать, что уже с этой — второй — своей книги писатель обрел четко узнаваемый стиль, индивидуальный голос, а уж вы сами судите, насколько он хорош.
Но одно утверждать я берусь. При всей кажущейся мизантропии некоторых рассказов или эпизодов, в целом литературный театр Павла Алексеева — это (да простит мне покойный Булат Шалвович Окуджава!) надежды маленький театрик. Камерный. Для своей публики. И такой, куда хочется заглянуть снова, как несомненно сделает это
ваш покорный слуга
Андрей БАЛАБУХА
________________________________________________
* Первой частью сборника является повесть «Непричастные», второй — цикл рассказов и миниатюр «Буковки».
Андрей Балабуха,
28-12-2010 21:32
(ссылка)
Маленькое предуведомление
Хотя сезон начался еще в конце октября, я — скажем так: по техническим причинам — не смог отразить здесь ни первых заседаний секции, ни первых занятий нашей с Леонидом Смирновым Студии, ни некоторых других — тоже приятных — событий.
Не стану ни оправдываться, ни приносить извинений — как сложилось, так сложилось. Возвращаться к пропущенному теперь было бы, пожалуй, даже странно, так что я просто попытаюсь впредь выкладывать материалы с большей регулярностью.
А пока хочу сказать хотя бы о самом существенном.
Искренне ваш
Андрей БАЛАБУХА
Не стану ни оправдываться, ни приносить извинений — как сложилось, так сложилось. Возвращаться к пропущенному теперь было бы, пожалуй, даже странно, так что я просто попытаюсь впредь выкладывать материалы с большей регулярностью.
А пока хочу сказать хотя бы о самом существенном.
Искренне ваш
Андрей БАЛАБУХА
Андрей Балабуха,
16-07-2010 17:07
(ссылка)
Позабавьтесь со мной...

Летом 1971 года я написал рассказ «Тема для диссертации» — два года спустя его опубликовали в альманахе «На суше и на море» издательства «Мысль», затем мало-помалу перевели на полдюжины языков, а в девяностом он вошел в мой сборник «Чудо человека и другие рассказы».
Льщу себя надеждой, что кто-нибудь из любителей НФ его читал и — вдруг? — даже помнит. Увы (не выкладывать же тут рассказ объемом в авторский лист!), остальным, дабы понять дальнейшее, придется прочесть теперь (или плюнуть, и не читать ни рассказа, ни этой записи — ей-ей, не обижусь ничуть).
А дня два-три назад из интернета свалилась такая вот новость:
«Королевское медицинское общество сообщило: композитору и ученому удалось совместно создать уникальное музыкальное произведение за счет интерпретации генетического кода человека.
Тут следует напомнить: ДНК человека является своеобразным текстом, составленным из миллиардов выстроенных в разных сочетаниях четырех букв-нуклеотидов — азотистых оснований аденина, гуанина, тимина и цитозина. Эндрю Морли, генетик и меломан, надумал сопоставить с каждым из четырех нуклеотидов определенную ноту и получить музыку генома. Идеей заразился композитор Майкл Зев Гордон. Он заявил: „Я рассматривал генетический код с двух точек зрения: как сырой материал, который надо перевести на язык нот, а также как нечто чудесное, обладающее необыкновенной красотой. Так и выросло это произведение“.
Сочинение назвали „Аллель“ — термин, обозначающий различные формы одного и того же гена. Публичное исполнить музыку ДНК планируется завтра [то бишь позавчера, если я правильно посчитал на пальцах — А.Б.] в здании Королевского медицинского общества. Исполнитель — Новый лондонский камерный хор.
„Аллель“ начинается с простой ритмической фразы, исполняемой одним участником хора. По мере развития музыкальной темы к нему присоединяются другие голоса, передавая биологический процесс репликации ДНК. А в ключевой момент каждый из певцов начинает исполнять мелодию собственного генетического кода».
Совпадение? Попадание? Понятия не имею.
Правда, я писал не о «музыке ДНК» — в рассказе в музыкальное произведение была превращена запись электрической активности человеческого мозга. Зато на союзе композитора с физиологом строился весь сюжет.
И вот оно — через тридцать девять лет. К литературе, само собой, ни малейшего отношения не имеет. Но забавно…
Андрей Балабуха,
19-07-2010 11:39
(ссылка)
Фразы
* * *
Женщина — это святыня, дарованная за грехи.
* * *
Выходя из себя, подумай: а кто войдет?
* * *
Необитаем ли остров, на котором живет Робинзон?
* * *
А чей ты, когда сам не свой?
* * *
Архитектура — не столько застывшая музыка, сколько постылая политика.
* * *
Пока человек грезит величием — это мечта; когда он своем величии твердит — это диагноз.
* * *
Утверждая: «Мой дом — моя крепость», — не забудь, что «нет крепостей, которых большевики не могли бы взять».
Женщина — это святыня, дарованная за грехи.
* * *
Выходя из себя, подумай: а кто войдет?
* * *
Необитаем ли остров, на котором живет Робинзон?
* * *
А чей ты, когда сам не свой?
* * *
Архитектура — не столько застывшая музыка, сколько постылая политика.
* * *
Пока человек грезит величием — это мечта; когда он своем величии твердит — это диагноз.
* * *
Утверждая: «Мой дом — моя крепость», — не забудь, что «нет крепостей, которых большевики не могли бы взять».
Андрей Балабуха,
20-07-2010 16:08
(ссылка)
Стишок
* * *
Серчать — занятие пустое,
Источит быстро плоть и дух…
Не только въяве — и в бреду
Ни на кого серчать не стоит.
Коль сам, попятившись, как рак,
На ржавый гвоздь нарвался задом —
За что ж на гвоздь серчать? Не надо:
При чем тут гвоздь, коль сам дурак?
Серчать — занятие пустое,
Источит быстро плоть и дух…
Не только въяве — и в бреду
Ни на кого серчать не стоит.
Коль сам, попятившись, как рак,
На ржавый гвоздь нарвался задом —
За что ж на гвоздь серчать? Не надо:
При чем тут гвоздь, коль сам дурак?
Андрей Балабуха,
22-07-2010 12:32
(ссылка)
Фразы
* * *
И бесценное чего-то стоит.
* * *
Коммунизм — это есть советская власть плюс лагеризация всей страны.
* * *
В русском языке есть слова «соболезную», «сочувствую», «сострадаю», но в помине нет, скажем, «сорадуюсь». Выходит, о радости ближнего и думать-то невозможно.
* * *
Коты не скрытны — они просто слишком умны, чтобы откровенничать.
* * *
Существует ли бездна без дна? — Падать в такую можно было бы вечно…
* * *
Будь Бог поистине мудр, Он не создал бы женщину; не будь Он всеблаг — тоже.
* * *
Любовь к себе — мерило самое главное, недаром же в Писании сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей заповеди нет».
И бесценное чего-то стоит.
* * *
Коммунизм — это есть советская власть плюс лагеризация всей страны.
* * *
В русском языке есть слова «соболезную», «сочувствую», «сострадаю», но в помине нет, скажем, «сорадуюсь». Выходит, о радости ближнего и думать-то невозможно.
* * *
Коты не скрытны — они просто слишком умны, чтобы откровенничать.
* * *
Существует ли бездна без дна? — Падать в такую можно было бы вечно…
* * *
Будь Бог поистине мудр, Он не создал бы женщину; не будь Он всеблаг — тоже.
* * *
Любовь к себе — мерило самое главное, недаром же в Писании сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей заповеди нет».
Андрей Балабуха,
21-07-2010 13:43
(ссылка)
Стишок
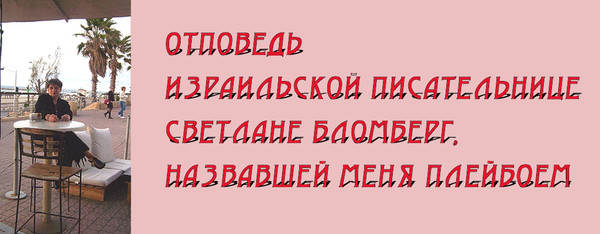
Я плейбой?
Бог с тобой,
Изумруд мой лаловый! —
Не плейбой,
Не голубой,
С козами не балую;
Спозарань
Fin champagne
С бодуна не трескаю,
В казино
Уж давно
Не ходил с метрескою…
На уме
Я gourmet,
Bon vivant по складу я,
Но во тьме
Да в тюрьме
Мало это радует.
При файле —
На весле
Старый раб галерный я;
Скажут: «Тпру!» —
И помру,
Обалдев, наверное…
Андрей Балабуха,
11-08-2010 13:54
(ссылка)
Фразы
* * *
Мечта сбывается, открывая зияющую пустоту.
* * *
Бабник, любя женщину, заглядывается и на других; патриот, любя родину, ненавидит и презирает иные страны.
* * *
Загляни в глаза коту — и поймешь, кто хозяин.
* * *
Самый сильный наркотик — это жизнь: никто без нее существовать не может.
* * *
Кто слыхал бы сегодня о подвигах Геракла, не ставь герою задач никчемный кузен Эврисфей?
Мечта сбывается, открывая зияющую пустоту.
* * *
Бабник, любя женщину, заглядывается и на других; патриот, любя родину, ненавидит и презирает иные страны.
* * *
Загляни в глаза коту — и поймешь, кто хозяин.
* * *
Самый сильный наркотик — это жизнь: никто без нее существовать не может.
* * *
Кто слыхал бы сегодня о подвигах Геракла, не ставь герою задач никчемный кузен Эврисфей?
Андрей Балабуха,
17-08-2010 18:49
(ссылка)
Байки от Балабухи

Если критик и литературовед Евгений Павлович Брандис был председателем нашей секции, то его друг и соавтор Владимир Иванович Дмитревский — ее становым хребтом.
К сожалению, мало кто сегодня помнит Владимира Ивановича. Даже всеведущий «Yandex» пишет с неизменной ошибкой — Дмитриевский. А в статье «Википедии» хоть и не допустили этой досадной ошибки (зато написанная в соавторстве журнальная статья названа почему-то книгой), однако все чрезвычайно куце и без хоть самой плохонькой фотографии. А жаль! Фигура была крайне противоречивая, но интересная. Впрочем, и мне в заголовке этой байки пришлось — за неимением — поместить не снимок, а рисунок великолепного графика Виктора Шапиля из серии шаржированных экслибрисов ленинградских фантастов (шаржи шаржами, но портретное сходство уловлено отменно!).
Родился Дмитревский в 1908 году и подобно многим сверстникам хлебнул всего: безоблачного детства в «дворянском гнезде»; учебы на рабфаке в Туле, в Институте истории Комакадемии и в Институте красной профессуры; работы в журнале «Интернациональная литература», в Исполкоме КИМ’а (Коммунистического интернационала молодежи)* и в Совинформбюро; наконец, непременных лагерей. Там-то (не знаю уж, где именно) он и сдружился с Борисом Четвериковым, к моменту ареста достаточно известным писателем — поэтом, прозаиком, публицистом. Освободившись в 1956 году, они в соавторстве написали роман «Мы мирные люди», изданный в 1960-м. А потом — уже на моих глазах — была полуавтобиографическая тетралогия: повести «Бей, барабан!» (1961), «Давай встретимся в Глазго» (1967), «Астроном верен звездам» (1974) и «Ветер в старых липах» (1975), книги о Пятницком и Камило Сьенфуэгосе… Кстати о тетралогии. Прозаиком Дмитревский был достаточно средним, так что читать рекомендую лишь как документ эпохи. За исключением последней книги. Бывает такое: когда писатель невеликого даже таланта на склоне лет вспоминает детство, из-под пера его выходит произведение действительно замечательное… Но это так, a propos.
И все-таки главным — для меня, для всех в нашей секции — было другое. В конце пятидесятых, вернувшись в Ленинград, Дмитревский свел знакомство с Брандисом, заразился от него интересом к фантастике, и они вдвоем стали ведущими критиками НФ, составителями антологий, соавторами таких книг, как «Через горы времени» (1963) — первое исследование творчества Ефремова, «Мир будущего в научной фантастике» (1965), «Зеркало тревог и сомнений» (1967)… Если в Ленинграде шестидесятых фантастика активно развивалась, то благодаря им обоим.
Да, невзирая на лагерный срок, оставался Владимир Иванович идеологически выдержанным столь же твердо, как его неизменная суковатая палка. Но зато он мог, прихрамывая, войти в любой начальственный кабинет и, этой самой палкой стуча, если по-хорошему не получалось, добиться, например, выхода очередного сборника, «пробить» чью-то книгу. С глазу на глаз способен был на тебя наорать, а потом тебе же помочь и защитить.
Но все это — темы отдельного разговора. А сегодня мне вспомнился один эпизод.
С Иваном Антоновичем они сдружились, когда Брандис со Дмитревским писали о нем книгу, а Владимир Иванович (уже единолично) работал над сценарием «Туманности Андромеды». И вот Ефремов прислал в журнал «Нева», где Дмитревский в то время был ответственным секретарем, более чем солидную пачку эссе — плоды своих размышлений на самые разные темы. Невероятно интересно, вот только… Ну не проглотит этого «Нева»! Что же делать?
Он снял трубку и позвонил в Москву.
— Слушай, Ваня, эссе великолепные, но мне их при всем желании не пропихнуть. Вот Был бы у тебя роман…
— Но у м-меня н-нет романа, — характерным, чуть заикающимся голосом отозвался Ефремов.
И тут Дмитревского осенило:
— А помнишь, у тебя рассказы были — еще не опубликованные? «Эллинский секрет», «Корона Искандера», еще какие-то…
— Н-ну?
— Так ты свои эссе между ними рассуропь! И роман получится. Нам хороший роман позарез нужен!
— П-подумаю… — озадаченно протянул Ефремов.
А полгода спустя на тот же редакционный стол перед Дмитревским лег первый вариант «Лезвия бритвы». Как и было предсказано, «Нева» его проглотила. С чавканьем. И опубликовала в четырех номерах 1963 года — с июня по сентябрь.
Дмитревский потирал руки:
— Все-таки хорошо, что отдел публицистики у нас маленький. А будь побольше — ну опубликовали бы эти эссе. И что? А так — какой роман получился!
И ведь действительно получился.
________________________________________________
* Помню, на последнем юбилее Владимира Ивановича такой казус случился. В какой-то момент приоткрылась дверь банкетного зала ресторана Дома писателя (не нынешнего — на Шпалерной), в щель просунулась голова и изрекла:
У Дмитревского все верно,
Не считая Коминтерна!
И юркнула назад. Створки сомкнулись.
Это был Михаил Дудин. Владимир Иванович отнюдь не обиделся — захохотал, вышел следом, окликнул, привел…
Андрей Балабуха,
22-10-2010 23:56
(ссылка)
Стишок
* * *
Мужчина должен вырастить сына,
посадить дерево и построить дом.
Восточная пословица
Сзади чавкает сынок
(Пусть чуть-чуть четвероног);
Дуб уже подрос немножко
(Хоть в горшочке на окошке);
Ну а в доме наконец —
Был сортир, а стал дворец!
Преуспел я в каждом деле —
Все, как пращуры велели.
Мужчина должен вырастить сына,
посадить дерево и построить дом.
Восточная пословица
Сзади чавкает сынок
(Пусть чуть-чуть четвероног);
Дуб уже подрос немножко
(Хоть в горшочке на окошке);
Ну а в доме наконец —
Был сортир, а стал дворец!
Преуспел я в каждом деле —
Все, как пращуры велели.
Андрей Балабуха,
10-08-2010 23:50
(ссылка)
Байки от Балабухи

В двенадцать лет я, разумеется, понятия не имел ни о Джордже Оруэлле, ни о том, что именно его «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертому» благодарное человечество обязано выражением «Большой брат следит за тобой» (Big Brother is watching you), а также весьма актуальными поныне понятиями «двоемыслие» (doublethink), «мыслепреступление» (thoughtcrime) и «новояз» (newspeak).
Позолоченный гипсовый Большой брат, правда, в школьном вестибюле стоял, но лишь до момента прилюдного свержения (о собственной роли в оном я уже рассказывал), да и называли его пусть даже порою весьма малопочтительно, но все-таки совсем иначе. Так что все эти выражения мне и в голову придти не могли. Как, подозреваю, и моим педагогам, тоже Оруэлла не читавшим — все-таки его роман просочился к нам заметно позже. Но именно тогда и там я получил самый первый и самый главный урок двоемыслия.
А было так.
Школа моя по тогдашним меркам считалась элитарной и называлась 157-й средней экспериментальной школой Академии педагогических наук СССР. Правда, в те времена элитарной была именно сама школа, а вовсе не ученики, попадавшие в ее стены исключительно по территориальному признаку — номенклатурных недорослей на «ЗиМ’ах» и «ЗиС-110» не привозили, такое началось многие годы спустя, уже на «волгах» и «чайках». И хотя школьную свою пору вспоминаю без малейшей ностальгии и вернуться в нее ни малейшего желания не испытываю, вынужден признать: хорошая-таки была школа. Основали ее в 1868 году при Свято-Троицкой общине сестер милосердия как Рождественскую женскую прогимназию ведомства Учреждений Императрицы Марии. Решение об этом было принято по ходатайству принца Петра Георгиевича Ольденбургского, а его жена, принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, внучка Николая I, стала попечительницей нового учебного заведения. Впоследствии прогимназия поднялась до следующего ранга и с 1899 года стала именоваться уже гимназией принцессы Е.М.Ольденбургской. В 1901 году близ Смольного института благородных девиц, на Лафонской улице (ныне, естественно, улице Пролетарской диктатуры) для нее было построено роскошное здание, которое во времена моего прадеда называли «храмом просвещения». И что-то от храма в 157-й школе все-таки чувствовалось.
И не из-за архитектуры, конечно, а потому, что преподавали там не только стандартные советские педагоги, но и настоящие учителя. Если я сегодня знаю и люблю географию, то спасибо за это Феодосию Титычу, который еще отца моего учил. А если стал писателем, то не в последнюю очередь благодаря нашему словеснику Николаю Ивановичу Нименскому… О нем-то и пойдет речь.
Школа именовалась экспериментальной не зря — здесь на ни в чем не повинных учениках обкатывали всяческие новые веяния, рожденные гением светил советской педагогики. Из-за этого программа иногда менялась по нескольку раз на протяжении учебного года. То наезжали какие-то лихие психологи с дурацкими тестами, то нахлынывал, скажем, девятый вал сочинений, каковые полагалось писать на такие, например, возвышенные темы, как отличие причастий от прилагательных… Правда, и сочинение «Самый красивый ленинградский дом» тоже запомнилось — такое писать было уже интересно.
Николай Иванович был учителем молодым, хотя и потомственным чуть ли в третьем или четвертом поколении, — к нам он пришел прямо с университетской скамьи. Подтянутый, спортивный (он занимался академической греблей и даже меня к этому благородному занятию пытался приохотить), умеющий рассказывать легко и свободно… Он никогда не вещал, не поучал. Просто рассказывал. И запоминалось.
Так вот, в краткую эпоху каждодневных сочинений он предложил мне такую схему. Не нравится тема? А ты напиши два сочинения: одно — какое надо, а другое — какое хочется. Идея показалась заманчивой, и я принял вызов. Причем оценки Николай Иванович ставил за то сочинение, «какое хочется», остававшееся потом у меня, но на том, «какое надо», и оно отправлялось куда-то в недра АПН.
Нет, он не читал еще Оруэлла: «Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений». Он просто жил в оруэлловской стране и под видом литературной игры учил, как в ней выживать.
Так что когда лет через двадцать мне в руки попал «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый», ничего фантастического в двоемыслии я не узрел — обычное дело. С маленькой поправкой: нельзя забывать, что оценка, возможно, и будет красоваться на написанном «как надо», да только ведь ставят ее всегда исключительно за то, которое «как хочется»…
Вот жаль только, фотографий Николая Ивановича у меня не сохранилось. Были ведь! И в школьном актовом зале, и на веслах «скифа»… Но по молодости лет я к архивам своим относился весьма небрежно, и куда-то они запропастились, может, потерялись при переездах. А как хорошо было бы поместить хоть одну здесь!
Андрей Балабуха,
26-08-2010 19:42
(ссылка)
Третья информация межсезонья
ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ
Милые дамы и милостивые господа! Друзья! Коллеги!
В развитие вчерашней темы публикую по просьбе Марианны Алферовой еще один фрагмент — уже из сегодняшнего ее письма:
«Моя прежняя страница в контакте захвачена спамерами, связаться с Неизвестными отцами данного сайта мне не удалось. Посему прошу всех своих друзей уйти со старой страницы и перейти на новую по адресу http://vkontakte.ru/id95262....
Милые дамы и милостивые господа! Друзья! Коллеги!
В развитие вчерашней темы публикую по просьбе Марианны Алферовой еще один фрагмент — уже из сегодняшнего ее письма:
«Моя прежняя страница в контакте захвачена спамерами, связаться с Неизвестными отцами данного сайта мне не удалось. Посему прошу всех своих друзей уйти со старой страницы и перейти на новую по адресу http://vkontakte.ru/id95262....
Андрей Балабуха,
25-08-2010 12:13
(ссылка)
Вторая информация межсезонья
ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ
Милые дамы и милостивые господа! Друзья! Коллеги!
Вчера я получил от Марианны Алферовой (Роман Буревой тож) письмо, в котором, в частности, говорилось:
«Во-первых, у меня поменялся домашний телефон. Теперь номер — 657-10-05.
Во-вторых, кто-то взломал мою страницу "ВКонтакте" и от моего имени создает всякий хлам и рассылает спам. Не ведаю, когда я разберусь с ними, а доступа не имею, чтобы хотя бы сообщить, что страница мной не контролируется».
Довожу сие до всеобщего сведения, дабы в случае получения со страницы Марианны спама ни у кого не возникало претензий — исключительно сочувствие.
Искренне ваш
А.Д
Милые дамы и милостивые господа! Друзья! Коллеги!
Вчера я получил от Марианны Алферовой (Роман Буревой тож) письмо, в котором, в частности, говорилось:
«Во-первых, у меня поменялся домашний телефон. Теперь номер — 657-10-05.
Во-вторых, кто-то взломал мою страницу "ВКонтакте" и от моего имени создает всякий хлам и рассылает спам. Не ведаю, когда я разберусь с ними, а доступа не имею, чтобы хотя бы сообщить, что страница мной не контролируется».
Довожу сие до всеобщего сведения, дабы в случае получения со страницы Марианны спама ни у кого не возникало претензий — исключительно сочувствие.
Искренне ваш
А.Д
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу