Андрей Балабуха,
18-08-2010 17:28
(ссылка)
Фразы
* * *
Перед жуком, заползшим на макушку дуба, распахиваются бескрайние горизонты. А оно ему надо?
* * *
Регулярно сбывающаяся мечта превращается в кошмар.
* * *
Зверство почему-то свойственно исключительно человеку.
* * *
Стоит ли тщиться преумножать ноль?
* * *
В поисках Бога, как правило, теряют себя.
Перед жуком, заползшим на макушку дуба, распахиваются бескрайние горизонты. А оно ему надо?
* * *
Регулярно сбывающаяся мечта превращается в кошмар.
* * *
Зверство почему-то свойственно исключительно человеку.
* * *
Стоит ли тщиться преумножать ноль?
* * *
В поисках Бога, как правило, теряют себя.
Андрей Балабуха,
26-06-2010 00:31
(ссылка)
Байки от Балабухи
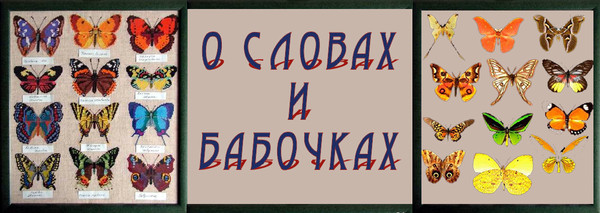
Рассказывают, что в конце 1944 года уже смертельно больной Алексей Толстой, лежа в Кремлевской больнице, пригласил к себе начинающего писателя, только что дебютировавшего сборником «рассказов о необыкновенном», озаглавленным «Встреча над Тускаророй» — Ивана Ефремова. И едва тот вошел в палату, первым делом спросил:
— Признавайтесь, как вы умудрились выработать такой отточенный холодный стиль?
Относиться к Толстому можно по-разному, но что-что, а в стиле толк он знал. И прекрасно понимал, что классическое: «Человек — это стиль» — справедливо и в зеркальном отражении. Потому-то, желая понять человека, он и начал со стиля.
А вот мне лет двадцать назад пришлось совершить обратную операцию — пробиться к пониманию стиля, внезапно ощутив человека.
Случилось это в Костроме, куда привел меня туристический вояж по Волге. В не слишком богатом тамошнем краеведческом музее не знаю с чего я вдруг остановился перед коллекцией бабочек, погребальными гирляндами пришпиленных к картону под стеклом. Вроде видел такие не раз, но тут в голове вдруг щелкнуло.
Я вспомнил Владимира Набокова. Но не то, что читал о нем (в то время биографических и критических публикаций было множество). Нет. Мне вдруг представилось, как сидит он, заядлый лепидоптеролог, открывший два десятка новых видов бабочек, за столом. Осторожно, чтобы не ссыпалась с крыльев пыльца и не повредить хрупкое тельце, берет пинцетом несчастное чешуекрылое, аккуратнейшим образом накалывает на булавку, пришпиливает к листу картона, а выстроив нужное число рядов, укладывает в коробку, закрывает стеклом, окантовывает…
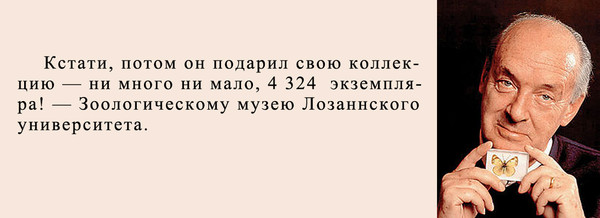
А потом увиделось другое. Сидит он, русско-американский писатель, за столом и с энтомологической страстью, будто бабочек, вылавливает сачком из воздуха слова, любуется каждым, а потом аккуратнейшим образом нанизывает на булавку и прикалывает к странице, выстраивая фразу за фразой, строку за строкой, абзац за абзацем. Они должны поражать красотой умерщвленной, застывшей навсегда — так мертвы камни пирамид и кирпичи зиккуратов.
В «Непобедимом» Станислав Лем ввел великолепное понятие — некроэволюция. А здесь, если хотите, некроэстетика, некрофилология, некростилистика, литературная таксидермия.
И я как-то разом осознал, почему не люблю коллекции бабочек и Зоологический музей вообще.
И еще — почему меня не тянет перечитывать Набокова.
Андрей Балабуха,
26-06-2010 01:51
(ссылка)
Ошибка
Обещал, что понарошку
Тещу выбросит в окошко,
Ну а кинул в самом деле...
...На поминках вкусно ели.
Тещу выбросит в окошко,
Ну а кинул в самом деле...
...На поминках вкусно ели.
Андрей Балабуха,
13-06-2010 14:55
(ссылка)
Написалось такое...
* * *
Зачем-то, куда-то,
По грани заката,
Шагаю последним лучом,
По самому краю,
Рисково играя,
И бездна обочь нипочем.
Не в латах железных
Иду по-над бездной —
Перо понадежней меча,
Откованы латы
Из слова-булата,
Рожденного в алых ночах.
Мне цели не надо —
Зачем Эльдорадо
Искать, вожделеньем горя?
Ну что мне до крови
И груды сокровищ
В далеких краях агарян?
Меж адом и раем
Я путь выбираю,
И этим безмерно богат —
Мне лишь бы дорогу
Подошвами трогать,
Шагая в последний закат.
Зачем-то, куда-то,
По грани заката,
Шагаю последним лучом,
По самому краю,
Рисково играя,
И бездна обочь нипочем.
Не в латах железных
Иду по-над бездной —
Перо понадежней меча,
Откованы латы
Из слова-булата,
Рожденного в алых ночах.
Мне цели не надо —
Зачем Эльдорадо
Искать, вожделеньем горя?
Ну что мне до крови
И груды сокровищ
В далеких краях агарян?
Меж адом и раем
Я путь выбираю,
И этим безмерно богат —
Мне лишь бы дорогу
Подошвами трогать,
Шагая в последний закат.
Андрей Балабуха,
20-06-2010 22:24
(ссылка)
Написалось такое...
МОНОЛОГ СЕРЖАНТА
62-й БРИТАНСКОЙ ДИВИЗИИ
Завыли сирены —
Вперед, джентльмены,
Покинув уютный окоп!
Вы что там, уснули?
Вам страшно под пули?
Не бойтесь, не каждая — в лоб!
Отвесим-ка бошам
Мы пендель хороший
Ботинком в трясущийся зад!
Покажем-ка, парни,
Им Чудо на Марне —
Пусть помнят британских солдат!
Бодрей, рядовые!
Ведь вам не впервые!
Без риска и жизнь — на шута?
А ежели даже
Здесь в землю поляжем —
За Англию, мать вашу так!
P.S. Понятия не имею, с чего вдруг это выплеснулось. Может, отдаленное эхо двухлетней возни со «Всемирной историей войн»?
62-й БРИТАНСКОЙ ДИВИЗИИ
Завыли сирены —
Вперед, джентльмены,
Покинув уютный окоп!
Вы что там, уснули?
Вам страшно под пули?
Не бойтесь, не каждая — в лоб!
Отвесим-ка бошам
Мы пендель хороший
Ботинком в трясущийся зад!
Покажем-ка, парни,
Им Чудо на Марне —
Пусть помнят британских солдат!
Бодрей, рядовые!
Ведь вам не впервые!
Без риска и жизнь — на шута?
А ежели даже
Здесь в землю поляжем —
За Англию, мать вашу так!
P.S. Понятия не имею, с чего вдруг это выплеснулось. Может, отдаленное эхо двухлетней возни со «Всемирной историей войн»?
Андрей Балабуха,
13-06-2010 12:10
(ссылка)
Байки от Балабухи
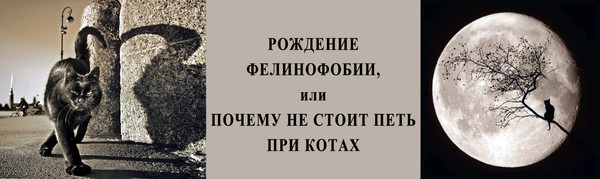
…И он к устам моим приник…
Александр ПУШКИН
Коты, как известно, поют. «Кошачий концерт» — словосочетание устойчивое. И мыслеобраз у всех вызывает один и тот же: весна, ошалелый утробный вопль с улицы, и острая тоска, что живешь не в деревне и со своего пятого-десятого этажа выплеснуть на этого солиста традиционное ведро воды ну никак не получится…
Но порой ситуация выворачивается наизнанку. И однажды такое произошло у меня на глазах.
История это давняя, тому уже лет сорок, не меньше. Однако иные из действующих лиц еще здравствуют, и посему — как говорится, во избежание — подлинные имена называть воздержусь. Кто-то пусть останется безымянным, для главных же действующих лиц псевдонимов да эпиклез вполне, на мой взгляд, хватит.
В те времена я водил дружбу не только с фантастами, но и с поэтами, причем с последними было даже проще: в кругу фантастов volens-nolens приходилось заявлять и отстаивать претензии на какое-то определенное место, тогда как поэты о моей причастности к своему цеху не подозревали, усматривая во мне лишь почитателя своих талантов и более или менее квалифицированного слушателя из сопредельной страны. Собирались то у одного, то у другого, до одури читали стихи — чаще всего с тем непременным поэтическим подвыванием, которое великолепно описал еще Марк Твен в «Приключениях Тома Сойера». Увы, с тех пор ничего не изменилось. По крайней мере, к лучшему. Ну а кроме стихов потребляли изрядные количества кофе, болгарского — самого дешевого — сухого вина и болгарских же (как правило, хотя извращенцы-«беломорщики» тоже встречались) сигарет.
В тот вечер мы стеклись в дом ко средних лет и таких же литературных достоинств поэту, которого я здесь назову Мореходом. Обитал он где-то (точно за давностию лет не упомню) на Гражданке, в трехкомнатной квартире, в обществе жены-шатенки, дочери-блондинки и жгуче-брюнетистого здоровущего кота по имени Серафим (в просторечии — Фима). Чтобы не запутывать вас обилием персонажей, замечу: дамы к нашей истории непричастны вовсе — их и дома-то не было.
Когда первый поэтический пыл мало-помалу выдохся, кофейная гуща в чашках обрела консистенцию глины, три недели ждущей дождя, а уровень сухого вина в организмах на метр превысил ординар, случилось неизбежное — инициативой завладела поэтесса бальзаковских лет, увлекавшаяся Серебряным веком и гордившаяся несомненным (в собственном представлении) сходством с Анной Ахматовой, вследствие чего доброжелатели почтительно именовали ее Ахматессой, а злобные критиканы (и преимущественно за глаза) — Ахматуткой. Признаться, стихи ее были не столь уж плохи — во всяком случае, не хуже иных прочих. Беда в другом: по городу Ахматесса перемещалась исключительно в обществе любимой гитары и творения свои не просто читала, но выводила речитативом под унылый перебор семи струн. Голос ее был могуч, как туманный тифон маяка, и неизбежен, как питерский дождь.
Это знали все.
Кроме Фимы, ибо в его владениях Ахматесса оказалась впервые.
Удовлетворившись подношением шпротов и колбасы, кот задремал на диване, изредка поглядывая в четверть глаза на неумолчных стихотворцев, но не проявляя ни малейшего интереса: не впервой, дело привычное. Однако уже первый из трех аккордов, которыми владела Ахматесса, заставил его не только открыть глаза, но даже сесть и навострить уши. Когда же заработал тифон…
Мореход уверял впоследствии, что Серафим всегда отличался благовоспитанностью. Может быть. Готов поверить. Свидетельствую: кот крепился изо всех сил и сколько мог. Но на третьей — примерно — минуте не выдержал. Задние лапы сами собой взметнули его, будто кузнечика, черное тело мелькнуло над головами и оказалось на столе, не зацепив притом ни единой рюмки или бутылки. Высший класс! Фима уселся, обернувшись хвостом, вытянулся в струнку и безотрывно уставился Ахматессе туда, откуда неслись поразившие котовье воображение звуки.
Польщенная вниманием, поэтесса взяла на два тона выше.
Кот сел на задние лапы, а передние подергивались и трепетали в воздухе — казалось, Фима вот-вот примется дирижировать.
Таких слушателей Ахматесса еще не видывала — и дала себе волю.
Кот — тоже.
Его правая передняя стремительно рванулась вперед, влетела в широко открытый рот исполнительницы и…
…и медленно двинулась обратно, вытягивая за собой Ахматессин язык, в который прочно впились все пять когтей.
Женский язык всегда вызывал у меня восхищение, но я даже не подозревал, что вытягиваться он способен не хуже, чем у жирафа и может становиться почти таким же лиловым.
Мореход ринулся вперед и ухватил кота за шкварник, но даже возносимый ввысь могучей хозяйской дланью, добычи тот не выпустил. Понадобилась помощь еще двоих — кто-то из поэтесс нежно придерживал Ахматессин язык, покуда наиболее решительный из поэтов осторожно извлекал из него когти. Кровь капала на белую скатерть, как болгарское красное вино.
Мореход уволок Серафима и запер в ванной — не первый в России случай, когда за отстаивание эстетических воззрений приходится расплачиваться тюремным заключением. Ахматесса говорить не могла и только шептала что-то невнятное, щедро дезинфицируя язык водкой. А я все пытался рассмотреть, превратился ли ее дивный орган в жало мудрыя змеи. Но нет — он остался все тем же празднословным и лукавым.
И что бы вы думали?
Героическая Серафимова атака произвела на Ахматессу не большее впечатление, чем то самое ведро воды на мартовского кота. Едва залечив раны, она продолжила свои концерты. И лишь всякий раз, направляясь к кому-нибудь в гости, интересовалась, есть ли в доме кот. А при утвердительном ответе тут же вспоминала про какие-нибудь неотложные дела…
Так что собратьев своих Серафим все-таки защитил. Честь ему и слава!
А до рода людского — что ему? Сами как-нибудь разберутся.
Андрей Балабуха,
12-06-2010 22:21
(ссылка)
Байки от Балабухи

Бывает, исполненный лучших чувств, делаешь нечто — и попадаешь впросак. И не бессмертное черномырдинское «хотели, как лучше, а получилось, как всегда» имею в виду. Совсем другое.
Но начну-ка я лучше с начала.
Я родился в том самом 1947 году, когда написанной в соавторстве с Г.Ясным повестью «Человек-ракета» дебютировал в литературе Георгий Гуревич. Так что рос неизменно с его книгами. Первые, разумеется, прочел уже задним числом, когда фантастикой увлекся, зато все следующие появлялись у меня на глазах и на полку попадали с пылу, с жару. А по возрасту Георгий Иосифович был точным (с расхождением в неделю) ровесником моего отца, так что и отношения впоследствии выстраивались соответственно.
Впрочем, сказать, что я на его книгах вырос — не совсем точно. Потому что был Гуревич сыном века и писал, чего ждал век. Поначалу, например, фантастику ближнего прицела, которая мне даже в детстве не больно-то нравилась.
Правда, впоследствии мне рассказали в издательстве забавную (только не для автора, разумеется!) историю, связанную с одной из первых гуревичевских книг. Роман как роман, новаторы спорят с консерваторами и борются с агентами империализма, а в эпилоге, когда всех перевоспитали и победили, герои, сомкнув ряды, дружно шагают по Красной площади, глядя как с трибуны Мавзолея ласково взирает на них вождь…
— Постойте, постойте, — взвился цензор. — А кто стоял на трибуне Мавзолея? Ну-ка!
Оп-па! Действие происходит хоть и в недалеком, но все-таки будущем. Сказать, что Отец всех народов — за насмешку примут, столько все-таки не живут… Сказать, что кто-то другой — тогда где же наш родной и любимый товарищ Сталин? и какая такая фря осмелилась занять его место? Словом, кругом шашнадцать!
И роман лег в стол. Где и пролежал до хрущевских времен, когда подобных вопросов уже не задавали. После чего благополучно вышел в свет, хотя фурора и не вызвал.
Зато в оттепельные годы Гуревич развернулся — и вот на этих его книгах я уже вполне себе рос, пусть даже не в такой мере, как на Ефремове и Стругацких.
Но это все была преамбула.
А теперь — к делу.
В том самом 1967 году, когда опубликовали мой «Аппендикс» и я впервые ощутил себя вроде как писателем, в шестом выпуске альманаха «НФ» издательства «Знание» появилась короткая повесть Георгия Гуревича «Крылья гарпии». Я ошалел: такого Гуревича я представить себе не мог. Фантастика — не фантастика, сказка — не сказка, фэнтези — не фэнтези, аллегория — не аллегория, притча — не притча… Всего понемногу. Но великолепно. Каюсь, с тех пор не перечитывал: боюсь — вдруг замечу нынешним въедливым глазом такое, отчего рухнет то восторженное чувство, которое до сих пор кроется в глубине сознания. Наверное, и не отважусь. Но вспоминать буду — непременно и часто.
Телефона в то время у нас не было (мой родитель встал на очередь в 1953-м, обрел же вожделенное благо цивилизации уже я в 1976-м — реальность того прошлого, по которому нынче столь многие сладко вздыхают). И посему, жертвуя оперативностью, пришлось прибегнуть к доброму старому эпистолярному общению.
Я отважился написать мэтру письмо. Оттого, может быть, что уже шесть лет варился с ленинградскими мэтрами в одном котле, и небожители успели обрести для меня человеческие черты. Естественно, копий своих писем, хоть и печатал их на машинке, я для истории не оставлял, и потому дословно привести сейчас текста не могу. Да и важен лишь смысл: я, повизгивая и виляя от восторга хвостом, рассыпался в комплиментах — как здорово, что человек, в свое время написавший «Рождение шестого океана», смог сотворить такое чудо, что в нынешнее время он показывает, как надо через ступеньку шагать вверх, что он… И так не меньше машинописной страницы.
Ответ пришел недели через две (это вам не царская почта, когда моя бабушка с поездом отправляла своему молодому человеку письмо в Москву, а назавтра на Николаевском же вокзале получала его ответное послание, и не нынешняя электронная). Был он коротким, неожиданным и горестным. Письма этого, опять же, я не сохранил, но суть сводилась к следующему: «Андрей, это не я догоняю время, это оно догнало меня. „Крылья гарпии“ — из раннего, очень раннего, оно тогда никому не было нужно…»
Я крехнул — надо же так облажаться и наступить человеку на больную мозоль! Слава Богу, отношений с Георгием Иосифовичем это мне не испортило.
И все-таки я оказался прав. Все следующие книги доказывали, что Гуревич — писатель, от времени отставать неспособный. И каждая следующая оказывалась ступенькой, ведущей куда угодно, только не вниз…

Примечание: частично и эта байка войдет во второй том «Многоточия сборки» Юлии Андреевой, за что я ей, как уже говорил, искренне признателен. К тому же читатель ничем не рискует: даже опираясь на один и тот же сюжет, мы с ней получаем совсем разные рассказы…
Андрей Балабуха,
29-05-2010 20:47
(ссылка)
Байки от Балабухи
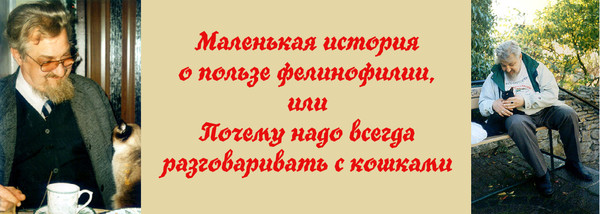
Ну а пока что идите и гладьте —
Гладьте сухих и черных кошек.
Владимир МАЯКОВСКИЙ
Толковать с кошками я любил всегда, с детства и по сей день. Вот, например, наверху слева мы обсуждаем детали меню с очаровательной сиамской петербурженкой Басей, а справа меня посвящает в подробности шведской любви знойная уроженка Готланда, при всей разговорчивости посчитавшая за благо не представляться… Однако до двадцати с лишком лет я полагал подобные беседы лишь не лишенным приятности времяпрепровождением. И только в 1967 году понял… Но — не стоит забегать вперед.
Стоял солнечный, теплый, почти жаркий день — такие редко, но выдаются все-таки в Петербурге в конце октября. Я только что освободился из рядов Советской армии, пусть даже наградившей меня инвалидностью, но об этом как-то не думалось, еще не устроился на работу, еще не женился, а потому гулял по городу — свободный, радостный и неизменно (после армейских харчей) голодный.
И вот, шагая по Садовой, вдруг вспомнил, что неподалеку от Никольских рядов есть некая затрапезная на вид, но известная знатокам весьма неплохой кухней шашлычно-чебуречная с достаточно гуманными ценами. И хотя идти оставалось еще два квартала, подсознание, воображение и желудок совместными усилиями заставили меня ощутить восхитительный аромат скворчащего во фритюре чебурека. Я прибавил шагу.
Но тут увидел в окне первого этажа гордо возлежащую на форточке кошку. Заурядной, полосатой — египетской — масти, но царственно изящную и спокойную. Я замер на полушаге.
— Кис!
Никакого ответа.
— Кис-кис!
Ни шерстинка на ухе не дрогнула.
— Да ты же красавица, в такую с первого взгляда влюбиться можно…
Кошка чуть скосила на меня янтарные очи и грациозно свесила лапку. Похоже, для поцелуя. Однако воспользоваться дозволением я не успел.
В полутора десятках шагов впереди, как раз там, где оказался бы я, не остановись для вышеописанного разговора, раздался звонкий взрыв, по асфальту и стене дома хлестнули осколки — один долетел почти до меня. Стеклянный. Кто-то закричал.
Кошка растворилась в комнате — беззвучно, но быстрее звука. Я же ошалело уставился сперва вперед, на тротуар (но никаких жертв не усмотрел), а потом медленно стал карабкаться взглядом по стене, пока на четвертом этаже не встретился глазами с не менее обалделым мужиком, наполовину высунувшимся из окна. В нем явно боролись два чувства — неизъяснимое облегчение, что никого не угробил, и мучительная скорбь по стеклу, которое он собирался вставить в раму. Разрешилось это душевное единоборство потоком такого мата, что даже я, человек по этой части высокообразованный (о чем как-нибудь расскажу отдельно — тоже забавная история), заслушался. И не только я — кошка вернулась на форточку и тоже с нескрываемым любопытством впивала каждый звук.
Впрочем, вслушивался я недолго.
Ибо в этот самый миг на меня снизошло прозрение. Нет, не после трех своих крещений, о которых я уже рассказывал, а вот здесь и сейчас я обрел веру. Постиг, что нахожусь под защитой великой кошачьей богини Баст. Ведь не остановись я, чтобы выразить восхищение этому ее воплощению, и… Расчет расстояния и времени не оставлял сомнениям места.
Увы, разжиться подлинной статуэткой Баст я не в силах — ни тогда, ни сейчас. Но два месяца спустя, отправившись в свадебное путешествие в Таллинн, купил там в сувенирной лавочке маленькую кошачью фигурку, вырезанную из дерева. Потом — другую. Третью. Привозил их из каждой поездки. Потом друзья и знакомые тоже стали привозить мне: как же не поддержать коллекционера…
Да, коллекция есть — вот она, ниже.

Но это и еще алтарь, перед которым я служу Великой богине Баст в надежде, что много-много современных изображений авось да сравнятся по силе с одним древним.
И, конечно, увидев на улице кошку, непременно заговариваю с ней. На всякий случай.
И вам советую.
P.S. ...А чебуреки оказались хороши — как я и ожидал.
Андрей Балабуха,
12-06-2010 19:46
(ссылка)
Байки от Балабухи

Безусловным старейшиной ленинградских фантастов был в конце пятидесятых и в шестидесятых годах Георгий Сергеевич Мартынов. (Кстати, эта фамилия — искаженное Мартенс, из шведов.) Никаких формальных постов не занимал — да при своей глухоте, до чрезвычайности осложнявшей всякое общение, кроме эпистолярного, и не мог, наверное. Председателем клуба фантастов, что собирался с 1961 года в гостиной «Звезды», был Илья Иосифович Варшавский. Организатором и первым председателем комиссии по научно-популярной и научно-фантастической литературе Ленинградского отделения Союза писателей (из нее и выросла наша секция) стал Геннадий Самойлович Гор. Мартынов же на любых встречах если и появлялся, то исключительно редко. Кстати, не могу сказать, чтобы его любили — резок был и в выражениях не всегда стеснялся. Однако уважали.
Во-первых, потому что первым — со времен Александра Беляева — стал в наших палестинах заниматься фантастикой: «220 дней на звездолете», «Сестра Земли», дилогия «Каллисто» и «Каллистяне»… Все это я еще совсем мальчишкой читал. И слушал — любило в те поры Ленинградское радио постановки по книгам популярных авторов. А во-вторых, просто человек был такой. Катализатор, сам в реакции не участвующий, но… Или, если угодно, ядро кристаллизации. Или — та песчинка, на которой жемчужина нарастает. Впрочем, тут метафора меня подвела: на песчинку Георгий Сергеевич походил мало, скорее уж на громадный моренный валун, какие нередки у на Карельском перешейке; из одного такого основание для Медного всадника высечено. Вот основательным Георгий Сергеевич был. И основанием нашего сообщества — тоже. Хотя к Союзу писателей относился более чем скептически. Но об этом — ниже.
А пока — о начале его сочинительской карьеры. Начале в равной мере успешном — и трагичном.
В начале пятидесятых инженер завода «Красный треугольник» Мартынов, еще едва начав помышлять о литературной стезе, затеял писать роман. И сразу — с размахом. Будущее, отнесенное на тысячелетие вперед, масштабная панорама прекрасного утопического мира… Ничего не напоминает?
Написав несколько глав, Мартынов отправился «Детгиз» — а куда же еще? фантастику тогда держали у нас почти исключительно по ведомству детской литературы.
(Впрочем, отзвуки этого слышатся порою и сейчас. Несколько лет назад моей ученице и члену нашей секции Елене Ворон отказали в приеме в Союз писателей Санкт-Петербурга. Мотивировка? Когда очередь дошла до почтенного поэта Александра Кушнера, тот заявил:
— Неинтересно!
— Как неинтересно? — опешил наш тогдашний представитель секции в Приемной комиссии Вячеслав Рыбаков.
— Ну, я сам не читал, но дал внуку. Ему не понравилось. Скучно.
— Так это же не детская фантастика!
— Не детской фантастики не бывает, — весомо подытожил поэт.
И покатились черные шары…
Но, простите, отвлекся.)
Так вот, в «Детгизе», в Доме детской книги (имелось такое «творческое подразделение»), сидела, занимаясь в числе прочих многотрудных обязанностей так называемым «самотеком», не менее почтенная редактриса Ольга Федоровна Хузе, памятная многим из старшего поколения. Она честно почитала.
— Что вы, молодой человек! — писатели, не имеющие книг, были для нее молодыми независимо от возраста. — Это же бесперспективно. Кому интересно заглядывать в этакие дали? Надо ближе к реальности, к планам партии… Да вот вы хоть Жюля Верна почитайте. И пишите в том же духе. Только непременно что-нибудь про космос, им сейчас все интересуются…
И Георгий Сергеевич забрал рукопись. Отложив в сторону незаконченный «бесперспективный» роман, сел и написал «220 дней на звездолете». Нормально написал — среднюю по тем временам, даже, пожалуй, хорошую на общем фоне повесть. Впоследствии, кстати, она превратилась в трилогию «Звезоплаватели»…
В 1955 году «Детгиз» ее выпустил в свет — причем в знаменитой «рамочке».
А двумя годами позже в «Технике-молодежи» начала публиковаться фельетонами, из номера в номер, ефремовская «Туманность Андромеды». Журналы в библиотеках с бою и в очередь брали, мне на одну ночь доставался — в десять вечера берешь, в девять утра приносишь… Тут же и отдельное издание подоспело. На моей памяти это был второй случай, когда в трамвае люди спрашивали друг у друга: «А вы читали?..» — и не требовалось уточнять, что именно. (Первый раз так было с «Не хлебом единым» Дудинцева.)
«Туманность» — тоже коммунистическая утопия, как и у Мартынова, только более социологизированная, там не столько люди и характеры, сколько человечество и концепции. А у Георгия Сергеевича больше было личного, психологического, человечного.
Но как бы то ни было, а в итоге — спасибо Хузе! — критики вполне справедливо сошлись во мнении, что современная советская фантастика начинается именно с «Туманности Андромеды» Ефремова. А могла бы — с Мартынова. Что Георгий Сергеевич прекрасно понимал.
Впрочем, его роман — под названием «Гость из бездны» — в конце концов явился граду и миру, хотя не молитвами «Детгиза», а радением Лениздата и пятью годами позже «Туманности…».
Конечно, за Иваном Антоновичем уже стояли тогда солидное литературное имя, его сборники «Рассказов о необыкновенном», его «Великая Дуга»… Издать новаторскую вещь маститому московскому мэтру было куда легче, нежели начинающему ленинградскому автору. Так что и безо всякого вмешательства Ольги Федоровны Хузе Ефремов, скорее всего, оказался бы первым. Но что тут скажешь? Судьба. И совесть осталась чиста: я сделал, но меня опередили. А вышло — не сделал, послушался совета, отложил…
И это не отболело у Георгия Сергеевича до последнего дня. Хотя зла на Ольгу Федоровну, надо отдать ему должное, не держал: что с нее возьмешь?..
Как не держал зла и на наше государство — как известно, самое заботливое к людям и самое передовое в мире.
Глухота проявилась у него еще в юности, но неуклонно прогрессировала, и медицина тут была бессильна. Охотно верю, что не только советская. Диагноза я не знаю. И не уверен, что сам Георгий Сергеевич знал, говорили только, что заболевание редкое. Я даже поинтересовался как-то у главного светила по этой части, нашего коллеги Сергея Валентиновича Рязанцева, но тот честно признался: задним числом, когда Мартынова давно в живых нет, ничего сказать с уверенностью нельзя… Да и Бог с ним. Главное, ничто не помогало: ему пробовали подбирать слуховые аппараты — что мертвому припарки. И он уже смирился.
Но тут оказался в какой-то писательской группе, не то в командировку, не то по культурному обмену, не то туристами — не знаю уж — отправившейся в Венгрию. И там, в Будапеште, коллеги-фантасты отвели его за ручку к врачу, который подумал-подумал, и аппарат подобрал. Не венгерский — какой-то западный. Без особых надежд Георгий Сергеевич его примерил — и обрел слух. Как в детстве.
Увы, оказалось, что если даже все участники делегации, исполнясь глубокого альтруизма, отдадут свои легальные и нелегальные валютные ресурсы, то и на дужку от аппарата вряд ли хватит.
Георгий Сергеевич вздохнул — и снял чудо техники.
За последние полвека жизни он нормально слышал пять минут. И четверть века писал светлые, добрые книги.
Иногда глухота играла с Мартыновым злые, хотя и забавные, шутки. И, чтобы не заканчивать на трагической ноте, об одной из таких расскажу.
В 1964 году по случаю выхода в свет лениздатовского сборника «В мире фантастики и приключений» в Выборгском дворце культуры состоялась, как сегодня сказали бы, презентация, а тогда говорили — встреча с читателями. Собрались все: составители — критики Владимир Иванович Дмитревский и Евгений Павлович Брандис; известные авторы — Гор, Варшавский, Шалимов; дебютанты — Ольга Ларионова и Виктор Невинский; переводчик Лема Дмитрий Брускин (в сборнике мы впервые прочитали «Непобедимого»); вовсе не авторы, вроде Мартынова, вашего покорного слуги или заезжего московского гостя Романа Подольного… И был полный зал. Сейчас представить себе такое непросто.
Ну а после решили, как водится, отметить. И отправились в ресторан Финляндского вокзала.
Там-то и случился казус.
За столом ошую Мартынова оказались Ольга Ларионова, уже весьма авторитетная в писательском кругу благодаря рукописи «Леопарда с вершины Килиманджаро», и аз грешный, пока еще не дефлорированный. И вот через полчасика, когда первоначальный общий разговор естественным образом распался на группки, Мартынов, обращаясь к нам, молодым, тихонечко произнес… Вернее, это ему казалось, что тихонько: из-за глухоты Мартынов не только нуждался в том, чтобы с ним разговаривали очень громко, но и сам отучился смирять голос.
— Оля… и вы, Андрей… вот вы — молодые. Вы пишите. Вы много пишите. Вы хорошо пишите. Но никогда не вступайте в Союз писателей! Я говорю по собственному опыту: я вступил. Я думал, что попаду в дружную, братскую семью… А попал… Я не хочу называть имен, — взгляд Георгия Сергеевича обежал собравшихся, пару раз на мгновение выразительно задерживаясь, — но какие… леди! *
И надо же так случиться, что именно в этот момент бубнящий застольный говорок по какой-то причине стих, и слова эти упали в тишину.
Та заледенела и смерзлось навечно.
Все сидели, не поднимая глаз. И только Мартынов не понимал, что произошло: он ведь на по сути на ушко шепнул!
Нашелся, как всегда, Илья Варшавский — наш славный Дед. Отработанным многолетней практикой плавным движением он неторопливо наполнил рюмку слезой из графинчика, подлил соседям и с ясной улыбкой предложил:
— Ну что… леди, выпьем?
Расхохотались и выпили. И неловкости как не бывало. И вспоминали потом шутя.
А в общем-то про тогдашний Союз писателей — в отличие, к счастью, от нынешнего — Мартынов был во многом прав…
Но это уже совсем другая история.

* Вариант для дам (и модераторов). Если, даст Бог, состоится книжное издание, клятвенно обязуюсь: никаких эвфемизмов, ибо только ненормативная лексика и могла по контрасту с окружающим произвести столь неизгладимое впечатление.
Примечание: частично эта байка войдет во второй том «Многоточия сборки» Юлии Андреевой, за что я ей искренне признателен.
Андрей Балабуха,
02-06-2010 22:19
(ссылка)
Последняя информация сезона
Уточню: информация-то, может, и не последняя, но сезон завершился, и любая следующая — до октября — будет относиться уже к межсезонью.
Итак, во-первых, Союз писателей Санкт-Петербурга, в рядах которого я имею удовольствие состоять, вошел в число соучредителей Совета по фантастической и приключенческой литературе. Для тех, кто не в курсе: соучредителями этой организации являются Союз писателей России, Союз писателей Крыма, Союз писателей Израиля, Союз писателей Москвы, Союз писателей Приднестровья и другие, причем список открыт.
С председателем Совета, Виталием Пищенко, мы договорились, что (поскольку в составе Совета уже существует секция научно-популярной литературы) в название организации в дальнейшем войдет и этот жанр, то есть он станет Советом по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе. Резон в этом большой, поскольку только среди петербургских членов Совета, например, и Святослав Логинов, и Антон Первушин, и ваш покорный слуга, и многие другие подвизаются также и в области, как теперь модно говорить, non-fiction.
И, наконец, в связи со всем вышеизложенным, с прошлого месяца я стал одним из сопредседателей Совета.
Во-вторых, я получил членский билет Союза писателей России. Не из коллекционерской страсти, а потому, что в нашу секцию, формально являющуюся творческим подразделением Союза писателей Санкт-Петербурга, уже несколько лет входят члены других творческих союзов, в том числе — и Союза писателей России: Мария Амфилохиева, Татьяна Томах, Александр Прозоров, etc... Так что мое членство и там, и там — на пользу дела.
Итак, во-первых, Союз писателей Санкт-Петербурга, в рядах которого я имею удовольствие состоять, вошел в число соучредителей Совета по фантастической и приключенческой литературе. Для тех, кто не в курсе: соучредителями этой организации являются Союз писателей России, Союз писателей Крыма, Союз писателей Израиля, Союз писателей Москвы, Союз писателей Приднестровья и другие, причем список открыт.
С председателем Совета, Виталием Пищенко, мы договорились, что (поскольку в составе Совета уже существует секция научно-популярной литературы) в название организации в дальнейшем войдет и этот жанр, то есть он станет Советом по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе. Резон в этом большой, поскольку только среди петербургских членов Совета, например, и Святослав Логинов, и Антон Первушин, и ваш покорный слуга, и многие другие подвизаются также и в области, как теперь модно говорить, non-fiction.
И, наконец, в связи со всем вышеизложенным, с прошлого месяца я стал одним из сопредседателей Совета.
Во-вторых, я получил членский билет Союза писателей России. Не из коллекционерской страсти, а потому, что в нашу секцию, формально являющуюся творческим подразделением Союза писателей Санкт-Петербурга, уже несколько лет входят члены других творческих союзов, в том числе — и Союза писателей России: Мария Амфилохиева, Татьяна Томах, Александр Прозоров, etc... Так что мое членство и там, и там — на пользу дела.
Андрей Балабуха,
08-06-2010 01:32
(ссылка)
Байки от Балабухи
ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
или
О ВЕЛИКОЙ ПОЛЬЗЕ ТРАДИЦИЙ
или
О ВЕЛИКОЙ ПОЛЬЗЕ ТРАДИЦИЙ
Сорок с хвостиком лет назад, в 1969 году, приключилась со мною некая оказия.
В те времена, будучи уже автором трех-четырех опубликованных рассказов, я, каюсь, помышлял о профессиональной литературной работе, но сие великое счастье представлялось пока далеким и светлым будущим. Как коммунизм. (К этому слову я, кстати, еще вернусь.) НФ тогда уже крепко прижимали, и печатались мы, молодые, в год по чайной ложке — сейчас себе такого и вообразить-то невозможно. Помню, я расчертил на службе лист ватмана, по оси абсцисс проставил названия всех своих рассказов, оставив, разумеется, изрядное место «на вырост», а по оси ординат разместил все известные мне по каталогу «Союзпечати» журналы, где печатали — или, казалось мне, могли бы напечатать — фантастику. И рассылал — каждый рассказ в каждую редакцию. В среднем, проходило с десятой-двенадцатой попытки.
Тогда мой старший коллега, а в некотором смысле и учитель Евгений Павлович Брандис и присоветовал заняться еще и критикой. За что я ему по сей день благодарен. Поначалу, конечно, писал исключительно ради рубля, который оказался, правда, на редкость коротким, а потом стало интересно. Интересно и поныне. Ну а тогда я хватался за всякую возможность. И как-то раз написал рецензию на только что вышедший на экраны фильм «Красная палатка», посвященный истории спасения экспедиции Умберто Нобиле к Северному полюсу на дирижабле «Италия» (тема эта была мне чрезвычайно интересна). Хороший, кстати был советско-итальянский фильм — первый в истории нашего кинематографа, финансировавшийся западной стороной, а к его сценарию приложил руку Юрий Нагибин… Впрочем, не о том сейчас речь.
Рецензию эту у меня с удовольствием напечатали в кингисеппской районной газете «За коммунизм» (вот к слову и вернулся!). И даже прислали гонорар. Любуйтесь:

Сумма, надо сказать, символическая. Старшему-то поколению, моим сверстникам, разъяснять не надо. Но для остальных скажу: рубль сорок девять — это цена «маленькой», «четвертинки» элитарной «Столичной». «Московская» — для тех, кто попроще — стоила на шесть копеек дешевле.

Я был оскорблен в лучших чувствах — пятнадцати копеек на плавленый сырок и то пожалели, сволочи!
А надо сказать, что каждый гонорар традиция предписывала непременно обмывать. На сей счет меня просветил добрый приятель и редактор из столичной газеты «Социалистическая индустрия» (представьте, и в этом органе ЦК КПСС иногда фантастику печатали!) Дмитрий Афанасьевич Нагаев.
— Традиция такая: хоть скромненько, но непременно, — поучал он. — Никогда не жмоться — удачи не будет! Лучше втрое пропей, не пожалеешь!
Зная некоторые Димины слабости, я относился к его наставлениям скептически. Когда мог, правда, следовал, потому как оно приятно, особливо в хорошей компании (а компания у нас тогда была отменная), однако — трижды крещеный атеист — в приметы не верил.
И на этот раз обмывать отказался категорически. Даже кружкой пива. Дали на «маленькую», как дворнику, и ждут, что радоваться буду?
Но зря, зря я Диму не послушался!
Что вы думаете? — Год не печатали. День в день.
Мистика? Причуды вероятностей? Бог весть. Но пришлось проникнуться сознанием, что традиции и суеверия — не одно и то же. Бойся там черных кошек или нет, а традиции чтить надо.
И сегодня, получив гонорар, я традицию соблюл, отправившись вот сюда:

Андрей Балабуха,
04-06-2010 13:10
(ссылка)
Первая информация межсезонья
Собственно, это информация от Антона Первушина. Ему и слово: «Вчера стартовал проект „Марс-500". Он и сам по себе интересен, но теперь в его „раскрутку" включился „Google". И возникла идея написать научно-фантастический роман „Дорога к Марсу", в котором наглядно и в остросюжетной форме были бы представлены этапы марсианской экспедиции».
В состав авторского коллектива «Дороги к Марсу» в алфавитном порядке вошли: П.Амнуэль, Я.Веров, Е.Гаркушев, А.Громов, А.Зорич, А.Первушин, А.Калугин, Д.Колодан, С.Лукьяненко, И.Минаков, Н.Романов и С.Слюсаренко. Первый фрагмент романа будет опубликован 15 июня — его автором будет А.Первушин.
И вновь слово ему: «Что я могу сказать? Очень горд и польщен, что меня пригласили в этот проект. И хороший экипаж подобрался. Попытаюсь соответствовать. Кстати, если мы продержимся весь срок, то сможем смело претендовать на запись в „Книге рекордов Гиннеса" — это будет самый продолжительный роман-буриме в истории литературы».
Подробности — по адресу: http://apervushin.livejourn...
В состав авторского коллектива «Дороги к Марсу» в алфавитном порядке вошли: П.Амнуэль, Я.Веров, Е.Гаркушев, А.Громов, А.Зорич, А.Первушин, А.Калугин, Д.Колодан, С.Лукьяненко, И.Минаков, Н.Романов и С.Слюсаренко. Первый фрагмент романа будет опубликован 15 июня — его автором будет А.Первушин.
И вновь слово ему: «Что я могу сказать? Очень горд и польщен, что меня пригласили в этот проект. И хороший экипаж подобрался. Попытаюсь соответствовать. Кстати, если мы продержимся весь срок, то сможем смело претендовать на запись в „Книге рекордов Гиннеса" — это будет самый продолжительный роман-буриме в истории литературы».
Подробности — по адресу: http://apervushin.livejourn...
Андрей Балабуха,
14-05-2010 14:04
(ссылка)
Муравейник в «Жуке»
Вчера, 13 мая, в 19-30, в помещении магазина-клуба «Жук», что на Гороховой, д. 33, состоялась презентация поэтической антологии «Мистическая механика» — третьей в рожденной радением Сергея Неграша серии подобных «Механик» (он клянется, что во благовремении будут еще и четвертая, и пятая… Я ему верю).
Собрались составители антологии, авторы, критики, журналисты, писатели (в иных случаях все это объединялось в одном лице). Почитали стихи, поговорили, причем как в формальной, так и в неформальной обстановке. И, главное, с удовольствием.
А вот покидали гостеприимный «Жук» с явным сожалением…

Собрались составители антологии, авторы, критики, журналисты, писатели (в иных случаях все это объединялось в одном лице). Почитали стихи, поговорили, причем как в формальной, так и в неформальной обстановке. И, главное, с удовольствием.
А вот покидали гостеприимный «Жук» с явным сожалением…

Андрей Балабуха,
27-05-2010 17:53
(ссылка)
Студийная хроника
Вчера, 26 мая, состоялось последнее в сезоне 2009/2010 годов заседание Литературной студии Андрея Балабухи и Леонида Смирнова, собравшее на сей раз восемнадцать человек и посвященное обсуждению романа Игоря Абакумова «Модератор реальности». Вот как это выглядело:

Прежде всего замечу, что название не родное, а (как водится, увы, в наше время!) навязанное издательством (в данном случае, это «Крылов»). Игорь Абакумов нарек свое детище «Дойдем до неба», что, на мой взгляд, куда удачнее.
Во-вторых, скажу, что до сих пор мы не практиковали (и впредь особо не собираемся) обсуждать уже изданные произведения. Но Игорь выставил на общий суд свою рукопись давно, когда выход книги в свет представлялся туманным, хотя и светлым будущим, и не его вина, что дело так затянулось. Так что исключение из правила вполне оправдано и может даже послужить прецедентом.
Добавлю, что для первой книги автора блин вышел отнюдь не комом, хотя обсуждение получилось горячим: спорили, превозносили достоинства и обрушивались на недостатки. Последнее, впрочем, Абакумову только на пользу — не для этой, уже вышедшей, книги, а на будущее, впрок. Что существенно — на личности не переходили (такое ведь тоже случается, хоть и стараюсь пресекать...) и споры вели если и не в сугубо академической манере, то вполне доброжелательно и в парламентских выражениях (и не говорите, что парламенты бывают разными — телевизор тоже смотрю).
Ну а потом был прощальный фуршет.
Всё, коллеги, до октября!

Прежде всего замечу, что название не родное, а (как водится, увы, в наше время!) навязанное издательством (в данном случае, это «Крылов»). Игорь Абакумов нарек свое детище «Дойдем до неба», что, на мой взгляд, куда удачнее.
Во-вторых, скажу, что до сих пор мы не практиковали (и впредь особо не собираемся) обсуждать уже изданные произведения. Но Игорь выставил на общий суд свою рукопись давно, когда выход книги в свет представлялся туманным, хотя и светлым будущим, и не его вина, что дело так затянулось. Так что исключение из правила вполне оправдано и может даже послужить прецедентом.
Добавлю, что для первой книги автора блин вышел отнюдь не комом, хотя обсуждение получилось горячим: спорили, превозносили достоинства и обрушивались на недостатки. Последнее, впрочем, Абакумову только на пользу — не для этой, уже вышедшей, книги, а на будущее, впрок. Что существенно — на личности не переходили (такое ведь тоже случается, хоть и стараюсь пресекать...) и споры вели если и не в сугубо академической манере, то вполне доброжелательно и в парламентских выражениях (и не говорите, что парламенты бывают разными — телевизор тоже смотрю).
Ну а потом был прощальный фуршет.
Всё, коллеги, до октября!
Андрей Балабуха,
02-06-2010 19:37
(ссылка)
Хроника секции

«Пятиминутка хвастовства» на этот раз в отведенные рубрикой рамки не уложилась. Итак, по порядку:



 Засим перешли к той главной части, ради которой, собственно, и собрались — в повестке дня она была сформулирована так: «Вечер из цикла „Представление“. Выступают Игорь Абакумов, Мария Амфилохиева, Павел Марушкин и Леонид Смирнов-второй». Но тут нужен коротенький комментарий. Представление — потому что все четверо, давние уже члены актива секции и участники нашей с Леонидом Смирновым Студии, на секции до сих пор не выступали ни разу. А Смирнов-второй — потому что один Леонид Смирнов, который вышеупомянутый Эллиевич, у нас уже есть; вот и пришлось вспомнить старую флотскую традицию... И последнее: по независящим от него причинам Игорь Абакумов придти не смог, так что из четырех обещанных выступали трое.
Засим перешли к той главной части, ради которой, собственно, и собрались — в повестке дня она была сформулирована так: «Вечер из цикла „Представление“. Выступают Игорь Абакумов, Мария Амфилохиева, Павел Марушкин и Леонид Смирнов-второй». Но тут нужен коротенький комментарий. Представление — потому что все четверо, давние уже члены актива секции и участники нашей с Леонидом Смирновым Студии, на секции до сих пор не выступали ни разу. А Смирнов-второй — потому что один Леонид Смирнов, который вышеупомянутый Эллиевич, у нас уже есть; вот и пришлось вспомнить старую флотскую традицию... И последнее: по независящим от него причинам Игорь Абакумов придти не смог, так что из четырех обещанных выступали трое.Вот они, герои вечера:
Завершился вечер — куда же без того, да еще перед расставанием! — традиционным фуршетом, но это уже, как говорится, не для протокола.
И, коллеги, до октября! Ближайшие четыре месяца нам остается вкушать лишь радости частного общения. Так разве оно плохо?
Андрей Балабуха,
28-05-2010 23:25
(ссылка)
Печальная презентация
Она состоялась сегодня, 28 мая, в 17-00 в конференц-зале, который любезно предоставил организаторам «Коринтия. Невский палас-отель Санкт-Петербург» (это на Невском пр., д. 53, точно напротив входа в поликлинику творческих работников, если вы оной пользуетесь).
А теперь в нескольких словах предыстория. В марте скоропостижно скончался от сердечного приступа член нашей секции Игорь Алексеевич Богданов, автор трех десятков самых разных по темам научно-художественных, научно-популярных и документальных книг — от прекрасной биографической «Шлиман в Петербурге» до «Истории табакокурения в России». В это время издательство «Кентавр» как раз готовило к выпуску книгу, которую сам Игорь уже отчаялся было увидеть изданной: все отказывались по причине некоммерческого характера. Кроме «Кентавра». Больше того, работа не остановилась после смерти автора, но ускорилась. И книга вышла в свет точно на сороковой день. Не знаю, как вы, но я перед такими людьми преклоняюсь.

Издана книга превосходно во всех отношениях — от подбора иллюстративного материала, до макетирования и полиграфического исполнения.
Вот ее-то и представляли собравшимся. Собственно, получилась даже не совсем презентация, а некий ее гибрид с конференцией на тему блокады — потому и заняло все действо почти четыре часа. Но не в упрек говорю — скорее, наоборот. И публика в зале отнюдь не скучала. Кстати, вот она (вернее, малая ее часть, что в объектив влезло):

Сейчас книга передо мной, на столе. Вот выложу — и примусь читать. Заранее зная, что пишет Игорь Богданов хорошо.
А теперь в нескольких словах предыстория. В марте скоропостижно скончался от сердечного приступа член нашей секции Игорь Алексеевич Богданов, автор трех десятков самых разных по темам научно-художественных, научно-популярных и документальных книг — от прекрасной биографической «Шлиман в Петербурге» до «Истории табакокурения в России». В это время издательство «Кентавр» как раз готовило к выпуску книгу, которую сам Игорь уже отчаялся было увидеть изданной: все отказывались по причине некоммерческого характера. Кроме «Кентавра». Больше того, работа не остановилась после смерти автора, но ускорилась. И книга вышла в свет точно на сороковой день. Не знаю, как вы, но я перед такими людьми преклоняюсь.

Издана книга превосходно во всех отношениях — от подбора иллюстративного материала, до макетирования и полиграфического исполнения.
Вот ее-то и представляли собравшимся. Собственно, получилась даже не совсем презентация, а некий ее гибрид с конференцией на тему блокады — потому и заняло все действо почти четыре часа. Но не в упрек говорю — скорее, наоборот. И публика в зале отнюдь не скучала. Кстати, вот она (вернее, малая ее часть, что в объектив влезло):

Сейчас книга передо мной, на столе. Вот выложу — и примусь читать. Заранее зная, что пишет Игорь Богданов хорошо.
Андрей Балабуха,
26-05-2010 15:17
(ссылка)
Первая публикация из «Прозоровой книги»

От переводчика. Хроника, переводу которой посвятил я долгие годы одиноких трудов, временами скрашиваемых неоценимым участием и чутким руководством моего родителя, написана в незапамятные времена. В полном смысле слова, ибо помнить было еще некому. Но именно тогда появился на свет великий бессловенский мыслитель и летописец Прозор. Подлинное имя его покрыто, увы, мраком тайны, ибо прозван так он был потомками — за несусветную прозорливость.
Текст записан невидимыми чернилами (впоследствии на иноязыкий лад их назовут симпатическими) на тонко выделанной змиевой шкуре и содержит пять тысяч семьсот сорок одну страницу, испесчренную бисерным почерком. Использованный автором алфавит сегодня также неизвестен, хотя и включает знаки едва ли не всех существующих ныне, не говоря уже о великом множестве мертвых языков.
Но — к делу. Вот первый фрагмент.
«…и было сие во многие лета, когда доблестные бессловенские [вот оно, подтверждение седой древности документа — автор подчеркивает, что и слов тогда еще не было! — Б.Б.] вритязи не на живот, а на смерть сражались с ужасными змиями. Но куда там голоногим змиям до в стальную бронь с ног до головы закованных конных воев, которых за неимением своего подходящего наречения на грецкий лад катафрактариями прозвали. Посему хоть и было тех змиев видимо-невидимо, но извели поганых змиеборцы великие наши, под самый корень, и яйца их потоптали, и детенышей зажарили, а после съели, дабы перешла в них необоримая сила побежденных…»
Комментарий: как нетрудно догадаться, здесь «Прозорова книга» объясняет мучающую современных палеонтологов тайну исчезновения динозавров. Некоторых из числа этих древних ящеров удалось даже идентифицировать. Так, Змей Горныныч — несомненно являет собою тварь, на латинский манер именуемую ныне Tyrannosaurus rex, а летучий Тугарин-змей — конечно же, Pterodactyloidea. Осмелюсь высказать предположение, что загадка вымирания мамонтов и прочих шерстистых носорогов, объясняется так же.
Но Прозор был воистину прозорлив, ибо прозревал и деяния, свершившиеся на миллионы лет позже. Следующий фрагмент повествует уже о событиях, воспетых Гомером.
«Разное бают о том, почему назвали сей град Троей. Одни говорят, что в честь основателей его, славных Рюрика, Трувора и Синеуса. Другие — будто в честь святой словенской троицы: Бога, Дашьбога и Недашьбога. По словам же третьих, прежде чем заложить на холме крепость, будущие цари здешние сообразили там на троих.
Но кто бы из толкователей ни был прав, главная правда в ином. По широте словенской души подарили словене сей захолустный городишко приблудным бездомным хеттам. Подарили за ненадобностью, а те возьми, да и разбогатей на пошлинах за проход в Черное море. И обидно стало словенам: зря подарили. И приступили они к стенам и стали требовать: «Отдавайте, хетты, обратно! По-хорошему отдавайте, не то!..» Не то и вышло. Десять лет требовали, а потом навалились всем скопом, стены повалили, хеттов подлых погнали, а бегущих перебили. Оттого и пошло присловье: когда у словен уходит кто, али помирает, остальные во след смотрят и рекут: „Ну и хетт с ним!“
Города, правда, не отстроили, так ведь зачем он и нужен-то?.. „А лучше, — сказали они, три новых возведем, и в память об этом наречем каждый Троцком!“ И по сказанному сделали».
Комментарий: в первую очередь, здесь интересна филологическая сторона. Заметьте, из слова вритязь с течением тысячелетий исчезла буква «р» — но лишь затем, чтобы заменить собою неудобопроизносимое удвоенное «т» в слове «хетт»… Что же до городов — все правда, жаль только, недолго удержалось звучное название: сегодня они скучно и приземленно именуются называются Гатчиной. Донецком и Чапаевском…
Но вот следующий — и последний на сегодня — фрагмент.
«…и да не усомнится никто, что словене первыми пришли в сей мир, ибо они Сами Боги и возлюбленные чада Божьи. Ну кто, кроме истинного русича, мог заповедать: „Если власть ударит тебя по левой щеке, подставь правую“?»
Комментарий: в комментариях не нуждается.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу










