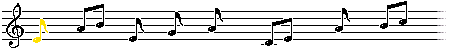Григорий Шкарпета,
23-02-2015 21:51
(ссылка)
Громкое дело Смутного времени (глава 1)
Громкое Дело Смутного Времени.
В
наше время образ царевича Дмитрия, погибшего в Угличе в мае 1591 года, по сей
день вызывает интерес историков и просто любителей русских древностей. Это
громкое дело, связанное с гибелью, или с исчезновением малолетнего сына царя
Ивана Грозного до сих пор остаётся под покровом тайны. Оно не раскрыто по
прошествии многих столетий после того, как с политической арены Московской Руси
исчез очередной кандидат на трон. Последний подающий надежды представитель
Московского Великокняжеского Дома. Эта злополучная драма разыгралась во времена
правления царя Фёдора Ивановича, который не оставил после себя наследников и
при жизни прослыл государём некудышним, не способным управлять могучей
державой. Впрочем, последнее заявление в адрес Фёдора Ивановича остаётся не
доказанным. Потому как основано лишь на мнении о нём современников. И в большей
степени тех, кто причислял себя к приверженцам романовского круга. И всё же,
малолетний царевич Дмитрий, несмотря на все препятствия, лежавшие между ним и
московским троном, выглядел более перспективным кандидатом в цари, чем Фёдор
Иванович. Хотя бы потому, что рос здоровым и резвым ребёнком и как продолжатель
великого рода мог иметь таких же здоровых наследников. Поэтому его громкое
исчезновение в преддверии Смутных времён (или в самый их разгар) стало основным
событием, вокруг которого и закрутилась одна из величайших драм в истории
Русского государства.
Затрагивая
эту тему, более уместно будет говорить об «исчезновении» царевича, нежели о его
коварном убийстве, или случайной гибели. Потому как в скором времени имя
убиенного царевича вновь окажется в центре политических страстей, и в гуще трагических
событий, которые отразились в нашей истории под впечатляющим названием –
«Великая Смута». В любом случае то, что произошло в Угличе в мае 1591 года,
следует понимать более определенно, чем убийство, самоубийство, или случайная
гибель царского сына. Важно понять другое. Из политической жизни страны при не
выясненных до сих пор обстоятельствах
выбывает фигура первостепенной важности. Один из представителей (возможно
последний) ныне действующей династии. Наследник престола и, не смотря на юный
возраст, единственный на то время продолжатель царского рода. Исчезновение
людей такого масштаба всегда порождает массу недоумений и споров. Что это было
– устранение неугодного кандидата на трон, самоубийство, случайная гибель, или
обман в результате очередной дворцовой интриги? В любом случае, таинственные
исчезновения претендентов на трон, так, или иначе, оборачиваются масштабными
государственными бедами. И в последствии в умах потомков обрастают различными
душещипательными историями. При этом, официальная версия, объясняющая столь
странное «исчезновение» знаменитой личности, как правило, выглядит далеко не убедительно,
даже для современников.
Трудно
представить, какова была бы Российская история, если бы в мае 1591 года в
Угличе не разыгралась известная драма. И взрослый Дмитрий Иванович, в конце концов,
занял бы своё законное место став царём после смерти бездетного и слабого здоровьем
старшего брата Фёдора. Возможно, тогда бы не было причин для общероссийской
смуты, которая как раз и разразилась из за того, что с гибелью Дмитрия угасла династия.
А пустующий царский трон, после смерти Фёдора Ивановича, стал ареной борьбы для
различных дворцовых группировок. Незаконных кандидатов, включая самозванцев,
как известно, было много. Помимо русских боярских родов пытались пригласить
даже, представителя польского королевского дома, царевича Владислава. Всё это
стало возможным после того, как прямого наследника престола признали погибшим,
в результате банального несчастного случая (мол, сам себе перерезал горло
ножом, в момент эллиптического припадка). Вот если бы Дмитрий остался жив, то
не было бы и самозванческого движения, и не пришлось бы избирать на общерусский
трон новую династию, до неприличия беспородных Романовых. Что стало возможным
лишь, в результате невероятных государственных потрясений.
Но, что случилось, то
случилось. Царевич Дмитрий был признан погибшим на уровне правительства и
Боярской Думы по результатам скрупулёзного расследования, проведенного
правительственной комиссией буквально, по горячим следам угличской драмы. Известие
об этом стало настолько неожиданной и ошеломляющей новостью для всего русского
общества, что дело состряпали очень быстро, и вынесли вердикт означающий, что
отныне царевича Дмитрия нет в живых. И он действительно погиб в Угличе. Только его,
вопреки злостным наветам клеветников, пытавшихся свалить вину на правителя
Годунова, никто не убивал и, на его жизнь никто не покушался. Он умер собственной
смертью от ножевых ранений, который нанёс себе сам в припадке обуявшей его падучей
болезни на глазах у нескольких очевидцев. К такому выводу пришла правительственная
комиссия, после скрупулёзного расследования.
Как видно, принятая версия
выглядит взаимовыгодной для всех дворцовых группировок и невероятно удобной для
действующего правительства. Так как не ставит под удар, ни Бориса Годунова, ни
его политических противников, среди которых были почти все родовитые бояре из
старорусской знати, и даже потомок князей Рюриковичей, Василий Шуйский, главный
политический оппонент Годунова. В будущем самозваный царь, а в то время глава
правительственной комиссии направленной в Углич как раз, для расследования
случившейся трагедии. Кроме того, принятая комиссией версия о самоубийстве
самая что ни на есть выгодная для спокойствия державы. Она признаёт Дмитрия погибшим
и, в то же время ни кого не обвиняет в его гибели (за исключением родственников,
потому как, не доглядели). А рас не было убийства, то нет причин для мятежей и
бунтов – убийц нет, мстить не кому.
Но, вопреки желанию высших
боярских кругов как можно скорее признать царевича погибшим, в народной среде
бытовало иное мнение. Многие современники событий, не зная, что на самом деле
произошло в Угличе, считали, что царскому сыну удалось спастись и его где то
прячут. А вместо него будто бы погиб другой ребёнок, схожий по возрасту и
названный его именем. Сам же царевич в скором будущем объявится живой и
невредимый, что бы по праву занять своё законное место. Надо думать, что в это
не просто верили. Об этом знали. А не умело сфабрикованная официальная версия,
не могла породить недоумение в том, что царевича нет в живых. Скорее всего, в
его смерть не верили даже, составители официально прозвучавшей версии о
самоубийстве. А рас имели место слухи о том, что Дмитрий жив, значит помимо
злоумышленников, пытавшихся его устранить, были и другие значительные силы. Те,
кому удалось вовремя вырвать царевича из рук убийц, или интриганов. Ведь
самостоятельно спастись (если так и было) восьмилетний ребёнок не мог и тем
более, долгое время скрываться и жить под чужим именем. Значит в его судьбе,
пусть даже тайно, но принимали участие какие то силы из высших боярских кругов.
Кому удалось спасти царского сына, и в целях безопасности, прятать в течении
десяти лет от очередных злоумышленников.
Особый накал страстей вокруг
его имени начался после того, как в 1604 году в Москве впервые появились слухи
о живом Дмитрии, которого сразу же окрестили самозванцем. По заявлениям властей
это был, ни кто иной, как бывший чернец Чудова монастыря Григорий. В миру Юрий
Богданович Отрепьев, сын отставного стрелецкого сотника. Опять же, это
официальная версия, дошедшая до наших дней из источников, датированных не ранее
1610 – 1615 годами. При Романовых, когда страсти по Смутным Временам более
менее улеглись, эта версия получила максимальную огласку. И стала основной для
определения личности «самозванца».
Бывший чернец, пьяница и
расстрига оказался на редкость удачливым авантюристом, а лучше сказать,
величайшим интеллектуалом 17 столетия. Впервые он объявился в Польше в 1602
году и вскоре, был признан русским царевичем почти всей польской знатью. Хотя,
в то время многим польским магнатам выгодно было не враждовать с Россией, а
держать мир с православным русским царём Борисом Фёдоровичем. Владетельный
князь Адам Вишнивецкий один из первых оказал содействие «названному» царевичу.
Далее, как по мановению волшебной палочки, происходит фееричный взлёт в карьере
«беглого монаха». Ему удалось убедить в своей авантюре польских магнатов,
короля Польши Сигизмунда 3, коварных иезуитов, Римского Папу (через его посланника
Клавдия Рангони), и склонить все эти влиятельные силы на свою сторону. После
чего был победоносный поход на Москву, который завершился торжественным въездом
в столицу 20 июня 1605 года под одобрительные возгласы всего московского
населения. Народ Руси ликовал, и приветствовал не «самозванца», а чудесно
спасшегося царевича Дмитрия Ивановича, и желал видеть его московским царём.
Такой головокружительный взлёт к вершинам власти никому не известного
авантюриста, в условиях Великой Смуты 17 столетия, не мало чем впечатляет, и
порождает массу вопросов.
Пожалуй, самой главной и
животрепещущей темой в истории Смутного Времени остаётся вопрос о личности
первого в истории России «самозванца». Если Дмитрий был признан погибшим, и
действительно погиб, то кто же тогда царствовал под его именем? И кто назван в
нашей истории Лжедмитрием 1? По этому поводу в научных кругах до сих пор нет
единого мнения. Но историки признают, что Лжедмитрий 1, стал наиболее результативным,
и наиболее известным самозванцем в мире за прошедшее тысячелетие. И первым
«самозванцем» в России. Более всего впечатляет то мастерство, с каким он играл
роль московского царя. И то искусство, с каким он перед этим поставил
хитроумный спектакль для иезуитов, искушённых до предела возможного в интригах,
втянув в своё фееричное представление королей, императоров, церковных иерархов,
и самого Римского Папу. Надо признать, что ему поверили. Только вот, став
царём, «самозванец» ни на грош не рассчитался со своими могущественными
политическими кредиторами.
Ведь подумать только, он
обещал Римскому Папе крестить Русь в католичество, а польскому королю и
магнатам передать часть русских земель. Ему поверили и помогли взойти на
московский трон. Но, став московским царём «самозванец» не выполнил, ни одного
своего обещания. За исключением того, что взял в жены иностранку, Марину
Мнишек. Но, в этом браке (хотя он не приветствовался в народе) видится сложный
политический расчёт. Скорее всего, этот династический брак был задуман
иезуитами с далеко идущими целями. Наследник, рождённый от этого брака (от
католички и христианина) должен иметь права как на московский, так и, на
польский трон. Как известно брак состоялся, наследник родился, но иезуиты от
этого династического альянса ровно, ни чего не получили. Вот в этом и заключается
один из парадоксов Смутного Времени. Обыкновенный самозванец расстрига и
пьяница, бывший холоп бояр Романовых, ведёт себя как законный претендент на
трон и, став московским царём вовсе не боится разоблачения со стороны своих
иноземных могущественных покровителей. Так как совершенно открыто и смело не
выполняет их требования. И даже не собирается в ущерб интересов российского
государства плясать под чужую дудку. Он ведёт себя как настоящий царь, чьё
право на Московский трон неоспоримо ни при каких обстоятельствах. Так кто же
это был на самом деле – самозванец, настоящий сын Грозного, или кто - то другой?
Об этом история умалчивает. И, хотя его пребывание на московском троне было не
долгим, и закончилось очередной катастрофой, каких в Смутные Времена было не
мало, мы до сих пор не можем понять, кто же в нашей истории скрывается под
именем Лжедмитрия 1. И, что это было за величайшее актёрское дарование.
На эту тему существует
несколько версий. По одной из них роль русского царя Дмитрия Ивановича сыграл никому
не известный расстрига Григорий Отрепьев. По другой, это был настоящий царевич,
которому удалось спастись и выжить. Последняя версия самая оригинальная – это
был ни тот, и не другой. Более определённо можно сказать, что на московский
трон под именем Дмитрия взошёл не царский сын, а гениальный актёр, величайший
авантюрист 17 столетия, русский талантливый искатель приключений. В любом
случае, каждая из этих версий может быть оспорена, так как накладывает свой
оригинальный отпечаток на ход исторических исследований тех или иных историков.
Мнения у всех разные. Смутные Времена оставили нам достаточно откликов в виде
свидетельств очевидцев и современников, переписки лазутчиков и дипломатов, и
иных письменных источников. Всё это даёт обильную почву для размышлений. Многое
из того, что наработано исторической наукой на эту тему может казаться
неубедительным, абсурдным, или просто не достойным внимания. Многие участники
исторического процесса могут быть представлены в различных ипостасях и образах.
Быть положительными или отрицательными героями исторического рассказа. Но, не
смотря на всё обилие дошедших до нас сведений, вопрос о том, кто же царствовал
на Московском троне под именем чудом спасшегося Дмитрия, остаётся до сих пор первостепенным
вопросом российской истории.
В свете всего выше
сказанного попробуем рассмотреть несколько иную версию, которая вовсе не
является сенсационным открытием, а всего лишь простым и смелым предположением.
На Московский трон взошёл настоящий царский сын Дмитрий Иванович, а не самозванец
(как окрестили его романовские историки). Но он занял своё законное место после
долгого и вынужденного отсутствия, так как ещё в юном возрасте стал заложником
чудовищной интриги. Его «гибель» в 1591 году была лишь неумело поставленным
спектаклем, чтобы на почве слухов о злодейском убийстве царского сына
спровоцировать общероссийский бунт. На самом деле заговорщики вовсе не
собирались убивать малолетнего Дмитрия. Для них он был решающим козырем в
политической борьбе за власть. Но вот довести до конца интригу с его именем,
судя по дальнейшим событиям, не удалась. Это видно из того, что названный
«самозванец» впервые объявился не в России, а в Польше.
И конечно же, ни кто не собирался среди бела
дня резать горло венценосному отроку, так как за ним зорко следили родственники
и приставленная охрана. Да и версия о самоубийстве (мол, сам покололся до
смерти) выглядит далеко не убедительно. Поэтому, слухи о том, что Дмитрий жив,
распространялись не только на Руси, но и за её пределами. И по прошествии 10 –
12 лет на Руси ждали его возвращения. Поэтому будем считать, что на Московский
трон взошёл истинный царевич. «Красно Солнышко», как называли его в народе. А
именно такие светлые впечатления оставил его образ в благодарной народной
памяти. Вопреки утвердившемуся мнению властей, что это был обыкновенный
самозванец, не имевший ни какого отношения к царской семье и династии
Московского Великокняжеского Дома. Но это историческое лицо не стоит путать с
беспутным расстригой, мошенником и вором, каким был романовский холоп Григорий
Отрепьев. Это два совершенно разных человека. Но в исторической традиции Дома
Романовых, они оба слились в одно и то же историческое лицо, под которым мы
понимаем сегодня всех самозванцев Смутного Времени – Лжедмитрия 1, Лжедмитрия
2, и Григория Отрепьева. А для того,
чтобы лучше понять всю остроту проблем, связанных с этим именем, прежде всего,
вернёмся к тем событиям, которые произошли 15 мая 1591 года в Угличе и стали
прологом к великой Смуте 17 столетия.
- 1-
В
наше время образ царевича Дмитрия, погибшего в Угличе в мае 1591 года, по сей
день вызывает интерес историков и просто любителей русских древностей. Это
громкое дело, связанное с гибелью, или с исчезновением малолетнего сына царя
Ивана Грозного до сих пор остаётся под покровом тайны. Оно не раскрыто по
прошествии многих столетий после того, как с политической арены Московской Руси
исчез очередной кандидат на трон. Последний подающий надежды представитель
Московского Великокняжеского Дома. Эта злополучная драма разыгралась во времена
правления царя Фёдора Ивановича, который не оставил после себя наследников и
при жизни прослыл государём некудышним, не способным управлять могучей
державой. Впрочем, последнее заявление в адрес Фёдора Ивановича остаётся не
доказанным. Потому как основано лишь на мнении о нём современников. И в большей
степени тех, кто причислял себя к приверженцам романовского круга. И всё же,
малолетний царевич Дмитрий, несмотря на все препятствия, лежавшие между ним и
московским троном, выглядел более перспективным кандидатом в цари, чем Фёдор
Иванович. Хотя бы потому, что рос здоровым и резвым ребёнком и как продолжатель
великого рода мог иметь таких же здоровых наследников. Поэтому его громкое
исчезновение в преддверии Смутных времён (или в самый их разгар) стало основным
событием, вокруг которого и закрутилась одна из величайших драм в истории
Русского государства.
Затрагивая
эту тему, более уместно будет говорить об «исчезновении» царевича, нежели о его
коварном убийстве, или случайной гибели. Потому как в скором времени имя
убиенного царевича вновь окажется в центре политических страстей, и в гуще трагических
событий, которые отразились в нашей истории под впечатляющим названием –
«Великая Смута». В любом случае то, что произошло в Угличе в мае 1591 года,
следует понимать более определенно, чем убийство, самоубийство, или случайная
гибель царского сына. Важно понять другое. Из политической жизни страны при не
выясненных до сих пор обстоятельствах
выбывает фигура первостепенной важности. Один из представителей (возможно
последний) ныне действующей династии. Наследник престола и, не смотря на юный
возраст, единственный на то время продолжатель царского рода. Исчезновение
людей такого масштаба всегда порождает массу недоумений и споров. Что это было
– устранение неугодного кандидата на трон, самоубийство, случайная гибель, или
обман в результате очередной дворцовой интриги? В любом случае, таинственные
исчезновения претендентов на трон, так, или иначе, оборачиваются масштабными
государственными бедами. И в последствии в умах потомков обрастают различными
душещипательными историями. При этом, официальная версия, объясняющая столь
странное «исчезновение» знаменитой личности, как правило, выглядит далеко не убедительно,
даже для современников.
Трудно
представить, какова была бы Российская история, если бы в мае 1591 года в
Угличе не разыгралась известная драма. И взрослый Дмитрий Иванович, в конце концов,
занял бы своё законное место став царём после смерти бездетного и слабого здоровьем
старшего брата Фёдора. Возможно, тогда бы не было причин для общероссийской
смуты, которая как раз и разразилась из за того, что с гибелью Дмитрия угасла династия.
А пустующий царский трон, после смерти Фёдора Ивановича, стал ареной борьбы для
различных дворцовых группировок. Незаконных кандидатов, включая самозванцев,
как известно, было много. Помимо русских боярских родов пытались пригласить
даже, представителя польского королевского дома, царевича Владислава. Всё это
стало возможным после того, как прямого наследника престола признали погибшим,
в результате банального несчастного случая (мол, сам себе перерезал горло
ножом, в момент эллиптического припадка). Вот если бы Дмитрий остался жив, то
не было бы и самозванческого движения, и не пришлось бы избирать на общерусский
трон новую династию, до неприличия беспородных Романовых. Что стало возможным
лишь, в результате невероятных государственных потрясений.
Но, что случилось, то
случилось. Царевич Дмитрий был признан погибшим на уровне правительства и
Боярской Думы по результатам скрупулёзного расследования, проведенного
правительственной комиссией буквально, по горячим следам угличской драмы. Известие
об этом стало настолько неожиданной и ошеломляющей новостью для всего русского
общества, что дело состряпали очень быстро, и вынесли вердикт означающий, что
отныне царевича Дмитрия нет в живых. И он действительно погиб в Угличе. Только его,
вопреки злостным наветам клеветников, пытавшихся свалить вину на правителя
Годунова, никто не убивал и, на его жизнь никто не покушался. Он умер собственной
смертью от ножевых ранений, который нанёс себе сам в припадке обуявшей его падучей
болезни на глазах у нескольких очевидцев. К такому выводу пришла правительственная
комиссия, после скрупулёзного расследования.
Как видно, принятая версия
выглядит взаимовыгодной для всех дворцовых группировок и невероятно удобной для
действующего правительства. Так как не ставит под удар, ни Бориса Годунова, ни
его политических противников, среди которых были почти все родовитые бояре из
старорусской знати, и даже потомок князей Рюриковичей, Василий Шуйский, главный
политический оппонент Годунова. В будущем самозваный царь, а в то время глава
правительственной комиссии направленной в Углич как раз, для расследования
случившейся трагедии. Кроме того, принятая комиссией версия о самоубийстве
самая что ни на есть выгодная для спокойствия державы. Она признаёт Дмитрия погибшим
и, в то же время ни кого не обвиняет в его гибели (за исключением родственников,
потому как, не доглядели). А рас не было убийства, то нет причин для мятежей и
бунтов – убийц нет, мстить не кому.
Но, вопреки желанию высших
боярских кругов как можно скорее признать царевича погибшим, в народной среде
бытовало иное мнение. Многие современники событий, не зная, что на самом деле
произошло в Угличе, считали, что царскому сыну удалось спастись и его где то
прячут. А вместо него будто бы погиб другой ребёнок, схожий по возрасту и
названный его именем. Сам же царевич в скором будущем объявится живой и
невредимый, что бы по праву занять своё законное место. Надо думать, что в это
не просто верили. Об этом знали. А не умело сфабрикованная официальная версия,
не могла породить недоумение в том, что царевича нет в живых. Скорее всего, в
его смерть не верили даже, составители официально прозвучавшей версии о
самоубийстве. А рас имели место слухи о том, что Дмитрий жив, значит помимо
злоумышленников, пытавшихся его устранить, были и другие значительные силы. Те,
кому удалось вовремя вырвать царевича из рук убийц, или интриганов. Ведь
самостоятельно спастись (если так и было) восьмилетний ребёнок не мог и тем
более, долгое время скрываться и жить под чужим именем. Значит в его судьбе,
пусть даже тайно, но принимали участие какие то силы из высших боярских кругов.
Кому удалось спасти царского сына, и в целях безопасности, прятать в течении
десяти лет от очередных злоумышленников.
Особый накал страстей вокруг
его имени начался после того, как в 1604 году в Москве впервые появились слухи
о живом Дмитрии, которого сразу же окрестили самозванцем. По заявлениям властей
это был, ни кто иной, как бывший чернец Чудова монастыря Григорий. В миру Юрий
Богданович Отрепьев, сын отставного стрелецкого сотника. Опять же, это
официальная версия, дошедшая до наших дней из источников, датированных не ранее
1610 – 1615 годами. При Романовых, когда страсти по Смутным Временам более
менее улеглись, эта версия получила максимальную огласку. И стала основной для
определения личности «самозванца».
Бывший чернец, пьяница и
расстрига оказался на редкость удачливым авантюристом, а лучше сказать,
величайшим интеллектуалом 17 столетия. Впервые он объявился в Польше в 1602
году и вскоре, был признан русским царевичем почти всей польской знатью. Хотя,
в то время многим польским магнатам выгодно было не враждовать с Россией, а
держать мир с православным русским царём Борисом Фёдоровичем. Владетельный
князь Адам Вишнивецкий один из первых оказал содействие «названному» царевичу.
Далее, как по мановению волшебной палочки, происходит фееричный взлёт в карьере
«беглого монаха». Ему удалось убедить в своей авантюре польских магнатов,
короля Польши Сигизмунда 3, коварных иезуитов, Римского Папу (через его посланника
Клавдия Рангони), и склонить все эти влиятельные силы на свою сторону. После
чего был победоносный поход на Москву, который завершился торжественным въездом
в столицу 20 июня 1605 года под одобрительные возгласы всего московского
населения. Народ Руси ликовал, и приветствовал не «самозванца», а чудесно
спасшегося царевича Дмитрия Ивановича, и желал видеть его московским царём.
Такой головокружительный взлёт к вершинам власти никому не известного
авантюриста, в условиях Великой Смуты 17 столетия, не мало чем впечатляет, и
порождает массу вопросов.
Пожалуй, самой главной и
животрепещущей темой в истории Смутного Времени остаётся вопрос о личности
первого в истории России «самозванца». Если Дмитрий был признан погибшим, и
действительно погиб, то кто же тогда царствовал под его именем? И кто назван в
нашей истории Лжедмитрием 1? По этому поводу в научных кругах до сих пор нет
единого мнения. Но историки признают, что Лжедмитрий 1, стал наиболее результативным,
и наиболее известным самозванцем в мире за прошедшее тысячелетие. И первым
«самозванцем» в России. Более всего впечатляет то мастерство, с каким он играл
роль московского царя. И то искусство, с каким он перед этим поставил
хитроумный спектакль для иезуитов, искушённых до предела возможного в интригах,
втянув в своё фееричное представление королей, императоров, церковных иерархов,
и самого Римского Папу. Надо признать, что ему поверили. Только вот, став
царём, «самозванец» ни на грош не рассчитался со своими могущественными
политическими кредиторами.
Ведь подумать только, он
обещал Римскому Папе крестить Русь в католичество, а польскому королю и
магнатам передать часть русских земель. Ему поверили и помогли взойти на
московский трон. Но, став московским царём «самозванец» не выполнил, ни одного
своего обещания. За исключением того, что взял в жены иностранку, Марину
Мнишек. Но, в этом браке (хотя он не приветствовался в народе) видится сложный
политический расчёт. Скорее всего, этот династический брак был задуман
иезуитами с далеко идущими целями. Наследник, рождённый от этого брака (от
католички и христианина) должен иметь права как на московский, так и, на
польский трон. Как известно брак состоялся, наследник родился, но иезуиты от
этого династического альянса ровно, ни чего не получили. Вот в этом и заключается
один из парадоксов Смутного Времени. Обыкновенный самозванец расстрига и
пьяница, бывший холоп бояр Романовых, ведёт себя как законный претендент на
трон и, став московским царём вовсе не боится разоблачения со стороны своих
иноземных могущественных покровителей. Так как совершенно открыто и смело не
выполняет их требования. И даже не собирается в ущерб интересов российского
государства плясать под чужую дудку. Он ведёт себя как настоящий царь, чьё
право на Московский трон неоспоримо ни при каких обстоятельствах. Так кто же
это был на самом деле – самозванец, настоящий сын Грозного, или кто - то другой?
Об этом история умалчивает. И, хотя его пребывание на московском троне было не
долгим, и закончилось очередной катастрофой, каких в Смутные Времена было не
мало, мы до сих пор не можем понять, кто же в нашей истории скрывается под
именем Лжедмитрия 1. И, что это было за величайшее актёрское дарование.
На эту тему существует
несколько версий. По одной из них роль русского царя Дмитрия Ивановича сыграл никому
не известный расстрига Григорий Отрепьев. По другой, это был настоящий царевич,
которому удалось спастись и выжить. Последняя версия самая оригинальная – это
был ни тот, и не другой. Более определённо можно сказать, что на московский
трон под именем Дмитрия взошёл не царский сын, а гениальный актёр, величайший
авантюрист 17 столетия, русский талантливый искатель приключений. В любом
случае, каждая из этих версий может быть оспорена, так как накладывает свой
оригинальный отпечаток на ход исторических исследований тех или иных историков.
Мнения у всех разные. Смутные Времена оставили нам достаточно откликов в виде
свидетельств очевидцев и современников, переписки лазутчиков и дипломатов, и
иных письменных источников. Всё это даёт обильную почву для размышлений. Многое
из того, что наработано исторической наукой на эту тему может казаться
неубедительным, абсурдным, или просто не достойным внимания. Многие участники
исторического процесса могут быть представлены в различных ипостасях и образах.
Быть положительными или отрицательными героями исторического рассказа. Но, не
смотря на всё обилие дошедших до нас сведений, вопрос о том, кто же царствовал
на Московском троне под именем чудом спасшегося Дмитрия, остаётся до сих пор первостепенным
вопросом российской истории.
В свете всего выше
сказанного попробуем рассмотреть несколько иную версию, которая вовсе не
является сенсационным открытием, а всего лишь простым и смелым предположением.
На Московский трон взошёл настоящий царский сын Дмитрий Иванович, а не самозванец
(как окрестили его романовские историки). Но он занял своё законное место после
долгого и вынужденного отсутствия, так как ещё в юном возрасте стал заложником
чудовищной интриги. Его «гибель» в 1591 году была лишь неумело поставленным
спектаклем, чтобы на почве слухов о злодейском убийстве царского сына
спровоцировать общероссийский бунт. На самом деле заговорщики вовсе не
собирались убивать малолетнего Дмитрия. Для них он был решающим козырем в
политической борьбе за власть. Но вот довести до конца интригу с его именем,
судя по дальнейшим событиям, не удалась. Это видно из того, что названный
«самозванец» впервые объявился не в России, а в Польше.
И конечно же, ни кто не собирался среди бела
дня резать горло венценосному отроку, так как за ним зорко следили родственники
и приставленная охрана. Да и версия о самоубийстве (мол, сам покололся до
смерти) выглядит далеко не убедительно. Поэтому, слухи о том, что Дмитрий жив,
распространялись не только на Руси, но и за её пределами. И по прошествии 10 –
12 лет на Руси ждали его возвращения. Поэтому будем считать, что на Московский
трон взошёл истинный царевич. «Красно Солнышко», как называли его в народе. А
именно такие светлые впечатления оставил его образ в благодарной народной
памяти. Вопреки утвердившемуся мнению властей, что это был обыкновенный
самозванец, не имевший ни какого отношения к царской семье и династии
Московского Великокняжеского Дома. Но это историческое лицо не стоит путать с
беспутным расстригой, мошенником и вором, каким был романовский холоп Григорий
Отрепьев. Это два совершенно разных человека. Но в исторической традиции Дома
Романовых, они оба слились в одно и то же историческое лицо, под которым мы
понимаем сегодня всех самозванцев Смутного Времени – Лжедмитрия 1, Лжедмитрия
2, и Григория Отрепьева. А для того,
чтобы лучше понять всю остроту проблем, связанных с этим именем, прежде всего,
вернёмся к тем событиям, которые произошли 15 мая 1591 года в Угличе и стали
прологом к великой Смуте 17 столетия.
Андрей Иванович,
19-07-2012 05:27
(ссылка)
Кто хочет стать модератором?
Друзья!
Есть ли среди нас желающие развивать сообщество? Приглашать людей, постить материалы и т.п. Увлекающиеся историей. Если готовы развивать сообщество - готов наделить статусом смотрителей/модераторов.
Есть ли среди нас желающие развивать сообщество? Приглашать людей, постить материалы и т.п. Увлекающиеся историей. Если готовы развивать сообщество - готов наделить статусом смотрителей/модераторов.
Татьяна Калмыкова,
18-11-2010 17:37
(ссылка)
НУЖНА ПОМОЩЬ
ДОРОГИЕ СООБЩНИКИ НУЖНА ПОМОЩ ЧЬИ ЭТО СЛОВА: "ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО! КАК ПОСМЕЛ ЭТОТ ВЫСКОЧКА НАЗВАТЬ СЕБЯ ИМПЕРАТОРОМ"?????????
Метки: ATANIN
кто-то может что-нибудь сказать о пантифике Пии Х?
Интересует жизнь пантифика Пия Х и награды с его изображением.
Сергей Винипухов,
29-08-2010 13:38
(ссылка)
О Автостопе и Гипербореи

гора Воттоваара - сейд вес предположительно 12-14 тонн
Уважаемый читатель, предлагаю задуматься над вопросом: что формирует нашу жизнь? Из чего складывается наше представление о мире? Не правда ли, к сожалению, в известной степени его создает телевидение и интернет. Вот и я, неудовлетворенный такой «реальностью», решил открывать для себя окружающее заново.
Думаю, каждому человеку хочется вырваться из рамок повседневности и открыть для себя страны, города нашей огромной и интересной планеты. У нас, однако, сложились устойчивые стереотипы о том, как путешествовать и отдыхать. Я тоже раньше придерживался того, что необходимо долго и упорно работать и откладывать энную сумму целый год для того, чтобы поехать на модный курорт. И вот самолет или поезд доставляет на море, в отель, где меня обеспечат всем: вкусной едой, развлечениями на любой вкус и возраст, общением со своими же соотечественниками и быстрый обзор самых ярких достопримечательностей. Допускаю, что кого-то это вполне устраивает. У меня же возникает вопрос - а зачем я приехал в эту страну? Где самобытность и колорит самой страны, которые можно понять, ощутить только через личное общение с людьми? Этот неощутимый флер ощущаешь, когда живешь как обычный обыватель, общаешься по мере необходимости и любопытства. Для этого и подходит такой способ путешествия, как автостоп.
Автостоп – это технология бесплатного передвижения на попутном транспорте с согласия водителя. Если намерения чисты и цель благородна, как правило, все удается.

Москва МКАД
[ Читать далее... → ]
Метки: автостоп, Карелия, Воттоваара, Валаам, Сейд, храм, гиперборея
АВТОР "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" - СВЯТОСЛАВ ЗЛАТОСЛОВ

"Слово о полку Игореве" само собою показывает, что оно было создано главным героем поэмы - Великим Киевским князем Святославом Всеволодичем Златословом (ок. 1125 -1194). Все попытки опровергнуть авторство Святослава оказались безуспешными. Подробности см. на сайте ""СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" - ГЛАВНАЯ РУССКАЯ КНИГА": http://slopig.narod.ru .
Если у кого возникнут какие вопросы, милости прошу задавать их.
Сергей Цветков,
02-07-2010 09:45
(ссылка)
К истории русских имен
1. Именник как исторический источник
Изучение имен – занятие далеко не праздное. В ряде случаев оно помогает историкам пролить свет на события далекого прошлого и даже сделать важные открытия. О чем же могут рассказать имена?
Начнем, пожалуй, с пресловутой варяжской, или норманнской теории. Напомню, что, по мнению ученых этой школы, первые русские князья были выходцами из Скандинавии, а в их дружинах было полным-полно скандинавских викингов.
Однако историки-антинорманнисты обратили внимание, что один из послов князя Игоря носил имя Свень. Это так называемое этническое имя. Свеями древние славяне называли шведов. Следовательно, Свень означает буквально: швед. А это, в свою очередь, значит, что скандинавов в дружине русского князя считали по пальцам, раз для их обозначения достаточно было одного лишь этнического имени (вывод, который согласуется с последними данными истории и археологии: более менее массовое пребывание шведов на Руси фиксируется только с конца Х в.).
Имена русских князей, отчеканенные на монетах, представляют ученым любопытную загадку. [ Читать далее... → ]
Изучение имен – занятие далеко не праздное. В ряде случаев оно помогает историкам пролить свет на события далекого прошлого и даже сделать важные открытия. О чем же могут рассказать имена?
Начнем, пожалуй, с пресловутой варяжской, или норманнской теории. Напомню, что, по мнению ученых этой школы, первые русские князья были выходцами из Скандинавии, а в их дружинах было полным-полно скандинавских викингов.
Однако историки-антинорманнисты обратили внимание, что один из послов князя Игоря носил имя Свень. Это так называемое этническое имя. Свеями древние славяне называли шведов. Следовательно, Свень означает буквально: швед. А это, в свою очередь, значит, что скандинавов в дружине русского князя считали по пальцам, раз для их обозначения достаточно было одного лишь этнического имени (вывод, который согласуется с последними данными истории и археологии: более менее массовое пребывание шведов на Руси фиксируется только с конца Х в.).
Имена русских князей, отчеканенные на монетах, представляют ученым любопытную загадку. [ Читать далее... → ]
Метки: Имена
Сергей Цветков,
30-06-2010 11:48
(ссылка)
Отравители, или Огненная палата Людовика XIV
В начале 1670-х годов в Париже разразился самый громкий скандал за все время царствования Людовика XIV. Он был связан с процессом над отравителями, взбудоражившим воображение парижан.
Эта история началась с того, что некий итальянец Экзили, занимавшийся поисками философского камня, обнаружил яд без наружных следов действия, который впоследствии был окрещен остряками «порошком наследства». Его ученик, офицер Сен-Круа, уговорил маркизу де Бренвилье, свою любовницу – молодую, живую женщину с большими выразительными глазами – попробовать этот яд на ее отце, судье д'Обре, который препятствовал их связи. Маркиза не смогла отказать милому и отправила отца на тот свет, благополучно избежав подозрений в отравительстве. Затем настал черед обоих ее братьев и невестки – уже из-за богатого наследства. Видимо, маркиза была психически ненормальной женщиной: вскоре она дала яд и своей малолетней дочери, так как заметила, что она взрослеет (так записано в чудовищном дневнике маркизы, в котором она вела учет своих жертв). Кроме того, маркиза и ее любовник клали яд в паштеты из голубей и потчевали ими своих гостей и сотрапезников – просто для развлечения.
[ Читать далее... → ]
Эта история началась с того, что некий итальянец Экзили, занимавшийся поисками философского камня, обнаружил яд без наружных следов действия, который впоследствии был окрещен остряками «порошком наследства». Его ученик, офицер Сен-Круа, уговорил маркизу де Бренвилье, свою любовницу – молодую, живую женщину с большими выразительными глазами – попробовать этот яд на ее отце, судье д'Обре, который препятствовал их связи. Маркиза не смогла отказать милому и отправила отца на тот свет, благополучно избежав подозрений в отравительстве. Затем настал черед обоих ее братьев и невестки – уже из-за богатого наследства. Видимо, маркиза была психически ненормальной женщиной: вскоре она дала яд и своей малолетней дочери, так как заметила, что она взрослеет (так записано в чудовищном дневнике маркизы, в котором она вела учет своих жертв). Кроме того, маркиза и ее любовник клали яд в паштеты из голубей и потчевали ими своих гостей и сотрапезников – просто для развлечения.
[ Читать далее... → ]
Метки: Франция
Сергей Цветков,
24-06-2010 08:49
(ссылка)
Верблюд

Название этого животного сразу вызывает в памяти торговые караваны с перцем и шелком, мерно бредущие по знойным пескам и степям Азии, или образ бедуина в развевающемся бурнусе, сидящего верхом между двумя горбами, - в общем, нечто от России бесконечно далекое и достаточно экзотическое. Даже само слово «верблюд» звучит как-то чуждо для русского уха, как слово иностранное. Да и что оно собственно может означать по-русски? Вроде бы никаких похожих корней для него в нашем языке подобрать нельзя.
Между тем ни в одном другом языке слова «верблюд» не существует. [ Читать далее... → ]
Сергей Цветков,
23-06-2010 07:37
(ссылка)
Светлана: "светотень" имени

Имя Светлана кажется исконно русским, но на самом деле это не так. Только в Болгарии существует его мужской аналог - Светлан. "Светлану" ввел в обиход русского общества Василий Андреевич Жуковский, опубликовавший в 1813 году одноименную поэтическую балладу, имевшую бешеный успех. Правда, и Жуковский не был «изобретателем» этого имени – поэт нашел его готовым в романсе Александра Востокова «Светлана и Мстислав» 1806 года. В то время оно было исключительно литературным – в духе псевдорусских имен, которые так любило XVIII столетие: Милослава, Прията, Добрада…
Но Милославы с Добрадами забылись, а Светлана прижилась. [ Читать далее... → ]
Метки: Имена
Сергей Цветков,
22-06-2010 10:57
(ссылка)
Сарматы и славяне

I.
В III веке до н. э. в Северное Причерноморье пришли новые хозяева – сарматы. Это были ираноязычные кочевники, которые прежде обитали в степях между Доном и Туркестаном, но затем, испытывая сильное давление со стороны тюрков, начали отток на запад, потеснив в свою очередь скифов. В результате упорной борьбы, в первой половине II века до н. э. Скифское царство прекратило свое существование. Часть скифов осталась кочевать в Северной Таврии, признав власть сарматов, остальные ушли на правобережье Дуная в район Добруджи – эта территория стала именоваться античными авторами «Малой Скифией».
Сарматы жили в войлочных кибитках, питаясь мясом и молоком. Отличительной чертой их наружности были длинные рыжеватые волосы. Римский историк Аммиан Марцеллин (втор. пол. IV в.) находил внешность сарматов «симпатичной», даже несмотря на то, что «свирепостью своего взгляда они внушают страх, как бы они ни сдерживались».
Сарматская орда представляла собой грозную военную силу. [ Читать далее... → ]
Метки: славяне
Сергей Цветков,
17-06-2010 07:35
(ссылка)
Петр Дурново - русский Нострадамус

Петр Николаевич Дурново был одним из самых талантливых людей в государственном аппарате Российской империи конца XIX – начала ХХ веков.
Родился он в 1843 году в семье Олонецкого вице-губернатора. Блестяще окончив Морской кадетский корпус, молодой мичман 8 лет провел в дальних плаваниях у берегов Китая и Японии, Северной и Южной Америки. В честь Петра Николаевича был назван один из островов в Японском море.
[ Читать далее... → ]
Метки: Российская Империя, персоны, Дурново
Сергей Цветков,
15-06-2010 11:46
(ссылка)
Чезаре Борджа

Об этом человеке Ницше писал (в «По ту сторону добра и зла»): «Мы совершенно не понимаем хищного животного и хищного человека (например, Чезаре Борджа), мы не понимаем „природы“, пока еще ищем в основе этих здоровейших из всех тропических чудовищ и растений какой то „болезненности“ или даже врожденного им „ада“, как до сих пор делали все моралисты».
Изумление современников Ницше, отказывавшихся видеть за соблазнительной фигурой пророка вечного возвращения столь чудовищный оригинал, легко понять. Если бы в истории, как и на Небесах, сущестовал свой ад, Чезаре Борджа, герцог Валентинуа, заслуживал бы там особого места. Трудно найти другого человека, более совершенным образом организованного для зла. Все прочие великие преступники, которые ужасали мир размерами и родом своих преступлений, имели слабые стороны, свои мгновения умиления или раскаяния. Юность Нерона была человекоподобна, Иван Грозный рыдал над мертвым телом сына. Ленин скорбел над участью повешенного брата. Чезаре Борджа не были знакомы ни сомнения, ни усталость, ни сентиментальность, он похож на тигра своей силой, гибкостью, жутким изяществом своих смертельных прыжков. Таким мы видим его на большом портрете на вилле Боргезе, который передает его дьявольскую красоту – в полном смысле слова. Опустив одну руку на кинжал, а другой держа золотой шарик (флакончик для духов), он смотрит на зрителя с невозмутимой ясностью. Это образ самой злости – молодой, цветущей, исполненной сил и возможностей, по-своему величественной.
[ Читать далее... → ]
Метки: семья Борджа
ПРОТИВ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ.
ПРОТИВ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ.

|
Метки: Алекс Авни
Сергей Цветков,
09-06-2010 09:06
(ссылка)
Прародина славян
Славянская речь - когда зазвучала она? Еще во второй половине XIX в. славяне считались относительно «молодым» этносом, и ученые сомневались в самой возможности говорить о славянской истории до Р.Х. Но народы – не барышни, седина и морщины для них желанны. И век XX ознаменовался головокружительным углублением датировок ранней славянской истории. Оказалось, что и в дохристианскую эпоху она может измеряться тысячелетиями, ибо в языке, культуре, религиозных представлениях славян явственно проступает очень древний индоевропейский пласт.
Индоевропейская языковая семья возникла в V-IV тысячелетиях до н. э., то есть в начале «медного века». Часть входивших в нее языков исчезла еще в античную эпоху - хетто-лувийские, италийские, тохарские, фракийский, фригийский, иллирийский и венетский; другие существуют и поныне - индийские, иранские, германские, романские, кельтские, славянские, балтские, греческий, армянский, албанский языки. Прародина индоевропейцев до сих пор не найдена, хотя на обширных пространствах между атлантическим побережьем Европы и верховьями Енисея уже не осталось, кажется, клочка земли, в который бы в свое время не ткнул указующий перст науки: Испания, Балканы, Малая Азия, Армения, северная «Гиперборея», алтайские и оренбургские степи... Не вполне ясно даже, в какой части света сложилась индоевропейская общность – в Европе или Азии. А, может, на стыке…
Так, значит, славянство отковалось на наковальне медного века? Едва ли. [ Читать далее... → ]
Индоевропейская языковая семья возникла в V-IV тысячелетиях до н. э., то есть в начале «медного века». Часть входивших в нее языков исчезла еще в античную эпоху - хетто-лувийские, италийские, тохарские, фракийский, фригийский, иллирийский и венетский; другие существуют и поныне - индийские, иранские, германские, романские, кельтские, славянские, балтские, греческий, армянский, албанский языки. Прародина индоевропейцев до сих пор не найдена, хотя на обширных пространствах между атлантическим побережьем Европы и верховьями Енисея уже не осталось, кажется, клочка земли, в который бы в свое время не ткнул указующий перст науки: Испания, Балканы, Малая Азия, Армения, северная «Гиперборея», алтайские и оренбургские степи... Не вполне ясно даже, в какой части света сложилась индоевропейская общность – в Европе или Азии. А, может, на стыке…
Так, значит, славянство отковалось на наковальне медного века? Едва ли. [ Читать далее... → ]
Метки: древние Славяне
Сергей Цветков,
04-06-2010 09:18
(ссылка)
Граф Хвостов - всероссийский графоман

Граф Дмитрий Иванович Xвостов стяжал себе печальную славу бездарнейшего пиита и безнадежного графомана.
Я муз люблю на лире величать;
Люблю писать стихи и отдавать в печать!
– откровенно признавался он.
Сочинения его составили семь томов, но покупал их, как правило, сам автор для того, чтобы потом бесплатно раздавать друзьям и знакомым.
Конечно же, о таком человеке ходило множество забавных историй.
[ Читать далее... → ]
Метки: граф Хвостов
Сергей Цветков,
02-06-2010 10:53
(ссылка)
Сдаться в плен – нерусское выражение
Поговорить об извечно рабской душе русского народа любят многие. Эти разговоры, конечно же, заслуживают только одного – презрения, как и любое проявление дремучего невежества.
Первые же писатели, которые оставили нам сведения о древних славянах, отметили исключительное свободолюбие этого народа. Так, византийский император VI века Маврикий писал, что славяне «никоим образом не склонны стать рабами или повиноваться, особенно в собственной земле».
Тот же культ свободы процветал и в древней Руси. Дружинники жили и умирали, «ища князю славы, а себе чести», как сказано в «Слове о полку Игореве». Смерть на поле боя с оружием в руках была для них предпочтительнее бесславной жизни и в особенности – плену, который приравнивался к рабскому состоянию. «Ляжем костьми тут, ибо мертвые срама не имуть», – напоминал Святослав Игоревич своей дружине эту незыблемую воинскую заповедь. А в «Слове о полку Игореве» князь Игорь Святославич обращается к своему войску почти с теми же словами: «Братие и дружина! Лучше бы убитым быти, нежели полонёну быти».
В древнерусском языке даже не было глаголов со значением «сдаться в плен», зато глаголов со значением «убить, уничтожить» и «погибнуть» – насчитывается предостаточно: бить, разбить, убивать, умертвить, пасть, изгибнуть, умереть и т. д. Воин мыслился человеком, несущим смерть врагам и не боящимся погибнуть в сражении.
По свидетельству древних арабских писателей, слова у русов не расходились с делом. «Они люди рослые, видные и смелые, – пишет арабский автор конца 9 века Ибн-Русте. – Они отличаются мужеством и храбростью. Если какая-нибудь часть их взывает о помощи, они выступают все вместе, не расходятся и образуют сплоченную силу против своего врага, пока не одержат над ним победу». Другой арабский писатель Ибн Мискавейх оставил показание, что окруженные русы предпочитали самоубийство плену: исчерпав все средства к спасению, они закалывали себя кинжалами.
Позднее, в XV-XVI вв. московские пленники за свое умение бегать из неволи ценились гораздо дешевле других. Крымские торговцы, выводя свой живой товар на продажу, выдавали русских за поляков и литовцев, громко крича, что это рабы самые свежие, простые, нехитрые, только что приведенные из народа польского, а не московского.
С тех давних времен не перечесть всех тех, кто хотел превратить русский народ в рабов на своей собственной земле. Да только где они все, эти господа хорошие?
Первые же писатели, которые оставили нам сведения о древних славянах, отметили исключительное свободолюбие этого народа. Так, византийский император VI века Маврикий писал, что славяне «никоим образом не склонны стать рабами или повиноваться, особенно в собственной земле».
Тот же культ свободы процветал и в древней Руси. Дружинники жили и умирали, «ища князю славы, а себе чести», как сказано в «Слове о полку Игореве». Смерть на поле боя с оружием в руках была для них предпочтительнее бесславной жизни и в особенности – плену, который приравнивался к рабскому состоянию. «Ляжем костьми тут, ибо мертвые срама не имуть», – напоминал Святослав Игоревич своей дружине эту незыблемую воинскую заповедь. А в «Слове о полку Игореве» князь Игорь Святославич обращается к своему войску почти с теми же словами: «Братие и дружина! Лучше бы убитым быти, нежели полонёну быти».
В древнерусском языке даже не было глаголов со значением «сдаться в плен», зато глаголов со значением «убить, уничтожить» и «погибнуть» – насчитывается предостаточно: бить, разбить, убивать, умертвить, пасть, изгибнуть, умереть и т. д. Воин мыслился человеком, несущим смерть врагам и не боящимся погибнуть в сражении.
По свидетельству древних арабских писателей, слова у русов не расходились с делом. «Они люди рослые, видные и смелые, – пишет арабский автор конца 9 века Ибн-Русте. – Они отличаются мужеством и храбростью. Если какая-нибудь часть их взывает о помощи, они выступают все вместе, не расходятся и образуют сплоченную силу против своего врага, пока не одержат над ним победу». Другой арабский писатель Ибн Мискавейх оставил показание, что окруженные русы предпочитали самоубийство плену: исчерпав все средства к спасению, они закалывали себя кинжалами.
Позднее, в XV-XVI вв. московские пленники за свое умение бегать из неволи ценились гораздо дешевле других. Крымские торговцы, выводя свой живой товар на продажу, выдавали русских за поляков и литовцев, громко крича, что это рабы самые свежие, простые, нехитрые, только что приведенные из народа польского, а не московского.
С тех давних времен не перечесть всех тех, кто хотел превратить русский народ в рабов на своей собственной земле. Да только где они все, эти господа хорошие?
Сергей Цветков,
26-05-2010 13:07
(ссылка)
Тайны Михайловского дворца

Имя императора Павла I неотделимо от истории Михайловского дворца – самой знаменитой постройки его царствования. Неувядаемый интерес к этому таинственному зданию понятен: ведь в истории едва ли найдется другой памятник, строительство которого было бы так густо замешано на мистических совпадениях.
Искренняя вера Павла в сны и предзнаменования подтверждена многими современниками. Постройку дворца также связывали с одним странным происшествием, о котором говорил тогда весь Петербург. В 1796 году часовому, стоявшему у старого Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны, явился архангел Михаил и велел передать государю, чтобы тот возвел на этом месте церковь. Когда Павлу доложили об этом, он произнес загадочные слова: «Я знаю». Что послужило поводом для такого ответа, осталось неизвестным, но только Павел с неимоверной быстротой приступил к постройке нового дворца, названного в память этого чудесного события Михайловским замком.
[ Читать далее... → ]
СИМ ПОБЕДИШЬ.... ФОТО-ПОСТ
СИМ ПОБЕДИШЬ.... ФОТО-ПОСТ

|
Метки: Алекс Авни
Сергей Цветков,
22-05-2010 07:59
(ссылка)
Основание Петербурга
1.
Устья Невы, где возник Петербург, с незапамятных времен принадлежали Новгороду Великому, составляя Спасский погост Водской пятины. На острове Котлине новгородцы держали «стражу морскую», встречая здесь немецкие корабли. По Неве, мимо Васильевского острова, носившего это название еще в 15 веке, новгородские лоцманы вели «гостей» через невские пороги до Орешка (нынешнего Шлиссельбурга), а там по Ладоге до устьев Волхова. По Столбовскому миру 1616 года все течение Невы, от истоков до устья, отошло к Швеции и эта часть новгородской Водской пятины превратилась в шведскую провинцию Ингерманландию.

Население этой провинции было смешанное – русско-финское. По писцовым книгам начала 16 века видно, что на территории, занимаемой теперь Петербургом, стояло 21 селение покрупнее и 37 мелких, в один-два двора.[ Читать далее... → ]
Устья Невы, где возник Петербург, с незапамятных времен принадлежали Новгороду Великому, составляя Спасский погост Водской пятины. На острове Котлине новгородцы держали «стражу морскую», встречая здесь немецкие корабли. По Неве, мимо Васильевского острова, носившего это название еще в 15 веке, новгородские лоцманы вели «гостей» через невские пороги до Орешка (нынешнего Шлиссельбурга), а там по Ладоге до устьев Волхова. По Столбовскому миру 1616 года все течение Невы, от истоков до устья, отошло к Швеции и эта часть новгородской Водской пятины превратилась в шведскую провинцию Ингерманландию.

Население этой провинции было смешанное – русско-финское. По писцовым книгам начала 16 века видно, что на территории, занимаемой теперь Петербургом, стояло 21 селение покрупнее и 37 мелких, в один-два двора.[ Читать далее... → ]
Сергей Цветков,
21-05-2010 09:17
(ссылка)
Исчезающая особенность национального пейзажа

Лес – это подлинный «русский дом», естественная среда обитания восточных славян с незапамятных времен.
Живописных изображений древнерусского пейзажа, увы, не существует, так что представить его наглядно довольно затруднительно. Во всяком случае он сильно отличался от того образа России, к которому привыкло наше художественное воображение - равнины и косогоры, перемежаемые перелесками, или безбрежная ширь, окаймленная на горизонте синей полосой леса. Природное деление на лесную, лесостепную и степную полосы, правда, сохранялось и тогда, однако лес преобладал на большей части Среднерусской возвышенности. Византийский историк VI века Иордан описывал пространство к востоку от Днестра, по Днепру и Дону, как «обширный край, покрытый лесами, опасный болотами».[ Читать далее... → ]
Сергей Цветков,
17-05-2010 08:42
(ссылка)
Часовой российской государственности (П.А.Столыпин). Часть 1

“Каждое утро я начинаю с того, что благодарю Бога за то, что Он даровал мне еще один день жизни. Каждый раз, как я выхожу из дому, я мысленно прощаюсь со своими, потому что я никогда не могу быть уверен в том, приеду ли я сам домой, или же меня привезут” (1),– признавался друзьям российский премьер-министр Петр Аркадиевич Столыпин. Эти слова можно считать ключом к пониманию всей его трагической жизни – не только последнего крупного государственного деятеля, верившего в высокое предназначение России, но и просто христианина.
...5 сентября 1911 года в Киеве, в частной хирургической клинике доктора Маковского, скончался от ран Петр Аркадиевич Столыпин. В тот день, едва ли не впервые за истекшее столетие, русское общество было потрясено смертью не военного героя, не великого ученого, художника или мыслителя, а смертью государственного чиновника, то есть человека, в глазах "передового общественного мнения" не только бесполезного, но и безусловно вредного для “общества". [ Читать далее... → ]
Преступления партизан: советская легенда и действительность
3 июля 1941 г. Сталин обратился к народу по радио со своей знаменитой речью и призвал его к беспощадной партизанской войне: 'На оккупированных врагом территориях необходимо создать пешие и конные партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями врага и развертывания партизанской войны. На оккупированных территориях необходимо создать для врага и всех его подручных невыносимые условия, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, пресекать все их действия'.
Начало советского партизанского движения было трудным, хотя первые сообщения звучали многообещающе. 2 июля 1941 г. Пантелеймон Пономаренко, первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии докладывал: 'В Белоруссии развернулось партизанское движение, например в области Полесье в каждой деревне и в каждом колхозе есть свой партизанский отряд'. 10 дней спустя Пономаренко сообщал, что на оккупированной территории осталось 3 тысячи партизан. Кроме того, как утверждал он, партия почти ежедневно направляет на оккупированную территорию по 200 - 300 человек, чтобы организовывать партизанское движение. Сообщалось также о первых боевых успехах партизан.
Действительность выглядела иначе. Плохо подготовленные группы не доставляли немцам особых проблем. Первые партизанские школы появились только в июле 1941 г. Власти были вынуждены рекрутировать даже инвалидов. Так, в сентябре 1941 г. НКВД сформировал из инвалидов, пожилых людей и калек 'запасной партизанский отряд'. Партизаны из запасного отряда должны были рассказывать населению на оккупированных территориях, что в Отечественной войне 1812 г. под командованием Наполеона в Россию вторглись также и прусаки, но были разбиты, и что эта история повторится.
В первый год войны у партизан не было центрального руководства. Ключевую роль сначала играл НКВД, сделавший ставку на мелкие группы. На оккупированные территории партизан направляли также и военные. Примечательные инициативы исходили от Коммунистической партии Белоруссии во главе с Пантелеймоном Пономаренко. Он с самого начала выступал за широкое партизанское движение и, в конечном итоге, убедил Сталина. 31 мая 1942 г. был сформирован Центральный партизанский штаб, а его начальником был назначен Пономаренко. К ноябрю 1942 г. численность партизан возросла до 94 484 человек, в январе 1943 г. она уже достигла свыше 100 тысяч человек, а еще через год - 200 тысяч. Большинство из них действовали в Белоруссии.
Вместе с численностью росла и ударная сила партизан. С весны 1942 г. число операций увеличилось, а с осени 1942 г. они стали серьезной проблемой для вермахта. Большие территории, особенно в Белоруссии, контролировались партизанами. Особенную угрозу они представляли для снабжения фронта. Немцы подавляли партизан с крайней жестокостью, делая ставку на запугивание и коллективную ответственность. Под предлогом борьбы с партизанами, они убивали советских евреев. Начиная с 1942 г. немецкие карательные экспедиции стали уничтожать целые районы, считавшиеся 'бандитскими гнездами'. Они сжигали деревни, убивали или угоняли на работу в рейх жителей, грабя затем их имущество. В ходе борьбы с партизанами в Белоруссии погибло, не считая убитых евреев, до 350 тысяч человек.
Эти преступления хорошо изучены. Однако почти неизвестен тот факт, что зачастую и партизаны тоже жестоко обращались со своим населением. Они тоже наводили ужас на целые районы, сжигали деревни и города, проводили карательные походы. Таким образом, население попало между молотом и наковальней. Некоторые населенные пункты попеременно 'усмирялись' то немцами, то партизанами, как, например, городок Налибоки, в 120 км от Минска. 8 мая 1943 г. партизаны напали на опорный пункт организованной немцами самообороны. Они убили 127 гражданских лиц, включая детей, сожгли здания и угнали почти 100 коров и 70 лошадей. Через два месяца немецкая карательная экспедиция превратила в пепел то, что осталось. При этом немцы убили, примерно, 10 человек и угнали на работу в Германию около 3000, захватив оставшееся добро.
Особенную проблему создавало то обстоятельство, что партизанам нужно было кормиться. Они добывали себе продукты и одежду у местного населения. Во время этих снабженческих операций партизаны нередко вели себя, как обычные грабители, во всяком случае, так воспринимало их население. Они реквизировали женское белье, детскую одежду, хозяйственный скарб, - вещи, мало пригодные в лесу. Зато их можно было обменять на алкоголь или подарить партизанкам.
Многие отряды почти не проводили боевых операций, поскольку им не хватало оружия и боеприпасов. Некоторые полностью ограничились 'снабженческими походами'. В одном советском докладе зимой 1942/43 года о поведении партизан в Западной Белоруссии говорилось: 'Поскольку они не воюют, они превращаются в дополнительное бремя для крестьян и восстанавливают крестьянство против всех партизан в целом. Если нет немцев, то партизаны беспрепятственно входят в деревню, забирают коров, овец, хлеб и другие продукты. Но как только появляется карательный отряд, партизаны бегут, не оказывая сопротивления, крестьян же избивают, а их дома сжигают за то, что они содержали и кормили партизан'.
Большинство военных операций партизан и без того были направлены не против немецких оккупантов, а против действительных или мнимых коллаборационистов и их семей, а также против всех, кто хорошо относился к немцам и был антисоветчиком. А кто был антисоветчиком, партизаны решали сами. На повестке дня были расстрелы, изнасилования и грабежи. 22 февраля 1943 г. отряд Михайлова убил в деревне Чигринка Могилевского района (восточнее Минска) около 70 мирных жителей. На счету этого отряда были также грабежи, изнасилования и расстрелы. По сообщению одного высокопоставленного офицера Красной Армии, сделанному в июне 1943 г., отряд Бати, действовавший примерно в 200 км от Минска, 'терроризировал мирное население'. В частности, 11 апреля 1943 г. они 'расстреляли ни в чем не повинные семьи партизан в селе Сокочи: женщину с 12-летним сыном, второй сын-партизан которой погиб ранее, а также жену одного партизана и ее двух детей - двух и пяти лет'. В другом докладе говорится, что в апреле 1943 г. партизаны отряда Фрунзе, действовавшего севернее Минска, расстреляли в ходе 'карательной операции 57 человек', включая младенцев.
Некоторые партизанские отряды сжигали сразу по несколько населенных пунктов, как например, комиссар Фролов вместе со своими партизанами, действовавший в Витебской области. В апреле 1943 г. они превратили в пепел множество деревень, расстреляли 'мирных жителей и других партизан'. И это было далеко не исключение. Еще более бесцеремонно обращались партизаны с польским населением на территории нынешней Западной Белоруссии, поскольку поляки вообще считались антисоветчиками. Партизаны убивали поляков целыми семьями, сжигали их дома только по подозрению в поддержке польского подполья. Многие поляки в панике покидали свои дома и бежали в города. В этих районах свои 'снабженческие операции' партизаны проводили преимущественно среди польских крестьян.
Большой проблемой среди партизан было пьянство. Они часто напивались и совершали насилие, как правило, над гражданским населением, часто пострадавшими оказывались их же товарищи по оружию. Алкоголь они добывали у крестьян. Зачастую они реквизировали лошадей, овец, крупный рогатый скот, одежду и хозяйственную утварь, затем сбывали все это в других поселениях, чтобы на вырученные деньги выменять или купить алкоголь.
Часть преступлений надо отнести на счет Москвы. Так, летом 1943 г. партизаны спровоцировали локальную войну с польской 'Армией родины' на западе Белоруссии. Ранее поляки предложили совместную борьбу против немецких оккупантов, а также против бандитов и грабителей. Начались переговоры. Однако в июне 1943 г. Пономаренко приказал прекратить переговоры и незаметно ликвидировать ведущих участников сопротивления или передать их немцам: 'В выборе средств можете не стесняться. Операцию нужно провести это широко и гладко'.
В августе 1943 г. начались первые крупные операции против польских партизан. Советские партизаны пригласили руководство польского отряда 'Кмичич' на переговоры и арестовали его. Остальных поляков они внезапно атаковали на их базах и разоружили. В конечном итоге, Советы расстреляли польского командира и его 80 бойцов. Остальных они принудительно включили в свои отряды, а некоторых, разоружив, отпустили на все четыре стороны. После этого противостояние выросло в локальную польско-советскую партизанскую войну. Некоторые польские подразделения, угроза которым со стороны Советов была особенно велика, полностью прекратили борьбу против вермахта и даже получали от немцев оружие и боеприпасы.
Советское руководство прекрасно знало об этих беспорядках и пыталось принять меры против запойного пьянства, насилия, отсутствия дисциплины и разложения. Применялись такие методы, как призывы, запреты, угрозы наказания, наказания в пример другим, вплоть до расформирования особо деморализованных отрядов. Несмотря на это, мало что изменилось. Некоторые командиры пытались скрыть непорядки от вышестоящего начальства.
Советская пропаганда превратила партизан в героев 'без страха и упрека', самоотверженно боровшихся против немецких фашистов. На Западе практически не проводились критические исследования советского партизанского движения, поскольку десятилетиями доступ к нужным документам был закрыт. Да и сегодня сделать это тоже непросто. Только в последние годы некоторые исследователи получили возможность взглянуть на секретные документы, которые ставят под вопрос героизм советских партизан.
Богдан Музиал
Начало советского партизанского движения было трудным, хотя первые сообщения звучали многообещающе. 2 июля 1941 г. Пантелеймон Пономаренко, первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии докладывал: 'В Белоруссии развернулось партизанское движение, например в области Полесье в каждой деревне и в каждом колхозе есть свой партизанский отряд'. 10 дней спустя Пономаренко сообщал, что на оккупированной территории осталось 3 тысячи партизан. Кроме того, как утверждал он, партия почти ежедневно направляет на оккупированную территорию по 200 - 300 человек, чтобы организовывать партизанское движение. Сообщалось также о первых боевых успехах партизан.
Действительность выглядела иначе. Плохо подготовленные группы не доставляли немцам особых проблем. Первые партизанские школы появились только в июле 1941 г. Власти были вынуждены рекрутировать даже инвалидов. Так, в сентябре 1941 г. НКВД сформировал из инвалидов, пожилых людей и калек 'запасной партизанский отряд'. Партизаны из запасного отряда должны были рассказывать населению на оккупированных территориях, что в Отечественной войне 1812 г. под командованием Наполеона в Россию вторглись также и прусаки, но были разбиты, и что эта история повторится.
В первый год войны у партизан не было центрального руководства. Ключевую роль сначала играл НКВД, сделавший ставку на мелкие группы. На оккупированные территории партизан направляли также и военные. Примечательные инициативы исходили от Коммунистической партии Белоруссии во главе с Пантелеймоном Пономаренко. Он с самого начала выступал за широкое партизанское движение и, в конечном итоге, убедил Сталина. 31 мая 1942 г. был сформирован Центральный партизанский штаб, а его начальником был назначен Пономаренко. К ноябрю 1942 г. численность партизан возросла до 94 484 человек, в январе 1943 г. она уже достигла свыше 100 тысяч человек, а еще через год - 200 тысяч. Большинство из них действовали в Белоруссии.
Вместе с численностью росла и ударная сила партизан. С весны 1942 г. число операций увеличилось, а с осени 1942 г. они стали серьезной проблемой для вермахта. Большие территории, особенно в Белоруссии, контролировались партизанами. Особенную угрозу они представляли для снабжения фронта. Немцы подавляли партизан с крайней жестокостью, делая ставку на запугивание и коллективную ответственность. Под предлогом борьбы с партизанами, они убивали советских евреев. Начиная с 1942 г. немецкие карательные экспедиции стали уничтожать целые районы, считавшиеся 'бандитскими гнездами'. Они сжигали деревни, убивали или угоняли на работу в рейх жителей, грабя затем их имущество. В ходе борьбы с партизанами в Белоруссии погибло, не считая убитых евреев, до 350 тысяч человек.
Эти преступления хорошо изучены. Однако почти неизвестен тот факт, что зачастую и партизаны тоже жестоко обращались со своим населением. Они тоже наводили ужас на целые районы, сжигали деревни и города, проводили карательные походы. Таким образом, население попало между молотом и наковальней. Некоторые населенные пункты попеременно 'усмирялись' то немцами, то партизанами, как, например, городок Налибоки, в 120 км от Минска. 8 мая 1943 г. партизаны напали на опорный пункт организованной немцами самообороны. Они убили 127 гражданских лиц, включая детей, сожгли здания и угнали почти 100 коров и 70 лошадей. Через два месяца немецкая карательная экспедиция превратила в пепел то, что осталось. При этом немцы убили, примерно, 10 человек и угнали на работу в Германию около 3000, захватив оставшееся добро.
Особенную проблему создавало то обстоятельство, что партизанам нужно было кормиться. Они добывали себе продукты и одежду у местного населения. Во время этих снабженческих операций партизаны нередко вели себя, как обычные грабители, во всяком случае, так воспринимало их население. Они реквизировали женское белье, детскую одежду, хозяйственный скарб, - вещи, мало пригодные в лесу. Зато их можно было обменять на алкоголь или подарить партизанкам.
Многие отряды почти не проводили боевых операций, поскольку им не хватало оружия и боеприпасов. Некоторые полностью ограничились 'снабженческими походами'. В одном советском докладе зимой 1942/43 года о поведении партизан в Западной Белоруссии говорилось: 'Поскольку они не воюют, они превращаются в дополнительное бремя для крестьян и восстанавливают крестьянство против всех партизан в целом. Если нет немцев, то партизаны беспрепятственно входят в деревню, забирают коров, овец, хлеб и другие продукты. Но как только появляется карательный отряд, партизаны бегут, не оказывая сопротивления, крестьян же избивают, а их дома сжигают за то, что они содержали и кормили партизан'.
Большинство военных операций партизан и без того были направлены не против немецких оккупантов, а против действительных или мнимых коллаборационистов и их семей, а также против всех, кто хорошо относился к немцам и был антисоветчиком. А кто был антисоветчиком, партизаны решали сами. На повестке дня были расстрелы, изнасилования и грабежи. 22 февраля 1943 г. отряд Михайлова убил в деревне Чигринка Могилевского района (восточнее Минска) около 70 мирных жителей. На счету этого отряда были также грабежи, изнасилования и расстрелы. По сообщению одного высокопоставленного офицера Красной Армии, сделанному в июне 1943 г., отряд Бати, действовавший примерно в 200 км от Минска, 'терроризировал мирное население'. В частности, 11 апреля 1943 г. они 'расстреляли ни в чем не повинные семьи партизан в селе Сокочи: женщину с 12-летним сыном, второй сын-партизан которой погиб ранее, а также жену одного партизана и ее двух детей - двух и пяти лет'. В другом докладе говорится, что в апреле 1943 г. партизаны отряда Фрунзе, действовавшего севернее Минска, расстреляли в ходе 'карательной операции 57 человек', включая младенцев.
Некоторые партизанские отряды сжигали сразу по несколько населенных пунктов, как например, комиссар Фролов вместе со своими партизанами, действовавший в Витебской области. В апреле 1943 г. они превратили в пепел множество деревень, расстреляли 'мирных жителей и других партизан'. И это было далеко не исключение. Еще более бесцеремонно обращались партизаны с польским населением на территории нынешней Западной Белоруссии, поскольку поляки вообще считались антисоветчиками. Партизаны убивали поляков целыми семьями, сжигали их дома только по подозрению в поддержке польского подполья. Многие поляки в панике покидали свои дома и бежали в города. В этих районах свои 'снабженческие операции' партизаны проводили преимущественно среди польских крестьян.
Большой проблемой среди партизан было пьянство. Они часто напивались и совершали насилие, как правило, над гражданским населением, часто пострадавшими оказывались их же товарищи по оружию. Алкоголь они добывали у крестьян. Зачастую они реквизировали лошадей, овец, крупный рогатый скот, одежду и хозяйственную утварь, затем сбывали все это в других поселениях, чтобы на вырученные деньги выменять или купить алкоголь.
Часть преступлений надо отнести на счет Москвы. Так, летом 1943 г. партизаны спровоцировали локальную войну с польской 'Армией родины' на западе Белоруссии. Ранее поляки предложили совместную борьбу против немецких оккупантов, а также против бандитов и грабителей. Начались переговоры. Однако в июне 1943 г. Пономаренко приказал прекратить переговоры и незаметно ликвидировать ведущих участников сопротивления или передать их немцам: 'В выборе средств можете не стесняться. Операцию нужно провести это широко и гладко'.
В августе 1943 г. начались первые крупные операции против польских партизан. Советские партизаны пригласили руководство польского отряда 'Кмичич' на переговоры и арестовали его. Остальных поляков они внезапно атаковали на их базах и разоружили. В конечном итоге, Советы расстреляли польского командира и его 80 бойцов. Остальных они принудительно включили в свои отряды, а некоторых, разоружив, отпустили на все четыре стороны. После этого противостояние выросло в локальную польско-советскую партизанскую войну. Некоторые польские подразделения, угроза которым со стороны Советов была особенно велика, полностью прекратили борьбу против вермахта и даже получали от немцев оружие и боеприпасы.
Советское руководство прекрасно знало об этих беспорядках и пыталось принять меры против запойного пьянства, насилия, отсутствия дисциплины и разложения. Применялись такие методы, как призывы, запреты, угрозы наказания, наказания в пример другим, вплоть до расформирования особо деморализованных отрядов. Несмотря на это, мало что изменилось. Некоторые командиры пытались скрыть непорядки от вышестоящего начальства.
Советская пропаганда превратила партизан в героев 'без страха и упрека', самоотверженно боровшихся против немецких фашистов. На Западе практически не проводились критические исследования советского партизанского движения, поскольку десятилетиями доступ к нужным документам был закрыт. Да и сегодня сделать это тоже непросто. Только в последние годы некоторые исследователи получили возможность взглянуть на секретные документы, которые ставят под вопрос героизм советских партизан.
Богдан Музиал
Сергей Цветков,
14-05-2010 12:19
(ссылка)
Природа - исторический враг русского народа
Русский народ создавал свой хозяйственно-культурный уклад жизни в неимоверно тяжелых условиях. Россия – в значительной степени приполярная страна. Например, в Канаде на широте российского Нечерноземья сельского хозяйства вообще нет.
Англичанин Джильс Флетчер, посетивший Россию в конце XVI века, с содроганием писал:
«От одного взгляда на зиму в России можно почувствовать холод. В это время морозы бывают так велики, что вода, выливаясь по каплям, превращается в лед, не достигнув земли. В самый большой холод, если возьмете в руки металлическое блюдо или кувшин, пальцы ваши тотчас примерзнут, и, отнимая их, вы сдерете кожу. Когда вы выходите из теплой комнаты на мороз, дыхание ваше спирается, холодный воздух душит вас. Не одни путешествующие, но и люди на рынках и на улицах, в городах испытывают над собой действие мороза: одни совсем замерзают, другие падают на улицах; многих привозят в города сидящими в санях и замерзшими в таком положении; иные отмораживают себе нос, уши, щеки, пальцы и прочее. Когда зима очень сурова, часто случается, что медведи и волки, побуждаемые голодом, стаями выходят из лесов, нападают на селения и опустошают их: тогда жители принуждены спасаться бегством».
[ Читать далее... → ]
Англичанин Джильс Флетчер, посетивший Россию в конце XVI века, с содроганием писал:
«От одного взгляда на зиму в России можно почувствовать холод. В это время морозы бывают так велики, что вода, выливаясь по каплям, превращается в лед, не достигнув земли. В самый большой холод, если возьмете в руки металлическое блюдо или кувшин, пальцы ваши тотчас примерзнут, и, отнимая их, вы сдерете кожу. Когда вы выходите из теплой комнаты на мороз, дыхание ваше спирается, холодный воздух душит вас. Не одни путешествующие, но и люди на рынках и на улицах, в городах испытывают над собой действие мороза: одни совсем замерзают, другие падают на улицах; многих привозят в города сидящими в санях и замерзшими в таком положении; иные отмораживают себе нос, уши, щеки, пальцы и прочее. Когда зима очень сурова, часто случается, что медведи и волки, побуждаемые голодом, стаями выходят из лесов, нападают на селения и опустошают их: тогда жители принуждены спасаться бегством».
[ Читать далее... → ]
Белорусская Жанна д'Арк
В галерее исторических и культурных деятелей Беларуси есть уникальный и необычайно яркий персонаж, судьба и жизнь которого напоминает неземной красоты комету, что, прочертив темное небо, сгорает огненным хвостом в звездных просторах. Действительно, эта жизнь, к сожалению, очень рано оборвалась. Имя нашей героини во многом стало нарицательным, символом, примером пожертвования собой во имя Родины. Речь идет об Эмилии Плятер - легендарной героине восстания 1830-1831 годов, белорусской поэтессе и фольклористке. Происходила Эмилия из старинного и богатого графского рода, который имел поместья по всей территории Речи Посполитой - в Беларуси, Польше, Литве, Латвии. Родилась она в Вильно 13 ноября 1806 года, а вскоре вместе с матерью поселилась в имении Ликсна Витебской губернии. Эмилия с детства была наделена сильной волей, была серьезной, ее мало интересовали женские увлечения: игры, танцы, наряды, мечты о мужчинах и замужестве. Дома имелась великолепная библиотека, и девочка учила историю и литературу Речи Посполитой, читала книги о знаменитых людях, которые с оружием в руках воевали за свободу своей страны, в том числе и о Жанне д'Арк, портрет которой висел в ее комнате вместе с портретами Костюшко и других национальных героев.
Чтобы стать похожей на свою героиню, Эмилия готовила себя не только морально, но и физически - училась ездить верхом, преодолевать рвы и болота, фехтовать, стрелять, охотилась, совершала далекие походы. Она была близка к среде филоматов и филаретов, зачитывалась их произведениями. Особенно любила "Гражину" Адама Мицкевича, хотела быть похожей на ее главную героиню. Под влиянием поэтов-филоматов Плятер увлеклась белорусским фольклором, занялась его собиранием и записыванием. Эмилия вообще выделялась исключительным народолюбием, смело спускалась с предопределенных ей самим происхождением аристократических небес на грешную землю. Многие исследователи ставят Эмилию Плятер в первый ряд деятелей на заброшенной тогда культурной ниве нашего народа, считая ее как бы предвестницей белорусского Возрождения XIX века. К сожалению, практически ничего из ее поэтического и фольклорного наследия до нас не дошло, как и вообще многое из белорусской литературы.
Естественно, что, имея такую натуру и воспитание, Эмилия Плятер не стояла в стороне от освободительного движения, наоборот - смело шла навстречу жизненным и политическим бурям. Когда началось восстание 1831 года, отважная девушка бросила все - богатство, привольное житье и отдала себя делу своей жизни.
Как только Эмилия услышала о восстании в Варшаве, она сразу же села на коня и объездила своих ближайших родственников и знакомых, с тем чтобы те готовились к вооруженному восстанию в Литве и Беларуси. Встречается Плятер также со своими кузенами Люцианом и Фердинандом, их товарищем Александром Рыпинским, курсантами школы подхорунжих из Динабургской крепости. Обсуждался план захвата последней силами отряда, который сформирует Эмилия и приведет для штурма, и курсантами, которые должны были организовать отряд для внутреннего удара. Гарнизон крепости был небольшим, а укрепления слабыми, так что заговорщики надеялись на успех. Но планы не сбылись, так как школу закрыли, подхорунжих выслали во внутренние губернии, а крепость усилили дополнительными частями.
В Польше уже шли бои, а в Беларуси и Литве пока стояла гнетущая тишина. Не хватало терпения, и Эмилия поехала в Вильно, чтобы встретиться с людьми, которые должны были что-то знать. Возможно, ей удалось как-то выйти на Виленский центральный повстанческий комитет. А узнав о захвате Росиен Ю. Гружевским, она сразу же начинает действовать: посещает соседние деревни, призывая брать оружие и готовить косы. Эмилия подрезала свои длинные красивые волосы, переоделась в подготовленный ранее мундир и уже через неделю, 29 марта, появилась на площади местечка Дусят, перед костелом.
Вооруженная двумя пистолетами и кинжалом, девушка вызвала у людей, вышедших после службы, удивление. Эмилия обратилась ко всем, как к братьям, и объявила, что началась борьба за "нашу и вашу свободу", против врагов веры и Отчизны. Как пишут свидетели, за четверть часа Плятер собрала отряд количеством в 280 стрелков, 60 конных, несколько сотен косинеров. Помогал ей в этом Люциан Вейсенхоф.
Во главе с Эмилией и Цезарием Плятерами партизанский отряд пошел на Динабург (Двинск, Даугавпилс). 30 марта, совершив по дороге нападение на почтовую станцию Даугели, партизаны разбили небольшой русский отряд, добыли 60 лошадей и немного оружия. 2 апреля они встретились с охранной частью генерала Ширмана. Под Утяной состоялся бой, в результате которого русские отступили. Во время боя Плятер своим примером вдохновляла товарищей на мужество. 4 апреля отряд взял местечко Езеросы. Эмилия вписала акт восстания в городскую и судовую книги.
После того, как казаки выбили отряд из местечка и почти что разбили его, Эмилия и ее адъютантка Мария Прушинская с группой партизан добрались до отряда Кароля Залусского около города Поневежа. Появление девушек в отряде подняло боевой дух партизан. Повстанцы с радостью встретили Эмилию и считали за честь служить вместе с ней.
Приближение сильных русских войск вынудило Залусского отходить на соединение с большей группой партизан. Марш был очень тяжелым, проходил днем и ночью, через болота, поля, по колено в грязи. Они дошли до Шадова, где остановились на отдых. Однако противник не дал отдохнуть и 4 мая начал окружать отряд. Чтобы помешать этому, в атаку пошли стрелки и виленские студенты. Эмилия с честью выдержала битву, отряд вырвался, но был вынужден снова отходить при постоянном контакте с неприятелем.
Шли на Байсогалу, по Ковенскому тракту. Заболевшая Эмилия, будучи в полубессознательном состоянии, едва не попала в руки русских. Ее оставили в крестъянской хате, но как только состояние здоровья немного улучшилось, девушка отправилась искать повстанцев.
Сначала она шла одна, затем к ней присоединялись отдельные партизаны и небольшие группы. Так во главе их дошла она до Залусского, лагерь которого разместился возле Росиен. Вилькомирские стрелки встретили Эмилию овацией. После совещания, на котором было решено разделиться на небольшие отряды и каждому из них вести борьбу в своих поветах, Эмилия возглавила вилькомирцев. 17 мая они захватили город Вилькомир и были с триумфом встречены его жителями. К Эмилии присоединились Мария Романович и Антонина Томашевская.
В июне в Жеймах Трокского повета ее отряд встретился с регулярной польской армией генерала Хлоповского. Многим тогда необычайная девушка-повстанец врезалась в память. Вот одно из описаний: "...Присоединился к нам довольно большой, хорошо одетый конный отдел повстанцев во главе с Плятер. Ей можно было дать не больше 24 лет. Небольшая ростом, бледная, не красавица, но с округлым, приятным, симпатичным лицом, голубыми глазами, стройного, хоть и не сильного сложения. Была серьезная, скорей суровая, чем простая в обхождении, малоразговорчивая и видом будто требовала к себе надлежащего отношения и приличия. Да никто в лагере не позволил в ее присутствии бросить лишнее слово, шутку или согрешить в вежливом обхождении. На ней был сюртук с красным воротом, а возле шеи кружевной воротничок, что очень ей шло. Небольшой мужской кивер на голове, волосы подрезаны, широкие, до земли шаровары, на поясе кинжал и небольшая сабля, серебряные шпоры на сапожках. Скромная, без всякой неестественной претензии, стройно держалась на коне..."
Хлоповский принял Эмилию очень приязненно и, когда она не согласилась вернуться домой и подождать там с надеждой победы, взял в свой штаб. Неслыханная вещь - молодая женщина была официально поставлена над бывалыми солдатами, назначена почетным командиром 1-й роты 25-го линейного полка повстанческой армии, ей был присвоен чин капитана. С этой военной частью Эмилия и ее соратницы пришли в Ковно, занятое польской армией. Здесь известная знакомая Адама Мицкевича Ковальская дала в своем доме бал в честь Эмилии. А 27 июня состоялась битва, во время которой девушка снова чуть не попала в плен. Избежать его удалось благодаря самоотверженности майора Кекерницкого, который отдал ей своего коня. Вдогонку бросились казаки, конь Эмилии не смог перепрыгнуть через ограду, и она упала. Мария Романович начала стрелять из карабина, на помощь подоспел майор Мацевич - и Эмилия спаслась, хоть и была ранена.
Непрерывные бои, сражения, и повсюду она - хрупкая девушка, символ преданности и мужества, непреклонной воли к свободе. 19 июня она участвует в битве под Вильно - пике восстания на территории былого Великого княжества Литовского. Задача у объединенных сил повстанцев была одна - овладеть столицей ВКЛ. Однако взять город не удалось. Сюда были стянуты крупные соединения русских войск. Повстанцы понесли большие потери и вынуждены были отступать на запад. Это поражение ознаменовало перелом в деле восстания. В дальнейшем инициатива переходит в руки противника.
Все три подруги были при генерале Хлоповском, когда 8 июля было решено атаковать Шавли (Шауляй). Литовский полк Эмилии охранял обоз, который также был втянут в битву. Плятер в бою проявила чрезвычайную отвагу, что было отмечено в рапорте генерала Гелгуда.
9 июля на военном совете в Куршанах было решено разделить армию в Литве на три части, которые будут действовать в трех направлениях. Эмилия осталась при Хлоповском, на которого возлагала большие надежды. Однако 13 июля она узнает, что тот, уходя от окружавших его русских войск, задумал перейти на территорию Пруссии. В отчаянии Эмилия заклинала Хлоповского отменить свой приказ и воевать дальше, даже если придется погибнуть. "Лучше было бы умереть с честью, - заявила девушка, - чем окончить таким позором. Счастливого пути, генерал! Что касается меня, пока искра жизни будет в груди, буду сражаться за Отчизну".
Вечером у костра Эмилия и подруги сидели с другими партизанами. Плятер была бледна и спокойна, молчала, только сказала в отчаянии: "Радуйтесь, заведут вас в Пруссию на погибель!" Эти воззвания, видимо, имели определенное влияние на то, что некоторые офицеры и рядовые покинули свои военные части и не пошли в Пруссию, а многие из тех, кого завели туда, при разоружении повернули назад, в Литву.
Эмилия покидает части, уходившие в Пруссию, где они будут вынуждены сложить оружие, и решает добраться до Польши, чтобы присоединиться к воюющим подразделениям. Она осталась верной своей идее быть солдатом, "пока страна не отыщет полной свободы". С ней в сторону Варшавы пошли еще несколько человек. Передвигались по территории, где было много русских войск, поэтому обходили населенные пункты, пробирались сквозь леса и болота, голодные и холодные.
Прошли почти всю Литву с севера на юг и очутились в районе Сейн. Эмилия была совершенно измождена, и на 11-й день путешествия потеряла сознание. Друзья вынуждены были оставить ее в придорожной хате. Затем Эмилию перенесли в ближайший двор Абломовича, где она скрывалась под разными именами (Коровинской, Щавинской), когда немного поправилась, Абломовичи привезли ее к себе домой как учительницу своих детей.
Эмилию полюбили все взрослые и дети. Чтобы не повредить здоровью, ей не говорили, что восстание окончилось трагично. Она узнала об этом только в конце октября - и это добило ее. Непрерывные суровые походы, нелегкие и для закаленных мужчин, душевный надлом - и ее больное сердце не выдержало. Через несколько недель - 23 декабря 1831 г. - смерть настигла отважную белорусскую девушку. Ее кончина как бы символизировала и конец восстания.
Стоит заметить, что неординарная линия судьбы Эмилии Плятер некоторым образом продолжалась и после ее смерти. Интересные документы о ней попадаются в Минском историческом архиве. В 1833 году разбитые повстанцы, как известно, сделали попытку вернуться из-за границы в Польшу, Литву, Беларусь, чтобы снова поднять знамя борьбы. Тогда в переписке представителей русской администрации снова появилось имя нашей героини (так как не все еще знали о ее судьбе, власти по-прежнему считали Эмилию Плятер опасной). В августе того же года виленский генерал-губернатор князь Долгоруков сообщил своему коллеге в Витебске князю Хованскому слух о том, будто бы Эмилия Плятер, живая и здоровая, тайно привезена из-за границы в Талюны, имение графа Плятера на Ковенщине. Говорили, что привез ее в своем экипаже графский управляющий дворянин Минхгаузен. Несмотря на определенную литературность фамилии , выяснилось, что такой управляющий действительно есть, но привез он всего только землячку Эмилии, юную дочку некого дворянина Немчинского из Динабургского повета. Относительно же судьбы нашей героини тот же Долгоруков сообщил собранные известия, что до взятия Варшавы (8 сентября 1831 года) она находилась в районе Сейненской округи "в разных местах у помещиков под названием Щавинской и потом в деревне Юстиново у г. Абломовича, будучи больна, объявила перед кончиною настоящее имя и умерла".
Карательная машина работала на полную мощность. Коснулось это и нашей героини. Посмертно она была причислена к разряду государственных преступников, все ее имения и имущество были конфискованы. Тогда, видимо, и погибли белорусские рукописи Плятер, что упоминаются в описи имущества, рукописи, которых мы уже никогда не увидим, которым и цены нет. Кто знает, кого утратила наша земля, какой талант сгорел в самом начале своего пути, что могло бы вырасти из этой девушки, проживи она дольше? Вместо этого мы видим страшную, трагическую судьбу.
Это она из плеяды тех белорусов-"литвинов", которые жили в то время, когда денационализация делала из людей патриотов с раздвоенным сознанием. Когда сегодняшнего понятия "Беларусь" не существовало. Когда этим названием называлась часть ее, а часть - Литвой. Когда у лучших представителей страны самосознание было белорусско-польским . Когда гении от безысходности становились гениями соседних наций, что сегодня и позволяет присваивать их другим.
Об Эмилии говорили уже во время восстания. Из уст в уста передавали о ней рассказы, которые обрастали фантазиями и легендами. Известия о героизме бесстрашной "литвинки", новой Жанны д'Арк, как ее стали называть, разлетелись по всему миру. В Париже ставился спектакль, где центральной героиней была белорусская девушка. Художники писали о ней картины. Ее имя вошло в легенды, по свежим следам она воспета в известном стихотворении Мицкевича "Смерть полковника", в многочисленных произведениях других писателей и поэтов Польши, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Англии. О ней рассказывают романы и драмы, в ее честь названа одна из центральных улиц Варшавы, ей ставятся памятники.
Ярош МАЛИШЕВСКИЙ
Чтобы стать похожей на свою героиню, Эмилия готовила себя не только морально, но и физически - училась ездить верхом, преодолевать рвы и болота, фехтовать, стрелять, охотилась, совершала далекие походы. Она была близка к среде филоматов и филаретов, зачитывалась их произведениями. Особенно любила "Гражину" Адама Мицкевича, хотела быть похожей на ее главную героиню. Под влиянием поэтов-филоматов Плятер увлеклась белорусским фольклором, занялась его собиранием и записыванием. Эмилия вообще выделялась исключительным народолюбием, смело спускалась с предопределенных ей самим происхождением аристократических небес на грешную землю. Многие исследователи ставят Эмилию Плятер в первый ряд деятелей на заброшенной тогда культурной ниве нашего народа, считая ее как бы предвестницей белорусского Возрождения XIX века. К сожалению, практически ничего из ее поэтического и фольклорного наследия до нас не дошло, как и вообще многое из белорусской литературы.
Естественно, что, имея такую натуру и воспитание, Эмилия Плятер не стояла в стороне от освободительного движения, наоборот - смело шла навстречу жизненным и политическим бурям. Когда началось восстание 1831 года, отважная девушка бросила все - богатство, привольное житье и отдала себя делу своей жизни.
Как только Эмилия услышала о восстании в Варшаве, она сразу же села на коня и объездила своих ближайших родственников и знакомых, с тем чтобы те готовились к вооруженному восстанию в Литве и Беларуси. Встречается Плятер также со своими кузенами Люцианом и Фердинандом, их товарищем Александром Рыпинским, курсантами школы подхорунжих из Динабургской крепости. Обсуждался план захвата последней силами отряда, который сформирует Эмилия и приведет для штурма, и курсантами, которые должны были организовать отряд для внутреннего удара. Гарнизон крепости был небольшим, а укрепления слабыми, так что заговорщики надеялись на успех. Но планы не сбылись, так как школу закрыли, подхорунжих выслали во внутренние губернии, а крепость усилили дополнительными частями.
В Польше уже шли бои, а в Беларуси и Литве пока стояла гнетущая тишина. Не хватало терпения, и Эмилия поехала в Вильно, чтобы встретиться с людьми, которые должны были что-то знать. Возможно, ей удалось как-то выйти на Виленский центральный повстанческий комитет. А узнав о захвате Росиен Ю. Гружевским, она сразу же начинает действовать: посещает соседние деревни, призывая брать оружие и готовить косы. Эмилия подрезала свои длинные красивые волосы, переоделась в подготовленный ранее мундир и уже через неделю, 29 марта, появилась на площади местечка Дусят, перед костелом.
Вооруженная двумя пистолетами и кинжалом, девушка вызвала у людей, вышедших после службы, удивление. Эмилия обратилась ко всем, как к братьям, и объявила, что началась борьба за "нашу и вашу свободу", против врагов веры и Отчизны. Как пишут свидетели, за четверть часа Плятер собрала отряд количеством в 280 стрелков, 60 конных, несколько сотен косинеров. Помогал ей в этом Люциан Вейсенхоф.
Во главе с Эмилией и Цезарием Плятерами партизанский отряд пошел на Динабург (Двинск, Даугавпилс). 30 марта, совершив по дороге нападение на почтовую станцию Даугели, партизаны разбили небольшой русский отряд, добыли 60 лошадей и немного оружия. 2 апреля они встретились с охранной частью генерала Ширмана. Под Утяной состоялся бой, в результате которого русские отступили. Во время боя Плятер своим примером вдохновляла товарищей на мужество. 4 апреля отряд взял местечко Езеросы. Эмилия вписала акт восстания в городскую и судовую книги.
После того, как казаки выбили отряд из местечка и почти что разбили его, Эмилия и ее адъютантка Мария Прушинская с группой партизан добрались до отряда Кароля Залусского около города Поневежа. Появление девушек в отряде подняло боевой дух партизан. Повстанцы с радостью встретили Эмилию и считали за честь служить вместе с ней.
Приближение сильных русских войск вынудило Залусского отходить на соединение с большей группой партизан. Марш был очень тяжелым, проходил днем и ночью, через болота, поля, по колено в грязи. Они дошли до Шадова, где остановились на отдых. Однако противник не дал отдохнуть и 4 мая начал окружать отряд. Чтобы помешать этому, в атаку пошли стрелки и виленские студенты. Эмилия с честью выдержала битву, отряд вырвался, но был вынужден снова отходить при постоянном контакте с неприятелем.
Шли на Байсогалу, по Ковенскому тракту. Заболевшая Эмилия, будучи в полубессознательном состоянии, едва не попала в руки русских. Ее оставили в крестъянской хате, но как только состояние здоровья немного улучшилось, девушка отправилась искать повстанцев.
Сначала она шла одна, затем к ней присоединялись отдельные партизаны и небольшие группы. Так во главе их дошла она до Залусского, лагерь которого разместился возле Росиен. Вилькомирские стрелки встретили Эмилию овацией. После совещания, на котором было решено разделиться на небольшие отряды и каждому из них вести борьбу в своих поветах, Эмилия возглавила вилькомирцев. 17 мая они захватили город Вилькомир и были с триумфом встречены его жителями. К Эмилии присоединились Мария Романович и Антонина Томашевская.
В июне в Жеймах Трокского повета ее отряд встретился с регулярной польской армией генерала Хлоповского. Многим тогда необычайная девушка-повстанец врезалась в память. Вот одно из описаний: "...Присоединился к нам довольно большой, хорошо одетый конный отдел повстанцев во главе с Плятер. Ей можно было дать не больше 24 лет. Небольшая ростом, бледная, не красавица, но с округлым, приятным, симпатичным лицом, голубыми глазами, стройного, хоть и не сильного сложения. Была серьезная, скорей суровая, чем простая в обхождении, малоразговорчивая и видом будто требовала к себе надлежащего отношения и приличия. Да никто в лагере не позволил в ее присутствии бросить лишнее слово, шутку или согрешить в вежливом обхождении. На ней был сюртук с красным воротом, а возле шеи кружевной воротничок, что очень ей шло. Небольшой мужской кивер на голове, волосы подрезаны, широкие, до земли шаровары, на поясе кинжал и небольшая сабля, серебряные шпоры на сапожках. Скромная, без всякой неестественной претензии, стройно держалась на коне..."
Хлоповский принял Эмилию очень приязненно и, когда она не согласилась вернуться домой и подождать там с надеждой победы, взял в свой штаб. Неслыханная вещь - молодая женщина была официально поставлена над бывалыми солдатами, назначена почетным командиром 1-й роты 25-го линейного полка повстанческой армии, ей был присвоен чин капитана. С этой военной частью Эмилия и ее соратницы пришли в Ковно, занятое польской армией. Здесь известная знакомая Адама Мицкевича Ковальская дала в своем доме бал в честь Эмилии. А 27 июня состоялась битва, во время которой девушка снова чуть не попала в плен. Избежать его удалось благодаря самоотверженности майора Кекерницкого, который отдал ей своего коня. Вдогонку бросились казаки, конь Эмилии не смог перепрыгнуть через ограду, и она упала. Мария Романович начала стрелять из карабина, на помощь подоспел майор Мацевич - и Эмилия спаслась, хоть и была ранена.
Непрерывные бои, сражения, и повсюду она - хрупкая девушка, символ преданности и мужества, непреклонной воли к свободе. 19 июня она участвует в битве под Вильно - пике восстания на территории былого Великого княжества Литовского. Задача у объединенных сил повстанцев была одна - овладеть столицей ВКЛ. Однако взять город не удалось. Сюда были стянуты крупные соединения русских войск. Повстанцы понесли большие потери и вынуждены были отступать на запад. Это поражение ознаменовало перелом в деле восстания. В дальнейшем инициатива переходит в руки противника.
Все три подруги были при генерале Хлоповском, когда 8 июля было решено атаковать Шавли (Шауляй). Литовский полк Эмилии охранял обоз, который также был втянут в битву. Плятер в бою проявила чрезвычайную отвагу, что было отмечено в рапорте генерала Гелгуда.
9 июля на военном совете в Куршанах было решено разделить армию в Литве на три части, которые будут действовать в трех направлениях. Эмилия осталась при Хлоповском, на которого возлагала большие надежды. Однако 13 июля она узнает, что тот, уходя от окружавших его русских войск, задумал перейти на территорию Пруссии. В отчаянии Эмилия заклинала Хлоповского отменить свой приказ и воевать дальше, даже если придется погибнуть. "Лучше было бы умереть с честью, - заявила девушка, - чем окончить таким позором. Счастливого пути, генерал! Что касается меня, пока искра жизни будет в груди, буду сражаться за Отчизну".
Вечером у костра Эмилия и подруги сидели с другими партизанами. Плятер была бледна и спокойна, молчала, только сказала в отчаянии: "Радуйтесь, заведут вас в Пруссию на погибель!" Эти воззвания, видимо, имели определенное влияние на то, что некоторые офицеры и рядовые покинули свои военные части и не пошли в Пруссию, а многие из тех, кого завели туда, при разоружении повернули назад, в Литву.
Эмилия покидает части, уходившие в Пруссию, где они будут вынуждены сложить оружие, и решает добраться до Польши, чтобы присоединиться к воюющим подразделениям. Она осталась верной своей идее быть солдатом, "пока страна не отыщет полной свободы". С ней в сторону Варшавы пошли еще несколько человек. Передвигались по территории, где было много русских войск, поэтому обходили населенные пункты, пробирались сквозь леса и болота, голодные и холодные.
Прошли почти всю Литву с севера на юг и очутились в районе Сейн. Эмилия была совершенно измождена, и на 11-й день путешествия потеряла сознание. Друзья вынуждены были оставить ее в придорожной хате. Затем Эмилию перенесли в ближайший двор Абломовича, где она скрывалась под разными именами (Коровинской, Щавинской), когда немного поправилась, Абломовичи привезли ее к себе домой как учительницу своих детей.
Эмилию полюбили все взрослые и дети. Чтобы не повредить здоровью, ей не говорили, что восстание окончилось трагично. Она узнала об этом только в конце октября - и это добило ее. Непрерывные суровые походы, нелегкие и для закаленных мужчин, душевный надлом - и ее больное сердце не выдержало. Через несколько недель - 23 декабря 1831 г. - смерть настигла отважную белорусскую девушку. Ее кончина как бы символизировала и конец восстания.
Стоит заметить, что неординарная линия судьбы Эмилии Плятер некоторым образом продолжалась и после ее смерти. Интересные документы о ней попадаются в Минском историческом архиве. В 1833 году разбитые повстанцы, как известно, сделали попытку вернуться из-за границы в Польшу, Литву, Беларусь, чтобы снова поднять знамя борьбы. Тогда в переписке представителей русской администрации снова появилось имя нашей героини (так как не все еще знали о ее судьбе, власти по-прежнему считали Эмилию Плятер опасной). В августе того же года виленский генерал-губернатор князь Долгоруков сообщил своему коллеге в Витебске князю Хованскому слух о том, будто бы Эмилия Плятер, живая и здоровая, тайно привезена из-за границы в Талюны, имение графа Плятера на Ковенщине. Говорили, что привез ее в своем экипаже графский управляющий дворянин Минхгаузен. Несмотря на определенную литературность фамилии , выяснилось, что такой управляющий действительно есть, но привез он всего только землячку Эмилии, юную дочку некого дворянина Немчинского из Динабургского повета. Относительно же судьбы нашей героини тот же Долгоруков сообщил собранные известия, что до взятия Варшавы (8 сентября 1831 года) она находилась в районе Сейненской округи "в разных местах у помещиков под названием Щавинской и потом в деревне Юстиново у г. Абломовича, будучи больна, объявила перед кончиною настоящее имя и умерла".
Карательная машина работала на полную мощность. Коснулось это и нашей героини. Посмертно она была причислена к разряду государственных преступников, все ее имения и имущество были конфискованы. Тогда, видимо, и погибли белорусские рукописи Плятер, что упоминаются в описи имущества, рукописи, которых мы уже никогда не увидим, которым и цены нет. Кто знает, кого утратила наша земля, какой талант сгорел в самом начале своего пути, что могло бы вырасти из этой девушки, проживи она дольше? Вместо этого мы видим страшную, трагическую судьбу.
Это она из плеяды тех белорусов-"литвинов", которые жили в то время, когда денационализация делала из людей патриотов с раздвоенным сознанием. Когда сегодняшнего понятия "Беларусь" не существовало. Когда этим названием называлась часть ее, а часть - Литвой. Когда у лучших представителей страны самосознание было белорусско-польским . Когда гении от безысходности становились гениями соседних наций, что сегодня и позволяет присваивать их другим.
Об Эмилии говорили уже во время восстания. Из уст в уста передавали о ней рассказы, которые обрастали фантазиями и легендами. Известия о героизме бесстрашной "литвинки", новой Жанны д'Арк, как ее стали называть, разлетелись по всему миру. В Париже ставился спектакль, где центральной героиней была белорусская девушка. Художники писали о ней картины. Ее имя вошло в легенды, по свежим следам она воспета в известном стихотворении Мицкевича "Смерть полковника", в многочисленных произведениях других писателей и поэтов Польши, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Англии. О ней рассказывают романы и драмы, в ее честь названа одна из центральных улиц Варшавы, ей ставятся памятники.
Ярош МАЛИШЕВСКИЙ
Мир до победного конца.
К 1932 году Сталин уже вылепил общество, готовое воспринимать реальность не собственными органами чувств, а через газеты - черным по белому. И придумал для него все необходимые мифы - черным по белому. Вождь был гениальным режиссером и психологом. Он дал одураченным до идиотизма людям самое главное - ощущение своей ценности, нужности и благородства. Сплоченное сталинскими мифами общество сумело пережить и самого вождя и его имидж и формальную смену государственной системы.
Это вождь придумал, что идейный коммунист - не тот, кто разделяет коммунистические идеи, а тот кто слушается начальства. До сих пор массы людей считают, что совсем недавно они были идейными коммунистами.
Это вождь придумал бессмысленно-расистское понятие - наследственную „национальность“. И сегодня по-прежнему для миллионов людей запись в паспорте - основа для национальной самоидентификации.
Это вождь назвал мероприятие по созданию всесоюзного концлагеря, выпускающего военную технику, красивым словом „индустриализация“. Сегодня, как и тогда, советские люди уверены, что их отцы и деды строили гражданскую экономику и таким образом улучшали жизнь.
Вождь объяснил населению, что непрерывно готовясь к войне и вооружаясь, мы тем самым боремся за мир. Миролюбивая политика СССР тридцатых годов сегодня практически не ставится под сомнение.
Вождь объяснил народу, что Финляндия на нас напала, половину Польши и часть Румынии мы защитили, а Прибалтика сама попросилась к нам в объятия. В 2010 году, как и в 1941-м, почти все бывшие советские люди уверены, что войну СССР начал 22 июня 1941 года в качестве жертвы агрессии, а не на полтора года раньше и в качестве агрессора.
Мы по прежнему живем в обществе пронизанном сталинскими историческими и общественными мифами. Разрушить их оказалось гораздо труднее, чем избавиться от власти партии, еще при Сталине переставшей быть коммунистической.
Среди этих мифов легенда о советском антифашизме и благородной роли СССР во второй мировой войне - один из самых ключевых и самых болезненных. Для очень многих советский военный патриотизм - это та граница, на которой кончаются и диссидентство, и демократизм, и и исторические знания, и просто здравый смысл.
Это хорошо видно по дисскусии вокруг книг Виктора Суворова. Мы должны быть благодарны Суворову дважды - за важные исторические исследования, закрывшие гигантские белые пятна в советской истории, и за невольный социальный эксперимент, выявивший нынешние состояния советской психологии и советского мировосприятия.
В нападках на Суворова есть психологически странные моменты. Его недоброжелатели воспринимают к качестве главного оскорбления (и главной идеи книги) тезис о предполагаемом нападении Сталина на Гитлера в июле 1941 года. Все усилия противников Суворова направлены на то, чтобы доказать - нет, не хотели, не готовы были, а если и хотели, то не раньше 1942-го.
Казалось бы, чего плохого в превентивном нападении на Германию? Если уж на Финляндию напали, то на Гитлера - сам бог велел. Англия же напала и никто ее в этом не винит. Тем более, что злодейские намерения Гитлера, ни тогда, ни сейчас сомнений не вызывают. Опровергнуть весь грандиозный комплекс доказательств Суворова еще никто не сумел, но усилий, и, главное нервов, тратится масса. Почему?
Есть причина. Собирался или не собирался Сталин напасть на Германию 6 июля 1941 - это не главный тезис Суворова, но он - та ниточка , потянув за которую, можно легко обрушить всю годами отлаженную систему советского мировосприятия.
Главный тезис Суворова - Сталин пятнадцать лет готовил начало второй мировой войны. Он подчинил этой идее всю экономику страны, поработил и обманул население. Превратил его в тупое и доверчивое пушечное мясо. Ему было все равно на кого нападать сначала; он нападал не на Германию или Польшу, он нападал на весь мир. Он использовал Гитлера, как ледокол, чтобы взломать мир в Европе и ждал, кто первый покажет ему спину, чтобы вцепиться в нее с наименьшими потерями.
Советское общество удивительно легко и с достоинством преодолело развал руководящей идеологии. Стандартное объяснение советского прошлого выглядит приблизительно так: - у нас была великая идея, звала только к хорошему, мы напрягали все силы для всеобщего счастья. Идея оказалась ошибочной , эксперимент не удался. Вожди обманули нашу доверчивость. Мы жертвы, но жертвы честные. Раньше мы честно верили в коммунизм, а теперь честно перестали. Но в самые трудные годы мы были антифашистами и боролись за мир. Поэтому спасли Европу от фашизма.
Суворовский анализ внутренней, внешней и экономической политики СССР в тридцатые годы лишает нас роскоши такого самооправдания. Его версия гласит - не было никакой ошибочной, но благородной идеи. Сталинский режим к коммунистической утопии отношения не имел и реализовывать ее не собирался. Был пахан с людоедскими наклонностями и чисто бандитскими планами. Он развратил население страны. Частью уничтожил, частью превратил в бандитов и заставил эти планы выполнять. У Сталина, а, следовательно, и у советского народа, и у Красной армии не было иных целей, кроме преступных. Агрессивная природа СССР не менялась от того, нападал ли он, оборонялся или мирно выжидал удобного момента. Не реагировать при этом на полное несовпадение с окружающей реальностью того, что писалось тогда в СССР черным по белому в газетах, мог либо законченный циник, либо одуревший от страха обыватель. О честности говорит не приходится. Рассчитывать на понимание можно, но гордиться нечем.
Неприятие такого, по моему абсолютно правильного подхода, объединило казалось бы совсем разных людей - от казенных советских военных историков до диссидентов. Среди последних писатель Георгий Владимов, выступивший дважды. Сначала в „Московских новостях“ против Суворова , а потом в „Русской мысли“ против возразивших ему „суворовцев“ - Анатолия Копейкина, Тимура Музаева . Статья Владимова в РМ очень большая и очень раздраженная. Больше, чем сам Суворов, Владимова раздражают его единомышленники. Суворова и „суворовцев“ писатель считает профессиональными еретиками, из чистого азарта ставящими вверх ногами давно устоявшиеся истины - „Каспийское море впадает в Волгу, овес кушает лошадей - вот истинный Суворов.“ К тому же они еще и молодые циники- „ не размякнут перед обидой участника ВОВ, когда ему доказывают, что не родину он защитил, а преступный агрессивный замысел“.
Отвечаю - размякну. Очень жалко несчастных обманутых людей. Но и размякнув, не смогу считать „участника ВОВ“, подавлявшего танками парламентские движение в оккупированной восточной Европе антифашистом и освободителем. Потому что взгляд на такие вещи определяется не возрастом и чувствительностью, а совестью и здравым смыслом. Потому что знаю ничтожно мало „участников ВОВ“, которые бы размякли перед обидой узников Заксенхаузена 1945-50 годов. Или перед обидой сотен тысяч собственных соотечественников из перемещенных лиц, с их помощью отправленных в ГУЛАГ в 1945-ом. От этого их еще больше жалко.
Вчитываясь в статью Владимова приходишь к действительно еретической мысли - похоже писатель критикуемого автора просто не читал. Иначе не возникли бы такие пассажи - „дилетантской пустотой сияют объяснения: мы потому терпели поражения, что готовились напасть, а пришлось защищаться. Да какие же дураки готовя нападение, не предусмотрят упреждающий удар! Если б как должно подготовились к нападению, как-нибудь бы и защитились“ . Суворов едва ли не целую книгу посвятил объяснениям и доказательствам того, почему Сталин не мог одновременно готовить оборону и нападение. Может он и не прав, так объясните где и в чем. Отвергать тезис, зная, что существуют доказательства и не пытаясь их опровергнуть, по меньшей мере недобросовестно.
Немногие приведенные Владимовым аргументы выглядят странно. Например, сформированные на границе воздушно-десантные корпуса (по Суворову - чисто наступательные части), Владимов считает пригодными к обороне: „представим себе тыл наступающего противника... - и какой „девичий переполох“ навели бы там сыплющиеся с неба войска“. Конечно, навели бы. Только, зачем?. Задачи легковооруженных десантников не „девичий переполох“ в тылах наводить, а захватывать плацдарм при наступлении и удерживать до подхода основных сил. Тылы лучше бомбами закидывать - эффективнее, дешевле и гуманнее. Бомбы одноразовые, а десантников жалко.
Очень неубедительно возражая против предполагаемого сталинского нападения на Германию, Владимов не замечает, а следовательно и не опровергает главное содержание книг Суворова - цельный и логичный анализ всей сталинской политики тридцатых годов, смысл которой - подготовка и развязывание второй мировой войны. Тут ситуация серьезней, просто сказать - это не так - нельзя. Нужно дать свою версию, что значит, волей-неволей, вернуться к скомпрометированной казенной советской версии хронического советского миролюбия. Третьего варианта пока еще никто не придумал.
Владимов считает все аргументы Суворова второстепенными, поскольку нет главных доказательств - „В архивах не найдены документы, равнозначные немецкой директиве №21 (план Барбаросса)...“. На это можно было бы возразить, что реальная подготовка к наступлению есть достаточное доказательство его существования. Что секретные протоколы к пакту Молотов-Риббентроп были найдены в сорок пятом, признаны СССР на полстолетия позже, а очевидность их существования стала ясна 1 сентября 1939 года. Но парадокс в том, что документы „равнозначные плану Барбаросса“ найдены и довольно давно.
Историк Татьяна Бушуева, соавтор книги „Фашистский меч ковался в СССР“ (совместно с Ю. Дьяковым) напечатала в „Новом мире“ рецензию на книги Виктора Суворова „Ледокол“ и „День М“. Рецензия однозначно хвалебная. Автор подтверждает взгляды Суворова собственными материалами. Среди них обнаруженный Т.Бушуевой в бывшем Особом архиве СССР документ (Центр хранения историко-документальных коллекций, ф.7, оп.1, д 1223). Это стенограмма речи Сталина на заседании Политбюро и руководства Коминтерна 19 августа 1939 года, за четыре дня до подписания пакта Молотов-Риббентроп.
Вождь дает ориентировку корешам. Основные тезисы: мы сейчас можем предотвратить войну, но это нам невыгодно. Если мы договоримся с Германией, она нападет на Польшу и Англия с Францией вступят в войну. В Европе начнутся волнения и беспорядки и „...мы сможем надеятся на наше выгодное вступление в войну“. Война нужна, потому что в мирное время у нас нет шансов захватить власть в Европе. Нам не выгодна ни быстрая победа, ни быстрое поражение Германии. Чем дольше будет длиться война, тем больше у нас шансов.
Текст известен по французской копии, сделанной, вероятно, кем-то из Коминтерна. Оригинал по-прежнему засекречен, но пока никто не попытался объявить текст фальшивкой.
В 1995 году в Москве вышел сборник научных статей под названием „Готовил ли Сталин наступательную войну с Гитлером? Незапланированная дискуссия“ (составитель В. Невежин). Большинство авторов поддерживает версию Суворова и дополняет ее новыми материалами. В предисловии сказано: „...В первой половине 90-х гг. были введены в оборот важные документы, проливающие свет на военно-политические замыслы Сталина в предверие войны. Военным историкам удалось опубликовать ранее засекреченные тексты планов стратегического развертывания, разрабатывавшихся в 1940-41 гг в Наркомате обороны и в Генеральном штабе. Особый интерес вызвали „Соображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками (май 1941 г...) Выявлены важные директивные материалы весны-лета 1941 года, относящиеся к перестройке советской пропаганды в наступательном духе...“. Для кандидата исторических наук, полковника в отставке В. Данилова, автора статьи „Готовил ли генеральный штаб Красной армии упреждающий удар по Германии?“ упомянутые „Соображения...“ являются „основным документом, который дает основание утверждать о намерении советского руководства нанести упреждающий удар против Германии...“.
Так что не только нахальные дилетанты составляют ряды „суворовцев“. С нами также и покойный Окуджава, сказавший в интервью „Литгазете“ : „Суворова прочитал с интересом... Мне трудно усомниться в том, что мы тоже готовились к захватническому маршу, просто нас опередили, и мы вынуждены были встать на защиту своей страны“ („ЛГ“, 11.05.94)
Для историка сталинской архитектуры, книги Суворова бесценный и абсолютно непротиворечивый материал, склеивающий воедино во многом еще мозаичную и неясную картину сталинской культуры и сталинского государства. Вождь был действительно гений, он моделировал свое общество тщательно и во всех деталях, никогда не упуская из виду главную цель. На эту цель работали инженеры, генералы, архитекторы, писатели и режиссеры.
В апреле 1941 года журнал „Архитектура СССР“ публикует материалы архитектурного конкурса, в котором приняли участие все ведущие зодчие СССР. Тема - „здание для панорамы „Штурм Перекопа“. Может это, конечно, чистая случайность, что именно весной сорок первого Сталину понадобились архитектурные символы побед Красной армии.
Но мне так не кажется.
Д.Хмельницкий
Это вождь придумал, что идейный коммунист - не тот, кто разделяет коммунистические идеи, а тот кто слушается начальства. До сих пор массы людей считают, что совсем недавно они были идейными коммунистами.
Это вождь придумал бессмысленно-расистское понятие - наследственную „национальность“. И сегодня по-прежнему для миллионов людей запись в паспорте - основа для национальной самоидентификации.
Это вождь назвал мероприятие по созданию всесоюзного концлагеря, выпускающего военную технику, красивым словом „индустриализация“. Сегодня, как и тогда, советские люди уверены, что их отцы и деды строили гражданскую экономику и таким образом улучшали жизнь.
Вождь объяснил населению, что непрерывно готовясь к войне и вооружаясь, мы тем самым боремся за мир. Миролюбивая политика СССР тридцатых годов сегодня практически не ставится под сомнение.
Вождь объяснил народу, что Финляндия на нас напала, половину Польши и часть Румынии мы защитили, а Прибалтика сама попросилась к нам в объятия. В 2010 году, как и в 1941-м, почти все бывшие советские люди уверены, что войну СССР начал 22 июня 1941 года в качестве жертвы агрессии, а не на полтора года раньше и в качестве агрессора.
Мы по прежнему живем в обществе пронизанном сталинскими историческими и общественными мифами. Разрушить их оказалось гораздо труднее, чем избавиться от власти партии, еще при Сталине переставшей быть коммунистической.
Среди этих мифов легенда о советском антифашизме и благородной роли СССР во второй мировой войне - один из самых ключевых и самых болезненных. Для очень многих советский военный патриотизм - это та граница, на которой кончаются и диссидентство, и демократизм, и и исторические знания, и просто здравый смысл.
Это хорошо видно по дисскусии вокруг книг Виктора Суворова. Мы должны быть благодарны Суворову дважды - за важные исторические исследования, закрывшие гигантские белые пятна в советской истории, и за невольный социальный эксперимент, выявивший нынешние состояния советской психологии и советского мировосприятия.
В нападках на Суворова есть психологически странные моменты. Его недоброжелатели воспринимают к качестве главного оскорбления (и главной идеи книги) тезис о предполагаемом нападении Сталина на Гитлера в июле 1941 года. Все усилия противников Суворова направлены на то, чтобы доказать - нет, не хотели, не готовы были, а если и хотели, то не раньше 1942-го.
Казалось бы, чего плохого в превентивном нападении на Германию? Если уж на Финляндию напали, то на Гитлера - сам бог велел. Англия же напала и никто ее в этом не винит. Тем более, что злодейские намерения Гитлера, ни тогда, ни сейчас сомнений не вызывают. Опровергнуть весь грандиозный комплекс доказательств Суворова еще никто не сумел, но усилий, и, главное нервов, тратится масса. Почему?
Есть причина. Собирался или не собирался Сталин напасть на Германию 6 июля 1941 - это не главный тезис Суворова, но он - та ниточка , потянув за которую, можно легко обрушить всю годами отлаженную систему советского мировосприятия.
Главный тезис Суворова - Сталин пятнадцать лет готовил начало второй мировой войны. Он подчинил этой идее всю экономику страны, поработил и обманул население. Превратил его в тупое и доверчивое пушечное мясо. Ему было все равно на кого нападать сначала; он нападал не на Германию или Польшу, он нападал на весь мир. Он использовал Гитлера, как ледокол, чтобы взломать мир в Европе и ждал, кто первый покажет ему спину, чтобы вцепиться в нее с наименьшими потерями.
Советское общество удивительно легко и с достоинством преодолело развал руководящей идеологии. Стандартное объяснение советского прошлого выглядит приблизительно так: - у нас была великая идея, звала только к хорошему, мы напрягали все силы для всеобщего счастья. Идея оказалась ошибочной , эксперимент не удался. Вожди обманули нашу доверчивость. Мы жертвы, но жертвы честные. Раньше мы честно верили в коммунизм, а теперь честно перестали. Но в самые трудные годы мы были антифашистами и боролись за мир. Поэтому спасли Европу от фашизма.
Суворовский анализ внутренней, внешней и экономической политики СССР в тридцатые годы лишает нас роскоши такого самооправдания. Его версия гласит - не было никакой ошибочной, но благородной идеи. Сталинский режим к коммунистической утопии отношения не имел и реализовывать ее не собирался. Был пахан с людоедскими наклонностями и чисто бандитскими планами. Он развратил население страны. Частью уничтожил, частью превратил в бандитов и заставил эти планы выполнять. У Сталина, а, следовательно, и у советского народа, и у Красной армии не было иных целей, кроме преступных. Агрессивная природа СССР не менялась от того, нападал ли он, оборонялся или мирно выжидал удобного момента. Не реагировать при этом на полное несовпадение с окружающей реальностью того, что писалось тогда в СССР черным по белому в газетах, мог либо законченный циник, либо одуревший от страха обыватель. О честности говорит не приходится. Рассчитывать на понимание можно, но гордиться нечем.
Неприятие такого, по моему абсолютно правильного подхода, объединило казалось бы совсем разных людей - от казенных советских военных историков до диссидентов. Среди последних писатель Георгий Владимов, выступивший дважды. Сначала в „Московских новостях“ против Суворова , а потом в „Русской мысли“ против возразивших ему „суворовцев“ - Анатолия Копейкина, Тимура Музаева . Статья Владимова в РМ очень большая и очень раздраженная. Больше, чем сам Суворов, Владимова раздражают его единомышленники. Суворова и „суворовцев“ писатель считает профессиональными еретиками, из чистого азарта ставящими вверх ногами давно устоявшиеся истины - „Каспийское море впадает в Волгу, овес кушает лошадей - вот истинный Суворов.“ К тому же они еще и молодые циники- „ не размякнут перед обидой участника ВОВ, когда ему доказывают, что не родину он защитил, а преступный агрессивный замысел“.
Отвечаю - размякну. Очень жалко несчастных обманутых людей. Но и размякнув, не смогу считать „участника ВОВ“, подавлявшего танками парламентские движение в оккупированной восточной Европе антифашистом и освободителем. Потому что взгляд на такие вещи определяется не возрастом и чувствительностью, а совестью и здравым смыслом. Потому что знаю ничтожно мало „участников ВОВ“, которые бы размякли перед обидой узников Заксенхаузена 1945-50 годов. Или перед обидой сотен тысяч собственных соотечественников из перемещенных лиц, с их помощью отправленных в ГУЛАГ в 1945-ом. От этого их еще больше жалко.
Вчитываясь в статью Владимова приходишь к действительно еретической мысли - похоже писатель критикуемого автора просто не читал. Иначе не возникли бы такие пассажи - „дилетантской пустотой сияют объяснения: мы потому терпели поражения, что готовились напасть, а пришлось защищаться. Да какие же дураки готовя нападение, не предусмотрят упреждающий удар! Если б как должно подготовились к нападению, как-нибудь бы и защитились“ . Суворов едва ли не целую книгу посвятил объяснениям и доказательствам того, почему Сталин не мог одновременно готовить оборону и нападение. Может он и не прав, так объясните где и в чем. Отвергать тезис, зная, что существуют доказательства и не пытаясь их опровергнуть, по меньшей мере недобросовестно.
Немногие приведенные Владимовым аргументы выглядят странно. Например, сформированные на границе воздушно-десантные корпуса (по Суворову - чисто наступательные части), Владимов считает пригодными к обороне: „представим себе тыл наступающего противника... - и какой „девичий переполох“ навели бы там сыплющиеся с неба войска“. Конечно, навели бы. Только, зачем?. Задачи легковооруженных десантников не „девичий переполох“ в тылах наводить, а захватывать плацдарм при наступлении и удерживать до подхода основных сил. Тылы лучше бомбами закидывать - эффективнее, дешевле и гуманнее. Бомбы одноразовые, а десантников жалко.
Очень неубедительно возражая против предполагаемого сталинского нападения на Германию, Владимов не замечает, а следовательно и не опровергает главное содержание книг Суворова - цельный и логичный анализ всей сталинской политики тридцатых годов, смысл которой - подготовка и развязывание второй мировой войны. Тут ситуация серьезней, просто сказать - это не так - нельзя. Нужно дать свою версию, что значит, волей-неволей, вернуться к скомпрометированной казенной советской версии хронического советского миролюбия. Третьего варианта пока еще никто не придумал.
Владимов считает все аргументы Суворова второстепенными, поскольку нет главных доказательств - „В архивах не найдены документы, равнозначные немецкой директиве №21 (план Барбаросса)...“. На это можно было бы возразить, что реальная подготовка к наступлению есть достаточное доказательство его существования. Что секретные протоколы к пакту Молотов-Риббентроп были найдены в сорок пятом, признаны СССР на полстолетия позже, а очевидность их существования стала ясна 1 сентября 1939 года. Но парадокс в том, что документы „равнозначные плану Барбаросса“ найдены и довольно давно.
Историк Татьяна Бушуева, соавтор книги „Фашистский меч ковался в СССР“ (совместно с Ю. Дьяковым) напечатала в „Новом мире“ рецензию на книги Виктора Суворова „Ледокол“ и „День М“. Рецензия однозначно хвалебная. Автор подтверждает взгляды Суворова собственными материалами. Среди них обнаруженный Т.Бушуевой в бывшем Особом архиве СССР документ (Центр хранения историко-документальных коллекций, ф.7, оп.1, д 1223). Это стенограмма речи Сталина на заседании Политбюро и руководства Коминтерна 19 августа 1939 года, за четыре дня до подписания пакта Молотов-Риббентроп.
Вождь дает ориентировку корешам. Основные тезисы: мы сейчас можем предотвратить войну, но это нам невыгодно. Если мы договоримся с Германией, она нападет на Польшу и Англия с Францией вступят в войну. В Европе начнутся волнения и беспорядки и „...мы сможем надеятся на наше выгодное вступление в войну“. Война нужна, потому что в мирное время у нас нет шансов захватить власть в Европе. Нам не выгодна ни быстрая победа, ни быстрое поражение Германии. Чем дольше будет длиться война, тем больше у нас шансов.
Текст известен по французской копии, сделанной, вероятно, кем-то из Коминтерна. Оригинал по-прежнему засекречен, но пока никто не попытался объявить текст фальшивкой.
В 1995 году в Москве вышел сборник научных статей под названием „Готовил ли Сталин наступательную войну с Гитлером? Незапланированная дискуссия“ (составитель В. Невежин). Большинство авторов поддерживает версию Суворова и дополняет ее новыми материалами. В предисловии сказано: „...В первой половине 90-х гг. были введены в оборот важные документы, проливающие свет на военно-политические замыслы Сталина в предверие войны. Военным историкам удалось опубликовать ранее засекреченные тексты планов стратегического развертывания, разрабатывавшихся в 1940-41 гг в Наркомате обороны и в Генеральном штабе. Особый интерес вызвали „Соображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками (май 1941 г...) Выявлены важные директивные материалы весны-лета 1941 года, относящиеся к перестройке советской пропаганды в наступательном духе...“. Для кандидата исторических наук, полковника в отставке В. Данилова, автора статьи „Готовил ли генеральный штаб Красной армии упреждающий удар по Германии?“ упомянутые „Соображения...“ являются „основным документом, который дает основание утверждать о намерении советского руководства нанести упреждающий удар против Германии...“.
Так что не только нахальные дилетанты составляют ряды „суворовцев“. С нами также и покойный Окуджава, сказавший в интервью „Литгазете“ : „Суворова прочитал с интересом... Мне трудно усомниться в том, что мы тоже готовились к захватническому маршу, просто нас опередили, и мы вынуждены были встать на защиту своей страны“ („ЛГ“, 11.05.94)
Для историка сталинской архитектуры, книги Суворова бесценный и абсолютно непротиворечивый материал, склеивающий воедино во многом еще мозаичную и неясную картину сталинской культуры и сталинского государства. Вождь был действительно гений, он моделировал свое общество тщательно и во всех деталях, никогда не упуская из виду главную цель. На эту цель работали инженеры, генералы, архитекторы, писатели и режиссеры.
В апреле 1941 года журнал „Архитектура СССР“ публикует материалы архитектурного конкурса, в котором приняли участие все ведущие зодчие СССР. Тема - „здание для панорамы „Штурм Перекопа“. Может это, конечно, чистая случайность, что именно весной сорок первого Сталину понадобились архитектурные символы побед Красной армии.
Но мне так не кажется.
Д.Хмельницкий
ГИТЛЕР И СТАЛИН В ПОИСКАХ СЕПАРАТНОГО МИРА
Кого из наших современников не восхищали хитроумные деяния советского разведчика Штирлица, срывающего планы высших чинов нацистской Германии установить сепаратный мир с западными союзниками СССР? Наблюдая за интригующей сюжетной линией, талантливой игрой актеров, сегодня мало кто задумывается над навеянной эпохой «холодной войны» пропагандистской задачей знаменитого шпионского телесериала, суть которой заключалась в том, чтобы продемонстрировать советскому зрителю безнравственность и коварство англо-американских партнеров по антигитлеровской коалиции. Между тем и спустя полвека реальная история секретной дипломатии времен Второй мировой войны во многом остается неизвестной, храня тайны, способные перевернуть наши привычные представления о ней. Вспомним, к примеру, какой эффект произвели не так давно обнародованные российским руководством оригиналы секретных протоколов 1939 г. о разделе сфер влияния между А.Гитлером и И.Сталиным? Полной неожиданностью стали также появившиеся в прессе и кажущиеся невероятными данные о тайных контактах между двумя диктаторами летом 1941 г., уже после нападения Германии на СССР. Впрочем, в действительности этот эпизод стал лишь прелюдией советско-германских сепаратных контактов, которые возобновились в конце 1942 г. и уже не прекращались до конца Великой войны. Что же известно о поисках И.Сталиным и А.Гитлером путей к сепаратному миру?
Москва или Лондон: нацистская верхушка решает сложную дилемму
Сближение Германии с Советским Союзом в конце 30-х годов и начавшаяся вскоре война против Франции и Великобритании были неоднозначно восприняты правящей элитой Третьего рейха. Идея министра иностранных дел И. фон Риббентропа о создании континентального блока, предполагавшая участие СССР в разделе Британской империи, не казалась слишком привлекательной для ряда прозападнически настроенных нацистских бонз, среди которых были Г.Геринг, В.фон Браухич, А.Розенберг и др. Явным проявлением этого внутреннего конфликта стала «миссия Гесса» — загадочный полет 10 мая 1941 г. одного из лидеров нацистской партии в Великобританию с целью заключения сепаратного мира. Как можно судить на основании недавно рассекреченных документов Британского государственного архива, эта миссия не была санкционирована А.Гитлером и не готовилась британскими спецслужбами. Более того, сокрытие информации о готовящемся нападении Германии на Советский Союз, тривиальный характер его признаний — с одной стороны, а с другой стороны — принципиальное нежелание правительства Великобритании идти на мировую с нацистским режимом очень скоро привели к утрате всякого интереса британских политиков к высокопоставленному нацистскому пленнику. Сообщая в своем письме президенту США Ф.Рузвельту о предложениях Р.Гесса, премьер-министр Великобритании У.Черчилль презрительно назвал их «старым приглашением покинуть всех наших друзей, чтобы временно спасти большую часть своей шкуры».
Между тем полет Р.Гесса в Великобританию вызвал подозрения И.Сталина относительно возможной перспективы англо-немецкого сговора. Присутствие нацистского лидера в Соединенном Королевстве на протяжении всей войны только подкрепляло эти опасения. Не случайно осенью 1942 г., в разгар дебатов об открытии второго фронта, И.Сталин прямо обвинил У.Черчилля в том, что тот «держит Гесса в резерве».
После поражения вермахта под Москвой и очевидного провала идеи блицкрига вопросы о невозможности дальнейшего ведения войны на два фронта и о необходимости заключения сепаратного мира стали обсуждаться в нацистской верхушке предметно. Определенная часть военных (генерал Л.Бек, доктор К.Гёрделер, адмирал Ф.Канарис и др.) высказывалась за налаживание контактов с Британией и США, выдвигая в качестве главного аргумента организацию единого фронта борьбы «цивилизованного Запада» против «варварского коммунистического Востока». Однако подписание в январе 1943 г. в Касабланке руководителями США и Великобритании совместной Декларации, одним из важнейших положений которой стал пункт о безоговорочной капитуляции противника как основного условия для прекращения войны, фактически делало бесперспективными надежды нацистов на заключение мира с Западом и подталкивало их к поискам сепаратного мира с Советским Союзом.
Одним из наиболее влиятельных сторонников новой редакции союза А.Гитлера и И.Сталина был шеф внешнеполитического ведомства Третьего рейха И. фон Риббентроп. Сразу же после поражения под Москвой он предложил установить тайные контакты с Кремлем для заключения мира на условиях возвращения части советских территорий. Однако вскоре началось успешное наступление вермахта на юге России, и преисполненный радужных надежд нацистский вождь отказался от переговоров. Между тем ситуация на фронте продолжала изменяться. Удачная высадка десанта союзников в Северной Африке в конце 1942 г. (операция «Торч»), впечатляющая победа Красной Армии под Сталинградом в начале 1943 г. существенно подорвали военную и политическую мощь Германии. В этих условиях И.фон Риббентроп вновь поднял вопрос о сепаратном мире с «советами», но А.Гитлер опять прямо не дал на это своего согласия. Вместе с тем, беседуя с шефом внешнеполитического ведомства, фюрер продемонстрировал восхищение персоной И.Сталина, назвал его «исторической личностью огромного масштаба», «крупным противником», мечтательно пообещав к тому же предоставить ему наилучший из замков Германии в случае, если тот окажется в немецком плену. Любопытно, что вскоре в Берлине стали муссироваться настойчивые слухи о готовящейся поездке в Москву бывшего посла в СССР графа Ф. фон дер Шуленбурга для ведения переговоров о мире.
Еще одним влиятельным лицом в нацистской верхушке, непосредственно обсуждавшим с А.Гитлером вопрос о сепаратном мире с Советским Союзом и склонявшимся к таковому, был доктор Й.Геббельс. Как видно из дневниковой записи шефа нацистской пропаганды от 23 сентября 1943 г., обсуждая вопрос о возможности соглашения Германии с одной из воюющих сторон, фюрер отметил, что он предпочел бы начать переговоры с И.Сталиным, однако сомневается в их успехе. В конце 1944-го в письме к нацистскому вождю Й.Геббельс уже решительно настаивал на мире с Россией. Характерно, что при этом он указывал А.Гитлеру на то, что единоличное правление большевистского вождя выгодно отличает его, как партнера для переговоров, от лидеров США и Великобритании, ибо делает возможным для И. Сталина самостоятельно и быстро решить вопрос о заключении мира, вовсе не утруждая себя сложностями процедуры завоевания общественного мнения и сбора голосов политического большинства в парламенте…
Япония и Италия желают германо-советского примирения
В отличие от нацистского руководства, в среде которого высказывались различные мнения по вопросу о выборе партнера для заключения сепаратного мира, союзники гитлеровской Германии — Япония и Италия — не только однозначно склонялись в пользу мира со Сталиным, но и выражали решительную готовность выступить посредниками в этом деле.
Руководство обеих стран имело свои причины страстно желать примирения между Германией и СССР. В частности, Италия, серьезно опасаясь материковой интервенции англо-американских войск, надеялась на то, что соглашение Гитлера и Сталина позволит укрепить ее позиции за счет переброски на Апеннинский полуостров снятых с Восточного фронта соединений вермахта. Уже с весны 1943 г. Муссолини через посла Германии в Риме Г.-Г. фон Маккензина стал «бомбардировать» Берлин призывами о заключении мира с Россией. Дуче неоднократно высказывал эту идею и даже предлагал себя в качестве посредника на переговорах в письме к фюреру от 25 марта 1943 г., а также в ходе личных встреч с ним 6 и 10 апреля, состоявшихся в замке Клессхайм возле Зальцбурга в Австрии. Однако Гитлер уклонился от ответа лидеру итальянских фашистов — возможно, потому, что не верил в дипломатические способности Муссолини, а возможно, и потому, что все ещё надеялся на реванш на Востоке, где в это время велась интенсивная подготовка к летней наступательной кампании.
Склонялась к идее советско-германского мира и Страна восходящего солнца, руководство которой беспокоила реальная перспектива ведения войны на два фронта. Воюя против США на просторах Тихоокеанско-Азиатского региона, Япония была кровно заинтересована в сохранении мирных отношений с северным соседом. Более того, разрыв Сталина с англо-американскими союзниками и возможный выход СССР из войны могли бы создать благоприятную обстановку для дальнейшей экспансии японской империи.
Именно японцы в конце концов выступили посредниками в вопросе о советско-немецком сепаратном соглашении. В конце апреля 1943 г. в Берлин из Японии поступило сообщение о том, что «русские готовы сесть за стол переговоров о мире!» Тогда же японские представители сообщили Сталину о немецких условиях заключения перемирия: 1. СССР и Германия возвращаются к границам 1939 г. по реке Сан; 2. СССР передает Германии право контроля над сельским хозяйством Украины с одновременным созданием на этой территории «немецкого коридора» или Украинской автономии; 3. Германия возвращает России Бессарабию; 4. Одесса получает статус порто-франко; 5. Ближний Восток, за исключением Турции, но включая Египет (без нефтяных районов) переходит в сферу советского влияния; 6. Индия — в сферу советско-японского влияния. Ознакомив Кремль с этими предложениями, японские дипломаты заявили, что их страна готова выступить гарантом выполнения условий соглашения.
Встреча японских дипломатов со Сталиным в целом носила обнадеживающий характер. Первые были приятно удивлены, заметив на письменном столе советского руководителя фотопортрет Гитлера с дарственной надписью, а также хвалебными высказываниями большевистского вождя о немцах. Все это, по их мнению, свидетельствовало о том, что Сталин в целом был за подписание соглашения о мире. Такой же позиции, по дипломатическим источникам, придерживались в этот период и Л.Берия, Г.Жуков, некоторые другие представители высшего военного командования, а также часть членов политбюро ЦК ВКП(б).
Переговоры с японцами продолжались некоторое время в Москве, после чего Сталин предложил перенести обсуждение на конец августа 1943 г. Попытка Японии возобновить свою посредническую деятельность неожиданно провалилась: 14 сентября 1943 г. в ответ на поступившее в Стокгольмское посольство СССР предложение японского дипломата продолжить переговоры ТАСС официально заявил, что вопрос о мире с Германией не подлежит обсуждению. Советская сторона также проинформировала США о «сентябрьских инициативах» японцев. При этом сталинские дипломаты заверили своих коллег-американцев в том, что речь идет о «первой попытке японского правительства с начала войны взять на себя роль посредника в установлении мира».
Сталин колеблется: выбор союзников еще не закончен?
Как стало известно из мемуаров советского контрразведчика П.Судоплатова, после нападения немцев на СССР И.Сталин не утратил надежду на то, что ему все же удастся договориться с нацистским вождем о перемирии. В конце июля 1941-го по личному указанию Л.Берии состоялись предварительные переговоры П.Судоплатова с болгарским дипломатом о возможном посредничестве Болгарии в заключении мира между СССР и Германией. Встреча в московском ресторане «Арагви» проходила в обстановке чрезвычайной секретности. И неудивительно, ведь накануне, 12 июля 1941 г., между СССР и Великобританией было подписано соглашение о совместных действиях в войне против Германии (подтвержденное англо-советским договором от 26 мая 1942 г.), согласно которому стороны обязались «не вести никаких переговоров и не заключать мир с Германией и ее сообщниками иначе как по взаимному соглашению».
О том, что И.Сталин предпринимал попытки договориться с нацистским вождем и накануне Московской битвы, вспоминал маршал Г.Жуков. По его свидетельству, 7 октября 1941 г. Сталин дал указание Берии исследовать пути к установлению «брестского мира» с нацистами на условиях отказа от Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, а также части Украины. Агенты наркома внутренних дел через болгарского дипломата Столетова передали это предложение фюреру, который, находясь практически у стен Москвы, высокомерно его отверг.
Как это ни кажется парадоксальным, но от мысли о возможности заключения мира с Германией Сталин не отказался и год спустя. В определенной мере это объяснялось сложными отношениями СССР с западными союзниками — США и Великобританией. Последнюю еще накануне немецкого нападения И.Сталин считал большим врагом, чем Германия. По-прежнему оставался нерешенным вопрос об открытии второго фронта в Европе. Апелляции И.Сталина к тому, что Советский Союз почти два года сражается с врагом в Европе «один на один», парировались У.Черчиллем, который весьма многозначительно напоминал бывшему союзнику Гитлера о том, что до 1941 г. Британии также пришлось противостоять нацистской Германии практически в одиночестве. Отношения между союзниками не складывались и вследствие разногласий по довольно болезненному для И.Сталина территориальному вопросу, в частности относительно признания новых западных границ СССР. Не случайно еще 17—18 декабря 1941 г. во время переговоров с британским министром иностранных дел Э.Иденом И.Сталин прямо заявил, что, по его мнению, война с Германией началась собственно из-за западных границ СССР. «Вот из-за чего вся эта война на самом деле ведется, — подчеркнул он, — и я хочу знать: поддерживает ли нас наша союзница Великобритания в возобновлении владения ими?»
Все это отчасти может объяснить, почему сталинская политика относительно союзников в первые годы войны отличалась такой противоречивостью и нервозностью. Советская пресса то восхищалась высадкой союзников в Северной Африке, то упрекала их за отсутствие второго фронта, то жаловалась на недостаточную помощь по ленд-лизу, то, наоборот, выпячивала эту помощь. Вторжение американцев на Сицилию называли в Советском Союзе не иначе как «операция на острове Сицилия», подчеркивая ничтожность ее масштабов в сравнении с циклопическими битвами Красной Армии на Восточном фронте. Отметим попутно, что эта операция привела вскоре к падению режима Муссолини в Италии, что в свою очередь оказало сильное воздействие на Германию.
Колебания сталинской власти в выборе союзников улавливались и в самом советском обществе. Еще накануне Сталинградской битвы в среде эвакуированной в тыл украинской интеллигенции, по донесениям НКВД, циркулировали слухи о том, что якобы в советском правительстве обсуждаются перспективы сепаратного мира с Германией.
В апреле 1943 г. отношения между союзниками претерпели ряд испытаний. Именно тогда в связи с находкой немцами на оккупированной территории Смоленской области захоронения пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД, разразился Катынский скандал, который еще более охладил отношения между Москвой и Лондоном, в частности из-за разрыва дипломатических отношений между СССР и польским эммигрантским правительством, пребывавшем тогда в Великобритании. Некоторые историки усматривают также непосредственную связь между катынским скандалом и активизацией в апреле 1943-го советско-германских контактов. Следует, правда, отметить, что вскоре после этих событий Сталин распустил Коминтерн, уже давно муливший глаза Западу, что однозначно было расценено как шаг доброй воли.
Неопределенность во взаимоотношениях между И.Сталиным с одной стороны и У.Черчиллем и Ф.Рузвельтом с другой создавала в целом благоприятную почву для «просчитывания» сталинским руководством альтернативных вариантов в выборе союзников. Такая перспектива, учитывая тоталитарную природу нацистского и коммунистического режимов, а также недавнюю историю их тесных союзнических отношений, не могла не беспокоить руководство Великобритании и Соединенных Штатов.
Западные союзники обеспокоены слухами
о советско-германских контактах
Слухи о советско-германских сепаратных контактах появились в англо-американской дипломатической переписке в середине 1942 г., что заставило британское правительство через своего посла в Москве А. Кларка-Керра прямо поставить перед советским руководством вопрос о дальнейших намерениях СССР относительно Германии. Со второй половины 1943 г. в дипломатической переписке союзников информация о контактах между Москвой и Берлином стала приобретать устойчивый характер. Наиболее сенсационными и невероятными в этом контексте стали слухи о якобы имевшем место весной 1943 г. полете в советскую столицу рейхсминистра И. фон Риббентропа. Как свидетельствовали некоторые разведывательные и дипломатические донесения, немцы предложили заключить мир с установлением линии размежевания по Днепру, однако И.Сталин с этим не согласился, и переговоры зашли в тупик. «Сообщение о визите Риббентропа в Москву, — писал один из американских послов, — звучит так фантастически, что я бы никогда не отослал его в Штаты, если бы оно не поступило из одного очень достоверного источника» (из Ватикана. .).
Информация о том, что нацистский министр восемь дней провел в Кремле, ведя переговоры о сепаратном мире, вызвала настоящий переполох в стане союзников по антигитлеровской коалиции. Усиливали боязнь очередного сговора большевистского и нацистского вождей также муссировавшиеся в этот период слухи о японском посредничестве между Берлином и Москвой. Отметим, что история с посещением фон Риббентропом советской столицы до сих пор не нашла документального подтверждения. Сам нацистский министр в своих мемуарах вспоминал лишь о намерениях в конце 1944 г. вылететь в Москву для ведения сепаратных переговоров. Гитлер якобы запретил этот полет, напомнив фон Риббентропу печальный опыт Гесса. Впрочем то, что, ожидая исполнения приговора Нюрнбергского трибунала, экс-рейхсминистр не упомянул о «полете в Москву» весной 1943 г., все же не означает, что этих событий однозначно не было.
Если реальность с полета И. фон Риббентропа в Москву может быть поставлена под вопрос, то так называемые «стокгольмские» контакты между советской и германской сторонами в годы войны не вызывают никакого сомнения. Именно в нейтральной Швеции под крышей советского дипломатического представительства, возглавляемого большевичкой «дворянского происхождения» А.Коллонтай, сепаратные контакты между СССР и нацистской Германией обрели постоянное место прописки.
За закрытыми дверями советского посольства
в Стокгольме
Стокгольм в годы войны превратился в крупнейший центр всемирного шпионажа. Город был буквально нашпигован агентами различных спецслужб — английских, американских, советских, немецких. Что касается последних, то в Швеции действовали как представители сил, которые пытались наладить контакты с Великобританией и США (например, агентура абвера адмирала Ф.Канариса, а также гестапо и СС — VI отдела В.Шелленберга), так и те, которые стремились к «союзу с русскими».
Уже 12 декабря 1942 г. некто Йозеф Клаус (уроженец Украины, стокгольмский бизнесмен) установил личные контакты с немецкой агентурой в Швеции, передав предоставленную советскими дипломатами информацию о том, что Москва готова подписать перемирие. Сам Клаус был настроен оптимистически, всерьёз полагая, что «если немцы отведут войска.., то мир с Россией будет гарантирован за восемь дней!» Получив информацию из Стокгольма, фон Риббентроп немедленно направил в Швецию представителя для «прощупывания» перспектив переговоров с Москвой. Им стал Питер Кляйст — бывший сотрудник Министерства иностранных дел, а с 1943 г. служащий Восточного министерства А.Розенберга. Кляйст выехал в Швецию под предлогом решения вопроса о судьбе находившихся там эстонских беженцев.
Хотя советское предложение тогда не было принято немцами, все же стокгольмские контакты двух сторон в дальнейшем приобрели устойчивый характер. Судя по англо-американской дипломатической переписке, пик активности этих контактов пришелся именно на весну 1943 г.
В одном из донесений поверенного в делах США в Финляндии сообщалось о тайных переговорах, имевших место в Швеции в конце апреля 1943 г. между послом СССР А.Коллонтай и немецким дипломатом Томпсоном. Согласно этой информации, переговоры начались 18 апреля, продолжались несколько дней и затрагивали вопросы «создания автономного Украинского государства как буфера между СССР и Германией», «достижения сепаратного мира между двумя государствами и передачи Балтийских республик России».
Отметим, что в сообщениях об апрельских переговорах в Стокгольме, так же, как в случае с «японским посредничеством» и «полетом Риббентропа» в Москву, постоянно упоминалась Украина, сохранение которой под своим контролем рассматривалось немецкой стороной одним из принципиальных условий соглашения. Вполне возможно, что именно украинская проблема стала камнем преткновения в вопросе о заключении советско-германского мира и не позволила сторонам достигнуть компромисса. Несколько позднее одна из шведских газет опубликовала материал о советско-германских переговорах, якобы имевших место в Стокгольме, и об их прекращении ввиду несогласия по территориальным вопросам. Эта информация практически одновременно была опровергнута как Берлином, так и Москвой. Более того, советская сторона поспешила продемонстрировать свою якобы принципиальную позицию в этом вопросе. В приказе Сталина от 1 мая 1943 г. отвергалась сама идея мира с нацистами «до тех пор, пока в Германии при власти Гитлер и пока немецкая армия не будет разбита».
По мнению ряда исследователей, неуступчивость немцев по территориальным вопросам в ходе апрельских переговоров в определенной мере подтолкнула Сталина к созданию 12—13 июля 1943 г. комитета «Свободная Германия» — организации, которой предстояло содействовать созданию в будущем лояльной СССР Германии. Во время проходившей в Москве учредительной конференции этого комитета немцы вспоминали о «золотом правиле Бисмарка» — не нападать одновременно на Францию и Россию, а советские представители обещали им, в случае свержения Гитлера, независимость и суверенитет. Особую пикантность этим событиям придавало то, что о них ничего не было сообщено союзникам. Неудивительно, что на Западе это известие вызвало полнейшее замешательство. Вновь усилились подозрения, что в Москве готовят сепаратный мир с Германией, возможно, даже с Гитлером. В.Молотов вынужден был успокаивать британского посла заверениями о том, что создание комитета — исключительно пропагандистская акция, цель которой — «внести смятение в умы германского народа и его армии».
Несмотря на все перипетии, контакты в Стокгольме между советскими и немецкими представителями не прекращались и в дальнейшем. Так, летом 1943 г. в столице Швеции появился высокопоставленный советский дипломат А.Александров, который, согласно воспоминаниям П.Кляйста, вскоре принял участие в новом туре советско-германских контактов. В сентябре 1943 г. в Стокгольм с этой же целью прибыл заместитель наркома внутренних дел СССР, бывший посол Советского Союза в Германии В.Деканозов.
По позднейшим признаниям немцев, «стокгольмские переговоры» были прерваны Гитлером. По мнению фон Риббентропа, этому способствовали происки противников мира между Германией и СССР, которые запустили информацию о том, что якобы Клаус и Александров — евреи и их миссия не что иное, как «еврейский заговор». В свою очередь П.Кляйст, рассуждая в своих мемуарах о возможных причинах срыва переговоров, высказал предположение о том, что фюрер прекратил контакты с советской стороной, заподозрив Сталина в неискренности, — в частности, в том, что советский вождь «играл в переговоры» исключительно с целью давления на союзников.
В самом деле, после победоносной Курской битвы, когда Красная Армия овладела стратегической инициативой на всем советско-германском фронте, потребность в заключении мира с Гитлером утрачивала для Сталина прежний интерес. Между тем все более значимой становилась проблема послевоенного устройства мира. И в этом плане игра «на нервах» союзников, постоянно опасавшихся германско-советского сговора, приобретала совершенно новое звучание, однозначно обещая Сталину дивиденды.
Последнее стало очевидным уже в конце 1943 г. на Тегеранской конференции, в ходе которой главы Великобритании и США не только обязались открыть второй фронт в Европе, но также пошли на определенные уступки СССР в территориальных вопросах. Продолжая начатую игру, Сталин сам время от времени обвинял западных союзников в сепаратных контактах с немцами. Например, 17 января 1944 г. газета «Правда» опубликовала заметку под названием «Слухи из Каира», якобы переданную ее собственным корреспондентом. В ней сообщалось о том, что два высокопоставленных британских политика встречались с людьми фон Риббентропа по вопросу о сепаратном мире и что эти переговоры закончились небезрезультатно…
Летом-осенью 1944 г. в Стокгольме вновь оживились советско-немецкие контакты, причем на этот раз к ним оказались причастны высшие чины СС. Вероятно, поначалу переговоры развивались обнадеживающе для немецкой стороны, о чем свидетельствовал и такой факт. 17 сентября 1944 г. некоторые северогерманские газеты опубликовали материалы об инициированной Г.Гиммлером и возглавляемой бывшим советским генералом А.Власовым Конференции антибольшевистских народов. Вслед за этим из Берлина пришел приказ начальника Главного имперского управления безопасности Э.Кальтенбрунера немедленно весь тираж газет собрать и уничтожить. Решение это явно свидетельствовало о боязни немцев помешать ходу переговоров в Стокгольме. Когда 29 сентября переговоры зашли в тупик, в немецких газетах все же появилось краткое сообщение о соглашении с Власовым «использовать все силы русского народа в борьбе за освобождение их родины от большевизма».
В конце марта 1945 г., когда накануне германской капитуляции и предстоящего раздела сфер влияния в Европе трения в Большой тройке вновь усилились, И.Сталин обвинил У.Черчилля и Ф.Рузвельта в том, что они ведут с немцами в Швейцарии секретные переговоры о капитуляции. При этом он утверждал, что союзники, не настаивая на безоговорочной капитуляции немецких войск на западе, подталкивают таким образом немцев продолжать сопротивление Красной Армии на востоке. Отметим, кстати, что переговоры, которые вызвали возмущение Сталина, действительно имели место и носили кодовое название «Санрайз» (Черчилль называл их «Кроссворд»). Велись они между американским резидентом в Швейцарии А.Даллесом и генералом войск СС К.Вольфом и при всей неоднозначности все же имели главной целью капитуляцию крупной немецкой группировки в Италии. Неудивительно поэтому, что обвинение советского руководителя вызвали негодование Ф.Рузвельта, который с горячностью пожаловался У.Черчиллю на «гнусное, неправильное толкование» американских действий.
***
Таким образом, между нацистской Германией и Советским Союзом практически на протяжении всей войны поддерживались сепаратные контакты, пик интенсивности которых пришелся на период между Сталинградской и Курской битвами. Именно тогда стороны практически вплотную подошли к заключению соглашения о перемирии, которое не состоялось скорее всего из-за разногласий по территориальным вопросам. Впрочем, не реализовав идею сепаратного мира с Германией на практике, Сталин успешно использовал её как средство политического давления на союзников. Последние не только стали намного сговорчивее в вопросах о признании новых советских границ, но и закрыли глаза на очевидные преступления сталинского режима (наглядным примером этого стало «Катынское дело»).
Об аморальности сталинской политики уже так много было сказано и написано, что, казалось бы, тут вряд ли есть чему удивляться. И все же история с советско-нацистскими сепаратными контактами времен Второй мировой войны не может не поражать своей циничностью. Мир с Гитлером, заключи его Сталин в апреле 1943 г., стал бы предательством в отношении как союзников по антигитлеровской коалиции, так и собственного народа, несколько лет истекавшего кровью в борьбе с нацизмом. Видимо, совсем не случайно тема советско-немецких сепаратных контактов уже более 60 лет фактически остается запрещенной для исследования. Степень секретности и особый характер хранения документов, которые могли бы пролить свет на это дело, позволяют предполагать, что сталинская секретная дипломатия времен Второй мировой войны не скоро станет достоянием гласности и ещё долго будет оставаться, по образному выражению У.Черчилля, «тайной, покрытой мраком».
Владислав ГРИНЕВИЧ
Москва или Лондон: нацистская верхушка решает сложную дилемму
Сближение Германии с Советским Союзом в конце 30-х годов и начавшаяся вскоре война против Франции и Великобритании были неоднозначно восприняты правящей элитой Третьего рейха. Идея министра иностранных дел И. фон Риббентропа о создании континентального блока, предполагавшая участие СССР в разделе Британской империи, не казалась слишком привлекательной для ряда прозападнически настроенных нацистских бонз, среди которых были Г.Геринг, В.фон Браухич, А.Розенберг и др. Явным проявлением этого внутреннего конфликта стала «миссия Гесса» — загадочный полет 10 мая 1941 г. одного из лидеров нацистской партии в Великобританию с целью заключения сепаратного мира. Как можно судить на основании недавно рассекреченных документов Британского государственного архива, эта миссия не была санкционирована А.Гитлером и не готовилась британскими спецслужбами. Более того, сокрытие информации о готовящемся нападении Германии на Советский Союз, тривиальный характер его признаний — с одной стороны, а с другой стороны — принципиальное нежелание правительства Великобритании идти на мировую с нацистским режимом очень скоро привели к утрате всякого интереса британских политиков к высокопоставленному нацистскому пленнику. Сообщая в своем письме президенту США Ф.Рузвельту о предложениях Р.Гесса, премьер-министр Великобритании У.Черчилль презрительно назвал их «старым приглашением покинуть всех наших друзей, чтобы временно спасти большую часть своей шкуры».
Между тем полет Р.Гесса в Великобританию вызвал подозрения И.Сталина относительно возможной перспективы англо-немецкого сговора. Присутствие нацистского лидера в Соединенном Королевстве на протяжении всей войны только подкрепляло эти опасения. Не случайно осенью 1942 г., в разгар дебатов об открытии второго фронта, И.Сталин прямо обвинил У.Черчилля в том, что тот «держит Гесса в резерве».
После поражения вермахта под Москвой и очевидного провала идеи блицкрига вопросы о невозможности дальнейшего ведения войны на два фронта и о необходимости заключения сепаратного мира стали обсуждаться в нацистской верхушке предметно. Определенная часть военных (генерал Л.Бек, доктор К.Гёрделер, адмирал Ф.Канарис и др.) высказывалась за налаживание контактов с Британией и США, выдвигая в качестве главного аргумента организацию единого фронта борьбы «цивилизованного Запада» против «варварского коммунистического Востока». Однако подписание в январе 1943 г. в Касабланке руководителями США и Великобритании совместной Декларации, одним из важнейших положений которой стал пункт о безоговорочной капитуляции противника как основного условия для прекращения войны, фактически делало бесперспективными надежды нацистов на заключение мира с Западом и подталкивало их к поискам сепаратного мира с Советским Союзом.
Одним из наиболее влиятельных сторонников новой редакции союза А.Гитлера и И.Сталина был шеф внешнеполитического ведомства Третьего рейха И. фон Риббентроп. Сразу же после поражения под Москвой он предложил установить тайные контакты с Кремлем для заключения мира на условиях возвращения части советских территорий. Однако вскоре началось успешное наступление вермахта на юге России, и преисполненный радужных надежд нацистский вождь отказался от переговоров. Между тем ситуация на фронте продолжала изменяться. Удачная высадка десанта союзников в Северной Африке в конце 1942 г. (операция «Торч»), впечатляющая победа Красной Армии под Сталинградом в начале 1943 г. существенно подорвали военную и политическую мощь Германии. В этих условиях И.фон Риббентроп вновь поднял вопрос о сепаратном мире с «советами», но А.Гитлер опять прямо не дал на это своего согласия. Вместе с тем, беседуя с шефом внешнеполитического ведомства, фюрер продемонстрировал восхищение персоной И.Сталина, назвал его «исторической личностью огромного масштаба», «крупным противником», мечтательно пообещав к тому же предоставить ему наилучший из замков Германии в случае, если тот окажется в немецком плену. Любопытно, что вскоре в Берлине стали муссироваться настойчивые слухи о готовящейся поездке в Москву бывшего посла в СССР графа Ф. фон дер Шуленбурга для ведения переговоров о мире.
Еще одним влиятельным лицом в нацистской верхушке, непосредственно обсуждавшим с А.Гитлером вопрос о сепаратном мире с Советским Союзом и склонявшимся к таковому, был доктор Й.Геббельс. Как видно из дневниковой записи шефа нацистской пропаганды от 23 сентября 1943 г., обсуждая вопрос о возможности соглашения Германии с одной из воюющих сторон, фюрер отметил, что он предпочел бы начать переговоры с И.Сталиным, однако сомневается в их успехе. В конце 1944-го в письме к нацистскому вождю Й.Геббельс уже решительно настаивал на мире с Россией. Характерно, что при этом он указывал А.Гитлеру на то, что единоличное правление большевистского вождя выгодно отличает его, как партнера для переговоров, от лидеров США и Великобритании, ибо делает возможным для И. Сталина самостоятельно и быстро решить вопрос о заключении мира, вовсе не утруждая себя сложностями процедуры завоевания общественного мнения и сбора голосов политического большинства в парламенте…
Япония и Италия желают германо-советского примирения
В отличие от нацистского руководства, в среде которого высказывались различные мнения по вопросу о выборе партнера для заключения сепаратного мира, союзники гитлеровской Германии — Япония и Италия — не только однозначно склонялись в пользу мира со Сталиным, но и выражали решительную готовность выступить посредниками в этом деле.
Руководство обеих стран имело свои причины страстно желать примирения между Германией и СССР. В частности, Италия, серьезно опасаясь материковой интервенции англо-американских войск, надеялась на то, что соглашение Гитлера и Сталина позволит укрепить ее позиции за счет переброски на Апеннинский полуостров снятых с Восточного фронта соединений вермахта. Уже с весны 1943 г. Муссолини через посла Германии в Риме Г.-Г. фон Маккензина стал «бомбардировать» Берлин призывами о заключении мира с Россией. Дуче неоднократно высказывал эту идею и даже предлагал себя в качестве посредника на переговорах в письме к фюреру от 25 марта 1943 г., а также в ходе личных встреч с ним 6 и 10 апреля, состоявшихся в замке Клессхайм возле Зальцбурга в Австрии. Однако Гитлер уклонился от ответа лидеру итальянских фашистов — возможно, потому, что не верил в дипломатические способности Муссолини, а возможно, и потому, что все ещё надеялся на реванш на Востоке, где в это время велась интенсивная подготовка к летней наступательной кампании.
Склонялась к идее советско-германского мира и Страна восходящего солнца, руководство которой беспокоила реальная перспектива ведения войны на два фронта. Воюя против США на просторах Тихоокеанско-Азиатского региона, Япония была кровно заинтересована в сохранении мирных отношений с северным соседом. Более того, разрыв Сталина с англо-американскими союзниками и возможный выход СССР из войны могли бы создать благоприятную обстановку для дальнейшей экспансии японской империи.
Именно японцы в конце концов выступили посредниками в вопросе о советско-немецком сепаратном соглашении. В конце апреля 1943 г. в Берлин из Японии поступило сообщение о том, что «русские готовы сесть за стол переговоров о мире!» Тогда же японские представители сообщили Сталину о немецких условиях заключения перемирия: 1. СССР и Германия возвращаются к границам 1939 г. по реке Сан; 2. СССР передает Германии право контроля над сельским хозяйством Украины с одновременным созданием на этой территории «немецкого коридора» или Украинской автономии; 3. Германия возвращает России Бессарабию; 4. Одесса получает статус порто-франко; 5. Ближний Восток, за исключением Турции, но включая Египет (без нефтяных районов) переходит в сферу советского влияния; 6. Индия — в сферу советско-японского влияния. Ознакомив Кремль с этими предложениями, японские дипломаты заявили, что их страна готова выступить гарантом выполнения условий соглашения.
Встреча японских дипломатов со Сталиным в целом носила обнадеживающий характер. Первые были приятно удивлены, заметив на письменном столе советского руководителя фотопортрет Гитлера с дарственной надписью, а также хвалебными высказываниями большевистского вождя о немцах. Все это, по их мнению, свидетельствовало о том, что Сталин в целом был за подписание соглашения о мире. Такой же позиции, по дипломатическим источникам, придерживались в этот период и Л.Берия, Г.Жуков, некоторые другие представители высшего военного командования, а также часть членов политбюро ЦК ВКП(б).
Переговоры с японцами продолжались некоторое время в Москве, после чего Сталин предложил перенести обсуждение на конец августа 1943 г. Попытка Японии возобновить свою посредническую деятельность неожиданно провалилась: 14 сентября 1943 г. в ответ на поступившее в Стокгольмское посольство СССР предложение японского дипломата продолжить переговоры ТАСС официально заявил, что вопрос о мире с Германией не подлежит обсуждению. Советская сторона также проинформировала США о «сентябрьских инициативах» японцев. При этом сталинские дипломаты заверили своих коллег-американцев в том, что речь идет о «первой попытке японского правительства с начала войны взять на себя роль посредника в установлении мира».
Сталин колеблется: выбор союзников еще не закончен?
Как стало известно из мемуаров советского контрразведчика П.Судоплатова, после нападения немцев на СССР И.Сталин не утратил надежду на то, что ему все же удастся договориться с нацистским вождем о перемирии. В конце июля 1941-го по личному указанию Л.Берии состоялись предварительные переговоры П.Судоплатова с болгарским дипломатом о возможном посредничестве Болгарии в заключении мира между СССР и Германией. Встреча в московском ресторане «Арагви» проходила в обстановке чрезвычайной секретности. И неудивительно, ведь накануне, 12 июля 1941 г., между СССР и Великобританией было подписано соглашение о совместных действиях в войне против Германии (подтвержденное англо-советским договором от 26 мая 1942 г.), согласно которому стороны обязались «не вести никаких переговоров и не заключать мир с Германией и ее сообщниками иначе как по взаимному соглашению».
О том, что И.Сталин предпринимал попытки договориться с нацистским вождем и накануне Московской битвы, вспоминал маршал Г.Жуков. По его свидетельству, 7 октября 1941 г. Сталин дал указание Берии исследовать пути к установлению «брестского мира» с нацистами на условиях отказа от Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, а также части Украины. Агенты наркома внутренних дел через болгарского дипломата Столетова передали это предложение фюреру, который, находясь практически у стен Москвы, высокомерно его отверг.
Как это ни кажется парадоксальным, но от мысли о возможности заключения мира с Германией Сталин не отказался и год спустя. В определенной мере это объяснялось сложными отношениями СССР с западными союзниками — США и Великобританией. Последнюю еще накануне немецкого нападения И.Сталин считал большим врагом, чем Германия. По-прежнему оставался нерешенным вопрос об открытии второго фронта в Европе. Апелляции И.Сталина к тому, что Советский Союз почти два года сражается с врагом в Европе «один на один», парировались У.Черчиллем, который весьма многозначительно напоминал бывшему союзнику Гитлера о том, что до 1941 г. Британии также пришлось противостоять нацистской Германии практически в одиночестве. Отношения между союзниками не складывались и вследствие разногласий по довольно болезненному для И.Сталина территориальному вопросу, в частности относительно признания новых западных границ СССР. Не случайно еще 17—18 декабря 1941 г. во время переговоров с британским министром иностранных дел Э.Иденом И.Сталин прямо заявил, что, по его мнению, война с Германией началась собственно из-за западных границ СССР. «Вот из-за чего вся эта война на самом деле ведется, — подчеркнул он, — и я хочу знать: поддерживает ли нас наша союзница Великобритания в возобновлении владения ими?»
Все это отчасти может объяснить, почему сталинская политика относительно союзников в первые годы войны отличалась такой противоречивостью и нервозностью. Советская пресса то восхищалась высадкой союзников в Северной Африке, то упрекала их за отсутствие второго фронта, то жаловалась на недостаточную помощь по ленд-лизу, то, наоборот, выпячивала эту помощь. Вторжение американцев на Сицилию называли в Советском Союзе не иначе как «операция на острове Сицилия», подчеркивая ничтожность ее масштабов в сравнении с циклопическими битвами Красной Армии на Восточном фронте. Отметим попутно, что эта операция привела вскоре к падению режима Муссолини в Италии, что в свою очередь оказало сильное воздействие на Германию.
Колебания сталинской власти в выборе союзников улавливались и в самом советском обществе. Еще накануне Сталинградской битвы в среде эвакуированной в тыл украинской интеллигенции, по донесениям НКВД, циркулировали слухи о том, что якобы в советском правительстве обсуждаются перспективы сепаратного мира с Германией.
В апреле 1943 г. отношения между союзниками претерпели ряд испытаний. Именно тогда в связи с находкой немцами на оккупированной территории Смоленской области захоронения пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД, разразился Катынский скандал, который еще более охладил отношения между Москвой и Лондоном, в частности из-за разрыва дипломатических отношений между СССР и польским эммигрантским правительством, пребывавшем тогда в Великобритании. Некоторые историки усматривают также непосредственную связь между катынским скандалом и активизацией в апреле 1943-го советско-германских контактов. Следует, правда, отметить, что вскоре после этих событий Сталин распустил Коминтерн, уже давно муливший глаза Западу, что однозначно было расценено как шаг доброй воли.
Неопределенность во взаимоотношениях между И.Сталиным с одной стороны и У.Черчиллем и Ф.Рузвельтом с другой создавала в целом благоприятную почву для «просчитывания» сталинским руководством альтернативных вариантов в выборе союзников. Такая перспектива, учитывая тоталитарную природу нацистского и коммунистического режимов, а также недавнюю историю их тесных союзнических отношений, не могла не беспокоить руководство Великобритании и Соединенных Штатов.
Западные союзники обеспокоены слухами
о советско-германских контактах
Слухи о советско-германских сепаратных контактах появились в англо-американской дипломатической переписке в середине 1942 г., что заставило британское правительство через своего посла в Москве А. Кларка-Керра прямо поставить перед советским руководством вопрос о дальнейших намерениях СССР относительно Германии. Со второй половины 1943 г. в дипломатической переписке союзников информация о контактах между Москвой и Берлином стала приобретать устойчивый характер. Наиболее сенсационными и невероятными в этом контексте стали слухи о якобы имевшем место весной 1943 г. полете в советскую столицу рейхсминистра И. фон Риббентропа. Как свидетельствовали некоторые разведывательные и дипломатические донесения, немцы предложили заключить мир с установлением линии размежевания по Днепру, однако И.Сталин с этим не согласился, и переговоры зашли в тупик. «Сообщение о визите Риббентропа в Москву, — писал один из американских послов, — звучит так фантастически, что я бы никогда не отослал его в Штаты, если бы оно не поступило из одного очень достоверного источника» (из Ватикана. .).
Информация о том, что нацистский министр восемь дней провел в Кремле, ведя переговоры о сепаратном мире, вызвала настоящий переполох в стане союзников по антигитлеровской коалиции. Усиливали боязнь очередного сговора большевистского и нацистского вождей также муссировавшиеся в этот период слухи о японском посредничестве между Берлином и Москвой. Отметим, что история с посещением фон Риббентропом советской столицы до сих пор не нашла документального подтверждения. Сам нацистский министр в своих мемуарах вспоминал лишь о намерениях в конце 1944 г. вылететь в Москву для ведения сепаратных переговоров. Гитлер якобы запретил этот полет, напомнив фон Риббентропу печальный опыт Гесса. Впрочем то, что, ожидая исполнения приговора Нюрнбергского трибунала, экс-рейхсминистр не упомянул о «полете в Москву» весной 1943 г., все же не означает, что этих событий однозначно не было.
Если реальность с полета И. фон Риббентропа в Москву может быть поставлена под вопрос, то так называемые «стокгольмские» контакты между советской и германской сторонами в годы войны не вызывают никакого сомнения. Именно в нейтральной Швеции под крышей советского дипломатического представительства, возглавляемого большевичкой «дворянского происхождения» А.Коллонтай, сепаратные контакты между СССР и нацистской Германией обрели постоянное место прописки.
За закрытыми дверями советского посольства
в Стокгольме
Стокгольм в годы войны превратился в крупнейший центр всемирного шпионажа. Город был буквально нашпигован агентами различных спецслужб — английских, американских, советских, немецких. Что касается последних, то в Швеции действовали как представители сил, которые пытались наладить контакты с Великобританией и США (например, агентура абвера адмирала Ф.Канариса, а также гестапо и СС — VI отдела В.Шелленберга), так и те, которые стремились к «союзу с русскими».
Уже 12 декабря 1942 г. некто Йозеф Клаус (уроженец Украины, стокгольмский бизнесмен) установил личные контакты с немецкой агентурой в Швеции, передав предоставленную советскими дипломатами информацию о том, что Москва готова подписать перемирие. Сам Клаус был настроен оптимистически, всерьёз полагая, что «если немцы отведут войска.., то мир с Россией будет гарантирован за восемь дней!» Получив информацию из Стокгольма, фон Риббентроп немедленно направил в Швецию представителя для «прощупывания» перспектив переговоров с Москвой. Им стал Питер Кляйст — бывший сотрудник Министерства иностранных дел, а с 1943 г. служащий Восточного министерства А.Розенберга. Кляйст выехал в Швецию под предлогом решения вопроса о судьбе находившихся там эстонских беженцев.
Хотя советское предложение тогда не было принято немцами, все же стокгольмские контакты двух сторон в дальнейшем приобрели устойчивый характер. Судя по англо-американской дипломатической переписке, пик активности этих контактов пришелся именно на весну 1943 г.
В одном из донесений поверенного в делах США в Финляндии сообщалось о тайных переговорах, имевших место в Швеции в конце апреля 1943 г. между послом СССР А.Коллонтай и немецким дипломатом Томпсоном. Согласно этой информации, переговоры начались 18 апреля, продолжались несколько дней и затрагивали вопросы «создания автономного Украинского государства как буфера между СССР и Германией», «достижения сепаратного мира между двумя государствами и передачи Балтийских республик России».
Отметим, что в сообщениях об апрельских переговорах в Стокгольме, так же, как в случае с «японским посредничеством» и «полетом Риббентропа» в Москву, постоянно упоминалась Украина, сохранение которой под своим контролем рассматривалось немецкой стороной одним из принципиальных условий соглашения. Вполне возможно, что именно украинская проблема стала камнем преткновения в вопросе о заключении советско-германского мира и не позволила сторонам достигнуть компромисса. Несколько позднее одна из шведских газет опубликовала материал о советско-германских переговорах, якобы имевших место в Стокгольме, и об их прекращении ввиду несогласия по территориальным вопросам. Эта информация практически одновременно была опровергнута как Берлином, так и Москвой. Более того, советская сторона поспешила продемонстрировать свою якобы принципиальную позицию в этом вопросе. В приказе Сталина от 1 мая 1943 г. отвергалась сама идея мира с нацистами «до тех пор, пока в Германии при власти Гитлер и пока немецкая армия не будет разбита».
По мнению ряда исследователей, неуступчивость немцев по территориальным вопросам в ходе апрельских переговоров в определенной мере подтолкнула Сталина к созданию 12—13 июля 1943 г. комитета «Свободная Германия» — организации, которой предстояло содействовать созданию в будущем лояльной СССР Германии. Во время проходившей в Москве учредительной конференции этого комитета немцы вспоминали о «золотом правиле Бисмарка» — не нападать одновременно на Францию и Россию, а советские представители обещали им, в случае свержения Гитлера, независимость и суверенитет. Особую пикантность этим событиям придавало то, что о них ничего не было сообщено союзникам. Неудивительно, что на Западе это известие вызвало полнейшее замешательство. Вновь усилились подозрения, что в Москве готовят сепаратный мир с Германией, возможно, даже с Гитлером. В.Молотов вынужден был успокаивать британского посла заверениями о том, что создание комитета — исключительно пропагандистская акция, цель которой — «внести смятение в умы германского народа и его армии».
Несмотря на все перипетии, контакты в Стокгольме между советскими и немецкими представителями не прекращались и в дальнейшем. Так, летом 1943 г. в столице Швеции появился высокопоставленный советский дипломат А.Александров, который, согласно воспоминаниям П.Кляйста, вскоре принял участие в новом туре советско-германских контактов. В сентябре 1943 г. в Стокгольм с этой же целью прибыл заместитель наркома внутренних дел СССР, бывший посол Советского Союза в Германии В.Деканозов.
По позднейшим признаниям немцев, «стокгольмские переговоры» были прерваны Гитлером. По мнению фон Риббентропа, этому способствовали происки противников мира между Германией и СССР, которые запустили информацию о том, что якобы Клаус и Александров — евреи и их миссия не что иное, как «еврейский заговор». В свою очередь П.Кляйст, рассуждая в своих мемуарах о возможных причинах срыва переговоров, высказал предположение о том, что фюрер прекратил контакты с советской стороной, заподозрив Сталина в неискренности, — в частности, в том, что советский вождь «играл в переговоры» исключительно с целью давления на союзников.
В самом деле, после победоносной Курской битвы, когда Красная Армия овладела стратегической инициативой на всем советско-германском фронте, потребность в заключении мира с Гитлером утрачивала для Сталина прежний интерес. Между тем все более значимой становилась проблема послевоенного устройства мира. И в этом плане игра «на нервах» союзников, постоянно опасавшихся германско-советского сговора, приобретала совершенно новое звучание, однозначно обещая Сталину дивиденды.
Последнее стало очевидным уже в конце 1943 г. на Тегеранской конференции, в ходе которой главы Великобритании и США не только обязались открыть второй фронт в Европе, но также пошли на определенные уступки СССР в территориальных вопросах. Продолжая начатую игру, Сталин сам время от времени обвинял западных союзников в сепаратных контактах с немцами. Например, 17 января 1944 г. газета «Правда» опубликовала заметку под названием «Слухи из Каира», якобы переданную ее собственным корреспондентом. В ней сообщалось о том, что два высокопоставленных британских политика встречались с людьми фон Риббентропа по вопросу о сепаратном мире и что эти переговоры закончились небезрезультатно…
Летом-осенью 1944 г. в Стокгольме вновь оживились советско-немецкие контакты, причем на этот раз к ним оказались причастны высшие чины СС. Вероятно, поначалу переговоры развивались обнадеживающе для немецкой стороны, о чем свидетельствовал и такой факт. 17 сентября 1944 г. некоторые северогерманские газеты опубликовали материалы об инициированной Г.Гиммлером и возглавляемой бывшим советским генералом А.Власовым Конференции антибольшевистских народов. Вслед за этим из Берлина пришел приказ начальника Главного имперского управления безопасности Э.Кальтенбрунера немедленно весь тираж газет собрать и уничтожить. Решение это явно свидетельствовало о боязни немцев помешать ходу переговоров в Стокгольме. Когда 29 сентября переговоры зашли в тупик, в немецких газетах все же появилось краткое сообщение о соглашении с Власовым «использовать все силы русского народа в борьбе за освобождение их родины от большевизма».
В конце марта 1945 г., когда накануне германской капитуляции и предстоящего раздела сфер влияния в Европе трения в Большой тройке вновь усилились, И.Сталин обвинил У.Черчилля и Ф.Рузвельта в том, что они ведут с немцами в Швейцарии секретные переговоры о капитуляции. При этом он утверждал, что союзники, не настаивая на безоговорочной капитуляции немецких войск на западе, подталкивают таким образом немцев продолжать сопротивление Красной Армии на востоке. Отметим, кстати, что переговоры, которые вызвали возмущение Сталина, действительно имели место и носили кодовое название «Санрайз» (Черчилль называл их «Кроссворд»). Велись они между американским резидентом в Швейцарии А.Даллесом и генералом войск СС К.Вольфом и при всей неоднозначности все же имели главной целью капитуляцию крупной немецкой группировки в Италии. Неудивительно поэтому, что обвинение советского руководителя вызвали негодование Ф.Рузвельта, который с горячностью пожаловался У.Черчиллю на «гнусное, неправильное толкование» американских действий.
***
Таким образом, между нацистской Германией и Советским Союзом практически на протяжении всей войны поддерживались сепаратные контакты, пик интенсивности которых пришелся на период между Сталинградской и Курской битвами. Именно тогда стороны практически вплотную подошли к заключению соглашения о перемирии, которое не состоялось скорее всего из-за разногласий по территориальным вопросам. Впрочем, не реализовав идею сепаратного мира с Германией на практике, Сталин успешно использовал её как средство политического давления на союзников. Последние не только стали намного сговорчивее в вопросах о признании новых советских границ, но и закрыли глаза на очевидные преступления сталинского режима (наглядным примером этого стало «Катынское дело»).
Об аморальности сталинской политики уже так много было сказано и написано, что, казалось бы, тут вряд ли есть чему удивляться. И все же история с советско-нацистскими сепаратными контактами времен Второй мировой войны не может не поражать своей циничностью. Мир с Гитлером, заключи его Сталин в апреле 1943 г., стал бы предательством в отношении как союзников по антигитлеровской коалиции, так и собственного народа, несколько лет истекавшего кровью в борьбе с нацизмом. Видимо, совсем не случайно тема советско-немецких сепаратных контактов уже более 60 лет фактически остается запрещенной для исследования. Степень секретности и особый характер хранения документов, которые могли бы пролить свет на это дело, позволяют предполагать, что сталинская секретная дипломатия времен Второй мировой войны не скоро станет достоянием гласности и ещё долго будет оставаться, по образному выражению У.Черчилля, «тайной, покрытой мраком».
Владислав ГРИНЕВИЧ
Сергей Цветков,
12-05-2010 09:46
(ссылка)
Николай II: штрихи к портрету

1.
Последнего русского императора русское общество не любило. Ему ставили в вину бессердечие и слабоволие. Чехов выразился о нем в том смысле, что государь не плох и не хорош – обыкновенный гвардейский офицер.
Однако этот отзыв несправедлив. В воспитании и обучении Николая принимали участие выдающиеся представители науки, военного дела и богословия, благодаря чему он имел хорошие познания в различных отраслях знания. Живопись, кстати, понимал, как немногие, и собрал одну из лучших в России коллекцию французских импрессионистов. Также обожал спорт, и всю жизнь был завзятым охотником, видя в этом занятии подлинно мужское дело.
[ Читать далее... → ]
Сергей Цветков,
11-05-2010 10:38
(ссылка)
Древние славяне: первое нашествие кочевников
История застает славян в Европе, в числе других индоевропейских племен, которые на рубеже V-IV тысячелетий до н. э. заселили эти древние земли, хранящие в своих недрах человеческие останки и предметы быта многих эпох и культур.
Первоначально индоевропейцы теснились на европейских окраинах - в Испании, на Балканах и в степях между Волгой и Доном. Жили оседло, мотыжили землю, разводили скот, охотились... Все изменилось, когда в конце IV- начале III тысячелетия до н.э. они изобрели колесо. С этого времени их взоры обратились на север, - туда, где за голубой каймой бескрайних лесов лежали неизведанные земли. Возможно, именно тогда стали складываться легенды о стране «блаженных гипербореев», в которой жизнь протекает счастливо и привольно...
Отправиться на поиски новых мест обитания было в ту эпоху делом далеко не обыденным. Это означало не только подвергнуться всевозможным лишениям в пути и подставить свою грудь под копья и стрелы разъяренных вторжением туземцев. Чужая земля таила в себе гораздо большую опасность. В ней гнездились враждебные духи и боги, грозившие погубить любого пришельца, который осмелился бы переступить границу своей общины, охраняемую духами предков-покровителей. Изгнать или умилостивить иноплеменные божества было неизмеримо труднее, чем одолеть сопротивление чужаков. Сознание людей, которые в ту эпоху отваживались сняться с насиженных мест, можно без преувеличения назвать героическим - они бросали вызов земле и небу, людям и богам.
[ Читать далее... → ]
Первоначально индоевропейцы теснились на европейских окраинах - в Испании, на Балканах и в степях между Волгой и Доном. Жили оседло, мотыжили землю, разводили скот, охотились... Все изменилось, когда в конце IV- начале III тысячелетия до н.э. они изобрели колесо. С этого времени их взоры обратились на север, - туда, где за голубой каймой бескрайних лесов лежали неизведанные земли. Возможно, именно тогда стали складываться легенды о стране «блаженных гипербореев», в которой жизнь протекает счастливо и привольно...
Отправиться на поиски новых мест обитания было в ту эпоху делом далеко не обыденным. Это означало не только подвергнуться всевозможным лишениям в пути и подставить свою грудь под копья и стрелы разъяренных вторжением туземцев. Чужая земля таила в себе гораздо большую опасность. В ней гнездились враждебные духи и боги, грозившие погубить любого пришельца, который осмелился бы переступить границу своей общины, охраняемую духами предков-покровителей. Изгнать или умилостивить иноплеменные божества было неизмеримо труднее, чем одолеть сопротивление чужаков. Сознание людей, которые в ту эпоху отваживались сняться с насиженных мест, можно без преувеличения назвать героическим - они бросали вызов земле и небу, людям и богам.
[ Читать далее... → ]
Без заголовка
…История Великой Отечественной войны абсолютно неправдивая… Это не история, которая была, а история, которая написана. Она отвечает духу современности. Кого надо прославить, о ком надо умолчать…
Маршал Г. К. Жуков
«Действительно, многие военные писатели, генералы и маршалы так искажают историю Отечественной войны, что от действительной истории иногда остается лишь общий фон, схема, скелет, а содержание так „состряпано“, что зачастую не поймешь, когда и где это было», – заявил как‑то Жуков в интервью «Литературной газете».
Перефразируя старый софизм, можно подытожить: если самый главный маршал той войны сказал, что маршалы врут (искажают историю), говорил ли он правду?
На самом деле этот вопрос никого не интересовал. Главным при написании истории Отечественной войны 1941‑1945 годов было доказать великие преимущества социалистического строя, непогрешимость политического руководства, прозорливость и искусность полководцев, мощь Советской Армии, практически в одиночку спасшей мир от «коричневой чумы», монолитное единство коммунистической партии и народа и готовность последнего защищать «завоевания Октября».
И вот мы имеем историю, «которая написана», но «абсолютно неправдивая». В популярном изложении для массового потребления – это лубок, скомпонованный из жуковских мемуаров, киноэпопей Озерова и романов Стаднюка. В сознании соотечественников прочно укоренились мифы о том, как принципиальный Жуков предостерегал Сталина и спас Ленинград, о «28 панфиловцах» и «моряках‑черноморцах», о рельсовой войне и грандиозной победе под Прохоровкой, знаменитой «прожекторной» атаке и бездеятельности союзников. Кого надо (в основном самих себя) – прославили, о ком надо – умолчали. После смерти в 1982 году последнего «выдающегося полководца» Л.И. Брежнева, труд был закончен – добавить больше было нечего. В этой истории, созданной под эгидой отдела военной истории при Институте марксизма‑ленинизма, переплелись и личные амбиции ее участников, и идеологические требования. Причем последние, конечно, стояли на первом месте, а наша «история» являлась орудием борьбы с «буржуазными фальсификаторами».
Еще 20 лет назад офицеров Советской Армии и Флота заставляли писать сочинение на тему «За что я ненавижу американский империализм» (моего знакомого, по наивности поверившего в лозунги «перестройки» и написавшего, что к американскому империализму у него претензий нет, выгнали со службы).
С тех пор мир сильно изменился. Лишенная возможности распространять «бациллы большевизма» на другие народы под собственной тяжестью рухнула «мировая система социализма», окончательно обанкротилось «самое передовое» учение Маркса – Ленина..
Ничего не изменилось только в истории Отечественной войны. Мы по‑прежнему штурмуем рейхстаг и рассказываем своим детям, как спасли мир. Хотя для наших детей – это события прошлого века, такие же древние, какими для старшего поколения были Цусима и падение Порт‑Артура.
Учебники, книги, статьи полны идеологических штампов из лексикона «Красной Звезды» военных лет: «фашистские орды», «бесноватыйфюрер», «гитлеровские стервятники», «белофинны», «вероломствосоюзников», «японские милитаристы» и т. п. Вот, например, вышла статья, подписанная кандидатом исторических наук, с подзаголовком: «22 июня исполняется 60 лет со дня варварского нападения фашистской Германии на СССР». Нет уже ни фашистской Германии (которая никогда не была «фашистской», о чем кандидату наук следовало бы знать), ни СССР, однако статья – прямо сводка Совинформбюро. Дело доходит до абсурда: 9 мая 2001 года немецкой делегации не позволили возложить цветы на братскую могилу советских воинов в мемориальном комплексе Брестская крепость, чтобы не затронуть чувств наших ветеранов, что, однако, не помешало последним по окончании митинга с благодарностью принимать от «фашистов» денежную помощь.
Наверное, пора уже понять, что эта война закончилась. А также вспомнить, что за Победу вместе с нами сражалось 70% населения земного шара. Пора сосчитать своих павших и заодно подумать, отчего это не было сделано раньше и почему так невероятно велики оказались потери, несмотря на «преимущества социалистического строя» и наличие плеяды «выдающихся полководцев». То ли это были не преимущества, то ли – не полководцы?
В официальной версии начальный период войны излагается следующим образом:
«Война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. На первом этапе войны гитлеровская армия, ввиду внезапного и вероломного нападения на СССР, имела некоторые временные преимущества перед Красной Армией. Эти преимущества заключались в том, что фашистская Германия, исподволь готовясь к войне против нашей страны, заранее перевела все хозяйство для обслуживания фронта, создала количественное превосходство в танках и авиации. Немецкая армия была полностью отмобилизована к началу войны. К тому же она имела известный опыт современного ведения войны с использованием больших масс танков, авиации, автоматического оружия, полученных ею в войне с Польшей, Бельгией, Францией, Грецией и Югославией. Понятно поэтому, что в первые месяцы войны Красная Армия была вынуждена отступать и оставить часть советской территории».
Одним словом, мы к войне не готовились, вероломного нападения не ожидали, не отмобилизовались, не имели ни количественного превосходства, ни боевого опыта (но при этом, «укрепляя обороноспособность», за полтора года успели осуществить агрессию против шести государств).
Последний тезис старательно подкреплялся «научно» высосанными из пальца цифрами, долженствующими свидетельствовать о подавляющем превосходстве немецкой армии в людях и технике, вкупе с жуткими подробностями о том, как советские бойцы героически бросались под танки, имея одну винтовку на троих (даже винтовок не хватало!). Сего дня ни для кого не секрет, что количественного превосходства над Красной Армией вермахт не имел никогда. Германские сухопутные силы на Восточном фронте не превышали 3,4 млн человек (общее количество всех военнослужащих в самые лучшие времена достигало 4,3 млн). Между тем в Советском Союзе только в 1941 году в вооруженные силы было мобилизовано около 10 млн, что, кстати, более чем вдвое превышало штаты военного времени и возможности наркомата обороны по их обучению и вооружению. Поэтому призывников и ополченцев так и бросали в бой – необученными и безоружными, именно отсюда – одна винтовка на троих.
Эти миллионы, в основном безымянные, остановили немцев под Москвой, Ленинградом и Ростовом. А что произошло потом? Что мы знаем о событиях 1942 года? Даже школьник скажет, что был Сталинград. А как там оказалась германская армия? Главное – почему? Ведь Сталин планировал в 1942 году победоносно закончить войну и жестоко спорил с англо‑американскими союзниками о признании западных границ СССР. Вместо этого врагу вновь были отданы огромные территории, вдребезги разбиты полтора десятка советских армий (одна только 51‑я армия – трижды), потери РККА оказались наивысшими за всю войну.
Традиционные объяснения неудач 1942 года были предложены еще Сталиным. Главная из них, кроме само собой разумеющегося «превосходства противника», заключалась в том, что:
«Предательская политика реакционных правящих кругов США и Англии, срывавших открытие второго фронта в Европе, позволила гитлеровцам сосредоточить к лету 1942 года крупные силы для наступления на советско‑германском фронте… Фактически Советская Армия продолжала вести борьбу одна против всей фашистской коалиции».
Этому есть что возразить.
Во– первых, силы были не такие уж крупные. Во всяком случае меньше, чем их имелось в июне 1941 года, когда к тому же действовал «привходящий» фактор внезапности.
Во– вторых, сегодня эти обвинения звучат, по меньшей мере, неприлично. Значит, когда мы помогали Гитлеру воевать с Англией, которая именно одна и сражалась в ту пору против всей фашистской коалиции, то заботились о своей безопасности. Когда же Англия сама первой протянула нам руку помощи, без которой войну было не выиграть, мы обвинили её в «предательской политике». Мы не хотим знать, что война была не только Отечественной, но и мировой, ведь нам так хочется верить в наш «решающий вклад».
В– третьих, это объяснение ничего не объясняет. Гитлер тоже мог бы пожаловаться, что Япония не открыла второй фронт на Дальнем Востоке, поэтому
Красная Армия имела такие же возможности сосредоточить силы где ей было угодно. Но не сосредоточила, или сосредоточила не там, где нужно, либо использовала их не так, как следовало.
Отсюда возникает еще один вопрос: как же воевала наша «непобедимая и легендарная», о чем думали ее полководцы, вооруженные самой передовой в мире военной наукой? Генералы повсеместно, особенно битые, часто сетуют на начальство, ошибки подчиненных, недостаток сил или неблагоприятные погодные условия. Советские маршалы тоже широко используют все эти аргументы. Но, кроме того, они придумали своим провалам совершенно уникальное оправдание: оказывается, в 1942 году они еще не умели воевать. Все они – руководители фронтов, командующие армиями, начальники штабов с детской непосредственностью сообщают, что они пока только учились, присматривались к противнику, накапливали опыт! А то, что это обошлось в 48 млн гражданского населения, пережившего оккупацию, и 6‑7 млн (цифра уточняется до сих пор) погибших солдат – издержки обучения. Кстати, и «успехи в учебе» не впечатляют.
Валентин Пикуль в своем последнем романе много размышлял над этим феноменом и только развел руками: «Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым вверялась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос: как мы вообще эту войну с Германией выиграли?»
Хороший вопрос. Но, слава Богу, мы были не одни.
Владимир Бешанов
Маршал Г. К. Жуков
«Действительно, многие военные писатели, генералы и маршалы так искажают историю Отечественной войны, что от действительной истории иногда остается лишь общий фон, схема, скелет, а содержание так „состряпано“, что зачастую не поймешь, когда и где это было», – заявил как‑то Жуков в интервью «Литературной газете».
Перефразируя старый софизм, можно подытожить: если самый главный маршал той войны сказал, что маршалы врут (искажают историю), говорил ли он правду?
На самом деле этот вопрос никого не интересовал. Главным при написании истории Отечественной войны 1941‑1945 годов было доказать великие преимущества социалистического строя, непогрешимость политического руководства, прозорливость и искусность полководцев, мощь Советской Армии, практически в одиночку спасшей мир от «коричневой чумы», монолитное единство коммунистической партии и народа и готовность последнего защищать «завоевания Октября».
И вот мы имеем историю, «которая написана», но «абсолютно неправдивая». В популярном изложении для массового потребления – это лубок, скомпонованный из жуковских мемуаров, киноэпопей Озерова и романов Стаднюка. В сознании соотечественников прочно укоренились мифы о том, как принципиальный Жуков предостерегал Сталина и спас Ленинград, о «28 панфиловцах» и «моряках‑черноморцах», о рельсовой войне и грандиозной победе под Прохоровкой, знаменитой «прожекторной» атаке и бездеятельности союзников. Кого надо (в основном самих себя) – прославили, о ком надо – умолчали. После смерти в 1982 году последнего «выдающегося полководца» Л.И. Брежнева, труд был закончен – добавить больше было нечего. В этой истории, созданной под эгидой отдела военной истории при Институте марксизма‑ленинизма, переплелись и личные амбиции ее участников, и идеологические требования. Причем последние, конечно, стояли на первом месте, а наша «история» являлась орудием борьбы с «буржуазными фальсификаторами».
Еще 20 лет назад офицеров Советской Армии и Флота заставляли писать сочинение на тему «За что я ненавижу американский империализм» (моего знакомого, по наивности поверившего в лозунги «перестройки» и написавшего, что к американскому империализму у него претензий нет, выгнали со службы).
С тех пор мир сильно изменился. Лишенная возможности распространять «бациллы большевизма» на другие народы под собственной тяжестью рухнула «мировая система социализма», окончательно обанкротилось «самое передовое» учение Маркса – Ленина..
Ничего не изменилось только в истории Отечественной войны. Мы по‑прежнему штурмуем рейхстаг и рассказываем своим детям, как спасли мир. Хотя для наших детей – это события прошлого века, такие же древние, какими для старшего поколения были Цусима и падение Порт‑Артура.
Учебники, книги, статьи полны идеологических штампов из лексикона «Красной Звезды» военных лет: «фашистские орды», «бесноватыйфюрер», «гитлеровские стервятники», «белофинны», «вероломствосоюзников», «японские милитаристы» и т. п. Вот, например, вышла статья, подписанная кандидатом исторических наук, с подзаголовком: «22 июня исполняется 60 лет со дня варварского нападения фашистской Германии на СССР». Нет уже ни фашистской Германии (которая никогда не была «фашистской», о чем кандидату наук следовало бы знать), ни СССР, однако статья – прямо сводка Совинформбюро. Дело доходит до абсурда: 9 мая 2001 года немецкой делегации не позволили возложить цветы на братскую могилу советских воинов в мемориальном комплексе Брестская крепость, чтобы не затронуть чувств наших ветеранов, что, однако, не помешало последним по окончании митинга с благодарностью принимать от «фашистов» денежную помощь.
Наверное, пора уже понять, что эта война закончилась. А также вспомнить, что за Победу вместе с нами сражалось 70% населения земного шара. Пора сосчитать своих павших и заодно подумать, отчего это не было сделано раньше и почему так невероятно велики оказались потери, несмотря на «преимущества социалистического строя» и наличие плеяды «выдающихся полководцев». То ли это были не преимущества, то ли – не полководцы?
В официальной версии начальный период войны излагается следующим образом:
«Война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. На первом этапе войны гитлеровская армия, ввиду внезапного и вероломного нападения на СССР, имела некоторые временные преимущества перед Красной Армией. Эти преимущества заключались в том, что фашистская Германия, исподволь готовясь к войне против нашей страны, заранее перевела все хозяйство для обслуживания фронта, создала количественное превосходство в танках и авиации. Немецкая армия была полностью отмобилизована к началу войны. К тому же она имела известный опыт современного ведения войны с использованием больших масс танков, авиации, автоматического оружия, полученных ею в войне с Польшей, Бельгией, Францией, Грецией и Югославией. Понятно поэтому, что в первые месяцы войны Красная Армия была вынуждена отступать и оставить часть советской территории».
Одним словом, мы к войне не готовились, вероломного нападения не ожидали, не отмобилизовались, не имели ни количественного превосходства, ни боевого опыта (но при этом, «укрепляя обороноспособность», за полтора года успели осуществить агрессию против шести государств).
Последний тезис старательно подкреплялся «научно» высосанными из пальца цифрами, долженствующими свидетельствовать о подавляющем превосходстве немецкой армии в людях и технике, вкупе с жуткими подробностями о том, как советские бойцы героически бросались под танки, имея одну винтовку на троих (даже винтовок не хватало!). Сего дня ни для кого не секрет, что количественного превосходства над Красной Армией вермахт не имел никогда. Германские сухопутные силы на Восточном фронте не превышали 3,4 млн человек (общее количество всех военнослужащих в самые лучшие времена достигало 4,3 млн). Между тем в Советском Союзе только в 1941 году в вооруженные силы было мобилизовано около 10 млн, что, кстати, более чем вдвое превышало штаты военного времени и возможности наркомата обороны по их обучению и вооружению. Поэтому призывников и ополченцев так и бросали в бой – необученными и безоружными, именно отсюда – одна винтовка на троих.
Эти миллионы, в основном безымянные, остановили немцев под Москвой, Ленинградом и Ростовом. А что произошло потом? Что мы знаем о событиях 1942 года? Даже школьник скажет, что был Сталинград. А как там оказалась германская армия? Главное – почему? Ведь Сталин планировал в 1942 году победоносно закончить войну и жестоко спорил с англо‑американскими союзниками о признании западных границ СССР. Вместо этого врагу вновь были отданы огромные территории, вдребезги разбиты полтора десятка советских армий (одна только 51‑я армия – трижды), потери РККА оказались наивысшими за всю войну.
Традиционные объяснения неудач 1942 года были предложены еще Сталиным. Главная из них, кроме само собой разумеющегося «превосходства противника», заключалась в том, что:
«Предательская политика реакционных правящих кругов США и Англии, срывавших открытие второго фронта в Европе, позволила гитлеровцам сосредоточить к лету 1942 года крупные силы для наступления на советско‑германском фронте… Фактически Советская Армия продолжала вести борьбу одна против всей фашистской коалиции».
Этому есть что возразить.
Во– первых, силы были не такие уж крупные. Во всяком случае меньше, чем их имелось в июне 1941 года, когда к тому же действовал «привходящий» фактор внезапности.
Во– вторых, сегодня эти обвинения звучат, по меньшей мере, неприлично. Значит, когда мы помогали Гитлеру воевать с Англией, которая именно одна и сражалась в ту пору против всей фашистской коалиции, то заботились о своей безопасности. Когда же Англия сама первой протянула нам руку помощи, без которой войну было не выиграть, мы обвинили её в «предательской политике». Мы не хотим знать, что война была не только Отечественной, но и мировой, ведь нам так хочется верить в наш «решающий вклад».
В– третьих, это объяснение ничего не объясняет. Гитлер тоже мог бы пожаловаться, что Япония не открыла второй фронт на Дальнем Востоке, поэтому
Красная Армия имела такие же возможности сосредоточить силы где ей было угодно. Но не сосредоточила, или сосредоточила не там, где нужно, либо использовала их не так, как следовало.
Отсюда возникает еще один вопрос: как же воевала наша «непобедимая и легендарная», о чем думали ее полководцы, вооруженные самой передовой в мире военной наукой? Генералы повсеместно, особенно битые, часто сетуют на начальство, ошибки подчиненных, недостаток сил или неблагоприятные погодные условия. Советские маршалы тоже широко используют все эти аргументы. Но, кроме того, они придумали своим провалам совершенно уникальное оправдание: оказывается, в 1942 году они еще не умели воевать. Все они – руководители фронтов, командующие армиями, начальники штабов с детской непосредственностью сообщают, что они пока только учились, присматривались к противнику, накапливали опыт! А то, что это обошлось в 48 млн гражданского населения, пережившего оккупацию, и 6‑7 млн (цифра уточняется до сих пор) погибших солдат – издержки обучения. Кстати, и «успехи в учебе» не впечатляют.
Валентин Пикуль в своем последнем романе много размышлял над этим феноменом и только развел руками: «Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым вверялась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос: как мы вообще эту войну с Германией выиграли?»
Хороший вопрос. Но, слава Богу, мы были не одни.
Владимир Бешанов
Сергей Цветков,
06-05-2010 11:17
(ссылка)
Казанова - ученый

Джакомо Казанова известен широкой публике главным образом своими галантными похождениями. Однако в жизни его интересовали не только женские прелести. При желании в нем можно увидеть универсального философа, энциклопедиста. Ведь как-никак от него осталось 42 произведения по истории, политике, математике, финансах, изящной словесности и 16 томов мемуаров. Кроме того, современники знали его как великого химика, который вот-вот откроет тайну «философского камня». Практическая сторона жизни занимала его не меньше. Он консультировал дворы европейских монархов по различным вопросам и оказывал им мелкие дипломатические услуги, а под конец жизни заделался тайным агентом инквизиции.
[ Читать далее... → ]
Сергей Цветков,
04-05-2010 13:12
(ссылка)
Павел Строганов – «красный граф»

Строгановы – замечательный русский род, в котором эстеты чередуются с деловыми и государственными людьми. Самым выдающимся из Строгановых был граф Павел Александрович, задушевный друг Александра I, занимавший в первые годы его царствования должность товарища министра внутренних дел. У него была бурная молодость, которой он был обязан своему отцу, своему воспитателю и своему времени.
[ Читать далее... → ]
Диагор Мелосский (V в. до н.э.) Из серии "Мысли еретика".
Диагор Мелосский (V в. до н.э.) Из серии "Мысли еретика".
софист, лирический поэт, обвинявшийся в безбожии
Диагор, по прозванью "Безбожник",
Проходил мимо чудного храма.
"Загляни ка туда осторожно", -
Предложила знакомая дама.
"Говоришь, что богам нету дела,
До людей и проблем их ничтожных?
Но творит чудеса только вера!
Для богов нет вещей невозможных"!
"Видишь: статуи, жертвы, таблички,
От людей, что тонули на море.
По обету все эти вещички,
Подарили богам они вскоре.
Олимпийцы спасли их от бури!!!"
Диагор, улыбнувшись, ответил:
"Жаль от тех, чьи суда утонули,
Я подарков совсем не заметил."
Алексей С. Железнов - Гримнир Татхагата.
софист, лирический поэт, обвинявшийся в безбожии
Диагор, по прозванью "Безбожник",
Проходил мимо чудного храма.
"Загляни ка туда осторожно", -
Предложила знакомая дама.
"Говоришь, что богам нету дела,
До людей и проблем их ничтожных?
Но творит чудеса только вера!
Для богов нет вещей невозможных"!
"Видишь: статуи, жертвы, таблички,
От людей, что тонули на море.
По обету все эти вещички,
Подарили богам они вскоре.
Олимпийцы спасли их от бури!!!"
Диагор, улыбнувшись, ответил:
"Жаль от тех, чьи суда утонули,
Я подарков совсем не заметил."
Алексей С. Железнов - Гримнир Татхагата.
Метки: Алекс Авни
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу