Тагир Бикташeв,
13-04-2018 19:41
(ссылка)
Тамга и уран
Все родо-племенные атрибуты присутствовали у башкир задолго до Чингисхана.
Тагир Бикташeв,
13-04-2018 19:39
(ссылка)
Уйгуры и арабы о башкирах
Выдающийся тюркский филолог и лексикограф Махмуд Кашгари ( XI в. ) в своем словаре « Дивану лугат ат-тюрк» пишет, что башкирский язык близок с такими тюркскими языками, как « кыргыз, кыфджак, угуз, тухси, ягма, чигиль, чарук». Башкиры в его работе фигурируют как один из « двадцати главных и первоначальных тюркских народов».
"Печенеги боятся башкир. А половцы имеют обычай нарекать именами "Башкорт" своих сыновей" Ахмад ибн Фадлан
"Все башкиры-воины,а война для башкир-образ жизни"
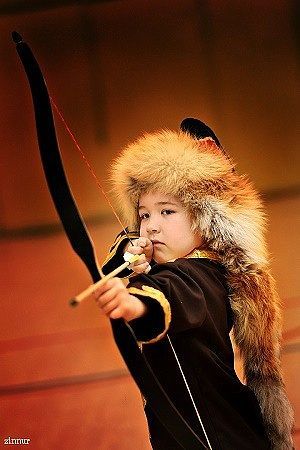
Саллам ат-Тарджуман

Добавить
"Печенеги боятся башкир. А половцы имеют обычай нарекать именами "Башкорт" своих сыновей" Ахмад ибн Фадлан
"Все башкиры-воины,а война для башкир-образ жизни"
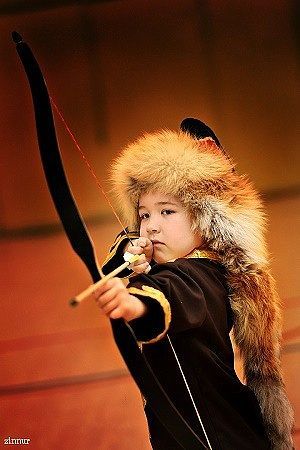
Саллам ат-Тарджуман
Добавить
Фанур Шагиев,
23-03-2013 10:18
(ссылка)
этнонимы АЛАН, САК, ОС, ЭС у башкир
тема: названия (й)АЛАН, САК, ОС, ЭС у башкир(башкортов).
Интересную параллель можно обнаружить у алан и башкир. Как
известно, Аланы были неоднородны по своему составу. Они состояли из АСов
и ОСов, по некоторым данным из 4групп... Аланы- потомки(часть)
МАССАГЕТов. Это неоспоримо. Вся суть спора состоит в том, кем были
первые аланы: Асы(тюрки) или ОСетины(иранцы)? На какие группы делятся
башкиры? 1) по территории расселения башкирские племена делятся на
ТАУ(горные) и ЙАЛАН(степняки). Это видно из этнонимов: Тау и Ялан
Кувакан, Тау и Ялан Катай, Ялан Айле... Некоторые племена делятся на
Урман(лесных)Тангаур и Ялан(степных) Тангаур, Урман и Кыр Кудей.
Западные же башкиры подразделяются на "водных"(су) и степных(КЫР): Су и
Кыр Танып, Су и Кыр Унлар, Идиль и Кыр Канглы, Идиль и Кыр ЕЛАН, Уфа и
Кыр Елдят... Существовал Яланский башкирский кантон в Курганской
области. этноним Ялан много в Оренбургской, Самарской, Саратовской
области, где проживали башкиры. 2) Название САК часто встречается
только в припограничных зонах с другими народами, в основном топонимах.
Это река САКМАР, горы САКТАУ(һАКТАУ) по всему Башкортостану... САК-
означает сторожевой, караул, СИК-граница. МАССАГЕТ- от слова МАССА-от
греческого много и САК. На башкирском звучит как КУПСАК, т.е. Кыпсак или
КЫПЧАК. 3) с 10 века башкир подразделяли внутренних и внешних. Казахи
называли башкир ИСТЯК- от слова ЭСТЭГЕ(внутренние). но внешними
оказались Ханты, которых называли ОСТЯК(остагы- внешние, окраинные). У
Булгар было подразделение ЭСГЕЛ(Внутренние). ОГУЗЫ делились на
Внутренних(ИШ-ГУЗ) и внешних(Даш-Огуз). У тюркских народов внутренними
назывались коренные тюркоязычные кочевники и внешними- зависимые
племена. ВЫВОД: 1) (й)АЛАН- означает СТЕПНЯК. Но если степняки
переселялись в горы, то этого названия они отказывались, становились
ТАУ- горными или Урман(лесными). САК- это сословие типа казаков,
пограничников, защищающих границы государств, МАССАГЕТЫ- это КУПСАКи. 3)
Некоторые тюркские народы делились на ЭС(АС, ИШ, ИЧКИ)- т.е. внутренних
и ОС (ОСТЯК, ТЫШКЫ, ДАШ...)- внешних. 4) Исходя из этнонима АЛАН их
язык был: "Й"-окающий, а не "ДЖ" или "Ж"-окающий. Исходя из этнонимов
САК, ОС, АС- язык был "Ц"-окающий, даже точнее "С"-окающий, а не
"Ч"-окающий или "Ш"-окающий.
Интересную параллель можно обнаружить у алан и башкир. Как
известно, Аланы были неоднородны по своему составу. Они состояли из АСов
и ОСов, по некоторым данным из 4групп... Аланы- потомки(часть)
МАССАГЕТов. Это неоспоримо. Вся суть спора состоит в том, кем были
первые аланы: Асы(тюрки) или ОСетины(иранцы)? На какие группы делятся
башкиры? 1) по территории расселения башкирские племена делятся на
ТАУ(горные) и ЙАЛАН(степняки). Это видно из этнонимов: Тау и Ялан
Кувакан, Тау и Ялан Катай, Ялан Айле... Некоторые племена делятся на
Урман(лесных)Тангаур и Ялан(степных) Тангаур, Урман и Кыр Кудей.
Западные же башкиры подразделяются на "водных"(су) и степных(КЫР): Су и
Кыр Танып, Су и Кыр Унлар, Идиль и Кыр Канглы, Идиль и Кыр ЕЛАН, Уфа и
Кыр Елдят... Существовал Яланский башкирский кантон в Курганской
области. этноним Ялан много в Оренбургской, Самарской, Саратовской
области, где проживали башкиры. 2) Название САК часто встречается
только в припограничных зонах с другими народами, в основном топонимах.
Это река САКМАР, горы САКТАУ(һАКТАУ) по всему Башкортостану... САК-
означает сторожевой, караул, СИК-граница. МАССАГЕТ- от слова МАССА-от
греческого много и САК. На башкирском звучит как КУПСАК, т.е. Кыпсак или
КЫПЧАК. 3) с 10 века башкир подразделяли внутренних и внешних. Казахи
называли башкир ИСТЯК- от слова ЭСТЭГЕ(внутренние). но внешними
оказались Ханты, которых называли ОСТЯК(остагы- внешние, окраинные). У
Булгар было подразделение ЭСГЕЛ(Внутренние). ОГУЗЫ делились на
Внутренних(ИШ-ГУЗ) и внешних(Даш-Огуз). У тюркских народов внутренними
назывались коренные тюркоязычные кочевники и внешними- зависимые
племена. ВЫВОД: 1) (й)АЛАН- означает СТЕПНЯК. Но если степняки
переселялись в горы, то этого названия они отказывались, становились
ТАУ- горными или Урман(лесными). САК- это сословие типа казаков,
пограничников, защищающих границы государств, МАССАГЕТЫ- это КУПСАКи. 3)
Некоторые тюркские народы делились на ЭС(АС, ИШ, ИЧКИ)- т.е. внутренних
и ОС (ОСТЯК, ТЫШКЫ, ДАШ...)- внешних. 4) Исходя из этнонима АЛАН их
язык был: "Й"-окающий, а не "ДЖ" или "Ж"-окающий. Исходя из этнонимов
САК, ОС, АС- язык был "Ц"-окающий, даже точнее "С"-окающий, а не
"Ч"-окающий или "Ш"-окающий.
Фанур Шагиев,
22-01-2013 19:10
(ссылка)
земли башкир Салжуитов
№ 8. 1731
г. Справка
Уфимской провинциальной канцелярии для Сибирского Обер-бергамта о территории
башкирской Сальяутской (Челжеутской) волости.
(Л.139) Прошлого 181 году1 в переписных
ясачных и вотчинных книгах за рукою стольника и воеводы Петра Кондырева переписи
Уфимской приказной избы подьячего Ивана Жилина да Иноземного списку Наума
Ногайтинова написано:
Уфимского уезду Сибирской дороги Челжеуцкой волости башкирцев Бекчюры
Бекимбетева, Байбюды Елкибаева, Чювашберды Байметева с товарищи;
тое
ж волости деревни Юмагозины Акчюваша Елкелеева, Мамряка Елкелеева, Юсупкула
Улубашева с товарищи;
деревни Карабашевы Акчюры Исембетева, Карабаша Умюлбаева, Утъемеся
Умюлбаева с товарищи;
деревни Киликеевы Киликея Колюбаева, Тойгузака Колюбаева, Такыра
Колюбаева с товарищи;
деревни Чагыровы немецкой породы ясак платят окладной тое ж Челжеутской
волости с башкирцы Михаила Андреева, Кинзягула Шугаралеева, Чигира Андреева с
товарищи;
тое
ж волости живут за горами2 Бикимбетя Бегишева,
Балагуша Бегишева, Минлибая Токпердина, Бекмурзы Минлибаева, Серкея Бегишева,
Кожбахты Бекимбетева, Кереляка Минлигулова, (Л.139об.) Кашика Минлигулова,
Карагаша Казагулова, Салтангула Азикеева, Исенгула Исенеева, Урумейтя Чисарина,
Беккула Канамгозина с товарищи.
По
допросу их все волости и всех деревень сказали:
Вотчина-де у них у
всех – Челжеуцкие волости в обще за Уралом-горою. А межа-де той вотчине:
Сеняр-озеро3, а с того озера на гору Моховую, а
с той горы на устье речки Исеняк, а с тое речки до Котлунского устья и до
вершины, а с той речки через Урал-гору к Уфимской стороне на вершину речки
Уилги, а с той вершины на вершину ж речки Анагуль, а с той речки на вершину
речки Чусовой, а с той вершины на вершину речки Шаханлы, а с той вершины на
вершину ж речки Коган, а с той вершины на речку Елагач, а с той речки на речку
Чекмарды, а с той речки на гору Чивулду, а с той горы на гору ж Навиердяк, а с
той горы на речку Кавилгу, а с той речки на суходол Наенгарерчу4, а с того суходолу на Уергын-камень, а с того
камени на вершину речки Леуш, да по речке Левларды и сосняком, а с той речки
через Урал-гору на степную сторону на речку Бултав, а с речки Бултава на речку
Усман, а с той речки на речку Секирян, да с той речки на гору Елдамыш, а с той
горы на речку Аремыль5, а с той речки на вершину
речки Сабаут, а с той речки на речку (Л.140) Каминши6, а с той речки до Толбинского устья, а с того устья
на Ик-речку, а с той речки на камень Кумю, а с того камня на речку Сяир, а с той
речки на речку Лубасты с устья и до вершины, а с той речки на озеро Кунгур, а с
того озера на болото Кулес, а с того болота на речку Сеняр.
А в
той вотчине звериные и рыбные и всякие ловли, а бортных угодьев нет. А ясаку-де
они с той вотчины платят на Уфу по 35 куниц на год.
ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.385. Л.139-140. Заверенная копия.
г. Справка
Уфимской провинциальной канцелярии для Сибирского Обер-бергамта о территории
башкирской Сальяутской (Челжеутской) волости.
(Л.139) Прошлого 181 году1 в переписных
ясачных и вотчинных книгах за рукою стольника и воеводы Петра Кондырева переписи
Уфимской приказной избы подьячего Ивана Жилина да Иноземного списку Наума
Ногайтинова написано:
Уфимского уезду Сибирской дороги Челжеуцкой волости башкирцев Бекчюры
Бекимбетева, Байбюды Елкибаева, Чювашберды Байметева с товарищи;
тое
ж волости деревни Юмагозины Акчюваша Елкелеева, Мамряка Елкелеева, Юсупкула
Улубашева с товарищи;
деревни Карабашевы Акчюры Исембетева, Карабаша Умюлбаева, Утъемеся
Умюлбаева с товарищи;
деревни Киликеевы Киликея Колюбаева, Тойгузака Колюбаева, Такыра
Колюбаева с товарищи;
деревни Чагыровы немецкой породы ясак платят окладной тое ж Челжеутской
волости с башкирцы Михаила Андреева, Кинзягула Шугаралеева, Чигира Андреева с
товарищи;
тое
ж волости живут за горами2 Бикимбетя Бегишева,
Балагуша Бегишева, Минлибая Токпердина, Бекмурзы Минлибаева, Серкея Бегишева,
Кожбахты Бекимбетева, Кереляка Минлигулова, (Л.139об.) Кашика Минлигулова,
Карагаша Казагулова, Салтангула Азикеева, Исенгула Исенеева, Урумейтя Чисарина,
Беккула Канамгозина с товарищи.
По
допросу их все волости и всех деревень сказали:
Вотчина-де у них у
всех – Челжеуцкие волости в обще за Уралом-горою. А межа-де той вотчине:
Сеняр-озеро3, а с того озера на гору Моховую, а
с той горы на устье речки Исеняк, а с тое речки до Котлунского устья и до
вершины, а с той речки через Урал-гору к Уфимской стороне на вершину речки
Уилги, а с той вершины на вершину ж речки Анагуль, а с той речки на вершину
речки Чусовой, а с той вершины на вершину речки Шаханлы, а с той вершины на
вершину ж речки Коган, а с той вершины на речку Елагач, а с той речки на речку
Чекмарды, а с той речки на гору Чивулду, а с той горы на гору ж Навиердяк, а с
той горы на речку Кавилгу, а с той речки на суходол Наенгарерчу4, а с того суходолу на Уергын-камень, а с того
камени на вершину речки Леуш, да по речке Левларды и сосняком, а с той речки
через Урал-гору на степную сторону на речку Бултав, а с речки Бултава на речку
Усман, а с той речки на речку Секирян, да с той речки на гору Елдамыш, а с той
горы на речку Аремыль5, а с той речки на вершину
речки Сабаут, а с той речки на речку (Л.140) Каминши6, а с той речки до Толбинского устья, а с того устья
на Ик-речку, а с той речки на камень Кумю, а с того камня на речку Сяир, а с той
речки на речку Лубасты с устья и до вершины, а с той речки на озеро Кунгур, а с
того озера на болото Кулес, а с того болота на речку Сеняр.
А в
той вотчине звериные и рыбные и всякие ловли, а бортных угодьев нет. А ясаку-де
они с той вотчины платят на Уфу по 35 куниц на год.
ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.385. Л.139-140. Заверенная копия.
Этническая идентичность западных башкир.
Этническая идентичность западных башкир
Для некоторой части татарской интеллигенции «больным местом» стали результаты Всероссийской переписи населения 2002 г. по Башкортостану, которые, у некоторых эмоциональных коллег, получают такие, например, названия: «зеркало геноцида», «бумажный геноцид» и тому подобное. Так, обращается внимание на увеличение по Всероссийской переписи населения 2002 г. (по сравнению с переписью 1989 г.) доли коренного населения РБ, посему ее результаты на территории Башкортостана объявляются надуманными, сфальсифицированными, с якобы искусственным завышением численности «титульной нации» путем «административного записывания» татар башкирами» и т.д. Внимательное сопоставление фактов и информации, комплексный их анализ дают нескольку иную картину.
Окончательно включив в 20-ые гг. XX столетия в свой состав всех мишарей и большинство тептярей, татарский этнос сравнялся по численности с коренным народом Башкирии, советские переписи населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. фиксировали приблизительное равное соотношение – 23 – 24% каждого народа в населении республики. В 1989 г. процент татар в ее населении поднялся до 28%. За счет чего? Такой темп роста татарского населения нигде более на пространстве бывшего СССР не наблюдался, в том числе и в Татарской АССР. Если учесть этот момент и проанализировать динамику численности башкир и татар не только за период с 1989 по 2002 гг., но и за предшествующие периоды, то соотношение численности этих двух народов по ВПН 2002 г. вполне закономерно и опровергает размышления некоторых исследователей о якобы имевших место в Башкортостане фальсификациях при ее проведении. Результаты Всесоюзной переписи населения 1989 г. как сразу после ее проведения, так и сейчас вызывают множество вопросов, и не только в Башкортостане.Анализ состояния демографического воспроизводства населения (включающий показатели рождаемости и смертности) этих этносов, делает сомнительным столь серьезное снижение естественного воспроизводства башкир к 1989 г. Традиционно, а статистические данные подтверждают это, рождаемость в башкирских семьях выше, чем в татарских семьях. Несмотря на то, что рождаемость у башкир в 1989 г. доходила до 23 -24 ребенка на тысячу человек, против 18 у татар (в последующий период наблюдалось примерно такое же соотношение), тем не менее, по переписи 1989 г. численность татар в Башкирской автономной ССР увеличилась на 180 200 человек, когда как башкир стало меньше на 72 000. На этот факт, кстати, было обращено внимание и составителями Ежегодного демографического доклада. Справедливо обосновывая численный рост башкир по переписи 2002 г., они указывают и на факторы «политического характера», имевшие место в 1989 г., когда «численность тех, кто назвался татарами, возросла по отношению к численности 1979 г. на 110,3 %, а количество назвавшихся башкирами увеличилось всего лишь на 104,2 %. Если не учитывать феномен смены идентичности, результаты кажутся странными – среди башкир больше сельских жителей и более высока рождаемость. Переписью 2002 г. взят своеобразный реванш: у татар прирост низкий – всего 0,6 %, а у башкир – заметный, 24,4 %. Истинное положение дел, видимо, находится где-то посередине» (Население России 2006: 73). Результаты переписи 2010 г. в некоторой степени подтверждают тезис о предвзятости переписи именно 1989 г. на территории БАССР.
Более того, тщательный анализ этно-демографического развития башкирских и татарских населенных пунктов западной части Башкортостана, показывает, что последние переписи населения все же не в полной мере объективно показали реальную численность башкирского населения. Для примера, обнаруживаем, что в крупном селе Аит Бижбулякского района до середины 20-го в. проживали только башкиры, во второй половине того же столетия произошла деформация этнического самосознания, перепись 2002 г. показала лишь частичное восстановление этнической идентичности жителей этого села (см. таблицу 2). С учетом этого, в Бижбулякском района перепись 2002 г. «недобрала» еще около 1500 башкир, в Миякинском – не менее 1800 башкир. Похожая ситуация была в Ермекеевском, Краснокамском, Бакалинском и ряде других районах республики.Следовательно, причины падения численности башкир в республике лежали в иной плоскости. Вполне очевидно, что частично общий прирост башкирского населения по переписи 2002 г. был обеспечен «возвратом» части татароязычного башкирского населения западных районов Башкортостана (учтенного переписью 1989 г. в составе татар). На протяжении всего ХХ-го столетия и начала нынешнего остается актуальной проблема двойственной или пограничной идентичности западных башкир. Территориально данная крупная часть башкирского народа проживает не только на западе современной Республики Башкортостан (бывшие Бирский, Белебеевский и частично Уфимский уезды), но и в восточных районах Республики Татарстана (бывшие Мензелинский, Бугульминский, Елабужский и Сарапульский уезды), южной части Пермского края и Свердловской области.
Нередко наши коллеги, делая исторический экскурс в 20-е гг. прошлого столетия, когда создавалась Большая Башкирия, упоминают о том, что на ее территории башкиры составляли не более 20% населения, а также что около половины из них татароязычны. Ни в одном источнике нет таких цифр. Если обратиться к такому источнику, как Населенные пункты Башкортостана от 1926 г (Населенные пункты Башкортостана, 1926) то окажется, что в 1920 г. численность всего население республики составляло 2 761 204 человека, из них русские – 34,4% (831,1 тыс.ч.), башкиры – 30,17 % (949,8 тыс.ч.), татары (включая мишарей и тептярей) – 20,99% (577,0 тыс.ч.), другие – 14,44 %.
Страшный голод начала 20-х гг., инициированный во многом продразверстками и разрухой периода Гражданской войны, репрессии против мирного башкирского населения, все это способствовало сокращению коренного населения края, что и зафиксировала перепись 1926 г. (см. Таблица 1). Эта была одна из наиболее драматических страниц истории башкирского народа, но далеко не единственная. Защищая свою свободу, права на свои земли, на право оставаться самими собой, башкиры, на протяжении многих веков, несли огромные людские и материальные потери. Башкиры выстрадали свою республику, пусть и в усеченном виде, в виде автономии в составе другого государства. Поэтому так остро воспринимаются башкирами различного рода нападки на легитимность данного национально-территориального образования, а также провокационные выпады публицистов и политиканов, оперирующие фактом немногочисленности коренного народа. Башкирский народ сохранил свою идентичность, но ценой огромных потерь, это беда народа, ставшего меньшинством на свой же родине. Но еще накануне Октябрьского переворота башкиры составляли 1/3 населения края. Подворная перепись крестьянского хозяйства 1912-1913 гг. показала, что в Уфимской губернии проживало 2 627 430 человек, из них: русские – 876 539 чел. (33,3%), башкиры – 846 200 чел. (32,2%), третье место занимали тептяри –262 690 чел. (10%), далее татары – 179 389 (6,8%), мишари – 150 975 (5,7%),марийцы – 75 942 (3,4%), чуваши – 79 338 (3%), удмурты – 54 662 (2%), мордва – 43 581 (1,6 %), крещенные татары – 30 944 (1,18%). Приблизительно такие же данные дала Первая Всеобщая Всероссийская перепись населения 1897 г. Следует отметить, что значительное количество башкирского населения проживало тогда в пределах Оренбургской губернии – 254 561 человек (татар в этой же губернии было 114 701 человек), а также в Пермской, Вятской и Самарской губерниях где проживало еще около 160 тыс. башкир.
Ценность учета населения 1912-1913 гг. состоит в том, что она зафиксировала численность каждой волости и уезда. Для примера, в западной части Исторического Башкортостана – в Мензелинском уезде проживало всего 450 239 чел. из них: башкир – 154 324 чел. (или 33,7 %), русских – 135 150, (29,5%), татар – 93 403 (20,4%), тептярей – 36 783 (8,0%), крещеных татар – 26 058 (5,7%), мордвы 6 151 (1,34%), чувашей – 3 922 (0,85%) и марийцев 2 448 (0,54%). На рубеже XIX–XX вв., ни в одном из уездов Уфимской губернии татары, мишари и тептяри, вместе взятые не превалировали над башкирским населением. Притом, что учитывались они отдельно, а вовсе не в составе “башкирского сословия.
Здесь необходимо выделить основные предпосылки смены этнической идентичности западных башкир: – огромные людские потери в период борьбы башкирского народа за свою автономию в 20-е гг. XX столетия; – языковой фактор;- социально-экономические условия;- проблема этнической идентичности потомков сословия тептярей; – специфика национальной политики советского периода в нашем регионе.
Важно отметить, что разработанные в 20-е годы XX века нормы литературного башкирского языка основывались на южном диалекте, на основе говора южных и юго-восточных башкир, диалекты северных и западных башкир были проигнорированы. Ряд государственных деятелей и ученых предлагали в качестве оптимального пути решения языковой проблемы башкир положить в основу литературного языка дёмский диалект (юго-западный диалект), как переходный между говорами северо-западных, северных и остальных этнографических групп башкир. Однако и этот вариант не был принят во внимание. Результаты этих событий очень скоро проявились – при проведении советской переписи 1926 г., когда было введено различие между этнической (национальной) принадлежностью и родным языком. Если в 1897 г. большая часть тюркского населения западной и северной части Исторического Башкортостана считали своим родным языком – башкирский язык, то в 1926 г. 94 % тюркское население тех же регионов решило, что их родной язык – татарский. Башкир Мензелинского и Бугульминского уездов, оказавшихся в 1922 г. в Татарской АССР записали всех татарами. Выбор литературного башкирского языка сказался даже на самосознании башкир западных уездов Уфимской губернии (Бирский, Белебеевский), вошедших в Башкирскую АССР.
Хотя большая их часть в 1926 г. подтвердило свою этническую идентичность, однако назвали родным языком татарский. В условиях, когда в западных районах РБ школы обучение башкирских детей шло на литературном татарском языке (фактически, на тюрки Урало-Поволжья), а вся печатная продукция, предназначенная для башкир, в этих районах Башкортостана выходила на татарском языке, на сцене Башкирского госдрамтеатра (нынешнего академического театра им. М.Гафури) спектакли, также, ставились на татарском литературном языке, не могли не усиливаться процессы этнической ассимиляции башкир. В дальнейшем, часть башкирских ученых-филологов лишь усугубили ситуацию, легкомысленно отказываясь признать разговорную речь северных и северо-западных башкир в качестве составной части башкирского литературного языка (северо-западный диалект башкирского языка).
В 70 – 80-е годы прошлого столетия, фактически имела место целенаправленная ассимиляционная политика по отношению к башкирам. В тех селах западной части Башкирии, где еще обучение шло на родном языке, постепенно вводилось обучение на татарском языке, история и некоторые другие школьные программы были переориентированы на Казань. Эти и ряд других мероприятий оказали негативное влияние на самосознание башкир, появилось чувство ущербности на собственной земле. Это не могло не сказаться на их самоидентификации, традиционно «двойственное» в этом регионе Башкортостана.
Башкирия в советский период, будучи ниже по рангу по сравнению с союзными республиками, отставала в развитии практически всех социальных отраслей: жилье, образование, медицина и прочих социальных благ. Имелся целый комплекс тяжелых экологических проблем. Башкиры, в силу множества объективных причин оказавшиеся меньшинством на своей земле, все более и более утрачивали такие важнейшие маркеры этнической идентичности как культура, язык, знание своей истории и т.д. Особенно тревожным был процесс усиления в «застойные годы» «татаризации» западных башкир. Этому способствовали не только и не столько объективные этнические процессы, сколько проводимая тогдашним руководством республики политика в национально-культурной (массовый перевод обучения башкирских детей на русский и татарский язык обучении, кадровая политика и т.д.) и социально-экономической (размещение инвестиций, производств) сфере.
На этом фоне не случайным выглядят и размеры отрицательного сальдо миграции (превышение выезда над въездом) у башкир, который в 1970 – 1980 гг. был в 2,5 раза выше, чем у представителей других народов, проживающих в БАССР. Очень много этнических башкир выехало за пределы Башкирии – в республики Средней Азии и нефтегазоносные районы Сибири. Лишь с начала 90 – ых гг. Республика Башкортостан стала центром притяжения для башкир. Усилилась “возвратная” миграции, т.е. возвращении на родину башкир, в разные годы выехавших за ее пределы. Отметим, что из данных, которые давались Госкомтстатом и миграционной службой, следует, что башкиры не доминировали среди лиц, въехавших на постоянное жительство в республику из стран СНГ. Однако, следует иметь в виду, что официально была зарегистрирована лишь 1/3 часть въехавших, а также прошедших процедуру получения статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Многие этнические башкиры, приехавшие в Башкирию в 90-е гг. не утруждали себя бюрократической волокитой (в том числе и семья и многочисленные родственники автора этой статьи), приезжали первоначально к родне, устраивались на работу, учебу и т.д. По нашим расчетам, как минимум каждый десятый башкир, ныне проживающий в Башкортостане, является реэмигрантом, либо рожден в семье реэмигрантов.
Мы проанализировали также данные Министерства образования РБ за несколько лет по национальному составу. В ряде западных районах республики количество школьников-татар несколько больше чем школьников-башкир, хотя, в целом там башкиры преобладают. С чем это связано? Во-первых, до сих пор во многих башкирских селах западной части Башкортостана обучение в школах ведется на татарском языке (родной язык обучения – татарский). Районные сотрудники РОНО, недолго думая, всех детей в указанных школах учитывают как татар. Для примера, села Елбулактамак, Дюсан, Аит Бижбулякского района; Зильдар, Шатмантамак, Баязит, Большие и Малые Каркалы, Качеган Миякинского района основаны башкирами рода сарайлы-мен, все ревизии населения указывали в этих селах именно башкир как преобладающую национальность. Однако, до сих пор дети в указанных селах обучаются на татарском языке, соответственно и учитываются они как учащиеся татарской национальности. В итоге учеников татар оказывается в том же Миякинском районе чуть ли не в 1,5 раза больше чем башкир, что не может соответствовать действительности. Такая же ситуация в Ермекеевском, Туймазинском, Краснокамском и ряде других районов республики. Далее эти данные идут в Уфу, где и попадают в официальные сводки.
При проведении переписи 2002 г., в переписных листах более четко, по сравнению с предыдущими, была разграничена языковая и этническая принадлежность (последняя основывается, в первую очередь, на этническом самосознании). Большая часть башкир западного региона Башкортостана разговаривают на диалектах, более похожих на современный литературный татарский язык. Эти обстоятельства способствовали тому, что родным языком эта часть башкир считает татарский язык, на основе которого, соответственно и делался вывод об этнической принадлежности. То есть, отсутствие объяснений со стороны переписчиков при проведении предыдущих переписей, делало возможным записывать башкир с родным татарским языком – этническими татарами. Не случайно до и после проведения переписи 2002 г. многие татарские общественно-политические деятели высказывали «серьезную озабоченность» этим обстоятельством. Вообще, многие наши коллеги из Татарстана придают особую значимость языковому признаку и упрощенному пониманию того, что если люди разговаривая между собой, друг друга понимают, то этот означает, что они говорят на одном языке. Для примера, Рафаэль Хакимов часто в своих выступлениях заявляет: «Раз уж мы татары, понимаем без особых проблем узбекский, казахский, киргизский, башкирский языки, то получается, что мы говорим на одном языке». А далее, в традиционном духе, утверждается, что этим единым языком, конечно же, является татарский. Язык, хотя и является важнейшей частью бытия того или иного народа, тем не менее, не может выступать главным и тем более единственным маркером этнической идентичности. Иначе половину среднего и молодого поколения башкир и татар (поскольку они являются русскоязычными) можно отнести к русскому народу.
Примечательно, численность татар относительно стабильна лишь в РТ и регионах где компактно проживают башкиры. Это можно проиллюстрировать на примере Бардымского района Пермского края. Численность башкир – коренного населения современных Бардымского, Пермского, Куединского, Чернушкинского и других районов края, увеличивалась вплоть до нынешнего столетия. В 1989 г. доля башкир, считавших родным языком – татарский, составляла в Пермской области 30 477 чел. Они представляли 58,1% всех башкир области. Во многом, именно несовпадение языковой идентичности способствовало сокращению башкирского населения в Бардымском районе, зафиксированное Всероссийскими переписями 2002 г. и 2010 г. В 2002 г. здесь было учтено 16 600 башкир (59,5 % населения района), а в целом в Пермском крае башкир осталось 40 740 чел. (в 1989 г. было 52 326 чел.). Именно деформация этнического самосознания башкир «обеспечили» рост численности татарского населения южного региона Пермского края. Так, численность татар в Куединском районе возросла с 2 100 чел. в 1989 г. до 2 300 чел. в 2002 г., а в Бардымском районе с 1 500 чел. в 1989 г. (4,9% населения района) до 9 000 чел. (32,3%) в 2002 г.). В остальных же районах Пермского края произошло сокращение численности татар, в том числе в татарских районах края – в Сылвенско-Иренском поречье (например, Октябрьский район). В целом численность татар этого региона сократилась со 150 460 чел. в 1989 г. до 115 544 чел. в 2010 г. Следует отметить и такой факт, ревизии XVIII – XIX вв. вообще не фиксировали татарское население в бассейне реки Тулва.
В результате преобразований, последовавших после провозглашения демократизации российского общества, произошло увеличение общеобразовательных, дошкольных и вузовских учреждений, где более серьезное внимание стало уделяться изучению родного языка, истории, культуре родного края и народа; изменилась в указанную сторону работа средств массовой информации, особенно башкирского телевидения; резко увеличилась литература по истории башкир. К примеру, увидели свет «Воспоминания» А.З. Валиди, работы зарубежных авторов о взаимоотношениях России и башкир: Р. Пайпса, А.С. Доннели и других. Особо следует отметить публикации книг по истории сел и районов, имперским и советским переписям населения. Была проведена большая разъяснительная работа башкирской интеллигенцией, Исполкомом Всемирного курултая башкир, в частности накануне переписи 2002 г. подготовившего и выпустившего брошюры по целому ряду районов РБ, куда были включены данные “Ревизских сказок”, проводившихся в царской России и переписей населения СССР. В них наглядно и доказательно раскрывались этнические корни населенных пунктов республики. Особое место в процессе восстановления этнической идентичности заняли активно проводимые в последние годы народные праздники «Шежере-байрам».
Все вышеназванное способствовало росту этнического самосознания башкир, включая уроженцев северо-запада Республики Башкортостан.
Представляется необходимым сделать небольшой анализ изменения этнического состава населения по городам и сельским районам Республики Башкортостан и попытаемся найти следы, как это пишут наши оппоненты, геноцида татарского народа, фальсификации и т.д. Возьмем для сравнения не только результаты переписей 1989 г. и 2002 г. но и предшествующий период. Так, в столице Башкортостана – г.Уфе, башкиры в 1979 г. составляли 92 678 чел (9,5% населении города), татар тогда было 240 881 чел. (24,7% населения города), в течении следующих десятилетий оба народа постепенно увеличили свою численность, в 2002 г. башкир в г.Уфе стало 154 928 (14,8%), татар (28,1%). Как видно, не произошло чего то неординарного, все укладывается в нормальные демографические рамки. Такое же соотношение сложилось и во втором по величине городе республике – Стерлитамаке. Заметно увеличелась численность татар в городах западнее Уфы: в Белебее с 10309 чел в 1979 г. до 14007 чел в 2002 г.; Дюртюлях с 11267 до 19444, т.е. с 58% в населении этого города в 1979г. до 65% в 2002г., за этот же период башкир увеличилось с 4317 чел. (22,3%) лишь до 6715 чел. (22,4%). Аналогичную картину можно наблюдать и в других городах – Октябрьском, Нефтекамске, Бирске, Благовещенске. В целом, по республике и общая численность горожан-татар и их доля в городской части населения РБ увеличилась, т.е. произошло существенное изменение в структре татарского населения – урбанизация.
Под критику подпадают результаты переписи по западным сельским районам. Однако и здесь конкретный анализ динамики развития численности населения этих районов опровергает миф о башкиризации, записывании татар башкирами и т.д. Для начала необходимо учесть тот факт, что за последние 30-40 лет произошло сокращение сельского населения Башкирии, первоначально процессы массовой урбанизации затронули русское население, далее (с 60-х гг.) – татарское население. Башкиры же долгое время оставались скорее сельским населением, чем городским. Этот фактор наложил отпечаток и на естественную динамику воспроизводства населению и на долю башкир в составе сельского населения, в том числе и в западных регионах. Если исключить из внимания “странную” перепись 1989 г., то динамика соотношения башкир и татар в западных сельских районах во второй половине 20-го – начала 21 столетий вполне укладывается в нормальные рамки естественного воспроизводства населения. Возьмем для примера динамику численности населения юго-западного района республики – Миякинского, где произошло общее снижение всего населения района с 34 172 чел. в 1979 г. до 30 274 чел. в 1989 г. Причем это отрицательное демографическое сальдо «обеспечили» именно башкиры – сократившись с 11 011 чел. в 1979 г. до 7 708 чел. в 1989 г. Стабильную численность показали другие народы района – русские и чуваши. В то же время татарское население Миякинского района увеличилось с 15 079 чел. в 1979 г. до 16 731 чел. в 1989 г., составив более половины его населения. Переписи 2002 г. и 2010 г. «восстановили» соотношение численности основных этносов района. Такая же ситуация в большинстве других западных районах РБ.
Таким образом, попытки проанализировать демографические процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан, опираясь лишь на узкие временные рамки, на данные переписей 1989 и 2002 гг., могут привести к необъективным и неверным выводам. Необходимо сопоставление данных о численности основных этнических групп Башкирии за гораздо более длительный, предшествующий период. Анализ материалов Всероссийских переписей XIX в., Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также Советских переписей 1926 – 1989 гг., делает вполне закономерным на рубеже веков рост численности башкирского населения Республики Башкортостан, и в частности, увеличение численности западных башкир.
По нашему глубокому убеждению, люди разберутся в определении своей этнической принадлежности, при необходимости восстановят свои родословные и этническую принадлежность предков. Знание своих корней, знание того, кем были, чем занимались и чем прославились твои деды и прадеды – обязанность каждого уважающего себя мужчины, показатель уровня культурного развития. В исторических архивах, в частности в материалах «Ревизских сказок» хранится масса интересной информации об этническом составе населенных пунктов интересуемого нас региона за предшествующие 3 – 4 столетия. Отметим, процессу выяснения своих этнических корней способствует и популярные ныне в Башкирии праздники «Шэжере байрам» (Праздник родословной). Было бы правильным и своевременным расширить географию данного праздника в пределах всей территории Исторического Башкортостана, куда относятся и восточные районы современного Татарстана. В ходе поездок по этому региону, в ходе общения с местными жителями нельзя не обнаружить неподдельный рост интереса местных жителей к своим этническим корням. Для гуманитарной науки двух братских республик представляется важным дать беспристрастные исторические сведения и знания, а не сконструированные в кабинетах. Проводившиеся в Российской империи в XVIII – XX вв. учеты населения или, как тогда это называлось «Ревизские сказки», фиксировали множество сел с башкирским населением в Мензелинском и Бугульминском уездах, а также в южной части Елабужского и Сарапульского уездов. Часть этих сел были в этническом отношении смешанными – башкиро-тептярскими, башкиро-тептяро-мишарскими, однако вплоть до XX в. в этом регионе преобладали башкиры. И лишь включение части указанных выше уездов с компактным башкирским населением в созданную в 1920-е гг. Татарскую республику, сделало возможным беспрецедентное, при помощи мощного административного аппарата смену этнической идентичности западных башкир. Так, несмотря на имевшие место в течении XIX столетия процессы этнической ассимиляции в Мензелинском (в 1912 – 1913 в одном только этом уезде было взято на учет более 154 тыс.чел.) и, особенно, в Бугульминском, Елабужском и Сарапульском уездах, тем не менее, советская перепись 1920 г. показала в ТАССР 121 тысяч 300 башкир, однако уже следующая перепись (1926 г.) обнаружила лишь 1 тысячу восемьсот башкир! (Язык и этнос на рубеж веков: 185).
По самым скромным нашим расчетам, этнических башкир, в первую очередь потомков коренных башкир, веками проживавших на своей земле – западной части исторического Башкортостана, а ныне в восточных районах Татарстана (прежде всего Актанышский, Муслюмовский, Бугульминский, Сармановский, Мензелинский, Челнинский, Агрызский, Альметьевский и некоторые другие), должно быть не менее 300 тысяч человек (7 – 8% населения современной Республики Татарстан). Учитывая это, как мы отметили выше, недоучет башкир в ряде западных районах Республики Башкортостан и городах (Уфа, Октябрьский, Нефтекамск, Дюртюли, Туймазы), общая численность этнических башкир в России составлять чуть более двух миллионов человек.
Действительно, демографическая проблема – важнейшая проблема, на которую следует обратить самое пристальное внимание и ученых, в том числе. Однако там ли ищут пути преодоления демографического кризиса некоторые наши татарстанские коллеги и примкнувшие к ним башкирофобы из Башкортостана? И у татар, и у башкир в начале этого столетия складывается далеко не самая благополучная этно-демографическая ситуация, это и снижение рождаемости в целом, откладывание рождение детей на более поздний период и другие язвы урбанизирующейся и глобализирующейся цивилизации, в результате чего дети и семья перестают быть главной ценностью. По заявлению ряда татарских общественников, особое место среди проблем в этой сфере занимает высокая доля этнически смешанных браков, в первую очередь русско-татарских, особенно в городах. Учитывая дисперсность расселения татар по всей России, это означает большую численность русских – новое поколение в таких семьях становится скорее русским. Ориентация, особенно женщин, на индивидуалистические западноевропейские ценности – карьеру, преувеличенный уход за собой, участие в общественной жизни и тому подобное – все что угодно, но только не продолжение рода – вот корень проблем. Отсюда и демографические проблемы (старение населения, высокий уровень смертности), зафиксированные переписью населения и у башкир и у татар. Из так называемых «этнически мусульманских» народов России лишь башкиры и татары демонстрируют демографическую стагнацию, в наибольшей степени подвержены ассимиляции со стороны русского населения. Не лучше ли работать в этом направлении, развивать подлинные, проверенные предшествующими веками духовные ценности, требования ислама, среди которых особое, почетное место занимают: многодетные крепкие семьи, добрососедские и братские отношения? Гораздо легче, на первый взгляд, обвинить в имеющихся проблемах (в нашем случае в демографических) соседей, отсюда и простые рецепты, призывы: «реконфигурация численности», «отмена сфальсифицированной переписи». Не целесообразнее ли направить энергию наших татарских коллег на решение культурных, социально-экономических потребностей татарской диаспоры в те российские регионы, где в нем действительно нуждаются (Челябинская, Курганская, Свердловская, Ульяновская, Самарская и др. области), а не раздувать проблемы по любому поводу и без, там, где их нет? Также, хотелось бы призвать наших татарских коллег прекратить голословные, провокационные и оскорбительные выпады на историю, культуру башкирского народа. Имеющие место быть некоторые противоречия должны, и, мы уверены, будут решаться в соответствии со здравым смыслом и без искусственно раздуваемых эмоций. Главное, чтобы в спорах ученых, в публикациях не оскорблялись национальные чувства и достоинства наших, действительно братских народов.
Асылгужин Р.Р.
канд. филос. наук
Для некоторой части татарской интеллигенции «больным местом» стали результаты Всероссийской переписи населения 2002 г. по Башкортостану, которые, у некоторых эмоциональных коллег, получают такие, например, названия: «зеркало геноцида», «бумажный геноцид» и тому подобное. Так, обращается внимание на увеличение по Всероссийской переписи населения 2002 г. (по сравнению с переписью 1989 г.) доли коренного населения РБ, посему ее результаты на территории Башкортостана объявляются надуманными, сфальсифицированными, с якобы искусственным завышением численности «титульной нации» путем «административного записывания» татар башкирами» и т.д. Внимательное сопоставление фактов и информации, комплексный их анализ дают нескольку иную картину.
Окончательно включив в 20-ые гг. XX столетия в свой состав всех мишарей и большинство тептярей, татарский этнос сравнялся по численности с коренным народом Башкирии, советские переписи населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. фиксировали приблизительное равное соотношение – 23 – 24% каждого народа в населении республики. В 1989 г. процент татар в ее населении поднялся до 28%. За счет чего? Такой темп роста татарского населения нигде более на пространстве бывшего СССР не наблюдался, в том числе и в Татарской АССР. Если учесть этот момент и проанализировать динамику численности башкир и татар не только за период с 1989 по 2002 гг., но и за предшествующие периоды, то соотношение численности этих двух народов по ВПН 2002 г. вполне закономерно и опровергает размышления некоторых исследователей о якобы имевших место в Башкортостане фальсификациях при ее проведении. Результаты Всесоюзной переписи населения 1989 г. как сразу после ее проведения, так и сейчас вызывают множество вопросов, и не только в Башкортостане.Анализ состояния демографического воспроизводства населения (включающий показатели рождаемости и смертности) этих этносов, делает сомнительным столь серьезное снижение естественного воспроизводства башкир к 1989 г. Традиционно, а статистические данные подтверждают это, рождаемость в башкирских семьях выше, чем в татарских семьях. Несмотря на то, что рождаемость у башкир в 1989 г. доходила до 23 -24 ребенка на тысячу человек, против 18 у татар (в последующий период наблюдалось примерно такое же соотношение), тем не менее, по переписи 1989 г. численность татар в Башкирской автономной ССР увеличилась на 180 200 человек, когда как башкир стало меньше на 72 000. На этот факт, кстати, было обращено внимание и составителями Ежегодного демографического доклада. Справедливо обосновывая численный рост башкир по переписи 2002 г., они указывают и на факторы «политического характера», имевшие место в 1989 г., когда «численность тех, кто назвался татарами, возросла по отношению к численности 1979 г. на 110,3 %, а количество назвавшихся башкирами увеличилось всего лишь на 104,2 %. Если не учитывать феномен смены идентичности, результаты кажутся странными – среди башкир больше сельских жителей и более высока рождаемость. Переписью 2002 г. взят своеобразный реванш: у татар прирост низкий – всего 0,6 %, а у башкир – заметный, 24,4 %. Истинное положение дел, видимо, находится где-то посередине» (Население России 2006: 73). Результаты переписи 2010 г. в некоторой степени подтверждают тезис о предвзятости переписи именно 1989 г. на территории БАССР.
Более того, тщательный анализ этно-демографического развития башкирских и татарских населенных пунктов западной части Башкортостана, показывает, что последние переписи населения все же не в полной мере объективно показали реальную численность башкирского населения. Для примера, обнаруживаем, что в крупном селе Аит Бижбулякского района до середины 20-го в. проживали только башкиры, во второй половине того же столетия произошла деформация этнического самосознания, перепись 2002 г. показала лишь частичное восстановление этнической идентичности жителей этого села (см. таблицу 2). С учетом этого, в Бижбулякском района перепись 2002 г. «недобрала» еще около 1500 башкир, в Миякинском – не менее 1800 башкир. Похожая ситуация была в Ермекеевском, Краснокамском, Бакалинском и ряде других районах республики.Следовательно, причины падения численности башкир в республике лежали в иной плоскости. Вполне очевидно, что частично общий прирост башкирского населения по переписи 2002 г. был обеспечен «возвратом» части татароязычного башкирского населения западных районов Башкортостана (учтенного переписью 1989 г. в составе татар). На протяжении всего ХХ-го столетия и начала нынешнего остается актуальной проблема двойственной или пограничной идентичности западных башкир. Территориально данная крупная часть башкирского народа проживает не только на западе современной Республики Башкортостан (бывшие Бирский, Белебеевский и частично Уфимский уезды), но и в восточных районах Республики Татарстана (бывшие Мензелинский, Бугульминский, Елабужский и Сарапульский уезды), южной части Пермского края и Свердловской области.
Нередко наши коллеги, делая исторический экскурс в 20-е гг. прошлого столетия, когда создавалась Большая Башкирия, упоминают о том, что на ее территории башкиры составляли не более 20% населения, а также что около половины из них татароязычны. Ни в одном источнике нет таких цифр. Если обратиться к такому источнику, как Населенные пункты Башкортостана от 1926 г (Населенные пункты Башкортостана, 1926) то окажется, что в 1920 г. численность всего население республики составляло 2 761 204 человека, из них русские – 34,4% (831,1 тыс.ч.), башкиры – 30,17 % (949,8 тыс.ч.), татары (включая мишарей и тептярей) – 20,99% (577,0 тыс.ч.), другие – 14,44 %.
Страшный голод начала 20-х гг., инициированный во многом продразверстками и разрухой периода Гражданской войны, репрессии против мирного башкирского населения, все это способствовало сокращению коренного населения края, что и зафиксировала перепись 1926 г. (см. Таблица 1). Эта была одна из наиболее драматических страниц истории башкирского народа, но далеко не единственная. Защищая свою свободу, права на свои земли, на право оставаться самими собой, башкиры, на протяжении многих веков, несли огромные людские и материальные потери. Башкиры выстрадали свою республику, пусть и в усеченном виде, в виде автономии в составе другого государства. Поэтому так остро воспринимаются башкирами различного рода нападки на легитимность данного национально-территориального образования, а также провокационные выпады публицистов и политиканов, оперирующие фактом немногочисленности коренного народа. Башкирский народ сохранил свою идентичность, но ценой огромных потерь, это беда народа, ставшего меньшинством на свой же родине. Но еще накануне Октябрьского переворота башкиры составляли 1/3 населения края. Подворная перепись крестьянского хозяйства 1912-1913 гг. показала, что в Уфимской губернии проживало 2 627 430 человек, из них: русские – 876 539 чел. (33,3%), башкиры – 846 200 чел. (32,2%), третье место занимали тептяри –262 690 чел. (10%), далее татары – 179 389 (6,8%), мишари – 150 975 (5,7%),марийцы – 75 942 (3,4%), чуваши – 79 338 (3%), удмурты – 54 662 (2%), мордва – 43 581 (1,6 %), крещенные татары – 30 944 (1,18%). Приблизительно такие же данные дала Первая Всеобщая Всероссийская перепись населения 1897 г. Следует отметить, что значительное количество башкирского населения проживало тогда в пределах Оренбургской губернии – 254 561 человек (татар в этой же губернии было 114 701 человек), а также в Пермской, Вятской и Самарской губерниях где проживало еще около 160 тыс. башкир.
Ценность учета населения 1912-1913 гг. состоит в том, что она зафиксировала численность каждой волости и уезда. Для примера, в западной части Исторического Башкортостана – в Мензелинском уезде проживало всего 450 239 чел. из них: башкир – 154 324 чел. (или 33,7 %), русских – 135 150, (29,5%), татар – 93 403 (20,4%), тептярей – 36 783 (8,0%), крещеных татар – 26 058 (5,7%), мордвы 6 151 (1,34%), чувашей – 3 922 (0,85%) и марийцев 2 448 (0,54%). На рубеже XIX–XX вв., ни в одном из уездов Уфимской губернии татары, мишари и тептяри, вместе взятые не превалировали над башкирским населением. Притом, что учитывались они отдельно, а вовсе не в составе “башкирского сословия.
Здесь необходимо выделить основные предпосылки смены этнической идентичности западных башкир: – огромные людские потери в период борьбы башкирского народа за свою автономию в 20-е гг. XX столетия; – языковой фактор;- социально-экономические условия;- проблема этнической идентичности потомков сословия тептярей; – специфика национальной политики советского периода в нашем регионе.
Важно отметить, что разработанные в 20-е годы XX века нормы литературного башкирского языка основывались на южном диалекте, на основе говора южных и юго-восточных башкир, диалекты северных и западных башкир были проигнорированы. Ряд государственных деятелей и ученых предлагали в качестве оптимального пути решения языковой проблемы башкир положить в основу литературного языка дёмский диалект (юго-западный диалект), как переходный между говорами северо-западных, северных и остальных этнографических групп башкир. Однако и этот вариант не был принят во внимание. Результаты этих событий очень скоро проявились – при проведении советской переписи 1926 г., когда было введено различие между этнической (национальной) принадлежностью и родным языком. Если в 1897 г. большая часть тюркского населения западной и северной части Исторического Башкортостана считали своим родным языком – башкирский язык, то в 1926 г. 94 % тюркское население тех же регионов решило, что их родной язык – татарский. Башкир Мензелинского и Бугульминского уездов, оказавшихся в 1922 г. в Татарской АССР записали всех татарами. Выбор литературного башкирского языка сказался даже на самосознании башкир западных уездов Уфимской губернии (Бирский, Белебеевский), вошедших в Башкирскую АССР.
Хотя большая их часть в 1926 г. подтвердило свою этническую идентичность, однако назвали родным языком татарский. В условиях, когда в западных районах РБ школы обучение башкирских детей шло на литературном татарском языке (фактически, на тюрки Урало-Поволжья), а вся печатная продукция, предназначенная для башкир, в этих районах Башкортостана выходила на татарском языке, на сцене Башкирского госдрамтеатра (нынешнего академического театра им. М.Гафури) спектакли, также, ставились на татарском литературном языке, не могли не усиливаться процессы этнической ассимиляции башкир. В дальнейшем, часть башкирских ученых-филологов лишь усугубили ситуацию, легкомысленно отказываясь признать разговорную речь северных и северо-западных башкир в качестве составной части башкирского литературного языка (северо-западный диалект башкирского языка).
В 70 – 80-е годы прошлого столетия, фактически имела место целенаправленная ассимиляционная политика по отношению к башкирам. В тех селах западной части Башкирии, где еще обучение шло на родном языке, постепенно вводилось обучение на татарском языке, история и некоторые другие школьные программы были переориентированы на Казань. Эти и ряд других мероприятий оказали негативное влияние на самосознание башкир, появилось чувство ущербности на собственной земле. Это не могло не сказаться на их самоидентификации, традиционно «двойственное» в этом регионе Башкортостана.
Башкирия в советский период, будучи ниже по рангу по сравнению с союзными республиками, отставала в развитии практически всех социальных отраслей: жилье, образование, медицина и прочих социальных благ. Имелся целый комплекс тяжелых экологических проблем. Башкиры, в силу множества объективных причин оказавшиеся меньшинством на своей земле, все более и более утрачивали такие важнейшие маркеры этнической идентичности как культура, язык, знание своей истории и т.д. Особенно тревожным был процесс усиления в «застойные годы» «татаризации» западных башкир. Этому способствовали не только и не столько объективные этнические процессы, сколько проводимая тогдашним руководством республики политика в национально-культурной (массовый перевод обучения башкирских детей на русский и татарский язык обучении, кадровая политика и т.д.) и социально-экономической (размещение инвестиций, производств) сфере.
На этом фоне не случайным выглядят и размеры отрицательного сальдо миграции (превышение выезда над въездом) у башкир, который в 1970 – 1980 гг. был в 2,5 раза выше, чем у представителей других народов, проживающих в БАССР. Очень много этнических башкир выехало за пределы Башкирии – в республики Средней Азии и нефтегазоносные районы Сибири. Лишь с начала 90 – ых гг. Республика Башкортостан стала центром притяжения для башкир. Усилилась “возвратная” миграции, т.е. возвращении на родину башкир, в разные годы выехавших за ее пределы. Отметим, что из данных, которые давались Госкомтстатом и миграционной службой, следует, что башкиры не доминировали среди лиц, въехавших на постоянное жительство в республику из стран СНГ. Однако, следует иметь в виду, что официально была зарегистрирована лишь 1/3 часть въехавших, а также прошедших процедуру получения статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Многие этнические башкиры, приехавшие в Башкирию в 90-е гг. не утруждали себя бюрократической волокитой (в том числе и семья и многочисленные родственники автора этой статьи), приезжали первоначально к родне, устраивались на работу, учебу и т.д. По нашим расчетам, как минимум каждый десятый башкир, ныне проживающий в Башкортостане, является реэмигрантом, либо рожден в семье реэмигрантов.
Мы проанализировали также данные Министерства образования РБ за несколько лет по национальному составу. В ряде западных районах республики количество школьников-татар несколько больше чем школьников-башкир, хотя, в целом там башкиры преобладают. С чем это связано? Во-первых, до сих пор во многих башкирских селах западной части Башкортостана обучение в школах ведется на татарском языке (родной язык обучения – татарский). Районные сотрудники РОНО, недолго думая, всех детей в указанных школах учитывают как татар. Для примера, села Елбулактамак, Дюсан, Аит Бижбулякского района; Зильдар, Шатмантамак, Баязит, Большие и Малые Каркалы, Качеган Миякинского района основаны башкирами рода сарайлы-мен, все ревизии населения указывали в этих селах именно башкир как преобладающую национальность. Однако, до сих пор дети в указанных селах обучаются на татарском языке, соответственно и учитываются они как учащиеся татарской национальности. В итоге учеников татар оказывается в том же Миякинском районе чуть ли не в 1,5 раза больше чем башкир, что не может соответствовать действительности. Такая же ситуация в Ермекеевском, Туймазинском, Краснокамском и ряде других районов республики. Далее эти данные идут в Уфу, где и попадают в официальные сводки.
При проведении переписи 2002 г., в переписных листах более четко, по сравнению с предыдущими, была разграничена языковая и этническая принадлежность (последняя основывается, в первую очередь, на этническом самосознании). Большая часть башкир западного региона Башкортостана разговаривают на диалектах, более похожих на современный литературный татарский язык. Эти обстоятельства способствовали тому, что родным языком эта часть башкир считает татарский язык, на основе которого, соответственно и делался вывод об этнической принадлежности. То есть, отсутствие объяснений со стороны переписчиков при проведении предыдущих переписей, делало возможным записывать башкир с родным татарским языком – этническими татарами. Не случайно до и после проведения переписи 2002 г. многие татарские общественно-политические деятели высказывали «серьезную озабоченность» этим обстоятельством. Вообще, многие наши коллеги из Татарстана придают особую значимость языковому признаку и упрощенному пониманию того, что если люди разговаривая между собой, друг друга понимают, то этот означает, что они говорят на одном языке. Для примера, Рафаэль Хакимов часто в своих выступлениях заявляет: «Раз уж мы татары, понимаем без особых проблем узбекский, казахский, киргизский, башкирский языки, то получается, что мы говорим на одном языке». А далее, в традиционном духе, утверждается, что этим единым языком, конечно же, является татарский. Язык, хотя и является важнейшей частью бытия того или иного народа, тем не менее, не может выступать главным и тем более единственным маркером этнической идентичности. Иначе половину среднего и молодого поколения башкир и татар (поскольку они являются русскоязычными) можно отнести к русскому народу.
Примечательно, численность татар относительно стабильна лишь в РТ и регионах где компактно проживают башкиры. Это можно проиллюстрировать на примере Бардымского района Пермского края. Численность башкир – коренного населения современных Бардымского, Пермского, Куединского, Чернушкинского и других районов края, увеличивалась вплоть до нынешнего столетия. В 1989 г. доля башкир, считавших родным языком – татарский, составляла в Пермской области 30 477 чел. Они представляли 58,1% всех башкир области. Во многом, именно несовпадение языковой идентичности способствовало сокращению башкирского населения в Бардымском районе, зафиксированное Всероссийскими переписями 2002 г. и 2010 г. В 2002 г. здесь было учтено 16 600 башкир (59,5 % населения района), а в целом в Пермском крае башкир осталось 40 740 чел. (в 1989 г. было 52 326 чел.). Именно деформация этнического самосознания башкир «обеспечили» рост численности татарского населения южного региона Пермского края. Так, численность татар в Куединском районе возросла с 2 100 чел. в 1989 г. до 2 300 чел. в 2002 г., а в Бардымском районе с 1 500 чел. в 1989 г. (4,9% населения района) до 9 000 чел. (32,3%) в 2002 г.). В остальных же районах Пермского края произошло сокращение численности татар, в том числе в татарских районах края – в Сылвенско-Иренском поречье (например, Октябрьский район). В целом численность татар этого региона сократилась со 150 460 чел. в 1989 г. до 115 544 чел. в 2010 г. Следует отметить и такой факт, ревизии XVIII – XIX вв. вообще не фиксировали татарское население в бассейне реки Тулва.
В результате преобразований, последовавших после провозглашения демократизации российского общества, произошло увеличение общеобразовательных, дошкольных и вузовских учреждений, где более серьезное внимание стало уделяться изучению родного языка, истории, культуре родного края и народа; изменилась в указанную сторону работа средств массовой информации, особенно башкирского телевидения; резко увеличилась литература по истории башкир. К примеру, увидели свет «Воспоминания» А.З. Валиди, работы зарубежных авторов о взаимоотношениях России и башкир: Р. Пайпса, А.С. Доннели и других. Особо следует отметить публикации книг по истории сел и районов, имперским и советским переписям населения. Была проведена большая разъяснительная работа башкирской интеллигенцией, Исполкомом Всемирного курултая башкир, в частности накануне переписи 2002 г. подготовившего и выпустившего брошюры по целому ряду районов РБ, куда были включены данные “Ревизских сказок”, проводившихся в царской России и переписей населения СССР. В них наглядно и доказательно раскрывались этнические корни населенных пунктов республики. Особое место в процессе восстановления этнической идентичности заняли активно проводимые в последние годы народные праздники «Шежере-байрам».
Все вышеназванное способствовало росту этнического самосознания башкир, включая уроженцев северо-запада Республики Башкортостан.
Представляется необходимым сделать небольшой анализ изменения этнического состава населения по городам и сельским районам Республики Башкортостан и попытаемся найти следы, как это пишут наши оппоненты, геноцида татарского народа, фальсификации и т.д. Возьмем для сравнения не только результаты переписей 1989 г. и 2002 г. но и предшествующий период. Так, в столице Башкортостана – г.Уфе, башкиры в 1979 г. составляли 92 678 чел (9,5% населении города), татар тогда было 240 881 чел. (24,7% населения города), в течении следующих десятилетий оба народа постепенно увеличили свою численность, в 2002 г. башкир в г.Уфе стало 154 928 (14,8%), татар (28,1%). Как видно, не произошло чего то неординарного, все укладывается в нормальные демографические рамки. Такое же соотношение сложилось и во втором по величине городе республике – Стерлитамаке. Заметно увеличелась численность татар в городах западнее Уфы: в Белебее с 10309 чел в 1979 г. до 14007 чел в 2002 г.; Дюртюлях с 11267 до 19444, т.е. с 58% в населении этого города в 1979г. до 65% в 2002г., за этот же период башкир увеличилось с 4317 чел. (22,3%) лишь до 6715 чел. (22,4%). Аналогичную картину можно наблюдать и в других городах – Октябрьском, Нефтекамске, Бирске, Благовещенске. В целом, по республике и общая численность горожан-татар и их доля в городской части населения РБ увеличилась, т.е. произошло существенное изменение в структре татарского населения – урбанизация.
Под критику подпадают результаты переписи по западным сельским районам. Однако и здесь конкретный анализ динамики развития численности населения этих районов опровергает миф о башкиризации, записывании татар башкирами и т.д. Для начала необходимо учесть тот факт, что за последние 30-40 лет произошло сокращение сельского населения Башкирии, первоначально процессы массовой урбанизации затронули русское население, далее (с 60-х гг.) – татарское население. Башкиры же долгое время оставались скорее сельским населением, чем городским. Этот фактор наложил отпечаток и на естественную динамику воспроизводства населению и на долю башкир в составе сельского населения, в том числе и в западных регионах. Если исключить из внимания “странную” перепись 1989 г., то динамика соотношения башкир и татар в западных сельских районах во второй половине 20-го – начала 21 столетий вполне укладывается в нормальные рамки естественного воспроизводства населения. Возьмем для примера динамику численности населения юго-западного района республики – Миякинского, где произошло общее снижение всего населения района с 34 172 чел. в 1979 г. до 30 274 чел. в 1989 г. Причем это отрицательное демографическое сальдо «обеспечили» именно башкиры – сократившись с 11 011 чел. в 1979 г. до 7 708 чел. в 1989 г. Стабильную численность показали другие народы района – русские и чуваши. В то же время татарское население Миякинского района увеличилось с 15 079 чел. в 1979 г. до 16 731 чел. в 1989 г., составив более половины его населения. Переписи 2002 г. и 2010 г. «восстановили» соотношение численности основных этносов района. Такая же ситуация в большинстве других западных районах РБ.
Таким образом, попытки проанализировать демографические процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан, опираясь лишь на узкие временные рамки, на данные переписей 1989 и 2002 гг., могут привести к необъективным и неверным выводам. Необходимо сопоставление данных о численности основных этнических групп Башкирии за гораздо более длительный, предшествующий период. Анализ материалов Всероссийских переписей XIX в., Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также Советских переписей 1926 – 1989 гг., делает вполне закономерным на рубеже веков рост численности башкирского населения Республики Башкортостан, и в частности, увеличение численности западных башкир.
По нашему глубокому убеждению, люди разберутся в определении своей этнической принадлежности, при необходимости восстановят свои родословные и этническую принадлежность предков. Знание своих корней, знание того, кем были, чем занимались и чем прославились твои деды и прадеды – обязанность каждого уважающего себя мужчины, показатель уровня культурного развития. В исторических архивах, в частности в материалах «Ревизских сказок» хранится масса интересной информации об этническом составе населенных пунктов интересуемого нас региона за предшествующие 3 – 4 столетия. Отметим, процессу выяснения своих этнических корней способствует и популярные ныне в Башкирии праздники «Шэжере байрам» (Праздник родословной). Было бы правильным и своевременным расширить географию данного праздника в пределах всей территории Исторического Башкортостана, куда относятся и восточные районы современного Татарстана. В ходе поездок по этому региону, в ходе общения с местными жителями нельзя не обнаружить неподдельный рост интереса местных жителей к своим этническим корням. Для гуманитарной науки двух братских республик представляется важным дать беспристрастные исторические сведения и знания, а не сконструированные в кабинетах. Проводившиеся в Российской империи в XVIII – XX вв. учеты населения или, как тогда это называлось «Ревизские сказки», фиксировали множество сел с башкирским населением в Мензелинском и Бугульминском уездах, а также в южной части Елабужского и Сарапульского уездов. Часть этих сел были в этническом отношении смешанными – башкиро-тептярскими, башкиро-тептяро-мишарскими, однако вплоть до XX в. в этом регионе преобладали башкиры. И лишь включение части указанных выше уездов с компактным башкирским населением в созданную в 1920-е гг. Татарскую республику, сделало возможным беспрецедентное, при помощи мощного административного аппарата смену этнической идентичности западных башкир. Так, несмотря на имевшие место в течении XIX столетия процессы этнической ассимиляции в Мензелинском (в 1912 – 1913 в одном только этом уезде было взято на учет более 154 тыс.чел.) и, особенно, в Бугульминском, Елабужском и Сарапульском уездах, тем не менее, советская перепись 1920 г. показала в ТАССР 121 тысяч 300 башкир, однако уже следующая перепись (1926 г.) обнаружила лишь 1 тысячу восемьсот башкир! (Язык и этнос на рубеж веков: 185).
По самым скромным нашим расчетам, этнических башкир, в первую очередь потомков коренных башкир, веками проживавших на своей земле – западной части исторического Башкортостана, а ныне в восточных районах Татарстана (прежде всего Актанышский, Муслюмовский, Бугульминский, Сармановский, Мензелинский, Челнинский, Агрызский, Альметьевский и некоторые другие), должно быть не менее 300 тысяч человек (7 – 8% населения современной Республики Татарстан). Учитывая это, как мы отметили выше, недоучет башкир в ряде западных районах Республики Башкортостан и городах (Уфа, Октябрьский, Нефтекамск, Дюртюли, Туймазы), общая численность этнических башкир в России составлять чуть более двух миллионов человек.
Действительно, демографическая проблема – важнейшая проблема, на которую следует обратить самое пристальное внимание и ученых, в том числе. Однако там ли ищут пути преодоления демографического кризиса некоторые наши татарстанские коллеги и примкнувшие к ним башкирофобы из Башкортостана? И у татар, и у башкир в начале этого столетия складывается далеко не самая благополучная этно-демографическая ситуация, это и снижение рождаемости в целом, откладывание рождение детей на более поздний период и другие язвы урбанизирующейся и глобализирующейся цивилизации, в результате чего дети и семья перестают быть главной ценностью. По заявлению ряда татарских общественников, особое место среди проблем в этой сфере занимает высокая доля этнически смешанных браков, в первую очередь русско-татарских, особенно в городах. Учитывая дисперсность расселения татар по всей России, это означает большую численность русских – новое поколение в таких семьях становится скорее русским. Ориентация, особенно женщин, на индивидуалистические западноевропейские ценности – карьеру, преувеличенный уход за собой, участие в общественной жизни и тому подобное – все что угодно, но только не продолжение рода – вот корень проблем. Отсюда и демографические проблемы (старение населения, высокий уровень смертности), зафиксированные переписью населения и у башкир и у татар. Из так называемых «этнически мусульманских» народов России лишь башкиры и татары демонстрируют демографическую стагнацию, в наибольшей степени подвержены ассимиляции со стороны русского населения. Не лучше ли работать в этом направлении, развивать подлинные, проверенные предшествующими веками духовные ценности, требования ислама, среди которых особое, почетное место занимают: многодетные крепкие семьи, добрососедские и братские отношения? Гораздо легче, на первый взгляд, обвинить в имеющихся проблемах (в нашем случае в демографических) соседей, отсюда и простые рецепты, призывы: «реконфигурация численности», «отмена сфальсифицированной переписи». Не целесообразнее ли направить энергию наших татарских коллег на решение культурных, социально-экономических потребностей татарской диаспоры в те российские регионы, где в нем действительно нуждаются (Челябинская, Курганская, Свердловская, Ульяновская, Самарская и др. области), а не раздувать проблемы по любому поводу и без, там, где их нет? Также, хотелось бы призвать наших татарских коллег прекратить голословные, провокационные и оскорбительные выпады на историю, культуру башкирского народа. Имеющие место быть некоторые противоречия должны, и, мы уверены, будут решаться в соответствии со здравым смыслом и без искусственно раздуваемых эмоций. Главное, чтобы в спорах ученых, в публикациях не оскорблялись национальные чувства и достоинства наших, действительно братских народов.
Асылгужин Р.Р.
канд. филос. наук
Фанур Шагиев,
21-08-2012 22:57
(ссылка)
Охота с беркутами... среди башкир
21 мая 1856 года глава егермейстерской конторы
(заведовала императорской охотой) обер-егермейстер граф П. Ферзен
обратился к В. А. Перовскому с письмом, в котором писал:
«До
Высочайшего ( Александра II ) сведения дошло, что во вверенных
управлению Вашего сиятельства губерниях водятся беркуты или орлы,
приученные брать не только птиц, но даже некоторых зверей, как лисиц,
зайцев и других, а потому господину министру императорского двора угодно
было мне поручить обратиться к Вашему сиятельству с покорнейшей
просьбою: если таковые орлы действительно водятся во вверенном Вам крае,
то прислать двух или трех… вместе с людьми, привыкшими с ними
обращаться, в Москву, ко времени имеющей быть в августе месяце коронации
Его Величества…».
В короткое время в Башкирии были найдены два
беркута, два кречета, четыре сокола, два ястреба, приученные к охоте. В.
А. Перовский принял решение отправить в Москву десять башкир-охотников,
для которых было сшито специальное обмундирование...
Делегацию
возглавил двадцатипятилетний зауряд-сотник Фахретдин-хаджи Уметбаев,
управляющий 27-м кантоном, родной брат Мухаметсалима Уметбаева,
известного впоследствии башкирского ученого, писателя и публициста. Их
отец, есаул Ишмухамет Уметбаев, бывший кантонным начальником, считался
большим мастером соколиной охоты. Его кантон находился в то время в
Стерлитамакском уезде, на территории современного Кармаскалинского
района Башкортостана...
...Церемония коронации Александра II
состоялась 26 августа в Успенском соборе Московского кремля. На ней
присутствовала и башкирская депутация. Наконец, перед отъездом
императора в Санкт-Петербург череду празднеств должен был завершить
охотничий сезон.
Послов иностранных держав, видевших королевские и
иные охоты, вероятно, было трудно чем-либо удивить. Однако то, что они
увидели 6 сентября 1856 года, было невиданным для них зрелищем...
Александр
II «за успешное производство с беркутами и ястребами охот, изволил
изъявить Высочайшее свое удовольствие». Особую благодарность на имя
генерал-губернатора В. А. Перовского направил граф П. Ферзен: «за
отлично-примерное поведение во все время нахождения в Москве г.
Уметбаева с вверенною ему командою нижних чинов Башкирского войска».
Башкиры получили денежное вознаграждение по 50 рублей серебром, что
представляло для того времени немалую сумму, а их командир зауряд-сотник
Ф. Уметбаев был пожалован драгоценным перстнем. Впоследствии он получит
чин зауряд-есаула. Кроме того, всем башкирам-охотникам были подарены
коронационные жетоны, как свидетелям коронации императора Александра II.
Один из башкир, урядник Юлдыбаев, был оставлен на некоторое время в
Москве для обучения царских егерей тонкостям охоты с ловчими птицами. Он
был родом из 6-го кантона, который находился в то время в
Верхнеуральском уезде, на территории современного Белорецкого района
Башкортостана.
(заведовала императорской охотой) обер-егермейстер граф П. Ферзен
обратился к В. А. Перовскому с письмом, в котором писал:
«До
Высочайшего ( Александра II ) сведения дошло, что во вверенных
управлению Вашего сиятельства губерниях водятся беркуты или орлы,
приученные брать не только птиц, но даже некоторых зверей, как лисиц,
зайцев и других, а потому господину министру императорского двора угодно
было мне поручить обратиться к Вашему сиятельству с покорнейшей
просьбою: если таковые орлы действительно водятся во вверенном Вам крае,
то прислать двух или трех… вместе с людьми, привыкшими с ними
обращаться, в Москву, ко времени имеющей быть в августе месяце коронации
Его Величества…».
В короткое время в Башкирии были найдены два
беркута, два кречета, четыре сокола, два ястреба, приученные к охоте. В.
А. Перовский принял решение отправить в Москву десять башкир-охотников,
для которых было сшито специальное обмундирование...
Делегацию
возглавил двадцатипятилетний зауряд-сотник Фахретдин-хаджи Уметбаев,
управляющий 27-м кантоном, родной брат Мухаметсалима Уметбаева,
известного впоследствии башкирского ученого, писателя и публициста. Их
отец, есаул Ишмухамет Уметбаев, бывший кантонным начальником, считался
большим мастером соколиной охоты. Его кантон находился в то время в
Стерлитамакском уезде, на территории современного Кармаскалинского
района Башкортостана...
...Церемония коронации Александра II
состоялась 26 августа в Успенском соборе Московского кремля. На ней
присутствовала и башкирская депутация. Наконец, перед отъездом
императора в Санкт-Петербург череду празднеств должен был завершить
охотничий сезон.
Послов иностранных держав, видевших королевские и
иные охоты, вероятно, было трудно чем-либо удивить. Однако то, что они
увидели 6 сентября 1856 года, было невиданным для них зрелищем...
Александр
II «за успешное производство с беркутами и ястребами охот, изволил
изъявить Высочайшее свое удовольствие». Особую благодарность на имя
генерал-губернатора В. А. Перовского направил граф П. Ферзен: «за
отлично-примерное поведение во все время нахождения в Москве г.
Уметбаева с вверенною ему командою нижних чинов Башкирского войска».
Башкиры получили денежное вознаграждение по 50 рублей серебром, что
представляло для того времени немалую сумму, а их командир зауряд-сотник
Ф. Уметбаев был пожалован драгоценным перстнем. Впоследствии он получит
чин зауряд-есаула. Кроме того, всем башкирам-охотникам были подарены
коронационные жетоны, как свидетелям коронации императора Александра II.
Один из башкир, урядник Юлдыбаев, был оставлен на некоторое время в
Москве для обучения царских егерей тонкостям охоты с ловчими птицами. Он
был родом из 6-го кантона, который находился в то время в
Верхнеуральском уезде, на территории современного Белорецкого района
Башкортостана.
Фанур Шагиев,
21-08-2012 22:44
(ссылка)
Еще в 1897 г. исследователь края С. Г. Рыбаков высказал:..
Еще в 1897 г. исследователь края С. Г. Рыбаков высказал:
«Башкиры
менее обнаруживают болезнь за свою религию, чем татары, спокойно
рассуждают о своей и русской вере, не обнаруживая ни малейшей склонности
возвеличивать свою, считая все веры равными.
Они спокойно
встретили распоряжение русских властей об обязательности знания русского
языка муллами, без опасения за веру отдают своих детей в русские
начальные школы».
По утверждению С. А. Халфина, «исламские
традиции вплелись в этническую культуру башкир очень своеобразно
<…> потому что башкирский этнос формировался на стыке различных
культур: западной и восточной, кочевническо-скотоводческой и
оседло-земледельческой».
«Башкиры
менее обнаруживают болезнь за свою религию, чем татары, спокойно
рассуждают о своей и русской вере, не обнаруживая ни малейшей склонности
возвеличивать свою, считая все веры равными.
Они спокойно
встретили распоряжение русских властей об обязательности знания русского
языка муллами, без опасения за веру отдают своих детей в русские
начальные школы».
По утверждению С. А. Халфина, «исламские
традиции вплелись в этническую культуру башкир очень своеобразно
<…> потому что башкирский этнос формировался на стыке различных
культур: западной и восточной, кочевническо-скотоводческой и
оседло-земледельческой».
Фанур Шагиев,
21-08-2012 19:43
(ссылка)
"Хивинцы в гостях у башкирцев. Записки проезжего. 1854"Небольсин
Известный историк, этнограф и литератор XIX века Павел
Иванович Небольсин писал в своих заметках "Хивинцы в гостях у башкирцев.
Записки проезжего. 1854":
"Башкирцы лихой народ и чудные
наездники. Удаль свою они не раз успели выказать в блистательных войнах,
которые вела Россия с своими врагами. Нечего и говорить, что, по роду
своей службы, они не могут вполне заменить тяжелой кавалерии или быть
хорошими пехотинцами; но как легкое иррегулярное войско, как казаки, они
первенство над собою могут уступить разве только кавказским линейцам да
уральцам; а в бесстрашии, отваге и примерной исполнительности они
сумели поддержать казачью славу наравне с донцами и черноморцами, и это в
течение нынешнего столетия они успели доказать в Отечественную войну
двенадцатого года, в турецкую кампанию, в Польскую войну, в Хивинскую
экспедицию и при многих других случаях."
Иванович Небольсин писал в своих заметках "Хивинцы в гостях у башкирцев.
Записки проезжего. 1854":
"Башкирцы лихой народ и чудные
наездники. Удаль свою они не раз успели выказать в блистательных войнах,
которые вела Россия с своими врагами. Нечего и говорить, что, по роду
своей службы, они не могут вполне заменить тяжелой кавалерии или быть
хорошими пехотинцами; но как легкое иррегулярное войско, как казаки, они
первенство над собою могут уступить разве только кавказским линейцам да
уральцам; а в бесстрашии, отваге и примерной исполнительности они
сумели поддержать казачью славу наравне с донцами и черноморцами, и это в
течение нынешнего столетия они успели доказать в Отечественную войну
двенадцатого года, в турецкую кампанию, в Польскую войну, в Хивинскую
экспедицию и при многих других случаях."
Фанур Шагиев,
21-08-2012 19:37
(ссылка)
1812 год.
В 1812 году полковник Робер писал своему приятелю:
«Русские
выпустили против нас орды монгол! Кажется все эпохи ополчились против
нас! Эти люди в шкурах и мехах не знают ни страха ни пощады. Удивительна
их природа ведения боя. Они дико визжат и толпой лезут напролом. Их
косят множественно ядра, а им это не страшно.
Вы будете изрядно
удивлены, но в своем вооружении они используют луки и стрелы, которые
разят беспощадно наших канониров. У капитана Клемансо треуголка пробита
стрелой монгола, а стрела прилетела из едва видимой точки в поле! Наши
солдаты, допрежь столкнувшись с этими экзотическими воинами, бегут с
поля боя, едва услышав эти дикие множественные вопли.
Это немыслимо, будто из пепла восстали орды хана Чингиза.»
Французский
полковник Робер по своему незнанию писал о башкирских конных полках,
которые были сформированы и поспешили на помощь русской армии, едва
узнали о нападении Наполеона на Россию.
«Русские
выпустили против нас орды монгол! Кажется все эпохи ополчились против
нас! Эти люди в шкурах и мехах не знают ни страха ни пощады. Удивительна
их природа ведения боя. Они дико визжат и толпой лезут напролом. Их
косят множественно ядра, а им это не страшно.
Вы будете изрядно
удивлены, но в своем вооружении они используют луки и стрелы, которые
разят беспощадно наших канониров. У капитана Клемансо треуголка пробита
стрелой монгола, а стрела прилетела из едва видимой точки в поле! Наши
солдаты, допрежь столкнувшись с этими экзотическими воинами, бегут с
поля боя, едва услышав эти дикие множественные вопли.
Это немыслимо, будто из пепла восстали орды хана Чингиза.»
Французский
полковник Робер по своему незнанию писал о башкирских конных полках,
которые были сформированы и поспешили на помощь русской армии, едва
узнали о нападении Наполеона на Россию.
Фанур Шагиев,
24-02-2012 21:13
(ссылка)
Список воинов 14 Башкирского полка 6 башкирского кантона получив
Список воинов 14 Башкирского полка 6 башкирского кантона
получивших жалованье за 1812-1814 г. :
1. Назарбай Тулюпов, сотенный есаул, прапорщик и кавалер
2. Алькай Ташбулатов, сотенный есаул, прапорщик и кавалер
3. Сайфульмулюк Тайсынов Ишеев, сотенный есаул- д.Расулево Кара Табынской волости
4. Сайфутдин Курмангалеев, сотенный есаул- д.Байрамгулово Телевской волости.
5. Абдряшид Абдулнасыров Наурузов, полковой квартирмейстер- д.Наурузово Телевской волости
6. Байгилда Ибраков-Султанов, сотник - д.Сайтаково Кара Табынской волости
7. Файзулла Куджантов, сотник
8. Автуньян Шилыбаев, сотник
9. Курас Адылов, сотник
10. Куджаахмет Биктимеров, сотник
11. Кильдияр Байбулдыев, хорунжий, прапорщик
12. Кунакбай Мукманов, хорунжий- д.Туиш Кубелякской волости
13. Юмавилов, пятидесятник
14. Мугаз Мазкеев, пятидесятник
15. Умурзак Уразбетов, пятидесятник
16. Салимьян Баташев, пятидесятник
17. Назакбай Мухаметов, пятидесятник
18. Ишкужа Кучмышев, пятидесятник
19. Мугаитмас Кашкаров, пятидесятник - д.Сайтаково Кара
Табынской волости
Рядовые:
1. Ямбай Кадыргалин - д.Сайтаково Кара Табынской волости
2. Хасан Минибаев - д.Сайтаково
3. Сулейман Абдулкаримов - д.Сайтаково
4. Ражаб Тутекаев - д.Сайтаково
5. Рахматулла Туманчеев - д.Сайтаково
6. Мухаммет Булдурсинов - д.Сайтаково
7. Абдульманап Аккучуков - д.Сайтаково
8. Азнабай Янбаев - д.Кудашево Кара Табынской волости
9. Галибатыр Таулубаев - д.Кудашево
10. Гадельсура Алимгужин - д.Кудашево
11. Мухамметян Арылкагуджев - д.Базаргулово Кара Табынской
волости
12. Ишкужа Сайфуллин
13. Байбулат Торшев
14. Даулетбай Аитбаев д.Кудашево
15. Кульмухамет Сатыбалдиев
16. Сибдушвай Хаджиев
17. Хамет Тляумбетов
18. Карамшай Шиканев
19. Юрсумбай Иркашев
20. Янтимир Юртумбаев
21. Марбай Докужаров
22. Ихсан Кульмухаметов
23. Нураси Джагяров
24. Азнагул Илушев
25. Биксура Битов
26. Саидягфар Каибердиев
27. Альмухамет Уртыев
28. Анис Абдуллин
29. Якуб Субханов
30. Хайризаман Байтимеров
31. Шамгун Рахманкулов
32. Кувандык Абдулфаизов д.Расулево Кара Табынской волости
33. Тухватулла Абдуллин - д.Расулево
34. Рыскул Ырысбаев
35. Абдулла Ювалдубаев
36. Нурмухамет Амиров
37. Амангильды Нигматов
38. Имисибай Юртумов
39. Халит Миндукаев
40. Атбуш Илыднев
41. Кунакбай Максютов - д.Сайтаково
42. Атбуш Илыднев
43. Мулкаман Муратов
44. Байгильде Сагунбаев
45. Абдулгазиз Кутлушев
46. Исхак Сурагулов
47. Гайнулла Якупов
48. Абдулмажит Сарайкулев
49. Ильчигул Даулетбирдиев
50. Баим Тугузбаев
51. Салимьян Баталов
52. Ишкужа Кусмышев
53. Файзулла Рамбулов
54. Губайдулла Куйбаков
55. Ниязгул Искаев
56. Амангельды Имамов - д.Габдулбакиево Кара Табынской волости
57. Худайберды Тапсюков
58. Ульмясбай Сунаргужев
59. Аблай Каскынов
60. Аманбай Батанов
61. Ишбулды Сабриев
62. Сагитт Кулбагушев
63. Байгужа Матянов
64. Татлымбет Кусымышев
65. Арасбай Алдашев
66. Кунакбай Мукминов
67. Байсары Агишев
68. Таймас Исаков
69. Абдулхалик Кусанов
70. Абдулгазы Аблаев
71. Юмабирды Исхаков
72. Давлет Кувандыков
73. Алтынбай Тайкунов
74. Сайфульмулюк Янбаков
75. Баймурат Ниязгулов
76. Юсуф Абдулялилов
77. Кильдияркамал Труземов
78. Абдулла Чурагулов, подпоручик д.Ишмекеево (Сурагулово) Кара Табынской волости
(На основании доверенности от 01 июля 1821года)
(ЦГИА РБ, ф. 2, оп. 1, д. 1504, л. 46-47 об. )
получивших жалованье за 1812-1814 г. :
1. Назарбай Тулюпов, сотенный есаул, прапорщик и кавалер
2. Алькай Ташбулатов, сотенный есаул, прапорщик и кавалер
3. Сайфульмулюк Тайсынов Ишеев, сотенный есаул- д.Расулево Кара Табынской волости
4. Сайфутдин Курмангалеев, сотенный есаул- д.Байрамгулово Телевской волости.
5. Абдряшид Абдулнасыров Наурузов, полковой квартирмейстер- д.Наурузово Телевской волости
6. Байгилда Ибраков-Султанов, сотник - д.Сайтаково Кара Табынской волости
7. Файзулла Куджантов, сотник
8. Автуньян Шилыбаев, сотник
9. Курас Адылов, сотник
10. Куджаахмет Биктимеров, сотник
11. Кильдияр Байбулдыев, хорунжий, прапорщик
12. Кунакбай Мукманов, хорунжий- д.Туиш Кубелякской волости
13. Юмавилов, пятидесятник
14. Мугаз Мазкеев, пятидесятник
15. Умурзак Уразбетов, пятидесятник
16. Салимьян Баташев, пятидесятник
17. Назакбай Мухаметов, пятидесятник
18. Ишкужа Кучмышев, пятидесятник
19. Мугаитмас Кашкаров, пятидесятник - д.Сайтаково Кара
Табынской волости
Рядовые:
1. Ямбай Кадыргалин - д.Сайтаково Кара Табынской волости
2. Хасан Минибаев - д.Сайтаково
3. Сулейман Абдулкаримов - д.Сайтаково
4. Ражаб Тутекаев - д.Сайтаково
5. Рахматулла Туманчеев - д.Сайтаково
6. Мухаммет Булдурсинов - д.Сайтаково
7. Абдульманап Аккучуков - д.Сайтаково
8. Азнабай Янбаев - д.Кудашево Кара Табынской волости
9. Галибатыр Таулубаев - д.Кудашево
10. Гадельсура Алимгужин - д.Кудашево
11. Мухамметян Арылкагуджев - д.Базаргулово Кара Табынской
волости
12. Ишкужа Сайфуллин
13. Байбулат Торшев
14. Даулетбай Аитбаев д.Кудашево
15. Кульмухамет Сатыбалдиев
16. Сибдушвай Хаджиев
17. Хамет Тляумбетов
18. Карамшай Шиканев
19. Юрсумбай Иркашев
20. Янтимир Юртумбаев
21. Марбай Докужаров
22. Ихсан Кульмухаметов
23. Нураси Джагяров
24. Азнагул Илушев
25. Биксура Битов
26. Саидягфар Каибердиев
27. Альмухамет Уртыев
28. Анис Абдуллин
29. Якуб Субханов
30. Хайризаман Байтимеров
31. Шамгун Рахманкулов
32. Кувандык Абдулфаизов д.Расулево Кара Табынской волости
33. Тухватулла Абдуллин - д.Расулево
34. Рыскул Ырысбаев
35. Абдулла Ювалдубаев
36. Нурмухамет Амиров
37. Амангильды Нигматов
38. Имисибай Юртумов
39. Халит Миндукаев
40. Атбуш Илыднев
41. Кунакбай Максютов - д.Сайтаково
42. Атбуш Илыднев
43. Мулкаман Муратов
44. Байгильде Сагунбаев
45. Абдулгазиз Кутлушев
46. Исхак Сурагулов
47. Гайнулла Якупов
48. Абдулмажит Сарайкулев
49. Ильчигул Даулетбирдиев
50. Баим Тугузбаев
51. Салимьян Баталов
52. Ишкужа Кусмышев
53. Файзулла Рамбулов
54. Губайдулла Куйбаков
55. Ниязгул Искаев
56. Амангельды Имамов - д.Габдулбакиево Кара Табынской волости
57. Худайберды Тапсюков
58. Ульмясбай Сунаргужев
59. Аблай Каскынов
60. Аманбай Батанов
61. Ишбулды Сабриев
62. Сагитт Кулбагушев
63. Байгужа Матянов
64. Татлымбет Кусымышев
65. Арасбай Алдашев
66. Кунакбай Мукминов
67. Байсары Агишев
68. Таймас Исаков
69. Абдулхалик Кусанов
70. Абдулгазы Аблаев
71. Юмабирды Исхаков
72. Давлет Кувандыков
73. Алтынбай Тайкунов
74. Сайфульмулюк Янбаков
75. Баймурат Ниязгулов
76. Юсуф Абдулялилов
77. Кильдияркамал Труземов
78. Абдулла Чурагулов, подпоручик д.Ишмекеево (Сурагулово) Кара Табынской волости
(На основании доверенности от 01 июля 1821года)
(ЦГИА РБ, ф. 2, оп. 1, д. 1504, л. 46-47 об. )
Фанур Шагиев,
24-02-2012 21:09
(ссылка)
2-й мишарский полк (Учалинцы)
Троицкий уезд Оренбургской губернии,
1-й мишарский кантон,
2-й мишарский полк, д.Ахуново
2-й Мещерякский полк сформирован в мишарских селениях 1-го и 4-го кантонов Челябинского и Уфимского уездов Оренбургской губ. Часть полка выступила в поход из станицы Кундравинская Троицкого уезда, вторая часть ожидала его в д. Салиховой Уфимского уезда. С 16 сентября 1812г. по декабрь 1814г. командовал полком майор Верхнеуральского гарнизонного батальона В.И. Бутлер. 10 октября 1812г. 2-й Мещерякский полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который, 15 декабря, поступил под команду начальника ополчения III округа генерал лейтенанта графа П.А. Толстого.
В январе 1813г. полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению, совместно с которым выступил в Волынскую губернию, а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошел в состав корпуса правого фланга под командой генерала от инфатерии Д.С. Дохтурова Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 13 августа в составе отряда генерал- майора С.Я. Репнинского 2-го направления к Бреславлю, а 15 августа командирован к крепости Глогау и в сентябре поступил в состав блокадного корпуса под командованием генерал- лейтенанта барона И.К. Розена.
Башкиры и мишари в блокаде крепости Глогау в 1813-1814гг.
Согласно «Квартирные расписания диспозиции и маршруты Польской армии в 1813 году и маршруты следования разных команд. 1813—1814 годы»» на 20 августа армия имела Главную квартиру в г.Калиш. В ее авангарде, которым командовал генерал- лейтенант Е.И.Марков, наряду с двумя полками донских казаков находился 3-й Оренбургский казачий полк. В составе «Корпуса правого фланга» генерала от инфантерии Д.С.Дохтурова находились 13-й Башкирский, в местечке Ратцен, и 2-й Мещерякский, в д.Гросс-Остен, полки. Ожидалось прибытие в мест. Равич 4-го Башкирского полка. В составе Польской армии находились: корпус генерал- майора Н.Ф.Титова (в 1812 г. — корпусной начальник ополчений III-го округа) 14-й Башкирский (д.Чернилак, Скларна); 15-й Башкирский (д.Грановице, Боников) полки — последние прибыли 12 августа. Основным занятием этих частей было боевое охранение и контакт с союзной прусской армией. Из «Журнала» мы имеем информацию о командировании 15 августа к крепости Глогау Костромского ополчения под командованием П.Г.Бардакова. Оно должно было наблюдать за гарнизоном на правом берегу Одера. Главная квартира ополчения находилась в г.Фрауштате. К ополчению были прикомандированы уже находившиеся около крепости 13-й Башкирский, 2-й Мещерякский, 3-й Оренбургский казачий полки и рота артиллерии. Они не сидели без дела. Французы активно противодействовали русским войскам. Так, в ночь на 22 августа гарнизон крепости сделал вылазку на правый берег Одера отрядом из 1500 чел. Однако, благодаря расторопности оренбургских казаков под командованием майора Белякова, эта вылазка была отбита, а французы потеряли 25 убитыми и 3 взяты в плен. 30 августа в наступление пошел авангард и «Корпус правого фланга»,
1 сентября выступила Главная квартира армии. Костромское ополчение, башкиры, мишари остались в блокадном корпусе под крепостью Глогау, под командованием генерал- лейтенанта барона И.К.Розена, сменив части регулярной армии, направленные в Бунцлау. Генерал- лейтенанту графу П.А.Толстому, командующему Поволжским ополченческим корпусом, было предписано следовать в Богемию «с теми только ополчениями и иррегулярной кавалерией, которые он <…> по сему предмету способными признали». В Богемию выступили 7 казачьих, 4 башкирских полка и регулярная пехота, кавалерия, артиллерия. В составе этих войск были 4-й, 5-й уральские, 3-й Оренбургский казачьи, 9-й, 11-й, 14-й, 15-й башкирские полки, шедшие в авангарде. 21 сентября было получено повеление Александра I
командировать в Главную союзную армию для ее усиления артиллерийскую роту №2, 11-й Башкирский и 3-й Оренбургский казачий полки. Причем вместо артиллерийской роты поступала новая, а башкиры и казаки откомандировывались без замены. Таким образом, с 21 сентября у Толстого остались 9-й, 14-й, 15-й башкирские, 4-й, 5-й уральские и 4 других казачьих полка. Корпус перешел в Теплиц, с 25 сентября по 30 октября он блокировал Дрезден. Обратим внимание на боевой путь башкирских полков, вошедших в осадный корпус Польской армии под командой барона Розена. Это 8-й, 12-й, 13-й, 16-й башкирские и 2-й Мещерякский полки. 2-й Мещерякский конный полк, командиром в нём был майор Верхнеуральского гарнизонного батальона В.И.Бутлер. Василий Иванович Бутлер происходил из курляндских дворян, в службу вступил в 1781 г. унтер- офицером в Полоцкий мушкетерский полк, затем служил в Московском гренадерском, Киевском гарнизонном, Бутырском мушкетерском, Рыльском мушкетерском полках. Он участник русско- турецкой войны, в частности, участвовал во взятии Очакова в 1788 г., а в 1794 г. воевал в Польше. В 1813 г. ему было 48 лет, он был холост. Для «письмоводительства» с ним в полку находился унтер- офицер этого же батальона Иван Бочкарев. 2-й Мещерякский полк имел особенность своего формирования, он был сформирован в мишарских селениях Челябинского и Уфимского уездов Оренбургской губ. Часть его выступила в поход из слободы Кундравинская Троицкого уезда 10 октября 1812 г., а вторая часть ожидала, собравшись в д.Салиховой Уфимского уезда. Из мещеряков полком командовал чиновник 14 класса Хасанов, его помощником был Миряфов. 15 декабря полк прибыл в Нижний Новгород и был прикомандирован к Рязанскому ополчению. В составе корпуса Толстого он выступил в поход в герцогство Варшавское. В конце мая полк вошёл в состав корпуса левого фланга под командой Толстого, в августе входил в корпус правого фланга Дохтурова в Польской армии Беннигсена. 13 августа 1813 г. в составе отряда генерал- майора С.Я.Репнинского полк был направлен к Бреславлю, но 15 августа был командирован к Глогау и поступил в блокадный корпус, в составе которого действовал с сентября 1813 г. по 30 марта 1814 г. до сдачи крепости. В январе 1813 г. в полку состояло: 2 штаб- офицера, 16 обер- офицеров, 12 урядников, 500 казаков, 512 строевых лошадей, 256 вьючных лошадей. Стали известны имена некоторых воинов этого полка: хорунжий 2-й сотни Зяинятдинов, 4-й сотни Мустафин, десятник Габдулсалит Абдулхасанов, мещеряки Абдулзямин Рамазанов, Габдулхаким Абдулмязитов, Хисамутдин Гумеров, Зельмухамет Альмухаметев, Сулейман Муртазин, Бахтияр Ишкаев, Абдулханан Кайсаров, Абдулхалик Зюбеиров, Абдулмуталип Бакиров,
Абдулмязит Абдурсалямов, Мухаметкарим Алекеев, Рахметьулла Абясов, Ибрахман Абусалямов, Абдулмин Баязитов, Абдрахман Мансуров, Фейрус Амерханов, Абдулнасыр Хусеинов, Абдулхаким Хусеинов, Ишнияс Зюбаиров, Мухаметша Алекеев, Зиянятдин Зиянятдинов.
Отправление башкирских и мещерякского полков на Украину было осуществлено по повелению императора Александра I графу Толстому: «С вверенным ему ополчением взять направление из Нижнего Новгорода на Муром, Рязань, Орел и Глухов и расположиться в Малороссийских губерниях, присоеденя ко оному Рязанское и Тульское ополчение. К сему ополчению присоединяются из числа иррегулярных войск от генерала князя Волконского из Оренбургского края в Нижний Новгород выкомандированных 14 башкирских и 2 Мещерякского полка». Появление башкир в осадном корпусе через некоторое время изменило тактику действия блокированного противника. На правой стороне Одера, где находился корпус Розена, французы не держали по ночам караулов, поскольку на них ночью делали набеги башкиры и мишари, уничтожая солдат на постах. Поэтому свои пикеты французы из- за «беспокойных» башкир выставляли только на рассвете на светлое время суток. В осадном корпусе вместе с башкирами и мишарями находились 4 пеших полка Костромского ополчения (конный полк этого ополчения был направлен к Дрездену), 3 пеших полка Симбирского ополчения, некоторое время находились полки Рязанского ополчения, а также в блокаде участвовала одна артиллерийская рота, всего около 15 тыс. человек. На левой стороне Одера находилось примерно столько же прусских войск, которыми командовал полковник Блюменштейн. Для командования проблема с осадой крепостей заключалась в том, что они отвлекали значительное число войск, так необходимых для боевых действий с армией Наполеона, поэтому оно стремилось заменить регулярные войска в осадных корпусах ополчением и национальной конницей. В 1813 г. боевые действия развернулись по всей территории Германии, осажденных крепостей в тылу союзников оставалось много, армия нуждалась и в тех башкирских полках и ополчении, что были связаны ими. Поэтому командование блокадного корпуса предложило провести штурм крепости Глогау. Однако союзники-пруссаки были категорически против, поскольку штурм означал разрушения, а поскольку крепость должна была возвратиться Пруссии, то они пытались ее сохранить, поэтому настаивали на затяжной блокаде, с тем, чтобы вынудить противника сдаться из- за нехватки продовольствия или боеприпасов. Французы не догадывались, что крепость осаждают слабые в военном отношении части. Они считали, что это русские солдаты нарочно оделись мужиками, чтобы выманить французов из крепости в чистое поле и там их разбить. Лишь 28—29 октября 1813 г. гарнизон предпринял две вылазки против блокадного корпуса. Вначале французский генерал укрепил свои ряды, избавившись от возможных перебежчиков. Поэтому, поскольку хорваты были ненадежны, то они выпустили их из крепости. Гарнизон стал однородным в национальном отношении. На рассвете 28 октября французы атаковали позиции пруссаков, а против русских войск, опасаясь «переодетых мужиками солдат», сделали лишь диверсию, с целью удержать их от участия в бою. Французы смогли одержать в этот день победу и уничтожить роту прусских егерей. 29-го они уже осуществили двухстороннюю вылазку, против русских и пруссаков. В этот день Костромское ополчение впервые приняло участие в бою, для башкир и мишарей свист пуль и ядер был знаком. Французы атаковали русские позиции двумя колоннами по 250 чел. каждая. Одна пыталась овладеть шанцами (земляные укрепления), соединяющими осадные аллеи, а другая — сбить передовые пикеты башкир и затем занять шанцы на берегу Одера. Оба русских фланга, находящиеся у д.Пфердгиммель и Лихенберг, встретили французов ружейным огнем, 400 башкир произвели ложную атаку, сама крепость была подвергнута обстрелу и покрылась клубами порохового дыма. Русские отразили натиск противника и перешли в наступление, сбив в свою очередь два французских пикета и овладев шанцами, потеряв всего 6 человек убитыми и ранеными. Одновременно пруссаки дважды ходили в штыки, взяв в бою 2 пушки и 200 пленных. Больше вылазок французы не делали, а в начале марта 1814 г. начались переговоры. Дело в том, что в Глогау находились большие запасы хлеба, но совершенно не было соли и мяса. Гарнизон съел всех лошадей. Переговоры завершились 30 марта. По условиям сдачи гарнизон в числе 3 тыс. чел. складывал оружие и отпускался во Францию с обязательством не воевать против русских и пруссаков год и один день. Сама крепость сдавалась 5 апреля одновременно пруссакам с прусской стороны, а русским с русской, предместья и передовые укрепления должны были быть сданы накануне.
4 апреля в 3 часа дня русские войска, в их числе ополчение, башкиры и мишари вступили в пределы предместья Глогау-Домм. Французский генерал Лаплан и чиновник вручили ключи от крепости коллежскому асессору Назарову, назначенному комендантом предместья. 5 апреля в 6 часов утра войска выстроились для торжественной сдачи крепости. Впереди расположился 2-й Мещерякский, за ним 8-й, 12-й, 13-й и 16-й башкирские полки, затем прусская артиллерия и кавалерия, далее стояла русская пехота, в конце прусская. Возглавлявший выход гарнизона генерал Лаплан, поравнявшись с прусским начальником пехоты, отсалютовал ему шпагой и, после кратких переговоров, получив разрешение не участвовать в параде, ускакал вперед. Выходившие французы, в отличие от своего генерала, демонстрировали, что сдаются не пруссакам, а русским. Так, первый французский батальон хотел сложить оружие перед прусской пехотой, но батальонный командир закричал «Вперед!» и только поравнявшись с русскими, скомандовал «Pardon!». Солдаты ставили ружья в козлы, снимали ранцы и тесаки и вешали их на ружья. При этом многие плакали. Когда кончился парад и безоружный французский гарнизон ушел от крепости, в неё стали торжественно вступать союзники. Во главе их ехал прусский генерал Таубе, рядом с ним начальник Симбирского ополчения действительный статский советник князь Н.И.Тенишев. За ними ехал начальник 1-й бригады Костромского ополчения действительный камергер С.П.Татищев. Кстати, у Тенишева в конвое находилось 2 пятидесятника и 12 рядовых 15-го Башкирского полка. Союзные войска при входе в крепость встречала арка с надписями на немецком языке: «Идите, идите, избавители!», «Да здравствует Александр I, император всероссийский и Фридрих IV, король Пруссии!», а стоявшие по краям дороги немецкие девушки осыпали её цветами. Таубе от благодарных горожан получил лавровый венок, но сразу же передал его Тенишеву, желая показать признательность русским освободителям. Жители на площадях читали стихи, выступали с речами, в кирхе прошел молебен. Вошедшие войска были распределены по квартирам. Офицеров пригласили на обед, а солдат угощали жители, разнося по улицам еду и вино. Во всех этих торжествах принимали участие башкиры и мишари, проведшие осень и зиму вместе с ополченцами в тяжелых условиях, постоянных разъездах, перестрелках с французскими солдатами на пикетах. Вероятно, за осень и зиму россияне смогли выучить минимум слов для изъяснений с местными жителями. Но трудно представить, что башкиры и мишари, как и костромичи- ополченцы, понимали немецкие стихи или смысл высоких речей. Но общий радостный настрой горожан, связанный с торжественной встречей освободителей, был понятен всем, от рядового до князя. Пруссакам, как осаждавшим, так и горожанам, было дорого то, что крепость не подверглась разрушению. Сама капитуляция гарнизона означала конец войне и надежду на скорое возвращение домой.
После сдачи крепости башкирские и мишарский полки несли караульную службу вместе с Костромским ополчением до октября 1814 г. 10 октября барон Розен в своем приказе поблагодарил участников блокады крепости за службу. Возвращение домой затянулось, оно пришлось на позднюю осень и зиму. Во время марша на родину полки несли потери умершими от болезней.
Смена климата, пищи, воды тяжело сказывались на здоровье людей, уже проведших два осеннее- зимних сезона верхом на лошадях и в походе, и в третью зиму подряд совершавших переход. Таким образом, вместе с Костромским ополчением и прусскими войсками, с сентября 1813 г. при блокаде крепости Глогау до ее сдачи в марте 1814 г., в составе корпуса Польской армии под командой генерал- лейтенанта барона И.К.Розена находились и успешно воевали 8-й, 12-й, 13-й, 16-й башкирские и 2-й Мещерякский полки. Их нахождение в составе осадного корпуса и героическое участие в отражении вылазок гарнизона привело в итоге к сдаче первоклассной крепости противником и разоружению 3 тыс. французов. С другой стороны, башкиры, мишари и ополченцы своим участием в блокаде Глогау высвободили несколько тысяч регулярной кавалерии и пехоты, так необходимых на полях сражений 1813—1814 гг. и приведших союзные войска в Париж.
На 1 июля во 2-м Мещерякском полку числились: полковой командир, его помощник, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, полковой адъютант, квартирмистр, писарь, мулла, 10 пятидесятников, 492 мещеряка, строевых лошадей 500, вьючных 248. У графа Толстого в «бессменных ординарцах» находился хорунжий 4-й сотни Мустафин. 2-й Мещерякский полк потерял в 1813 г. умершими: Абдуляпара Сеитбурханова (2 февраля), Валиуллу Валитова (8 марта), Гайнуллу Арасланова (9 марта), Абдуллу Абсалямова (13 апреля), Шагиахмета Рахманкулова (16 мая), Абдулзябира Абряшитова (9 апреля), Габайдуллу Абдуллина (14 июня).
В декабре 1814года полк возвратился в свои селения и был расформирован
1-й мишарский кантон,
2-й мишарский полк, д.Ахуново
2-й Мещерякский полк сформирован в мишарских селениях 1-го и 4-го кантонов Челябинского и Уфимского уездов Оренбургской губ. Часть полка выступила в поход из станицы Кундравинская Троицкого уезда, вторая часть ожидала его в д. Салиховой Уфимского уезда. С 16 сентября 1812г. по декабрь 1814г. командовал полком майор Верхнеуральского гарнизонного батальона В.И. Бутлер. 10 октября 1812г. 2-й Мещерякский полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который, 15 декабря, поступил под команду начальника ополчения III округа генерал лейтенанта графа П.А. Толстого.
В январе 1813г. полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению, совместно с которым выступил в Волынскую губернию, а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошел в состав корпуса правого фланга под командой генерала от инфатерии Д.С. Дохтурова Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 13 августа в составе отряда генерал- майора С.Я. Репнинского 2-го направления к Бреславлю, а 15 августа командирован к крепости Глогау и в сентябре поступил в состав блокадного корпуса под командованием генерал- лейтенанта барона И.К. Розена.
Башкиры и мишари в блокаде крепости Глогау в 1813-1814гг.
Согласно «Квартирные расписания диспозиции и маршруты Польской армии в 1813 году и маршруты следования разных команд. 1813—1814 годы»» на 20 августа армия имела Главную квартиру в г.Калиш. В ее авангарде, которым командовал генерал- лейтенант Е.И.Марков, наряду с двумя полками донских казаков находился 3-й Оренбургский казачий полк. В составе «Корпуса правого фланга» генерала от инфантерии Д.С.Дохтурова находились 13-й Башкирский, в местечке Ратцен, и 2-й Мещерякский, в д.Гросс-Остен, полки. Ожидалось прибытие в мест. Равич 4-го Башкирского полка. В составе Польской армии находились: корпус генерал- майора Н.Ф.Титова (в 1812 г. — корпусной начальник ополчений III-го округа) 14-й Башкирский (д.Чернилак, Скларна); 15-й Башкирский (д.Грановице, Боников) полки — последние прибыли 12 августа. Основным занятием этих частей было боевое охранение и контакт с союзной прусской армией. Из «Журнала» мы имеем информацию о командировании 15 августа к крепости Глогау Костромского ополчения под командованием П.Г.Бардакова. Оно должно было наблюдать за гарнизоном на правом берегу Одера. Главная квартира ополчения находилась в г.Фрауштате. К ополчению были прикомандированы уже находившиеся около крепости 13-й Башкирский, 2-й Мещерякский, 3-й Оренбургский казачий полки и рота артиллерии. Они не сидели без дела. Французы активно противодействовали русским войскам. Так, в ночь на 22 августа гарнизон крепости сделал вылазку на правый берег Одера отрядом из 1500 чел. Однако, благодаря расторопности оренбургских казаков под командованием майора Белякова, эта вылазка была отбита, а французы потеряли 25 убитыми и 3 взяты в плен. 30 августа в наступление пошел авангард и «Корпус правого фланга»,
1 сентября выступила Главная квартира армии. Костромское ополчение, башкиры, мишари остались в блокадном корпусе под крепостью Глогау, под командованием генерал- лейтенанта барона И.К.Розена, сменив части регулярной армии, направленные в Бунцлау. Генерал- лейтенанту графу П.А.Толстому, командующему Поволжским ополченческим корпусом, было предписано следовать в Богемию «с теми только ополчениями и иррегулярной кавалерией, которые он <…> по сему предмету способными признали». В Богемию выступили 7 казачьих, 4 башкирских полка и регулярная пехота, кавалерия, артиллерия. В составе этих войск были 4-й, 5-й уральские, 3-й Оренбургский казачьи, 9-й, 11-й, 14-й, 15-й башкирские полки, шедшие в авангарде. 21 сентября было получено повеление Александра I
командировать в Главную союзную армию для ее усиления артиллерийскую роту №2, 11-й Башкирский и 3-й Оренбургский казачий полки. Причем вместо артиллерийской роты поступала новая, а башкиры и казаки откомандировывались без замены. Таким образом, с 21 сентября у Толстого остались 9-й, 14-й, 15-й башкирские, 4-й, 5-й уральские и 4 других казачьих полка. Корпус перешел в Теплиц, с 25 сентября по 30 октября он блокировал Дрезден. Обратим внимание на боевой путь башкирских полков, вошедших в осадный корпус Польской армии под командой барона Розена. Это 8-й, 12-й, 13-й, 16-й башкирские и 2-й Мещерякский полки. 2-й Мещерякский конный полк, командиром в нём был майор Верхнеуральского гарнизонного батальона В.И.Бутлер. Василий Иванович Бутлер происходил из курляндских дворян, в службу вступил в 1781 г. унтер- офицером в Полоцкий мушкетерский полк, затем служил в Московском гренадерском, Киевском гарнизонном, Бутырском мушкетерском, Рыльском мушкетерском полках. Он участник русско- турецкой войны, в частности, участвовал во взятии Очакова в 1788 г., а в 1794 г. воевал в Польше. В 1813 г. ему было 48 лет, он был холост. Для «письмоводительства» с ним в полку находился унтер- офицер этого же батальона Иван Бочкарев. 2-й Мещерякский полк имел особенность своего формирования, он был сформирован в мишарских селениях Челябинского и Уфимского уездов Оренбургской губ. Часть его выступила в поход из слободы Кундравинская Троицкого уезда 10 октября 1812 г., а вторая часть ожидала, собравшись в д.Салиховой Уфимского уезда. Из мещеряков полком командовал чиновник 14 класса Хасанов, его помощником был Миряфов. 15 декабря полк прибыл в Нижний Новгород и был прикомандирован к Рязанскому ополчению. В составе корпуса Толстого он выступил в поход в герцогство Варшавское. В конце мая полк вошёл в состав корпуса левого фланга под командой Толстого, в августе входил в корпус правого фланга Дохтурова в Польской армии Беннигсена. 13 августа 1813 г. в составе отряда генерал- майора С.Я.Репнинского полк был направлен к Бреславлю, но 15 августа был командирован к Глогау и поступил в блокадный корпус, в составе которого действовал с сентября 1813 г. по 30 марта 1814 г. до сдачи крепости. В январе 1813 г. в полку состояло: 2 штаб- офицера, 16 обер- офицеров, 12 урядников, 500 казаков, 512 строевых лошадей, 256 вьючных лошадей. Стали известны имена некоторых воинов этого полка: хорунжий 2-й сотни Зяинятдинов, 4-й сотни Мустафин, десятник Габдулсалит Абдулхасанов, мещеряки Абдулзямин Рамазанов, Габдулхаким Абдулмязитов, Хисамутдин Гумеров, Зельмухамет Альмухаметев, Сулейман Муртазин, Бахтияр Ишкаев, Абдулханан Кайсаров, Абдулхалик Зюбеиров, Абдулмуталип Бакиров,
Абдулмязит Абдурсалямов, Мухаметкарим Алекеев, Рахметьулла Абясов, Ибрахман Абусалямов, Абдулмин Баязитов, Абдрахман Мансуров, Фейрус Амерханов, Абдулнасыр Хусеинов, Абдулхаким Хусеинов, Ишнияс Зюбаиров, Мухаметша Алекеев, Зиянятдин Зиянятдинов.
Отправление башкирских и мещерякского полков на Украину было осуществлено по повелению императора Александра I графу Толстому: «С вверенным ему ополчением взять направление из Нижнего Новгорода на Муром, Рязань, Орел и Глухов и расположиться в Малороссийских губерниях, присоеденя ко оному Рязанское и Тульское ополчение. К сему ополчению присоединяются из числа иррегулярных войск от генерала князя Волконского из Оренбургского края в Нижний Новгород выкомандированных 14 башкирских и 2 Мещерякского полка». Появление башкир в осадном корпусе через некоторое время изменило тактику действия блокированного противника. На правой стороне Одера, где находился корпус Розена, французы не держали по ночам караулов, поскольку на них ночью делали набеги башкиры и мишари, уничтожая солдат на постах. Поэтому свои пикеты французы из- за «беспокойных» башкир выставляли только на рассвете на светлое время суток. В осадном корпусе вместе с башкирами и мишарями находились 4 пеших полка Костромского ополчения (конный полк этого ополчения был направлен к Дрездену), 3 пеших полка Симбирского ополчения, некоторое время находились полки Рязанского ополчения, а также в блокаде участвовала одна артиллерийская рота, всего около 15 тыс. человек. На левой стороне Одера находилось примерно столько же прусских войск, которыми командовал полковник Блюменштейн. Для командования проблема с осадой крепостей заключалась в том, что они отвлекали значительное число войск, так необходимых для боевых действий с армией Наполеона, поэтому оно стремилось заменить регулярные войска в осадных корпусах ополчением и национальной конницей. В 1813 г. боевые действия развернулись по всей территории Германии, осажденных крепостей в тылу союзников оставалось много, армия нуждалась и в тех башкирских полках и ополчении, что были связаны ими. Поэтому командование блокадного корпуса предложило провести штурм крепости Глогау. Однако союзники-пруссаки были категорически против, поскольку штурм означал разрушения, а поскольку крепость должна была возвратиться Пруссии, то они пытались ее сохранить, поэтому настаивали на затяжной блокаде, с тем, чтобы вынудить противника сдаться из- за нехватки продовольствия или боеприпасов. Французы не догадывались, что крепость осаждают слабые в военном отношении части. Они считали, что это русские солдаты нарочно оделись мужиками, чтобы выманить французов из крепости в чистое поле и там их разбить. Лишь 28—29 октября 1813 г. гарнизон предпринял две вылазки против блокадного корпуса. Вначале французский генерал укрепил свои ряды, избавившись от возможных перебежчиков. Поэтому, поскольку хорваты были ненадежны, то они выпустили их из крепости. Гарнизон стал однородным в национальном отношении. На рассвете 28 октября французы атаковали позиции пруссаков, а против русских войск, опасаясь «переодетых мужиками солдат», сделали лишь диверсию, с целью удержать их от участия в бою. Французы смогли одержать в этот день победу и уничтожить роту прусских егерей. 29-го они уже осуществили двухстороннюю вылазку, против русских и пруссаков. В этот день Костромское ополчение впервые приняло участие в бою, для башкир и мишарей свист пуль и ядер был знаком. Французы атаковали русские позиции двумя колоннами по 250 чел. каждая. Одна пыталась овладеть шанцами (земляные укрепления), соединяющими осадные аллеи, а другая — сбить передовые пикеты башкир и затем занять шанцы на берегу Одера. Оба русских фланга, находящиеся у д.Пфердгиммель и Лихенберг, встретили французов ружейным огнем, 400 башкир произвели ложную атаку, сама крепость была подвергнута обстрелу и покрылась клубами порохового дыма. Русские отразили натиск противника и перешли в наступление, сбив в свою очередь два французских пикета и овладев шанцами, потеряв всего 6 человек убитыми и ранеными. Одновременно пруссаки дважды ходили в штыки, взяв в бою 2 пушки и 200 пленных. Больше вылазок французы не делали, а в начале марта 1814 г. начались переговоры. Дело в том, что в Глогау находились большие запасы хлеба, но совершенно не было соли и мяса. Гарнизон съел всех лошадей. Переговоры завершились 30 марта. По условиям сдачи гарнизон в числе 3 тыс. чел. складывал оружие и отпускался во Францию с обязательством не воевать против русских и пруссаков год и один день. Сама крепость сдавалась 5 апреля одновременно пруссакам с прусской стороны, а русским с русской, предместья и передовые укрепления должны были быть сданы накануне.
4 апреля в 3 часа дня русские войска, в их числе ополчение, башкиры и мишари вступили в пределы предместья Глогау-Домм. Французский генерал Лаплан и чиновник вручили ключи от крепости коллежскому асессору Назарову, назначенному комендантом предместья. 5 апреля в 6 часов утра войска выстроились для торжественной сдачи крепости. Впереди расположился 2-й Мещерякский, за ним 8-й, 12-й, 13-й и 16-й башкирские полки, затем прусская артиллерия и кавалерия, далее стояла русская пехота, в конце прусская. Возглавлявший выход гарнизона генерал Лаплан, поравнявшись с прусским начальником пехоты, отсалютовал ему шпагой и, после кратких переговоров, получив разрешение не участвовать в параде, ускакал вперед. Выходившие французы, в отличие от своего генерала, демонстрировали, что сдаются не пруссакам, а русским. Так, первый французский батальон хотел сложить оружие перед прусской пехотой, но батальонный командир закричал «Вперед!» и только поравнявшись с русскими, скомандовал «Pardon!». Солдаты ставили ружья в козлы, снимали ранцы и тесаки и вешали их на ружья. При этом многие плакали. Когда кончился парад и безоружный французский гарнизон ушел от крепости, в неё стали торжественно вступать союзники. Во главе их ехал прусский генерал Таубе, рядом с ним начальник Симбирского ополчения действительный статский советник князь Н.И.Тенишев. За ними ехал начальник 1-й бригады Костромского ополчения действительный камергер С.П.Татищев. Кстати, у Тенишева в конвое находилось 2 пятидесятника и 12 рядовых 15-го Башкирского полка. Союзные войска при входе в крепость встречала арка с надписями на немецком языке: «Идите, идите, избавители!», «Да здравствует Александр I, император всероссийский и Фридрих IV, король Пруссии!», а стоявшие по краям дороги немецкие девушки осыпали её цветами. Таубе от благодарных горожан получил лавровый венок, но сразу же передал его Тенишеву, желая показать признательность русским освободителям. Жители на площадях читали стихи, выступали с речами, в кирхе прошел молебен. Вошедшие войска были распределены по квартирам. Офицеров пригласили на обед, а солдат угощали жители, разнося по улицам еду и вино. Во всех этих торжествах принимали участие башкиры и мишари, проведшие осень и зиму вместе с ополченцами в тяжелых условиях, постоянных разъездах, перестрелках с французскими солдатами на пикетах. Вероятно, за осень и зиму россияне смогли выучить минимум слов для изъяснений с местными жителями. Но трудно представить, что башкиры и мишари, как и костромичи- ополченцы, понимали немецкие стихи или смысл высоких речей. Но общий радостный настрой горожан, связанный с торжественной встречей освободителей, был понятен всем, от рядового до князя. Пруссакам, как осаждавшим, так и горожанам, было дорого то, что крепость не подверглась разрушению. Сама капитуляция гарнизона означала конец войне и надежду на скорое возвращение домой.
После сдачи крепости башкирские и мишарский полки несли караульную службу вместе с Костромским ополчением до октября 1814 г. 10 октября барон Розен в своем приказе поблагодарил участников блокады крепости за службу. Возвращение домой затянулось, оно пришлось на позднюю осень и зиму. Во время марша на родину полки несли потери умершими от болезней.
Смена климата, пищи, воды тяжело сказывались на здоровье людей, уже проведших два осеннее- зимних сезона верхом на лошадях и в походе, и в третью зиму подряд совершавших переход. Таким образом, вместе с Костромским ополчением и прусскими войсками, с сентября 1813 г. при блокаде крепости Глогау до ее сдачи в марте 1814 г., в составе корпуса Польской армии под командой генерал- лейтенанта барона И.К.Розена находились и успешно воевали 8-й, 12-й, 13-й, 16-й башкирские и 2-й Мещерякский полки. Их нахождение в составе осадного корпуса и героическое участие в отражении вылазок гарнизона привело в итоге к сдаче первоклассной крепости противником и разоружению 3 тыс. французов. С другой стороны, башкиры, мишари и ополченцы своим участием в блокаде Глогау высвободили несколько тысяч регулярной кавалерии и пехоты, так необходимых на полях сражений 1813—1814 гг. и приведших союзные войска в Париж.
На 1 июля во 2-м Мещерякском полку числились: полковой командир, его помощник, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, полковой адъютант, квартирмистр, писарь, мулла, 10 пятидесятников, 492 мещеряка, строевых лошадей 500, вьючных 248. У графа Толстого в «бессменных ординарцах» находился хорунжий 4-й сотни Мустафин. 2-й Мещерякский полк потерял в 1813 г. умершими: Абдуляпара Сеитбурханова (2 февраля), Валиуллу Валитова (8 марта), Гайнуллу Арасланова (9 марта), Абдуллу Абсалямова (13 апреля), Шагиахмета Рахманкулова (16 мая), Абдулзябира Абряшитова (9 апреля), Габайдуллу Абдуллина (14 июня).
В декабре 1814года полк возвратился в свои селения и был расформирован
Фанур Шагиев,
24-02-2012 20:29
(ссылка)
1-й и 2-й тептярские полки (Учалинцы).
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии,
Тептярско- Учалинская волость
1-й и 2-й тептярские полки.
Тептярские казачьи полки, вошедшие в Башкиро-Мещерякское казачье войско, были сформированы 18 апреля 1790 г. по приказу императрицы Екатирины II из тептярей и бобылей Уфимской и Вятской провинций (тептяри Уфимского, Троицкого и Красноуфимского уездов). Выборы в тептярские полки производились исключительно по сословному признаку, срок службы составлял 15 лет, материальное обеспечение полков возлагалось непосредственно на сословие тептярей.
Уже в начальный период Отечественной войны 1812 года в боевых операциях в составе 1 Западной армии генерала М.Б.Барклая де Толли принял участие 1-й тептярский полк. 16 июня он участвовал в боях под Вильно. Прикрывая отход главных сил, тептяри вместе с другими частями сожгли мост через р. Вилию и уничтожили виленский арсенал.
Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 г. применяя обходный маневр с целью отвлечь внимание противника и оттянуть его силы от оказавшегося в тяжелом положении центра и левого фланга русских войск, М. И. Кутузов отдал приказ казачьим частям атаковать левый фланг и тыл французов. Конница Платова, выйдя в тыл французов у д.Валуево на Новой Смоленской дороге, посеяла панику на левом фланге французских войск. Наполеон вынужден был направить туда сильную группу войск в 28 тыс. человек. Рейд русской конницы сыграл большую роль в ходе Бородинского сражения. Он обеспечил выигрыш времени для перегруппировки войск. В Бородинском сражении прославились 1-й тептярский полк, бывший большей частью под начальством графа Платова в его летучем корпусе.
В развернувшейся «малой войне» так же отличился и 1-й тептярский полк майора Темирова. В начале сентября он действовал в составе Калужского ополчения. С 11 по 24 сентября полк находился в партизанском отряде Дениса Давыдова, участвуя в смелых налетах на неприятеля. Затем воевал в особом корпусе, составленном из ополченцев и регулярных частей, задачей которого было нанесение ударов по войскам противника в Рославльском и Ельнинском уездах Смоленской губернии.
В октябре русская армия перешла в контрнаступление с целью окружения и уничтожения армии Наполеона. За счет башкирских и казачьих полков фельдмаршал М. И. Кутузов восполнил недостаток кавалерии в отдельном корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, прикрывавшем дорогу на Петербург и препятствовавшем отходу армии маршала Макдональда. 1-й тептярский полк входил в ополчение 1 округа, 2-й тептярский полк был направлен в состав ополчения III округа.
После поражения под Малоярославцем 12 октября армия Наполеона была вынуждена отступить по разоренной Смоленской дороге. Иррегулярные конные полки, в том числе башкирские и тептярские, совершали атаки на фланги отступающих французов и наносили им чувствительные удары. 12— 13 октября в районе Малоярославца отряд Кудашева, преследуя противника, отбил много трофеев и пленных. 1-й тептярский полк отличился под Рославлем. За проявленную храбрость майор Темиров был награжден орденом св. Владимира 4-й степени, прапорщик Мунасыпов и зауряд-хорунжий Ибрагимов — орденом св. Анны
3-й степени.
Тептяре так же участвовал в заграничных походах русских войск в 1813—1814 гг. Два тептярских вошли в состав так называемой «польской» армии генерал-лейтенанта Л. Л. Беннигсена, действовавшей на территории Польши и Германии.
Активное участие принимали тептярские конники в осаде Данцига (Гданьска). Данциг был захвачен французами еще в 1807 году и превращен в сильнейшую крепость. Ее гарнизон, пополненный остатками “Великой армии” Наполеона, достигал 40 тысяч человек. С января 1813 г. в осаде и штурме Данцига участвовали 2-й тептярский, калмыцкий, оренбургский атаманский казачий и восемь башкирских полков. Семь башкирских полков и 2-й тептярский полк оставались в составе блокадного корпуса и участвовали в сражениях вплоть до капитуляции Данцига 21 декабря 1813 г.
18 октября 1813 года из деревни Гунтельми Платов рапортовал Барклаю-де-Толли, что занята “Крепость Кенигсховен, в которой оставлен комендантом Тептярского казачьего полка есаул Сагетов с пятнадцатью человеками казаков”.
В связи с перенесением военных действий в пределы Франции при главной союзной армии был сформирован особый казачий отряд под начальством генерала Щербатова. Отряд в основном состоял из конников Оренбургского края, куда вошли 3-й Оренбургский, 4-й Уральский, 1-й тептярский и Донской Ягодина полки. Отряд был послан к корпусу генерала Остен-Сакена, входившему в состав Силезской армии фельдмаршала Блюхера. С 19 на 20 декабря 1813 года армия Блюхера перешла на левый берег Рейна и двинулась через города Нанси и Сен-Дизье к городу Бриену. А в середине января 1814 года она находилась на р.Об. Но Наполеон, возвратившийся из Парижа, у города Бриен предпринял сильную атаку против войск Блюхера. Первый и главный удар французов приняли на себя русские корпуса Воронцова и Остен-Сакена. Получив подкрепление, войска союзников перешли в наступление и при городе Ла-Ратьер нанесли Наполеону сильное поражение, у французов было взято 3000 пленных и 75 орудий .
В этих боях отличились войска Воронцова и Остен-Сакена. Французский историк писал, что Воронцов и Сакен “благоразумными и искусными движениями, исполненными с величайшей храбростью и точностью, остановили стремление наших эскадронов”. Среди полков, “исполнившихся величайшей храбростью”, были 1-й башкирский, 1-й тептярский и Уфимский полки. 1-й тептярский полк был пополнен 213 воинами из резерва. После Лейпцигского сражения полк вошел в состав особого казачьего отряда генерал-майора Щербатова (вместе с уральскими, оренбургскими и донскими казаками). Отряд был послан к корпусу генерал-лейтенанта В. Ф. Остен-Сакена, входившего в состав Силезской армии фельдмаршала Г.Л. Блюхера. Переправившись 20 декабря 1813 г. через Рейн у Мангейма, отряд Щербатова направился к г. Эпиналь и вступил во Францию.
В январе 1814 г. Наполеон начал наступление против армии Блюхера, рассчитывая разбить союзников по частям. Первый удар принял на себя корпус Остен-Сакена, в составе которого был 1-й тептярский полк. Армия Блюхера, вначале отступив к Бару, соединилась там с Богемской армией, после чего начала наступление на Ла-Ротвер, где произошло крупное сражение. В этих боях принимал участие и отряд князя Щербатова. После битвы при Ла-Ратьере казачий отряд Щербатова перешел под начальство прославленного партизана Сеславина, на которого было возложено развитие партизанских действий и наблюдение за передвижениями французских войск. Во французском тылу отряд А.Н.Сеславина производил смелые и решительные боевые операции. Отряд поддерживал сообщения Главной армии с Силезской. Легкоподвижные силы казаков быстро переходили с фланга на фланг, разрушили Орлеанский канал, соединявший Луару и Сену, неожиданно для неприятеля отрезали Париж от южных областей Франции, откуда по каналу доставлялось продовольствие в столицу. Неожиданными и стремительными действиями отважный отряд Сеславина вызывал панический страх у неприятеля, деморализовывал силы маршалов Мармона и Мортье, артиллерия, конница и пехота которых в страхе бежали к Фер-Шампенуазу, при этом 9 орудий неприятеля достались казакам. Отряд Сеславина стремительно преследовал войска Мармона и Мортье, отступающие к Парижу, следуя вдоль берега реки Сены, отнимал у неприятеля все средства для наведения и восстановления мостов. Наконец, отряд участвовал в сражении под Парижем накануне его капитуляции. Отряд Сеславина перешел к армии и находился на ее правом фланге, поддерживая сообщение с армией Блюхера. 17 февраля отряд партизанил на дороге из Парижа в Дижон, с 22 по 25 февраля производил набеги на Бургундский канал. В марте 1814 г. отряд Сеславина прикрывал левый фланг Главной армии во время боя при Арси-Сюр-Об, а затем принял участие в сражении при Фер-Шампенаузе, где атаковал во фланг французские войска маршала Мармона, которые в панике бежали.
17 марта отряд Сеславина воевал уже под Парижем на левом фланге армии, а после капитуляции был выдвинут к г. Монтеро для наблюдения за французской армией и закончил боевые действия штурмом г. Мелэн 23 марта. Во всех боях этого отряда активно участвовал 1-й тептярский полк майора Тимирова. Таким образом, отряд Сеславина сыграл немаловажную роль в окончательном разгроме Наполеона. Вместе с донскими и оренбургскими казаками в отряде Сеславина храбро сражались и конники Башкирии. 2-й тептярский полк победоносно вступили в Париж. Все они получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 г. были награждены серебряными медалями «В память войны 1812».
По окончании войны 1-й тептярский полк вернулся в Оренбургскую губернию, где был расквартирован вместе с 2-м тептярским полком. Оба полка участвовали в охране Оренбургской линии, сопровождая купеческие караваны, участвуя во многих боевых походах вместе с Оренбургскими казаками и башкирами. В 1835 г. из этих двух полков был сформирован один, названный 1-м Оренбургским казачьим полком, который был причислен к Оренбургскому казачьему войску, но формировался и содержался по-прежнему за счет тептярей. Через некоторое время полк был переименован в Уфимский казачий (по месту квартирования). Часть полка участвовала в Хивинском походе Перовского в 1839 году.
Тептярские деревни Учалинского района: Учалы, Ильтебаново, Кунакбаево, Уразово, Имангулово, Юлдашево, Калканово, Ургуново, Рысаево, Ильчино, Сафарово, Мансурово, Буйда.
Список участников 1-го тептярского полка.
майор Темиров был награжден орденом св. Владимира 4-й степени, старшина первого тептярского полка Карынбай Зиндагулов медалью на голубой ленте. Прапорщик Мунасыпов и зауряд-хорунжий Ибрагимов (д.Мансурово?), есаул Сагит Хамитов награждены орденом св. Анны 3-й степени.
д.Имангулово: 62)Юлдыбай Имангулов
д.Ильчино: 63)Базаргул Асанов
д.Сафарово: 64)Бикберды Мукминов, 65)Кадербай Кунакбаев, 66)Сыртлан Ярмухаметов, 67)Арсланбек Ярмухаметов, 68)Ибрай Абляев, 69)Габит Аимбетов.
Список участников 2-го тептярского полка.
д.Имангулово: 70)Абдуллатиф Имангулов
д.Сафарово: 71)Абдулмазит Байкасимов 72Юлмухамет Юлдыбаев 73)Баймухамет Юлдыбаев 74)Хатытбай Зайнетдинов.
Тептярско- Учалинская волость
1-й и 2-й тептярские полки.
Тептярские казачьи полки, вошедшие в Башкиро-Мещерякское казачье войско, были сформированы 18 апреля 1790 г. по приказу императрицы Екатирины II из тептярей и бобылей Уфимской и Вятской провинций (тептяри Уфимского, Троицкого и Красноуфимского уездов). Выборы в тептярские полки производились исключительно по сословному признаку, срок службы составлял 15 лет, материальное обеспечение полков возлагалось непосредственно на сословие тептярей.
Уже в начальный период Отечественной войны 1812 года в боевых операциях в составе 1 Западной армии генерала М.Б.Барклая де Толли принял участие 1-й тептярский полк. 16 июня он участвовал в боях под Вильно. Прикрывая отход главных сил, тептяри вместе с другими частями сожгли мост через р. Вилию и уничтожили виленский арсенал.
Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 г. применяя обходный маневр с целью отвлечь внимание противника и оттянуть его силы от оказавшегося в тяжелом положении центра и левого фланга русских войск, М. И. Кутузов отдал приказ казачьим частям атаковать левый фланг и тыл французов. Конница Платова, выйдя в тыл французов у д.Валуево на Новой Смоленской дороге, посеяла панику на левом фланге французских войск. Наполеон вынужден был направить туда сильную группу войск в 28 тыс. человек. Рейд русской конницы сыграл большую роль в ходе Бородинского сражения. Он обеспечил выигрыш времени для перегруппировки войск. В Бородинском сражении прославились 1-й тептярский полк, бывший большей частью под начальством графа Платова в его летучем корпусе.
В развернувшейся «малой войне» так же отличился и 1-й тептярский полк майора Темирова. В начале сентября он действовал в составе Калужского ополчения. С 11 по 24 сентября полк находился в партизанском отряде Дениса Давыдова, участвуя в смелых налетах на неприятеля. Затем воевал в особом корпусе, составленном из ополченцев и регулярных частей, задачей которого было нанесение ударов по войскам противника в Рославльском и Ельнинском уездах Смоленской губернии.
В октябре русская армия перешла в контрнаступление с целью окружения и уничтожения армии Наполеона. За счет башкирских и казачьих полков фельдмаршал М. И. Кутузов восполнил недостаток кавалерии в отдельном корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, прикрывавшем дорогу на Петербург и препятствовавшем отходу армии маршала Макдональда. 1-й тептярский полк входил в ополчение 1 округа, 2-й тептярский полк был направлен в состав ополчения III округа.
После поражения под Малоярославцем 12 октября армия Наполеона была вынуждена отступить по разоренной Смоленской дороге. Иррегулярные конные полки, в том числе башкирские и тептярские, совершали атаки на фланги отступающих французов и наносили им чувствительные удары. 12— 13 октября в районе Малоярославца отряд Кудашева, преследуя противника, отбил много трофеев и пленных. 1-й тептярский полк отличился под Рославлем. За проявленную храбрость майор Темиров был награжден орденом св. Владимира 4-й степени, прапорщик Мунасыпов и зауряд-хорунжий Ибрагимов — орденом св. Анны
3-й степени.
Тептяре так же участвовал в заграничных походах русских войск в 1813—1814 гг. Два тептярских вошли в состав так называемой «польской» армии генерал-лейтенанта Л. Л. Беннигсена, действовавшей на территории Польши и Германии.
Активное участие принимали тептярские конники в осаде Данцига (Гданьска). Данциг был захвачен французами еще в 1807 году и превращен в сильнейшую крепость. Ее гарнизон, пополненный остатками “Великой армии” Наполеона, достигал 40 тысяч человек. С января 1813 г. в осаде и штурме Данцига участвовали 2-й тептярский, калмыцкий, оренбургский атаманский казачий и восемь башкирских полков. Семь башкирских полков и 2-й тептярский полк оставались в составе блокадного корпуса и участвовали в сражениях вплоть до капитуляции Данцига 21 декабря 1813 г.
18 октября 1813 года из деревни Гунтельми Платов рапортовал Барклаю-де-Толли, что занята “Крепость Кенигсховен, в которой оставлен комендантом Тептярского казачьего полка есаул Сагетов с пятнадцатью человеками казаков”.
В связи с перенесением военных действий в пределы Франции при главной союзной армии был сформирован особый казачий отряд под начальством генерала Щербатова. Отряд в основном состоял из конников Оренбургского края, куда вошли 3-й Оренбургский, 4-й Уральский, 1-й тептярский и Донской Ягодина полки. Отряд был послан к корпусу генерала Остен-Сакена, входившему в состав Силезской армии фельдмаршала Блюхера. С 19 на 20 декабря 1813 года армия Блюхера перешла на левый берег Рейна и двинулась через города Нанси и Сен-Дизье к городу Бриену. А в середине января 1814 года она находилась на р.Об. Но Наполеон, возвратившийся из Парижа, у города Бриен предпринял сильную атаку против войск Блюхера. Первый и главный удар французов приняли на себя русские корпуса Воронцова и Остен-Сакена. Получив подкрепление, войска союзников перешли в наступление и при городе Ла-Ратьер нанесли Наполеону сильное поражение, у французов было взято 3000 пленных и 75 орудий .
В этих боях отличились войска Воронцова и Остен-Сакена. Французский историк писал, что Воронцов и Сакен “благоразумными и искусными движениями, исполненными с величайшей храбростью и точностью, остановили стремление наших эскадронов”. Среди полков, “исполнившихся величайшей храбростью”, были 1-й башкирский, 1-й тептярский и Уфимский полки. 1-й тептярский полк был пополнен 213 воинами из резерва. После Лейпцигского сражения полк вошел в состав особого казачьего отряда генерал-майора Щербатова (вместе с уральскими, оренбургскими и донскими казаками). Отряд был послан к корпусу генерал-лейтенанта В. Ф. Остен-Сакена, входившего в состав Силезской армии фельдмаршала Г.Л. Блюхера. Переправившись 20 декабря 1813 г. через Рейн у Мангейма, отряд Щербатова направился к г. Эпиналь и вступил во Францию.
В январе 1814 г. Наполеон начал наступление против армии Блюхера, рассчитывая разбить союзников по частям. Первый удар принял на себя корпус Остен-Сакена, в составе которого был 1-й тептярский полк. Армия Блюхера, вначале отступив к Бару, соединилась там с Богемской армией, после чего начала наступление на Ла-Ротвер, где произошло крупное сражение. В этих боях принимал участие и отряд князя Щербатова. После битвы при Ла-Ратьере казачий отряд Щербатова перешел под начальство прославленного партизана Сеславина, на которого было возложено развитие партизанских действий и наблюдение за передвижениями французских войск. Во французском тылу отряд А.Н.Сеславина производил смелые и решительные боевые операции. Отряд поддерживал сообщения Главной армии с Силезской. Легкоподвижные силы казаков быстро переходили с фланга на фланг, разрушили Орлеанский канал, соединявший Луару и Сену, неожиданно для неприятеля отрезали Париж от южных областей Франции, откуда по каналу доставлялось продовольствие в столицу. Неожиданными и стремительными действиями отважный отряд Сеславина вызывал панический страх у неприятеля, деморализовывал силы маршалов Мармона и Мортье, артиллерия, конница и пехота которых в страхе бежали к Фер-Шампенуазу, при этом 9 орудий неприятеля достались казакам. Отряд Сеславина стремительно преследовал войска Мармона и Мортье, отступающие к Парижу, следуя вдоль берега реки Сены, отнимал у неприятеля все средства для наведения и восстановления мостов. Наконец, отряд участвовал в сражении под Парижем накануне его капитуляции. Отряд Сеславина перешел к армии и находился на ее правом фланге, поддерживая сообщение с армией Блюхера. 17 февраля отряд партизанил на дороге из Парижа в Дижон, с 22 по 25 февраля производил набеги на Бургундский канал. В марте 1814 г. отряд Сеславина прикрывал левый фланг Главной армии во время боя при Арси-Сюр-Об, а затем принял участие в сражении при Фер-Шампенаузе, где атаковал во фланг французские войска маршала Мармона, которые в панике бежали.
17 марта отряд Сеславина воевал уже под Парижем на левом фланге армии, а после капитуляции был выдвинут к г. Монтеро для наблюдения за французской армией и закончил боевые действия штурмом г. Мелэн 23 марта. Во всех боях этого отряда активно участвовал 1-й тептярский полк майора Тимирова. Таким образом, отряд Сеславина сыграл немаловажную роль в окончательном разгроме Наполеона. Вместе с донскими и оренбургскими казаками в отряде Сеславина храбро сражались и конники Башкирии. 2-й тептярский полк победоносно вступили в Париж. Все они получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 г. были награждены серебряными медалями «В память войны 1812».
По окончании войны 1-й тептярский полк вернулся в Оренбургскую губернию, где был расквартирован вместе с 2-м тептярским полком. Оба полка участвовали в охране Оренбургской линии, сопровождая купеческие караваны, участвуя во многих боевых походах вместе с Оренбургскими казаками и башкирами. В 1835 г. из этих двух полков был сформирован один, названный 1-м Оренбургским казачьим полком, который был причислен к Оренбургскому казачьему войску, но формировался и содержался по-прежнему за счет тептярей. Через некоторое время полк был переименован в Уфимский казачий (по месту квартирования). Часть полка участвовала в Хивинском походе Перовского в 1839 году.
Тептярские деревни Учалинского района: Учалы, Ильтебаново, Кунакбаево, Уразово, Имангулово, Юлдашево, Калканово, Ургуново, Рысаево, Ильчино, Сафарово, Мансурово, Буйда.
Список участников 1-го тептярского полка.
майор Темиров был награжден орденом св. Владимира 4-й степени, старшина первого тептярского полка Карынбай Зиндагулов медалью на голубой ленте. Прапорщик Мунасыпов и зауряд-хорунжий Ибрагимов (д.Мансурово?), есаул Сагит Хамитов награждены орденом св. Анны 3-й степени.
д.Имангулово: 62)Юлдыбай Имангулов
д.Ильчино: 63)Базаргул Асанов
д.Сафарово: 64)Бикберды Мукминов, 65)Кадербай Кунакбаев, 66)Сыртлан Ярмухаметов, 67)Арсланбек Ярмухаметов, 68)Ибрай Абляев, 69)Габит Аимбетов.
Список участников 2-го тептярского полка.
д.Имангулово: 70)Абдуллатиф Имангулов
д.Сафарово: 71)Абдулмазит Байкасимов 72Юлмухамет Юлдыбаев 73)Баймухамет Юлдыбаев 74)Хатытбай Зайнетдинов.
Фанур Шагиев,
24-02-2012 20:28
(ссылка)
Троицкий уезд Оренбургской губернии, 4-й кантон, (Учалинцы)
Троицкий уезд Оренбургской губернии, 4-й кантон,
4-й башкирский полк.
4-й Башкирский полк был сформирован в башкирских селениях Челябинского уезда из башкир 4-го, 5-го и 8-го кантонов (Троицкий, Челябинский и Уфимский уезды). В их числе предки жителей севера Учалинского района- Куваканцев, Барын и Кара Табынцев 4 кантона Троицкого уезда Оренбургской губернии. С августа 1812г. по декабрь 1814г. полком командовал подполковник Оренбургского гарнизонного полка П. Тихановский. К полку был прикомандирован сотник Оренбургского казачьего войска А.И. Алабуженин. С августа 1812г. по декабрь 1814г. помощник полкового командира был походный старшина Асылгузя Бакиров. В поход выступил 25 июля, из станицы Кундравинской через Уфу, Бугульму, Лаишев, Казань, Чебоксары и в Нижний Новгород прибыл 17 сентября. Затем получил предписание следовать к Полоцку в состав 1-го Отдельного корпуса генерал- лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна.
В октябре русская армия перешла в контрнаступление с целью окружения и уничтожения армии Наполеона. За счет башкирских и казачьих полков фельдмаршал М. И. Кутузов восполнил недостаток кавалерии в отдельном корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, прикрывавшим дорогу на Петербург и препятствовавшем отходу армии маршала Макдональда.
15 октября, по Высочайшему повелению, 4-й башкирский полк поступил в состав отряда генерал- адъютанта князя П.М. Волконского, предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и Сычовки от неприятельских войск, следовавших от Смоленска. В конце октября полк был расположен в г.Белом откуда посылал разъезды через Пречистое к Духовщине и через Покров к Дорогобужу и Вязьме, а такжесодержал летучую посту с г.Осташковы. В ноябре полк присоединился к корпусу графа П.Х. Витгенштейна, в составе которого принял участие в Березинской операции. 19 ноября 200человек под начальством полкового командира П. Тихановского прибыли в г.Борисов для содержания караулов и поддержания порядка в городе, а прочие получили предписание конвоировать 12000 военнопленных в г. Витебск.
В 1813- 1814гг. часть полка нес полицейскую службу на территории Минской губернии и сопровождал партии рекрут.
Согласно «Квартирные расписания диспозиции и маршруты Польской армии в 1813 году и маршруты следования разных команд 1813—1814 годы»» на 20 августа армия имела Главную квартиру в г.Калиш. Командовал корпусом генерал- лейтенант Е.И.Марков. В состав «Корпуса правого фланга» генерала от инфантерии Д.С.Дохтурова ожидалось прибытие в местечко Равич 4-го Башкирского полка.
Нельзя не отметить героизм башкирских конников, участвовавших в знаменитом Лейпцигском сражении 4—7 октября 1813 года. Это сражение получило название “Битвы народов”. В нем участвовало с обеих сторон около 500 тыс. человек. 4-й башкирский полк в составе армии генерала Бенигсена прибыл к Лейпцигу накануне великой битвы. Лейпцигская битва закончилась поражением наполеоновской армии.
В октябре 1813 г., после разгрома наполеоновских войск под Лейпцигом, на помощь Поволжскому ополченскому корпусу генерала П. А. Толстого, осаждавшего Дрезден, подошел и 4-й башкирский полк. 31 октября 1813 г. после упорных боев гарнизон Дрездена капитулировал. Сдались в плен 2 маршала, 32 генерала, 1759 офицеров и 33 744 солдата. В дни последних сражений под городом особенно отличились воины 4-го башкирского полка Кильдияр Байбулдин, Асылгузя Бакиров. Команда из 49 человек (1 штаб, 3 обер, 3 урядника и 42 башкира) под начальством походного старшины А. Бакирова состояла в конвое главной квартиры генерала от кавалерии графа П.Х. Виттгенштейна и в марте 1814 г. вступила в Париж. За отличие в кампаниях 1813-1814гг. походный старшина Асылгузя Бакиров был произведен в подпоручики и награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
В декабре 1814года полк возвратился в свои селения и был расформирован.
Список участников 4-го башкирского полка.
Барын Табынская волость
д.Карт Муйнак: 56)Бурансы Абуталипов Алимчурин(1887г.р.).
казак, с 01.04.1815г.- зауряд- хорунжий. Имел медаль «В память войны 1812г.»
Троицкий уезд Оренбургской губернии, 4-й кантон,
18-й башкирский полк.
18 башкирский полк был полностью сформирован только из числа жителей 4 кантона Троицкого уезда Оренбургской губернии (север Учалинского района: Куваканцев, Барын и Кара Табынцев). С 22сентября 1812г. по ноябрь 1813г. полком коиандовал капитан Звериноголовского гарнизонного батальона Тихон Евдокимович Тихановский, с 9ноября 1813г. по август 1814г. – майор Выборгского пехотного полка Китаев, с августа 1814г. по декабрь 1814г.- майор 37-го егерского полка Андреев. 18-й полк, сформированный в Златоусте, 14 октября выступил в поход в Нижний Новгород. По прибытии поступил под команду начальника ополчения III округа генерал лейтенанта графа П.А. Толстого.
В январе 1813г. полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению, совместно с которым выступил в Волынскую губернию, а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где включен в состав 3-го кавалерийского корпуса генерал- майора князя М.А. Горчакова Резервной армии генерала от инфатерии князя Д.И. Лобанова- Ростовского. В августе полк поступил под команду командира 4-го пехотного корпуса Резервной армии генерал- лейтенанта П.К. Эссена 3-го. Штаб- квартира распологалась в Кракове. Часть полка конвоировала пленных, а другая часть содержала летучую почту в города Ковно, Брест- Литовский и Люблин, а так же осуществляла связь между 3-м и 4-м корпусами пехотными корпусами Резервной армии. Кроме того, команда полка состояла в конвое князя Д.И. Лобанова- Ростовского.
В январе- марте 1814г. полк по прежнему состоял в Резервной армии князя Д.И. Лобанова- Ростовского.
В декабре 1814года полк возвратился в свои селения и был расформирован.
Список участников 18-го башкирского полка.
Кара Табынская волость.
д.Абзаково: 57)Мухаметжан Еражбаевич Бузыкаев (1791г.р) С 1808г. казак, с 31.03.1815г. зауряд- хорунжий (позже переселился в д.Малай Муйнак Барын- Табынской волости).
Другая Кара Табынская деревня Туляк.
Барын Табынская волость
д.Кучуково: 58)Айдарбек Сагитов Аккучуков(1889г.р.). С 1806г. казак, с 05.10.1815г. пятидесятник.
д.Суюндуково: 59)Абдулвахит Ягафаров Итимгянов (1789г.р.). С 1806г.- казак, с 12.05.1823г. урядник.
Другие Барын Табынские деревни: Тунгатарово, Старомуйнаково, Маломуйнаково, Курамино, Кужаево, Балбуково, Старобайрамгулово(Аушкуль), Мулдакаево, Ильчигулово, Каримово(Тупеево), Кучуково, Сулейманово, Мулдашево
Куваканская волость
Иксаново: 60)Кылыс Кидяев, 61)Юлгатлы Тлявов,.
Другие Куваканские деревни: Абсалямово, Байсакалово, Бурангулово, Татлембетово, Азнашево, Шарипово, Яльчигулово.
4-й башкирский полк.
4-й Башкирский полк был сформирован в башкирских селениях Челябинского уезда из башкир 4-го, 5-го и 8-го кантонов (Троицкий, Челябинский и Уфимский уезды). В их числе предки жителей севера Учалинского района- Куваканцев, Барын и Кара Табынцев 4 кантона Троицкого уезда Оренбургской губернии. С августа 1812г. по декабрь 1814г. полком командовал подполковник Оренбургского гарнизонного полка П. Тихановский. К полку был прикомандирован сотник Оренбургского казачьего войска А.И. Алабуженин. С августа 1812г. по декабрь 1814г. помощник полкового командира был походный старшина Асылгузя Бакиров. В поход выступил 25 июля, из станицы Кундравинской через Уфу, Бугульму, Лаишев, Казань, Чебоксары и в Нижний Новгород прибыл 17 сентября. Затем получил предписание следовать к Полоцку в состав 1-го Отдельного корпуса генерал- лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна.
В октябре русская армия перешла в контрнаступление с целью окружения и уничтожения армии Наполеона. За счет башкирских и казачьих полков фельдмаршал М. И. Кутузов восполнил недостаток кавалерии в отдельном корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, прикрывавшим дорогу на Петербург и препятствовавшем отходу армии маршала Макдональда.
15 октября, по Высочайшему повелению, 4-й башкирский полк поступил в состав отряда генерал- адъютанта князя П.М. Волконского, предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и Сычовки от неприятельских войск, следовавших от Смоленска. В конце октября полк был расположен в г.Белом откуда посылал разъезды через Пречистое к Духовщине и через Покров к Дорогобужу и Вязьме, а такжесодержал летучую посту с г.Осташковы. В ноябре полк присоединился к корпусу графа П.Х. Витгенштейна, в составе которого принял участие в Березинской операции. 19 ноября 200человек под начальством полкового командира П. Тихановского прибыли в г.Борисов для содержания караулов и поддержания порядка в городе, а прочие получили предписание конвоировать 12000 военнопленных в г. Витебск.
В 1813- 1814гг. часть полка нес полицейскую службу на территории Минской губернии и сопровождал партии рекрут.
Согласно «Квартирные расписания диспозиции и маршруты Польской армии в 1813 году и маршруты следования разных команд 1813—1814 годы»» на 20 августа армия имела Главную квартиру в г.Калиш. Командовал корпусом генерал- лейтенант Е.И.Марков. В состав «Корпуса правого фланга» генерала от инфантерии Д.С.Дохтурова ожидалось прибытие в местечко Равич 4-го Башкирского полка.
Нельзя не отметить героизм башкирских конников, участвовавших в знаменитом Лейпцигском сражении 4—7 октября 1813 года. Это сражение получило название “Битвы народов”. В нем участвовало с обеих сторон около 500 тыс. человек. 4-й башкирский полк в составе армии генерала Бенигсена прибыл к Лейпцигу накануне великой битвы. Лейпцигская битва закончилась поражением наполеоновской армии.
В октябре 1813 г., после разгрома наполеоновских войск под Лейпцигом, на помощь Поволжскому ополченскому корпусу генерала П. А. Толстого, осаждавшего Дрезден, подошел и 4-й башкирский полк. 31 октября 1813 г. после упорных боев гарнизон Дрездена капитулировал. Сдались в плен 2 маршала, 32 генерала, 1759 офицеров и 33 744 солдата. В дни последних сражений под городом особенно отличились воины 4-го башкирского полка Кильдияр Байбулдин, Асылгузя Бакиров. Команда из 49 человек (1 штаб, 3 обер, 3 урядника и 42 башкира) под начальством походного старшины А. Бакирова состояла в конвое главной квартиры генерала от кавалерии графа П.Х. Виттгенштейна и в марте 1814 г. вступила в Париж. За отличие в кампаниях 1813-1814гг. походный старшина Асылгузя Бакиров был произведен в подпоручики и награжден орденом Святой Анны 3-й степени.
В декабре 1814года полк возвратился в свои селения и был расформирован.
Список участников 4-го башкирского полка.
Барын Табынская волость
д.Карт Муйнак: 56)Бурансы Абуталипов Алимчурин(1887г.р.).
казак, с 01.04.1815г.- зауряд- хорунжий. Имел медаль «В память войны 1812г.»
Троицкий уезд Оренбургской губернии, 4-й кантон,
18-й башкирский полк.
18 башкирский полк был полностью сформирован только из числа жителей 4 кантона Троицкого уезда Оренбургской губернии (север Учалинского района: Куваканцев, Барын и Кара Табынцев). С 22сентября 1812г. по ноябрь 1813г. полком коиандовал капитан Звериноголовского гарнизонного батальона Тихон Евдокимович Тихановский, с 9ноября 1813г. по август 1814г. – майор Выборгского пехотного полка Китаев, с августа 1814г. по декабрь 1814г.- майор 37-го егерского полка Андреев. 18-й полк, сформированный в Златоусте, 14 октября выступил в поход в Нижний Новгород. По прибытии поступил под команду начальника ополчения III округа генерал лейтенанта графа П.А. Толстого.
В январе 1813г. полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению, совместно с которым выступил в Волынскую губернию, а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где включен в состав 3-го кавалерийского корпуса генерал- майора князя М.А. Горчакова Резервной армии генерала от инфатерии князя Д.И. Лобанова- Ростовского. В августе полк поступил под команду командира 4-го пехотного корпуса Резервной армии генерал- лейтенанта П.К. Эссена 3-го. Штаб- квартира распологалась в Кракове. Часть полка конвоировала пленных, а другая часть содержала летучую почту в города Ковно, Брест- Литовский и Люблин, а так же осуществляла связь между 3-м и 4-м корпусами пехотными корпусами Резервной армии. Кроме того, команда полка состояла в конвое князя Д.И. Лобанова- Ростовского.
В январе- марте 1814г. полк по прежнему состоял в Резервной армии князя Д.И. Лобанова- Ростовского.
В декабре 1814года полк возвратился в свои селения и был расформирован.
Список участников 18-го башкирского полка.
Кара Табынская волость.
д.Абзаково: 57)Мухаметжан Еражбаевич Бузыкаев (1791г.р) С 1808г. казак, с 31.03.1815г. зауряд- хорунжий (позже переселился в д.Малай Муйнак Барын- Табынской волости).
Другая Кара Табынская деревня Туляк.
Барын Табынская волость
д.Кучуково: 58)Айдарбек Сагитов Аккучуков(1889г.р.). С 1806г. казак, с 05.10.1815г. пятидесятник.
д.Суюндуково: 59)Абдулвахит Ягафаров Итимгянов (1789г.р.). С 1806г.- казак, с 12.05.1823г. урядник.
Другие Барын Табынские деревни: Тунгатарово, Старомуйнаково, Маломуйнаково, Курамино, Кужаево, Балбуково, Старобайрамгулово(Аушкуль), Мулдакаево, Ильчигулово, Каримово(Тупеево), Кучуково, Сулейманово, Мулдашево
Куваканская волость
Иксаново: 60)Кылыс Кидяев, 61)Юлгатлы Тлявов,.
Другие Куваканские деревни: Абсалямово, Байсакалово, Бурангулово, Татлембетово, Азнашево, Шарипово, Яльчигулово.
Фанур Шагиев,
24-02-2012 20:25
(ссылка)
Отечественная война 1812г. 6-й кантон. (Учалинцы)
Наши земляки- участники Отечественной войны 1812года
Формирование полков.
В 2 часа ночи 24 июня 1812 года Наполеон приказал начать переправу на русский берег Немана через 4 наведённых моста выше Ковно. Так началась Отечественная война 1812 года против французов.
Известия о начале Отечественной войны были получены в Оренбурге 25 июля 1812 г. В частности, это был Манифест Александра I о сборе ополчения, подписанный им 6 июля. В тот же день он был переведен в Канцелярии Оренбургского военного губернатора для башкир и татар на тюрки и разослан из Оренбурга по кантонам, где был зачитан в мечетях муллами. Известно, что, например, в 12-м кантоне его получили 31 июля.
В народе вот как описывают начальный период войны. Башкиры и не слышали о том, что на русскую землю напали французы. Узнав об этом, все начали готовиться к великому походу: готовили луки стрелы, сушили и коптили мясо, шили шубы и шапки. Никто не сидел без дела. А когда пришло время провожать батыров на войну, все как один собрались на майдан: девушки, старухи, старики, дети. По обычаю, старухи дарили батырам нитки, чтоб их путь был короток; женщины пришивали им на грудь монеты, чтоб не брала их вражеская пуля; девушки дарили своим любимым платочки на память.
Жители, жившие на территории нынешнего Учалинского района, участвовали в формировании следующих 7 полков: это 3-й, 4-й, 14-й, 18-й башкирские, 1-й, 2-й тептярские и 2-й мишарские полки. К сожалению, неизвестно, в каких ополчениях воевали жители русских деревень Учалинского района.
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии, 6-й кантон,
3-й башкирский полк.
15 апреля 1811 года по приказу губернатора из 6-го кантона была создана резервная команда. Сюда вошли и жители Кара Табынской, Кубелякской, Телевской, Кудейской волостей Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Их потомки живут в центре и юге Учалинского района. «...в 6-м башкирском кантоне в мае 1811 года была сформирована команда из 1000 человек под начальством певца и кураиста, дистаночного начальника Буранбая Кутучева... Местонахождение этого лагеря- поле в районе впадения реки Карагайлы в реку Туяляс, оно находится в 5 километрах от Сибая к востоку, рядом с д. Калинино. На этом месте в 1811-1812 гг. организовывались военизированные игры, обучение искусству стрельбы из лука, бросанию копья, мастерству верховой езды и т.д. 3-й полк был отправлен в армию 25 июля 1812г. Он вошел в бригаду подполковника Оренбургского гарнизонного полка Тихановского. Объединение полков в бригады распространялось исключительно на время марша от сборных мест до Нижнего Новгорода, откуда они должны были быть распределены по армиям. 14 августа полк выступил в поход через крепость Воздвиженскую, Пречистенскую, Ново- Сергиевскую, города Самару, Симбирск, Арзамас в Нижний Новгород, по прибытии в который, 18 сентября, получил предписание следовать к Полоцку в состав 1-го Отдельного корпуса генерал- лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна.
В октябре русская армия перешла в контрнаступление с целью окружения и уничтожения армии Наполеона. За счет башкирских и казачьих полков фельдмаршал М. И. Кутузов восполнил недостаток кавалерии в отдельном корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, прикрывавшим дорогу на Петербург и препятствовавшем отходу армии маршала Макдональда. 15 октября, по Высочайшему повелению, 3-й башкирский полк поступил в состав отряда генерал- адъютанта князя П.М. Волконского, предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и Сычовки от неприятельских войск, следовавших от Смоленска. В конце октября полк был расположен в с.Стадолице Смоленской губернии, откуда посылал разъезды к г.Велижу и содержал летучую почту с г.Осташковым. В ноябре полк присоединился к корпусу графа П.Х. Витгенштейна и был направлен в г. Витебск для поддержания порядка.
В 1813-1814гг. полк в боевых действиях не участвовал. Часть полка несла гарнизонную службу в г.Гродно, часть конвоировала пленных в Минск, сопровождала рекрутские партии в Белосток.
Командирами 3-го полка были: с августа 1812г. по февраль 1814г. подпоручик Оренбургского гарнизонного полка Тихановский, с февраля по декабрь 1814г. майор Орского гарнизонного батальона Д.Исаев.
Список участников 3-го башкирский полка
д.Ишмекеево:
1)Кинзябулат Ишмекеев (1783г.р.): С 1802г. казак, с 31.09.1809г. зауряд- сотник (походный сотник).
д.Алтаяково (Кильмяково):
2)Абдулкадыр Ильясов сын Токбердин (1785г.р.): с 01.05.1807г. казак (с 13.02.1815г. зауряд- хорунжий).
д.Каипкулово:
3)Юлмухамет Султангужин (1784г.р.): С 1806г. казак, с 20.04.1820 урядник.
P.S. Некоторые рядовые 3-го полка могут быть записаны как рядовые 14-го башкирского полка (У рядовых казаков в формулярных списках 1837-1839гг. не указаны номера полков.)
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии, 6-й кантон,
14-й башкирский полк.
14 башкирский полк был сформированы в башкирских селениях 6-го кантона Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии.(В 14-м полку большую часть составляли предки Абзелиловцев, затем- Учалинцев, и частично- Белоречан) В 1803г. центром кантона являлась дер. Хасаново. В 6-й кантон входили и жители Кара Табынской, Кубелякской, Телевской, Кудейской волости. Их потомки живут в центре и юге Учалинского района. Командиром полка назначили майора Орского гарнизонного батальона
П.Селезнева. Походный старшина Абдулла Сурагулов был помощником полкового командира с сентября 1812г. по декабрь 1814г. 7 октября 14-й башкирский полк выступили в поход через Самару и 2 декабря прибыл в Нижний Новгород. По прибытии поступил под команду начальника ополчения III округа генерал лейтенанта графа П.А. Толстого.
В январе 1813г. полк был прикомандирован к Симбирскому ополчению, совместно с которым выступил в Волынскую губернию, а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошел в состав так называемой «польской» армии генерал- майора Н.Ф.Титова (д.Чернилак, Скларна), действовавшей на территории Польши и Германии. Н.Ф. Титов в 1812 г. был корпусным начальником ополчений III-го округа. 14-й полк воевал корпусе, наступавшем к реке Одеру. С перенесением военных действий в пределы Германии, а затем и Франции полк продолжал принимать участие в преследовании наполеоновской армии.
1 сентября выступила в поход Главная квартира армии. В Богемию выступил и 14-й полк, шедшая в корпусе левого фланга под командой генерал- лейтенанта графа П.А.Толстого Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. Корпус перешел в Теплиц. 26 сентября участвовала в в боях при д.Гисгибень, 27сентября- при м.Дона, 29сентября и 1 октября- при д.Плауден, близ г.Дрездена. (При блокировании Дрездена).
Нельзя не отметить героизм башкирских конников, участвовавших в знаменитом Лейпцигском сражении 4—7 октября 1813 года. Это сражение получило название “Битвы народов”. В нем участвовало с обеих сторон около 500 тыс. человек. Лейпцигская битва закончилась поражением наполеоновской армии. В победе над неприятелем решающая роль принадлежала доблестным русским войскам.
14-й башкирский полк в составе армии генерала Л.Л. Бенигсена прибыл к Лейпцигу накануне великой битвы. Наполеоновский генерал Марбо писал, что перед лейпцигским сражением русские войска получили подкрепление. В числе вновь прибывших было большое количество башкир, вооруженных луками и стрелами. За такое вооружение, продолжает Марбо, “наши солдаты прозвали башкир амурами”. Тот же генерал был поражен смелостью и храбростью башкирских джигитов, которые, пренебрегая смертью, бросались на опасные участки боя. «Эти новички, — отмечал генерал, — еще совсем не знавшие французов, были так воодушевлены своими предводителями, что, ожидая превратить нас в бегство при первой встрече в самый день своего появления, в виду наших войск кинулись на них бесчисленными толпами, но встреченные залпами из ружей и мушкетов, оставили на месте битвы значительное число убитых. Эти потери вместо того, чтобы охладить их исступление, только его подогрели. Они носились вокруг наших войск, точно рои ос, прокрадываясь всюду. Настигнуть их было очень трудно». В честь подвигов русских войск на месте сражения под Лейпцигом был сооружен памятник. За лейпцигское сражение награждались орденами и повышались в чинах многие другие башкирские конники.
Отличились и были награждены орденами воины 14-го башкирского полка Насыр Абдуллин, Галикей Ташбулатов, Абдулла Сурагулов. “В воздояние оказанного мужества, усердия и отличия г-д штаб и обер-офицеров в сражении противу неприятеля 6 и 7 числа октября под городом Лейпцигом бывшим, — говорится в приказе ген. Бенигсена, — по силе данной мне власти награждаются следующие чины: … полковой командир 14-го башкирского полка Абдул Сурагулов”.
В октябре 1813 г., после разгрома наполеоновских войск под Лейпцигом, на помощь Поволжскому ополченскому корпусу генерала П. А. Толстого, осаждавшего Дрезден, подошел и 14-й башкирский полк. В дни последних сражений под городом особенно отличились 4-й и 14-й башкирские полки, воины которых Кильдияр Байбулдин, Асылгузя Бакиров, Назарбай Тляпов, Насыр Наурузов и другие были награждены орденами.
21 октября полк откомандирован из Польской армии в гарнизон г.Лейпцига, поступив под начальство генерал- майора князя Н.Г. Репнина- Волконского, генерал- губернатора Саксонии.
14-й башкирский полк, неоднократно отличавшийся в боях с неприятелем, дошел до города Кельн на Рейне. Башкирские конники в летучем отряде Чернышева вместе с оренбургскими казаками и калмыками Ставропольского полка участвовали во взятии Берлина. На картине художника Хюбейля “Башкиры в Берлине” изображен башкирский воин, одетый в свою национальную одежду, вооруженный луком, стрелой, саблей и пистолетом. Он показывает детям Берлина, как стрелять из лука.
В январе 1814 г. Наполеон начал наступление против армии Блюхера, рассчитывая разбить союзников по частям. Первый удар принял на себя корпус Остен-Сакена, в составе которого был 1-й тептярский полк. Армия Блюхера, вначале отступив к Бару, соединилась там с Богемской армией, после чего начала наступление на Ла-Ротвер, где произошло крупное сражение. В этих боях принимал участие и отряд князя Щербатова. После битвы при Ла-Ратьере казачий отряд Щербатова перешел под начальство прославленного партизана Сеславина, на которого было возложено развитие партизанских действий и наблюдение за передвижениями французских войск. Во французском тылу отряд А.Н.Сеславина производил смелые и решительные боевые операции. Отряд поддерживал сообщения Главной армии с Силезской. Легкоподвижные силы казаков быстро переходили с фланга на фланг, разрушили Орлеанский канал, соединявший Луару и Сену, неожиданно для неприятеля отрезали Париж от южных областей Франции, откуда по каналу доставлялось продовольствие в столицу. Неожиданными и стремительными действиями отважный отряд Сеславина вызывал панический страх у неприятеля, деморализовывал силы маршалов Мармона и Мортье, артиллерия, конница и пехота которых в страхе бежали к Фер-Шампенуазу, при этом 9 орудий неприятеля достались казакам. Отряд Сеславина стремительно преследовал войска Мармона и Мортье, отступающие к Парижу, следуя вдоль берега реки Сены, отнимал у неприятеля все средства для наведения и восстановления мостов. Наконец, отряд участвовал в сражении под Парижем накануне его капитуляции. Отряд Сеславина перешел к армии и находился на ее правом фланге, поддерживая сообщение с армией Блюхера. 17 февраля отряд партизанил на дороге из Парижа в Дижон, с 22 по 25 февраля производил набеги на Бургундский канал. В марте 1814 г. отряд Сеславина прикрывал левый фланг Главной армии во время боя при Арси-Сюр-Об, а затем принял участие в сражении при Фер-Шампенаузе, где атаковал во фланг французские войска маршала Мармона, которые в панике бежали.
17 марта отряд Сеславина воевал уже под Парижем на левом фланге армии, а после капитуляции был выдвинут к г. Монтеро для наблюдения за французской армией и закончил боевые действия штурмом г. Мелэн 23 марта. Во всех боях этого отряда активно участвовал 1-й тептярский полк майора Тимирова. Таким образом, отряд Сеславина сыграл немаловажную роль в окончательном разгроме Наполеона. Вместе с донскими и оренбургскими казаками в отряде Сеславина храбро сражались и конники Башкирии. 14-й башкирский полкй, 2-й тептярский, 2-й мишарский полки победоносно вступили в Париж. Воины этих полков получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 г. были награждены серебряными медалями «В память войны 1812». 87 воинов 14-го полка были награждены двумя серебряными медалями. Лев Никулин из воспоминания участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813—1814гг. приводит следующую картину: “Под деревьями были разбиты шалаши, сухие ветви, солома держались на казацких пиках. Казацкий бивуак в Париже! Сено, бочки, ведра, коновязи... Бородатый казак чистит коня скребницей; другой на радость парижанам показывает, как слушается его конь, ложится и встает по его слову, ходит за ним, как собачка; третий — забавляется с полковой дворняжкой... Господа парижане во фраках, дамы в белых платьях в честь Бурбонов окружают казацкий бивуак... Башкиры порядком дивили парижан своими луками и стрелами; даже сам Вальтер Скотт, прославленный английский сочинитель, посетивший в те дни Париж, отдал им дань в своих путевых картинах...”.
Как писал поэт Н.К.Батюшков, в те дни:
Кипел бульвар в Париже так
Народа праздными толпами,
Когда на нем летал с нагайкою казак
Иль Северный Амур с колчаном и стрелами.
В декабре 1814года 14-й полк возвратился в свои селения и был расформирован.
Список участников 14-го башкирский полка ( 50участников)
Кара Табынская волость- из 144 дворов.
д.Расулево:
4) походный прапорщик Абдулнасир Курманаев (Габдельнасыр Габдуллин, Насир Абдуллин) (орден Святой Анны IV степени и 2серебряные медали «За взятие Парижа 19марта 1814года» и «В память войны 1812г.»),
5)урядник Тухватулла Габдуллин сын Курманаев (1787г.р. 2серебряные медали): С 1805г. казак, с 20.05.1819 урядник. Оба перечислены 15 января 1847 года в д.Истамгулово.
6)Кувандык Абдулфаизов(1767-1839). потомки: Гибадатовы в д.Расулево.7)Сайфульмулюк Тайсынов Ишеев(1785-1852), сотенный (зауряд)есаул. Потомки в д.Расулево: Камаловы, Аллаяровы, Мухаметяровы, Сулеймановы.
д.Сайтаково:
8)сотник Байгильды Султанов- Ибраков (1784г.р, с 01.04.1800г.-казак, с 22.03.1809г- зауряд-есаул. Переселился в д.Истамгулово, позже- в Кулушево. 9) пятидесятник Мугаитмас Кашкаров(1785г.р).
10)Ямбай Кадыргалин(1770-1853). Потомки: Уельдановы, Саматовы, Янгизовы, Латыповы, Фарраховы, Закировы, Баймуратовы, Шагиевы. 11)Сулейман Абдулкаримов(1791г.р). Потомки: Валихановы, Сафиуллины. 12) Хасан Миннибаев(1774г.р) Потомки- Сибагатуллины
13)Ражап Тютекеев(1781г.р) Потомки: Фаизовы 14)Мухаммет Бульдюрсинов(1790г.р) Потомки: Хайбуллины 15)Адбулманнап Аккучуков(1790г.р) Потомки: Давлетбаевы
16)Рахматулла Туманчин(1789г.р) Переселился в 1841г. в д.Абдулкасимово. 17)Кунакбай Максютов (1771г.р). Переселился в 1841г. в д.Абдулкасимово
д.Абдулкасимово (Абдулбакиево):
18)Амангилды Исмакаев(1790г.р.)
д.Базаргулово:
19)Мухаметьяр Якшимбетов (1793г.р. 2серебряные медали):
С 1811г. казак, с 20.04.1820 урядник. 20)Айчувак Абушахмин (1788г.р.) 21)Габдулвали Хажиев (1792г.р.) 22)Давлетбай Аитбаев(1792г.р.) 23)Ниязгул Бультрюков(1796г.р.)
д.Кудашево(Юлдашево):
24)Мухаметша Масалимов(1789г.р.), 25)Азнабай Янбаев,
26)Галибатыр Тулыбаев(1781г.р), 27)Гадельсура Алимгужин(1789г.р).
д.Кулушево:
28)Мухаметрахим Самаргулов(1791г.р.)
д.Кутуево:
29)Габдулсалям Кутлубаев(1791г.р.)
д. Ишмекеево(Сурагулово):
30)Ишкул Юлуков(1788г.р.)
31) подпоручик Абдулла Сурагулов ( 2 ордена Святой Анны IV степени и 2серебряные медали)- воможно, из д.Сурагулово (Ишмекеево)
Другие Кара Табынские деревни: Кутуево, Истамгулово, Ишкиня.
Телевская волость.
д.Аблязино (Карагаево):
32)Абдрахим Аблязин, 33)Киикбай Амиров, 34)Саитбай Абдулгафаров,
35)Мухаметамин Хамитов, 36)Нугуман Сагитов (у всех по 2серебряные медали).
д.Наурузово:
37)Абдулнасыр Наурузов сын Кильдибаев (1780г.р., орден Святой Анны IV степени и 2серебряные медали). С 1792г. казак, с 01.05.1801 зауряд-сотник, с 30.08.1813г. прапорщик, с 1828г. хорунжий. 38)Габделкадыр Кильдебаев (2серебряные медали).
д.Алтаяково (Кильмяково):
39)Исянгилды Габбасов, 40)Габдин Кульгильдин, 41)Юмагул Сувашбаев, 42)Хисаметдин Кудакаев, 43)Абдулкадыр Тукбердин (у всех по 2серебряные медали).
д.Калуево:
44)Нурали Зубаиров(2серебряные медали).
д.Байрамгулово (Новобайрамгулово):
45)Сайфетдин Кадыргалин (1774г.р. 2серебряные медали): С 1799г. казак, с 09.02.1811 зауряд- есаул. Потомки: Сайфутдиновы, Сайфиевы. 46)Габдулфаиз Суяргулов(1795г.р.)
д. Малоказаккулово:
47)Мурзаш Ваисов(1783г.р.), 48)Кустыгул Сулейманов (1792г.р.)
д.Москово:
49)Ишкеня Исенбетов(1783г.р.)
д. Каипкулово:
50)Юсуф Каипкулов(1791г.р.)
д.Рафиково:
51)Рафик Сагитов (1787г.р.) походный сотник.
Другие Телевские деревни: Карагужино, , Амангильдино, Гадельшино, Сураманово, Кучуково, Калуево, Мишкино, Мусино, Галиакберово, Ягудино.
Кубелякская волость.
д. Кубагушево:
52)Каипкул Бахтин(1791г.р.), 53)Ниязгул Рысбаев (1791г.р.)
д.Казаккулово:
54)Габдулфаиз Кутлубаев(1782г.р.), 55)Юнус Казаккулов (1794г.р.)
Деревни: Батталово, Узункулево, Карагужино, Аслаево.
.
Кудейская волость.
Деревни: Магадеево, Суяргулово(Табынцы), Кубяково(+Табынцы).
P.S. Некоторые рядовые 3-го полка могут быть записаны как рядовые 14-го башкирского полка (У рядовых казаков в формулярных списках 1837-1839гг. не указаны номера полков.)
Формирование полков.
В 2 часа ночи 24 июня 1812 года Наполеон приказал начать переправу на русский берег Немана через 4 наведённых моста выше Ковно. Так началась Отечественная война 1812 года против французов.
Известия о начале Отечественной войны были получены в Оренбурге 25 июля 1812 г. В частности, это был Манифест Александра I о сборе ополчения, подписанный им 6 июля. В тот же день он был переведен в Канцелярии Оренбургского военного губернатора для башкир и татар на тюрки и разослан из Оренбурга по кантонам, где был зачитан в мечетях муллами. Известно, что, например, в 12-м кантоне его получили 31 июля.
В народе вот как описывают начальный период войны. Башкиры и не слышали о том, что на русскую землю напали французы. Узнав об этом, все начали готовиться к великому походу: готовили луки стрелы, сушили и коптили мясо, шили шубы и шапки. Никто не сидел без дела. А когда пришло время провожать батыров на войну, все как один собрались на майдан: девушки, старухи, старики, дети. По обычаю, старухи дарили батырам нитки, чтоб их путь был короток; женщины пришивали им на грудь монеты, чтоб не брала их вражеская пуля; девушки дарили своим любимым платочки на память.
Жители, жившие на территории нынешнего Учалинского района, участвовали в формировании следующих 7 полков: это 3-й, 4-й, 14-й, 18-й башкирские, 1-й, 2-й тептярские и 2-й мишарские полки. К сожалению, неизвестно, в каких ополчениях воевали жители русских деревень Учалинского района.
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии, 6-й кантон,
3-й башкирский полк.
15 апреля 1811 года по приказу губернатора из 6-го кантона была создана резервная команда. Сюда вошли и жители Кара Табынской, Кубелякской, Телевской, Кудейской волостей Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Их потомки живут в центре и юге Учалинского района. «...в 6-м башкирском кантоне в мае 1811 года была сформирована команда из 1000 человек под начальством певца и кураиста, дистаночного начальника Буранбая Кутучева... Местонахождение этого лагеря- поле в районе впадения реки Карагайлы в реку Туяляс, оно находится в 5 километрах от Сибая к востоку, рядом с д. Калинино. На этом месте в 1811-1812 гг. организовывались военизированные игры, обучение искусству стрельбы из лука, бросанию копья, мастерству верховой езды и т.д. 3-й полк был отправлен в армию 25 июля 1812г. Он вошел в бригаду подполковника Оренбургского гарнизонного полка Тихановского. Объединение полков в бригады распространялось исключительно на время марша от сборных мест до Нижнего Новгорода, откуда они должны были быть распределены по армиям. 14 августа полк выступил в поход через крепость Воздвиженскую, Пречистенскую, Ново- Сергиевскую, города Самару, Симбирск, Арзамас в Нижний Новгород, по прибытии в который, 18 сентября, получил предписание следовать к Полоцку в состав 1-го Отдельного корпуса генерал- лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна.
В октябре русская армия перешла в контрнаступление с целью окружения и уничтожения армии Наполеона. За счет башкирских и казачьих полков фельдмаршал М. И. Кутузов восполнил недостаток кавалерии в отдельном корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, прикрывавшим дорогу на Петербург и препятствовавшем отходу армии маршала Макдональда. 15 октября, по Высочайшему повелению, 3-й башкирский полк поступил в состав отряда генерал- адъютанта князя П.М. Волконского, предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и Сычовки от неприятельских войск, следовавших от Смоленска. В конце октября полк был расположен в с.Стадолице Смоленской губернии, откуда посылал разъезды к г.Велижу и содержал летучую почту с г.Осташковым. В ноябре полк присоединился к корпусу графа П.Х. Витгенштейна и был направлен в г. Витебск для поддержания порядка.
В 1813-1814гг. полк в боевых действиях не участвовал. Часть полка несла гарнизонную службу в г.Гродно, часть конвоировала пленных в Минск, сопровождала рекрутские партии в Белосток.
Командирами 3-го полка были: с августа 1812г. по февраль 1814г. подпоручик Оренбургского гарнизонного полка Тихановский, с февраля по декабрь 1814г. майор Орского гарнизонного батальона Д.Исаев.
Список участников 3-го башкирский полка
д.Ишмекеево:
1)Кинзябулат Ишмекеев (1783г.р.): С 1802г. казак, с 31.09.1809г. зауряд- сотник (походный сотник).
д.Алтаяково (Кильмяково):
2)Абдулкадыр Ильясов сын Токбердин (1785г.р.): с 01.05.1807г. казак (с 13.02.1815г. зауряд- хорунжий).
д.Каипкулово:
3)Юлмухамет Султангужин (1784г.р.): С 1806г. казак, с 20.04.1820 урядник.
P.S. Некоторые рядовые 3-го полка могут быть записаны как рядовые 14-го башкирского полка (У рядовых казаков в формулярных списках 1837-1839гг. не указаны номера полков.)
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии, 6-й кантон,
14-й башкирский полк.
14 башкирский полк был сформированы в башкирских селениях 6-го кантона Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии.(В 14-м полку большую часть составляли предки Абзелиловцев, затем- Учалинцев, и частично- Белоречан) В 1803г. центром кантона являлась дер. Хасаново. В 6-й кантон входили и жители Кара Табынской, Кубелякской, Телевской, Кудейской волости. Их потомки живут в центре и юге Учалинского района. Командиром полка назначили майора Орского гарнизонного батальона
П.Селезнева. Походный старшина Абдулла Сурагулов был помощником полкового командира с сентября 1812г. по декабрь 1814г. 7 октября 14-й башкирский полк выступили в поход через Самару и 2 декабря прибыл в Нижний Новгород. По прибытии поступил под команду начальника ополчения III округа генерал лейтенанта графа П.А. Толстого.
В январе 1813г. полк был прикомандирован к Симбирскому ополчению, совместно с которым выступил в Волынскую губернию, а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошел в состав так называемой «польской» армии генерал- майора Н.Ф.Титова (д.Чернилак, Скларна), действовавшей на территории Польши и Германии. Н.Ф. Титов в 1812 г. был корпусным начальником ополчений III-го округа. 14-й полк воевал корпусе, наступавшем к реке Одеру. С перенесением военных действий в пределы Германии, а затем и Франции полк продолжал принимать участие в преследовании наполеоновской армии.
1 сентября выступила в поход Главная квартира армии. В Богемию выступил и 14-й полк, шедшая в корпусе левого фланга под командой генерал- лейтенанта графа П.А.Толстого Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. Корпус перешел в Теплиц. 26 сентября участвовала в в боях при д.Гисгибень, 27сентября- при м.Дона, 29сентября и 1 октября- при д.Плауден, близ г.Дрездена. (При блокировании Дрездена).
Нельзя не отметить героизм башкирских конников, участвовавших в знаменитом Лейпцигском сражении 4—7 октября 1813 года. Это сражение получило название “Битвы народов”. В нем участвовало с обеих сторон около 500 тыс. человек. Лейпцигская битва закончилась поражением наполеоновской армии. В победе над неприятелем решающая роль принадлежала доблестным русским войскам.
14-й башкирский полк в составе армии генерала Л.Л. Бенигсена прибыл к Лейпцигу накануне великой битвы. Наполеоновский генерал Марбо писал, что перед лейпцигским сражением русские войска получили подкрепление. В числе вновь прибывших было большое количество башкир, вооруженных луками и стрелами. За такое вооружение, продолжает Марбо, “наши солдаты прозвали башкир амурами”. Тот же генерал был поражен смелостью и храбростью башкирских джигитов, которые, пренебрегая смертью, бросались на опасные участки боя. «Эти новички, — отмечал генерал, — еще совсем не знавшие французов, были так воодушевлены своими предводителями, что, ожидая превратить нас в бегство при первой встрече в самый день своего появления, в виду наших войск кинулись на них бесчисленными толпами, но встреченные залпами из ружей и мушкетов, оставили на месте битвы значительное число убитых. Эти потери вместо того, чтобы охладить их исступление, только его подогрели. Они носились вокруг наших войск, точно рои ос, прокрадываясь всюду. Настигнуть их было очень трудно». В честь подвигов русских войск на месте сражения под Лейпцигом был сооружен памятник. За лейпцигское сражение награждались орденами и повышались в чинах многие другие башкирские конники.
Отличились и были награждены орденами воины 14-го башкирского полка Насыр Абдуллин, Галикей Ташбулатов, Абдулла Сурагулов. “В воздояние оказанного мужества, усердия и отличия г-д штаб и обер-офицеров в сражении противу неприятеля 6 и 7 числа октября под городом Лейпцигом бывшим, — говорится в приказе ген. Бенигсена, — по силе данной мне власти награждаются следующие чины: … полковой командир 14-го башкирского полка Абдул Сурагулов”.
В октябре 1813 г., после разгрома наполеоновских войск под Лейпцигом, на помощь Поволжскому ополченскому корпусу генерала П. А. Толстого, осаждавшего Дрезден, подошел и 14-й башкирский полк. В дни последних сражений под городом особенно отличились 4-й и 14-й башкирские полки, воины которых Кильдияр Байбулдин, Асылгузя Бакиров, Назарбай Тляпов, Насыр Наурузов и другие были награждены орденами.
21 октября полк откомандирован из Польской армии в гарнизон г.Лейпцига, поступив под начальство генерал- майора князя Н.Г. Репнина- Волконского, генерал- губернатора Саксонии.
14-й башкирский полк, неоднократно отличавшийся в боях с неприятелем, дошел до города Кельн на Рейне. Башкирские конники в летучем отряде Чернышева вместе с оренбургскими казаками и калмыками Ставропольского полка участвовали во взятии Берлина. На картине художника Хюбейля “Башкиры в Берлине” изображен башкирский воин, одетый в свою национальную одежду, вооруженный луком, стрелой, саблей и пистолетом. Он показывает детям Берлина, как стрелять из лука.
В январе 1814 г. Наполеон начал наступление против армии Блюхера, рассчитывая разбить союзников по частям. Первый удар принял на себя корпус Остен-Сакена, в составе которого был 1-й тептярский полк. Армия Блюхера, вначале отступив к Бару, соединилась там с Богемской армией, после чего начала наступление на Ла-Ротвер, где произошло крупное сражение. В этих боях принимал участие и отряд князя Щербатова. После битвы при Ла-Ратьере казачий отряд Щербатова перешел под начальство прославленного партизана Сеславина, на которого было возложено развитие партизанских действий и наблюдение за передвижениями французских войск. Во французском тылу отряд А.Н.Сеславина производил смелые и решительные боевые операции. Отряд поддерживал сообщения Главной армии с Силезской. Легкоподвижные силы казаков быстро переходили с фланга на фланг, разрушили Орлеанский канал, соединявший Луару и Сену, неожиданно для неприятеля отрезали Париж от южных областей Франции, откуда по каналу доставлялось продовольствие в столицу. Неожиданными и стремительными действиями отважный отряд Сеславина вызывал панический страх у неприятеля, деморализовывал силы маршалов Мармона и Мортье, артиллерия, конница и пехота которых в страхе бежали к Фер-Шампенуазу, при этом 9 орудий неприятеля достались казакам. Отряд Сеславина стремительно преследовал войска Мармона и Мортье, отступающие к Парижу, следуя вдоль берега реки Сены, отнимал у неприятеля все средства для наведения и восстановления мостов. Наконец, отряд участвовал в сражении под Парижем накануне его капитуляции. Отряд Сеславина перешел к армии и находился на ее правом фланге, поддерживая сообщение с армией Блюхера. 17 февраля отряд партизанил на дороге из Парижа в Дижон, с 22 по 25 февраля производил набеги на Бургундский канал. В марте 1814 г. отряд Сеславина прикрывал левый фланг Главной армии во время боя при Арси-Сюр-Об, а затем принял участие в сражении при Фер-Шампенаузе, где атаковал во фланг французские войска маршала Мармона, которые в панике бежали.
17 марта отряд Сеславина воевал уже под Парижем на левом фланге армии, а после капитуляции был выдвинут к г. Монтеро для наблюдения за французской армией и закончил боевые действия штурмом г. Мелэн 23 марта. Во всех боях этого отряда активно участвовал 1-й тептярский полк майора Тимирова. Таким образом, отряд Сеславина сыграл немаловажную роль в окончательном разгроме Наполеона. Вместе с донскими и оренбургскими казаками в отряде Сеславина храбро сражались и конники Башкирии. 14-й башкирский полкй, 2-й тептярский, 2-й мишарский полки победоносно вступили в Париж. Воины этих полков получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 г. были награждены серебряными медалями «В память войны 1812». 87 воинов 14-го полка были награждены двумя серебряными медалями. Лев Никулин из воспоминания участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813—1814гг. приводит следующую картину: “Под деревьями были разбиты шалаши, сухие ветви, солома держались на казацких пиках. Казацкий бивуак в Париже! Сено, бочки, ведра, коновязи... Бородатый казак чистит коня скребницей; другой на радость парижанам показывает, как слушается его конь, ложится и встает по его слову, ходит за ним, как собачка; третий — забавляется с полковой дворняжкой... Господа парижане во фраках, дамы в белых платьях в честь Бурбонов окружают казацкий бивуак... Башкиры порядком дивили парижан своими луками и стрелами; даже сам Вальтер Скотт, прославленный английский сочинитель, посетивший в те дни Париж, отдал им дань в своих путевых картинах...”.
Как писал поэт Н.К.Батюшков, в те дни:
Кипел бульвар в Париже так
Народа праздными толпами,
Когда на нем летал с нагайкою казак
Иль Северный Амур с колчаном и стрелами.
В декабре 1814года 14-й полк возвратился в свои селения и был расформирован.
Список участников 14-го башкирский полка ( 50участников)
Кара Табынская волость- из 144 дворов.
д.Расулево:
4) походный прапорщик Абдулнасир Курманаев (Габдельнасыр Габдуллин, Насир Абдуллин) (орден Святой Анны IV степени и 2серебряные медали «За взятие Парижа 19марта 1814года» и «В память войны 1812г.»),
5)урядник Тухватулла Габдуллин сын Курманаев (1787г.р. 2серебряные медали): С 1805г. казак, с 20.05.1819 урядник. Оба перечислены 15 января 1847 года в д.Истамгулово.
6)Кувандык Абдулфаизов(1767-1839). потомки: Гибадатовы в д.Расулево.7)Сайфульмулюк Тайсынов Ишеев(1785-1852), сотенный (зауряд)есаул. Потомки в д.Расулево: Камаловы, Аллаяровы, Мухаметяровы, Сулеймановы.
д.Сайтаково:
8)сотник Байгильды Султанов- Ибраков (1784г.р, с 01.04.1800г.-казак, с 22.03.1809г- зауряд-есаул. Переселился в д.Истамгулово, позже- в Кулушево. 9) пятидесятник Мугаитмас Кашкаров(1785г.р).
10)Ямбай Кадыргалин(1770-1853). Потомки: Уельдановы, Саматовы, Янгизовы, Латыповы, Фарраховы, Закировы, Баймуратовы, Шагиевы. 11)Сулейман Абдулкаримов(1791г.р). Потомки: Валихановы, Сафиуллины. 12) Хасан Миннибаев(1774г.р) Потомки- Сибагатуллины
13)Ражап Тютекеев(1781г.р) Потомки: Фаизовы 14)Мухаммет Бульдюрсинов(1790г.р) Потомки: Хайбуллины 15)Адбулманнап Аккучуков(1790г.р) Потомки: Давлетбаевы
16)Рахматулла Туманчин(1789г.р) Переселился в 1841г. в д.Абдулкасимово. 17)Кунакбай Максютов (1771г.р). Переселился в 1841г. в д.Абдулкасимово
д.Абдулкасимово (Абдулбакиево):
18)Амангилды Исмакаев(1790г.р.)
д.Базаргулово:
19)Мухаметьяр Якшимбетов (1793г.р. 2серебряные медали):
С 1811г. казак, с 20.04.1820 урядник. 20)Айчувак Абушахмин (1788г.р.) 21)Габдулвали Хажиев (1792г.р.) 22)Давлетбай Аитбаев(1792г.р.) 23)Ниязгул Бультрюков(1796г.р.)
д.Кудашево(Юлдашево):
24)Мухаметша Масалимов(1789г.р.), 25)Азнабай Янбаев,
26)Галибатыр Тулыбаев(1781г.р), 27)Гадельсура Алимгужин(1789г.р).
д.Кулушево:
28)Мухаметрахим Самаргулов(1791г.р.)
д.Кутуево:
29)Габдулсалям Кутлубаев(1791г.р.)
д. Ишмекеево(Сурагулово):
30)Ишкул Юлуков(1788г.р.)
31) подпоручик Абдулла Сурагулов ( 2 ордена Святой Анны IV степени и 2серебряные медали)- воможно, из д.Сурагулово (Ишмекеево)
Другие Кара Табынские деревни: Кутуево, Истамгулово, Ишкиня.
Телевская волость.
д.Аблязино (Карагаево):
32)Абдрахим Аблязин, 33)Киикбай Амиров, 34)Саитбай Абдулгафаров,
35)Мухаметамин Хамитов, 36)Нугуман Сагитов (у всех по 2серебряные медали).
д.Наурузово:
37)Абдулнасыр Наурузов сын Кильдибаев (1780г.р., орден Святой Анны IV степени и 2серебряные медали). С 1792г. казак, с 01.05.1801 зауряд-сотник, с 30.08.1813г. прапорщик, с 1828г. хорунжий. 38)Габделкадыр Кильдебаев (2серебряные медали).
д.Алтаяково (Кильмяково):
39)Исянгилды Габбасов, 40)Габдин Кульгильдин, 41)Юмагул Сувашбаев, 42)Хисаметдин Кудакаев, 43)Абдулкадыр Тукбердин (у всех по 2серебряные медали).
д.Калуево:
44)Нурали Зубаиров(2серебряные медали).
д.Байрамгулово (Новобайрамгулово):
45)Сайфетдин Кадыргалин (1774г.р. 2серебряные медали): С 1799г. казак, с 09.02.1811 зауряд- есаул. Потомки: Сайфутдиновы, Сайфиевы. 46)Габдулфаиз Суяргулов(1795г.р.)
д. Малоказаккулово:
47)Мурзаш Ваисов(1783г.р.), 48)Кустыгул Сулейманов (1792г.р.)
д.Москово:
49)Ишкеня Исенбетов(1783г.р.)
д. Каипкулово:
50)Юсуф Каипкулов(1791г.р.)
д.Рафиково:
51)Рафик Сагитов (1787г.р.) походный сотник.
Другие Телевские деревни: Карагужино, , Амангильдино, Гадельшино, Сураманово, Кучуково, Калуево, Мишкино, Мусино, Галиакберово, Ягудино.
Кубелякская волость.
д. Кубагушево:
52)Каипкул Бахтин(1791г.р.), 53)Ниязгул Рысбаев (1791г.р.)
д.Казаккулово:
54)Габдулфаиз Кутлубаев(1782г.р.), 55)Юнус Казаккулов (1794г.р.)
Деревни: Батталово, Узункулево, Карагужино, Аслаево.
.
Кудейская волость.
Деревни: Магадеево, Суяргулово(Табынцы), Кубяково(+Табынцы).
P.S. Некоторые рядовые 3-го полка могут быть записаны как рядовые 14-го башкирского полка (У рядовых казаков в формулярных списках 1837-1839гг. не указаны номера полков.)
Фанур Шагиев,
24-02-2012 20:21
(ссылка)
Башкортостан в Отечественной войне 1812г.
Отечественная война 1812 года
Немного предыстории.
В 1798 году в связи с введением кантонной системы управления башкиры, мишари были переведены на положение военно-казачьего сословия, а башкирские воинские формирования преобразовали в башкиро- мишарское иррегулярное войско. В войско снаряжали башкир и мишарей, от 4-5 дворов поочередно выставлялся один человек. В 1847 был установлен 30-летний срок службы. Летние и зимние сборы продолжались по 6 мес. После прохождения линейной службы некоторая часть башкир и мишарей переводилась на внутреннюю в качестве писарей, посыльных, сторожей. Охрану Оренбургской линии башкирское войско несло за свой счет. Наряд на линию производился в зависимости от количества дворов или от числа подлежащих службе. В среднем 1 человек выставлялся от 4-5 дворов. Так, в 1798 г. было направлено на линейную службу 6519 человек (4485 рядовых, 492 десятника, 99 пятидесятников, 7 старшин), из них - 5416 башкир и 1103 мишаря. Таким образом, один воин снаряжался от 4 мишарских и 4-5 башкирских дворов.
Увеличение или уменьшение наряда зависело от внутренней и международной обстановки. Самым тяжелым периодом для войска были 1812-1814 гг., когда башкиры выставили 28, а мишари и тептяри по 2 пятисотенных полков для борьбы с нашествием Наполеона. Одновременно на Оренбургской линии служило еще 12 тыс. башкир и мишарей. В эти годы каждый третий взрослый башкир наряжался на службу.
При выезде на линию каждый воин должен был получить от населения 8 пуд. муки и 1 пуд крупы. До 20-х гг. размеры общественной помощи колебались в пределах от 25 до 37 коп. серебром с души, или от 4 до 25 руб. на каждого человека, назначенного на службу. Иногда размеры сбора доходили до 40-75 коп. или даже до 1-1,5 руб. с души, как это случилось в 1839-1841 гг., которая оказывалась всеми башкирами, за исключением кантонных начальников, их помощников и юртовых старшин. Командируемого на службу снаряжали один-четыре домохозяина в зависимости от имущественного состояния снаряжаемого. По признанию командующего Башкирским войском Н. Беклемишева, полное снаряжение одного воина в 50-х гг. XIX в. обходилось в 49-64 руб. серебром. Помимо этого, односельчане обязаны были оказывать помощь хозяйствам командированных на службу, особенно во время сенокоса и жатвы.
«Прием и отвод» команд, следуемых на линию и домой, производились походными старшинами или дистаночными начальниками из башкир и мишарей. Последние назначались кантонными начальниками по 2-3 человека на кантон и утверждались генерал-губернатором. Командируемые на военно-сторожевую службу к назначенному сроку должны были прибыть на сборный пункт. Неявившихся в свои отряды людей наказывали «в страх другим» палками. Юртовые старшины передавали по спискам свои команды кантонному начальнику, а те - походным старшинам. При этом обращалось внимание на то. чтобы прибывшие на службу люди были из очередников, соответствовали установленному возрасту и каждый был «о двуконь», с «исправным седельным прибором и с крепкой ременной упряжной сбруей», а также с «исправными копьями, саблями, ружьями и сайдаком со стрелами», с «хорошей, не ветхой одеждой». Поскольку служащие на линии нередко привлекались к различным казенным работам, то каждый должен был иметь по косе и топору.
Должностные лица башкиро - мишарского войска комплектовались из представителей башкирских и мишарских феодалов. Они назначались кантонными начальниками и утверждались генерал-губернатором. Чины войска подразделялись на действительные, классные и зауряд-чины. Армейские (подпрапорщик, прапорщик, поручик, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор), казачьи (урядник, хорунжий, сотник, есаул, войсковой старшина), действительные и классные чины ( от 14 до 12 класса) присваивались царем и военным министром за воинские или особые заслуги. К зауряд-чинам относились: зауряд-хорунжий, зауряд-сотник, зауряд-есаул, которые присваивались генерал-губернатором. Лишь лица, имевшие зауряд-чины, могли стать действительными офицерами. Армейским офицерам и классным чинам давалось звание потомственного дворянина, зауряд-чинам - личного дворянина. Башкиро-мишарское войско подчинялось генерал-губернатору Оренбургского края.
Воинское снаряжение башкир состояло из пики или копья, сабли, боевого лука и колчана со стрелами, кистеня, позднее- огнестрельного оружия. Они должны были иметь две лошади (строевую и вьючную). Носили обычно синего или белого цвета суконный кафтан, парадные кафтаны были из красного сукна, широкие шаровары с красными лампасами, белую остроконечную войлочную шапку и кожаные сапоги.
Башкирское войско делилось на тысячи, сотни, пятидесятки, десятки во главе которых стояли командиры; отличалось мобильностью и строгой дисциплиной. Военная тактика башкир определялась главенствующей ролью конницы. Войско использовало лошадь башкирскую, происходящую от пород степного и лесного типов, сформировавшихся в условиях резко континентального климата при круглогодичном пастбищном содержании.
В 1798-1849 годах башкиры ежегодно выставляли на Оренбургскую пограничную линию 5,5 тысяч человек. Одновременно с пограничной службой на Оренбургской линии, 2500 башкирских воинов "о дву-конь на своем коште" служили на южных дистанциях и Сибирской пограничной линии. Странно о пограничной службе на таких далеких границах говорить "внутренняя", но с другой стороны, служба-то шла с внутренней стороны империи. К внутренней службе относились также этапная (по Сибирскому и Златоустовскому трактам), полицейская (в Казани, Москве, Санкт-Петербурге) и гарнизонная. Гарнизонную службу в российских городах несли эпизодически: в 1768-1774 гг. во время войны России с Турцией, в 1772-1773 гг. после подавления восстания польских конфедератов и др.
Внешняя служба башкир заключалась в участии в войнах, которые Россия вела с другими государствами. Исторические источники свидетельствуют, что башкиры с первых же лет присоединения к Русскому государству начали участвовать в походах и войнах, которые велись Россией. Еще в 1557-1558 гг. в Ливонской войне в составе русских войск были башкиры. В те же годы велась война с Крымом, в которой также отмечается участие башкир. В трудные дни польско-шведской интервенции в начале XVII века, когда нужно было отстаивать независимость Русского государства, вместе с русскими боролись против интервентов и башкирские конники. Башкиры входили в состав войск нижегородского воеводы Андрея Семеновича Алябьева, которые в начале декабря 1608 года нанесли поражение отряду тушинцев, засевших в селе Ворсме. Известно также, что башкирская конница была в знаменитом ополчении Минина и Пожарского и участвовала в освобождении Москвы от польских интервентов. Основной повинностью башкирского населения была сторожевая служба, связанная с охраной восточных границ страны. Однако, кроме пограничной службы, башкирские конники часто принимали участие в дальних походах и войнах XVII и XVIII веков. В разрядных книгах 1629 года о наборах башкирских отрядов говорилось: "Бывает им служба, как посылают всех понизовых городов служилых людей в большую повальную службу, а с тех башкирцов емлют в тое пору на службу с трех дворов по человеку". Как отмечает Н.Ф. Демидова: "Наиболее деятельное участие башкирские конные отряды принимали в шведском и азовском походах. Так, во время Северной войны со всех четырех дорог был собран, снаряжен и отправлен тысячный отряд башкир". Известный ученый и государственный деятель И.К. Кириллов, внимательно изучивший историю башкир, в том числе и историю их военной службы, в 1734 году писал, что башкиры "всегда верно служили не только против шведов и поляков, но и против турок и крымцев".
В середине XVIII века военная служба башкир приобрела более широкий характер. В указе от 16 марта 1754 года Правительствующий сенат определил, что башкиры "без платежа ясака единственно служивыми будут так, как и казаки". С тех пор башкирские конники шли на пограничную службу не только в летнее время, они наряжались и зимою для охраны Сибирской пограничной линии. Кроме того, в более широких масштабах привлекались к участию в дальних походах.
Значительным событием для башкир и мишарей явилось их участие в Семилетней войне. Готовясь к войне, правительство решило наряжать башкир в более значительных размерах, чем во времена прежних походов. 11 апреля 1756 года последовал указ Сената Военной коллегии о посылке из Оренбургской губернии 2000 вооруженных двуконных башкир на Украину, откуда они в составе русских войск должны были отправиться в действующую армию. Кроме того, в том же 1756 году 1 сентября, Правительствующий Сенат приказал "выбрав лутчих и доброконных ... 500 человек башкирцов..., ныне вывести как наискорее в Лифляндию". Наряженные башкирские формирования предназначались для участия в войне с Пруссией, и они сражались с неприятелем под начальством знаменитого полководца П.А.Румянцева и будущего гениального русского полководца-подполковника А.В.Суворова. "Башкирские конники, - пишет Д.Мануильский, - вместе с русскими казаками и драгунами вступили в 1760 году в Берлин, но ни русские, ни башкиры не кричали на всех перекрестках о том, что они били хваленое воинство Фридриха II, которому немецкое бюргерство незаслуженно наклеивало ярлык "Великого". В 1772 году один корпус башкирских конников в 3000 человек был отправлен в Польшу для борьбы с реакционными Барскими конфедератами. В 1790 году более 2000 башкир были откомандированы в Прибалтику, где в составе четырех пятисотенных полков воевали в финляндской армии под командованием М.И.Кутузова.
Военная служба башкир была чрезвычайно выгодной для царского правительства, При формировании башкирских полков оно не несло никаких расходов. К тому же эти народы, так же как казаки, очень быстро могли выставлять свои конные полки и отряды, способные по первому требованию военного ведомства форсированным маршем отправиться в поход. Поэтому правительство решило превратить эти народы в военное сословие. Вследствии чего в конце ХVIII века военная служба башкир приобрела всеобщий характер.
10 апреля 1798 года правительство издало указ о введении кантонной системы управления, превратившей башкир в военное сословие. В указе говорилось: "Сделать точное исчисление башкирцов", способных нести военную службу, "считая по летам от 20 до 50 лет", разделив их по кантонам. Все административные лица кантонов и юртов (команд) сатновились военными. Для этого почти 21 тысячу башкирских и мишарских дворов разделили на 103 «юрта» (команды). Каждый юрт насчитывал от 700 до 1000 душ мужского пола. Во главе юрта стоял юртовой старшина, назначаемый военным губернатором (или наместником). Юртовой старшина имел несколько помощников. На службу подразделений Башкиро- мещерякского войска им управляли 63 походных старшины и 213 сотников, которые, разумеется, вне несения службы также использовались для реализации полицейских функций. Из башкир было сформировано иррегулярное войско, разделенное первоначально на 11 кантонов, затем на 12, а впоследствии на 28. Таким образом, начиная с 1798 года, башкиры несли казацкую службу, подчиняясь военному ведомству. А остальная схема управления была составлена по схеме внутреннего самоуправления близкой к казачьей: для несения войсковой военно-сторожевой приграничной службы было создано и существовало с 1798 г. по 1865 г. Башкиро-мещерякское (позднее, Башкиро-мишарское и Башкирское) нерегулярное войско, несколько напоминавшее казачье. Часть казачьих прав это войско имело. Но в нем не было казачьего самоуправления, чины на должности не избирались, а назначались. Из среды башкир появились командные кадры, имеющие военные заслуги и служившие продолжительное время. Башкиры вместе с оренбургскими и уральскими казаками составляющие иррегулярное войско обширного оренбургского края, приносили большую пользу государству, охраняя за свой счет восточные рубежи страны.
В случае участия Башкирского войска в походах российской армии оно комплектовало пятисотенные полки, в которых по штатному расписанию предусматривался войсковой имам (полковой мулла). В командный состав башкирского казачьего полка входили 30 человек: командир полка, старшина, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжий, квартирмейстер, мулла, 1-2 писаря и 10 пятидесятников.
...Влияние фронтирного опыта на менталитет башкир наиболее ярко показал В.Флоринский: "... вопрос о подчинении вошел в их плоть и кровь… Оттого на все государственные повинности, в том числе и на воинскую, они смотрят, как на дело законное и неизбежное, … Я заметил даже, что башкиры гордятся своими военными заслугами, с удовольствием вспоминая те или другие эпизоды из жизни существовавших прежде башкиро-мещерякских полков. Башкир охотнее идет в военную службу. Старые воины и до сих пор с гордостью щеголяют между своими однодеревенцами нашивками и значками, которые остались им от прежней службы". Несомненно, постфронтирный этап стал своеобразным завершением формирования менталитета башкир, с преобладанием в нем главенства военной службы в системе взаимоотношений с государством.
В 1811—1812 гг. в Оренбургской губернии было сформировано и отправлено в армию 28 башкирских полков(в том числе 6 ремонтных), 2 мишарских, 2 тептярских. В 1813 г. в западные губернии были отправлены 4139 лошадей, подаренных башкирами правительству, их сопровождала тысяча человек, которых можно засчитать как два безномерных полка. Кроме того, 12 тысяч башкир несло линейно-сторожевую службу на восточных границах России. Всего в 1811— 1813 гг. башкирские кантоны мобилизовали и выставили для защиты страны от наполеоновских войск и для охраны юго-восточной границы около 27 тыс. воинов.
В 1812 году в Башкирии был неурожай, народ голодал, но снаряжал воинов конями, обмундированием и оружием. Население края собирало деньги на нужды войны. Уже к 15 августа 1812 года башкиры, тептяри и мишари пожертвовали в пользу армии 500 тысяч тогдашних полновесных рублей царской чеканки. Добровольные взносы продолжались и в сентябре. Народ был охвачен небывалым патриотическим подъемом; на войну вместе с мужьями шли даже женщины.
Интересные факты.
Совместная борьба русского и башкирского народов против иноземных захватчиков укрепляла боевую дружбу башкирского конника и русского солдата. Участник похода 1813—1814 гг. русский генерал Андрей Раевский в своих воспоминаниях рассказывает, что при отступлении Наполеон распространял слухи среди немецкого населения, что башкиры “варвары” и что “они питаются неприятелями, и особенно охотники до детей”. “По сказаниям Наполеона, — продолжает генерал Раевский, — они (жители Легницы. — Авт.) ожидали видеть диких варваров”, и, к удивлению, встречают приветливых, добрых воинов.
Конники больше всего были на виду у публики — они не размещались в казармах или в каких-то других помещениях, а устраивали свои биваки на бульварах и площадях. Количество строевых лошадей соответствовало числу воинов, а вьючных было в 1–6-м полках столько же, в 7–20-м – 250.
В 1812–1814 гг. военные начальники высокого ранга любили включать в свой конвой башкир за экзотичность их внешнего вида и вооружения. В некоторых случаях право включения в конвой или, как тогда называли, в «ординарцы» предоставлялось башкирам, отличившимся в бою и имевшим награду.
Наиболее отличившиеся части русской армии специально отмечались в правительственном журнале военных действий, что являлось большой честью для воинов. 29 марта 1813 года многие джигиты, отличившиеся в боях и показавшие себя храбрыми, стойкими и дисциплинированными воинами, были представлены на повышение в чинах и званиях: Кутлугильды Тимиров и Абдулла Аргамбаков — в старшины; Кучарбай Хусаинов, Игдавлет Илиаринов и Ярмухамет Азаматов — в есаулы; Баймухамет Якшинбаев, Рахматулла Давлетшинов, Давлеткильды Атибаев, Тулукай Сияргужиков и Ильмень Гульискутиков — в сотники; 5 человек — в хорунжии; Бикмухамет Сияргулов — в полковые писари и Хасан Актиберов — в полковые квартирмейстеры.
У большинства башкирских воинов были ружья, а у зажиточной части — еще и пара пистолетов. Основным оружием башкир всегда была сабля. Да и трофейного оружия башкиры приобрели немало, начиная с участия в армейских партизанских отрядах в Центральной России. До наших дней в музеях Башкирии сохранились французские мушкеты, пистолеты.
Основным оружием башкирских казачьих полков было традиционное национальное вооружение: пики, лук и стрелы, которыми они владели виртуозно. Это оружие воины изготавливали сами. Лук имел сложную конструкцию, так как состоял из двух частей, изготовленных из разных пород дерева: березы и ели. Обе части склеивались между собой, а снаружи лук обклеивался берестой. В качестве тетивы использовались сухожилия или крепкая бечевка из конопли. Форма лука – немного выгнутая, длиной 1-1,5 м. Боевые стрелы имели железные наконечники ромбической или широколопастной формы. На заднем конце древка стрелы делался глубокий вырез для тетивы лука, а также два-три пера. Стрелы укладывались наконечниками вниз в деревянные колчаны, обшитые кожей, от 15 до 30 в каждый.
Денис Давыдов в своих записках также отмечал, что башкиры были вооружены луками и стрелами. На это же указывает и английский офицер Роберт Вильсон, который находился в русской армии: «…башкирские воины вооружены длинной пикой, украшенной флажком, по которому они определяют офицера; саблей, луком и колчаном с двадцатью стрелами. Луки у них небольшие, имеют типичную азиатскую форму и, как правило, грубо выделаны. На концах стрел мало перьев. Однако стреляют они отлично, с удивительной легкостью». Существует и описание способа стрельбы из лука: «В сражении воин передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и пускает мгновенно одну за другой».
Гораздо более разнообразным и порой экзотическим было вооружение национальных частей. Например, как уже говорилось, вооружение башкир состояло из ружья, пики или копья, сабли, лука и колчана со стрелами. Ружье и пистолет были у них редкостью.
Наибольший интерес представляли луки со стрелами и пики. Они изготавливались самими башкирами. Боевой сложный лук склеивался из двух половинок – березовой и еловой – и обклеивался снаружи берестой. Тетива делалась из крепкой конопляной бечевки или сухожилий. Луки были примерно 1,5 м длиной и несколько выгнутые.
Боевые стрелы состояли из железных наконечников широколопастной или ромбической формы и черенка. Задний конец древка стрелы всегда снабжался четырьмя перьями, имел глубокий вырез для тетивы лука. Помещались стрелы в колчанах по 15 – 30 штук в каждом. Следует отметить, что в то время, как пистолет у конника был в бою практически одноразовым оружием, поражая противника на дистанции максимум 30 метров, лучник мог прицельно выпустить до 10 и более стрел в минуту, на том же расстоянии пригвоздив тяжелой стрелой неприятеля к его коню. На расстоянии 70 метров стрела пробивала дубовую доску в палец толщиной, на дистанции 100 метров лук по точности боя не уступал ружью, а полная дальнобойность хороших луков достигала 200 метров.
Вооружение, снаряжение и военное искусство башкир в эпоху наполеоновских войн 1807–1815 гг.
Историю героического участия башкир в наполеоновских войнах невозможно изучить, не рассмотрев предварительно характер вооружения и снаряжения башкир в это время, не оценив уровень развития военного искусства, ратных традиций. Нахождение в военно-служилом сословии, пограничная служба на юго-восточной границе страны – все это вело к интенсивному развитию военной организации башкир, интересу к военному искусству. С раннего детства мальчиков сажали на коня и обучали навыкам обращения с оружием, меткой стрельбе из лука. Ношение оружия мужчинами при выезде за пределы кочевья, как и у всех жителей степи, было обязательным. Военная организация башкир опиралась на степную, ордынскую традицию, ее основы заложил Чингисхан. Необходимо отметить, что в XVI–XVIII вв. постоянного башкирского войска как отдельной структуры не существовало. Профессиональные военные – тарханы, батыры, имевшие определенный опыт военной службы и хорошее вооружение, были малочисленны. Если тарханское звание передавалось по наследству, то батыром мог стать любой сильный и отважный воин. Большую часть составляло родовое ополчение, в которое входили все мужчины, способные держать оружие. Отличительным качеством башкирского воинства был его однородный состав – конный, что предполагало высокую мобильность и боевую мощь, возможность использования различных тактических приемов ведения боя, а наличие у всех воинов лука и стрел позволяло вести бой на дистанции.
В XVI–XVIII вв. военные отряды башкир были организованы по десятичной системе: тысячные, сотенные, полусотенные. Но уже во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. башкиры получили полковую организацию. Она была заимствована у донских казаков, которые из иррегулярных войск первыми интегрировались в военную структуру Российской империи. Еще одной особенностью этой войны было то, что башкиры участвовали в боевых действиях вместе с регулярными войсками, иногда в спешенном строю, а по её завершении получили учреждённую для всех участников наградную медаль. Все эти преобразования были результатом реформ российской кавалерии, проводимых Г.А. Потёмкиным. Прямым следствием реформ в отношении иррегулярных войск юго-востока России было введение в 1798 г. по инициативе Оренбургского военного губернатора О.А. Игельстрома кантонной системы управления в Башкирии, которая охватила башкир, мишарей, ставропольских калмык, уральских и оренбургских казаков. Таким образом, во многом благодаря Потёмкину в отношении казачества и национальных войск на рубеже XVIII–XIX вв. произошел отход от прежней архаичной системы организации иррегулярного войска, в том числе и башкирского, и переход её на более высокий уровень.
Организация
В 1811–1814 гг. башкирский полк насчитывал 500 рядовых, или «башкирцев» по терминологии того времени, 10 пятидесятников («урядников»), 5 хорунжих, 5 сотников, 5 есаулов (обер-офицеры), командира полка и его помощника – старшины (штаб-офицеры). Из нестроевых чинов в полку были – писарь, квартирмистр и полковой мулла. Итого – 530 человек. Все эти чины были из башкир. Большинство башкир обер- и штаб-офицеров были зауряд-чинами, т.е. их чины не были уравнены с «Табелью о рангах», и считались таковыми только во время службы. Небольшая часть башкир – командиры полков и их помощники, имели действительные армейские чины: прапорщика, поручика. В процессе боевых действий некоторые башкиры, проявляя героизм и отвагу, были награждены орденами, что в то время сразу давало первый офицерский чин и право на дворянство, иные за отличия получали действительный офицерский чин в качестве награды. Возглавлял полк командующий – офицер российской армии, его сопровождал в качестве писаря унтер-офицер или рядовой из его части (в основном это гарнизонные батальоны, расположенные на Оренбургской пограничной линии), и один-два денщика. В случае назначения нового командующего полком, прежний офицер оставался при нем в качестве прикомандированного.
Полковая организация приближала русскую иррегулярную конницу к, если так можно выразиться, «европейским стандартам» войны, позволяла оптимально использовать национальные и казачьи части, одинаковые штаты позволяли штабным офицерам оперативно решать вопросы боевого планирования, снабжения и передвижения войск. Попав в армию, башкирские полки вместе с казачьими входили в казачий корпус М.И. Платова; с казачьими, гусарскими и драгунскими полками в отдельные отряды, возглавляемые русскими офицерами и генералами (Н.Д. Кудашев, М.С. Воронцов, М.С. Волконский, А.Х. Бенкендорф, К.О. Ламберт, М.М. Свечин), вместе с ополчением в корпус П.А. Тол¬стого, с резервными войсками в Польскую армию Л.Л. Беннигсена.
Поскольку полки были конными, никаких повозок в них не полагалось, воины имели лошадь строевую и под вьюком (с имуществом). Вьючная лошадь, в случае гибели строевой, служила ей временной заменой. Соответственно никаких юрт и иных тяжестей в башкирских полках не было. Соотношение строевых и вьючных лошадей в 1–6-м башкирских полках по штату было одинаковым, а всего – 1060, в полках 7–20-м – 780, поскольку здесь вьючных лошадей полагалось 250, т.е. одна на двоих. Сокращение штатного количества лошадей, вероятно, было сделано для быстроты комплектования полков и скорейшей отправки их к армии. Известны по рапортам настоящие цифры количества лошадей в некоторых полках. В конце 1812 г. во 2-м Башкирском полку было – 998, 6-м –1024, 7 и 9-м по 804, 8-м – 489 (после событий в Самаре), в 10, 12, 13, 14, 20-м по 768, 11-м – 764, в 16, 17, 18-м по 750, 19-м – 798 лошадей. В 1-м мишарском полку – 804, во 2-м – 796 лошадей. Кроме лошадей по штату, чиновники и рядовые башкиры могли на свое усмотрение иметь дополнительных лошадей, но кормить их они должны были за свой счет, поскольку фуражные деньги выделялись исключительно на штатных. Как правило, большинство чиновников имели личную вьючную лошадь, а командир полка и его помощник — по 2–3 строевые. Фуражное довольствие определялось ещё павловскими нормами, утверждёнными 19 сентября 1797 г. Согласно им, при нахождении иррегулярного войска в походе «от домов своих далее ста верст, то лошади удовольствуются сухим фуражом только зимнее время по климатам, фураж отпускается в натуре единственно на строевых лошадей, а на вьючных платятся деньги по тем ценам, по каким сено и овёс заготавливаются, летнее же время они находятся на подножном корме». В 1812 г. в Оренбурге из Провиантского департамента на провиант и фураж выдавалась сумма в 5 тыс. руб. на каждый башкирский полк. Деньги были нужны для закупки фуража, а его достаточного количества на маршрутах движения армии заготовлено не было, подножного корма не хватало, поэтому передвижение башкирской конницы командование осуществляло отдельными полками, либо бригадами из двух, очень редко трех полков. Собрать в одном месте более трех полков, а это 1600 воинов и 2250–2300 лошадей, было бы самоубийственно для последних. Поэтому красивые картины о сборе большой массы башкирских полков в одном месте – вымысел, не имеющий ничего общего с реалиями действительности.
Башкирская лошадь круглогодично содержалась на пастбище, легко переносила сильные морозы, могла питаться в степи зимой, разгребая копытами (копытить) снег, чтобы достать траву (тебенёвка). Лошадь была невысокого роста, около 140 см в холке, с крупной головой, короткой шеей, короткими и крепкими ногами, крупными копытами. Она отличалась необычайной выносливостью, легко преодолевала большие расстояния, была неприхотлива в питании, быстро обучалась. Русский офицер, проезжавший по Оренбургской линии в начале XIX в., особо отметил, что: «башкирские лошади очень легки и гораздо выносливее европейских». Немецкий пастор Д. Бауке так записал об увиденных им башкирах в 1813 г.: «Они скакали на маленьких, по всей видимости, очень выносливых конях, покрытых деревянными седлами». Башкирские лошади были преимущественно гнедой, буланой, саврасой, рыжей, мышастой, серой и игреневой масти. Например, в «Кахым-туря» сохранилось описание скакуна героя, имевшего игреневую масть. Очень часто у современных художников в качестве образа «Северного амура» бытует хрестоматийная картина башкирского воина в хвостатой шапке, верхом на высоком коне, обязательно белой масти… На самом деле – это фантазия людей, не разбирающихся ни в истории, ни в лошадях, она навеяна стереотипами картин о Первой конной, характерных для творчества Студии военных художников им. М.Б. Грекова.
У башкир издавна существовал культ коня. Перед походом лошадей откармливали, надевали украшенную металлическими бляхами сбрую, расчесывали гриву. Если в Европе по моде того времени лошадям подстригали гриву и хвосты, то башкиры этого не делали. Для походов использовали лошадей (кобыл), и меринов (кастрированных жеребцов). Как и все кочевники, башкиры лошадей не подковывали и т.к по Указу от 11 февраля 1736 г., по которому башкирам было запрещено иметь кузни,. На боевых лошадях башкиры обязательно использовали стремена – металлические или деревянные. Вместо шпор башкиры, как и все степные народы, употребляли плетку. Седла имели высокую переднюю луку, которую башкиры использовали при атаке противника, имевшего защитный доспех (панцирь, кольчугу), как упор для копья, направленного вперед. Она же служила для крепления аркана. Зачастую передняя лука имела резное навершие в виде утиной, змеиной или медвежьей головки. Еще одним наследием Чингисхана было законодательное закрепление за конкретным родом имевших иранское происхождение и ранее существовавших у башкир тамг – знаков родовой собственности, которыми таврили лошадей.
Командир отличался богато украшенными серебром конской сбруей и седлом, а также значком на наконечнике копья в виде небольшого флажка-флюгера. По документам известно использование башкирами таких флажков-флюгеров белого, зеленого и красного цветов. К сожалению, на сегодняшний день источники не позволяют отнести к конкретному башкирскому родовому подразделению определенный цвет значка. В XVIII в. академик И.И. Лепехин, находившийся среди башкир, описал сбор отряда, направлявшегося на Оренбургскую линию: «Стройное их ополчение во всем с казацким сходствуют: каждый из них имеет по две лошади осёдланных, дабы в случае нужды в дальной путь пуститься можно и запастися нужным припасом. Оружие их наиболее составляют стрелы и копья; а ружья редкие имеют. Толпы свои означают значками и разделяются во все по казацкому уставу. Всего приятнее было смотреть на их неустрашимость и охоту, с какою они шли против своих неприятелей».
В отношении сёдел и сбруи сохранились воспоминания попавшего в плен гусарского офицера, вестфальца Э. Рюппеля. Он, будучи весьма наблюдательным человеком, встретив осенью 1812 г. башкирские полки, двигавшиеся к армии, описал увиденных им башкир: «Офицеры носили красные шапки, темно-синие меховые кафтаны, перевязь сабли и уздечка у них были украшены серебром, сбруя у них на манер казачьей. Еще я должен заметить, что во всех казацких, калмыцких и башкирских частях знаком высокого ранга является седло, искусно украшенное слоновой костью, перламутром, серебром или золотом».
Какова была судьба лошади, если её хозяин умирал в походе или погибал в бою? Существует красивая легенда, что её берегли, она сопровождала полк, а по возвращении передавалась родственникам погибшего. Никто в этом случае почему-то не предполагает, что лошадь необходимо ежедневно поить, кормить, чистить, следить за её состоянием. Всё это проделывал со своей строевой и вьючной лошадью каждый кавалерист, а еще он должен был воевать, содержать в исправности оружие и амуницию. Сколько времени оставалось для дополнительных лошадей? В условиях повальной бескормицы, когда регулярная, казачья и башкирская конница выедали в округе всю траву до черной земли, держать при полку лошадей, на которых по штату фураж уже не полагался, было физически невозможно. Сохранившиеся архивные документы показывают, что было на самом деле. Обратимся к рапортам 10-го Башкирского полка за 1814 г. Так, 7 января умер башкир Карабай Аблаев, его лошадь продали; 16 февраля получено известие, что оставленный по болезни в Пензенской больнице башкир Хусейн Даутов умер, его лошадь была продана, деньги за нее прислали в полк, и на них купили строевую лошадь; 17 марта умер Агитисам Абдулменяев, его лошадь продали башкиру из полка, не имеющему лошадь и т.д. Как видим, оставшаяся без хозяина лошадь сразу продавалась, её покупали либо сами башкиры, потерявшие собственную, либо местные жители, деньги пересылались в полк. Вырученные от продажи деньги хранились при полку, а по возвращении передавались родственникам погибшего. В отдельных случаях, об этом сохранились предания, в том числе и у немцев, живущих в окрестностях Лейпцига, лошадь после смерти хозяина умерщвлялась и закапывалась рядом. Здесь речь идет о существовавших у башкир доисламских верованиях, связанных с культом коня, эти случаи единичные, умерщвление и захоронение коня осуществлялись как последняя воля покойного. Таким образом, кстати, могла и вернуться домой под седлом башкира, выкупившего во время похода лошадь погибшего. Родственники последнего могли её выкупить вновь и соответственно после её смерти совершить ритуальное захоронение. Но в любом случае надо иметь в виду, что речь идет пока что о двух известных из фольклора сюжетах, связанных с ритуальным захоронением коня героя.
Солдаты российской армии, когда шли в атаку, кричали «Ура!», казаки свистели и гикали. У башкир каждый род имел свой боевой клич, данный ещё Чингисханом, он кричался во время боя для устрашения противника и поднятия собственного боевого духа. В башкирских шежере, например, сохранились боевые кличи племени Табын – «Салават!», башкир-кипчаков – «Туксаба!». Остается открытым вопрос, какие боевые кличи кричали башкиры в 1812–1814 гг. В качестве предположения можно считать, что в сотнях, сформированных по родовому принципу, могли кричаться родовые кличи, но, скорее всего, поскольку полки формировались по кантонам и даже из нескольких кантонов, башкиры в бою кричали общепринятый мусульманский – «Алла Акбар!». Применение боевого клича башкирами описал противник. В бою под Миром в 1812 г. польские уланы были атакованы башкирами 1-го полка и калмыками, в своих мемуарах выживший улан записал: «Я никогда не слышал воя столь ужасного, чем тот, который поднялся в этот момент». В 1813 г. во время Лейпцигского сражения атаку французов башкирами описал генерал М. Марбо: «В мгновение ока [башкиры] с громкими криками окружили наши эскадроны и забросали их стрелами». Во время походов башкиры находились в военных отрядах вместе с донскими казаками. От них они заимствовали многое, в том числе знаменитое гиканье, о чем свидетельствует известный в литературе «Рассказ башкирца Джантюри», записанный В. Зефировым: «мы вскочили на коней, пики припёрли к седлам и с гиком бросились на злодеев».
Вооружение
Вооружение и снаряжение башкирами приобреталось за собственный счет и состояло в основном из лука со стрелами и копья, некоторые башкиры имели сабли. В основе комплекса вооружения у башкир лежал мощный боевой многослойный лук (эдернэ), который хранился в кожаном налучнике (hазак, рус.: садак). Башкирский лук отличался от северно-русского и сибирского большей изогнутостью и меньшей длиной. Боевой лук отличался от охотничьего (йэйэ), простого, изготовленного из вяза или березы. В целом все башкирские луки, как боевые, так и охотничьи, были небольшого размера, боевой не более 1 м, а охотничий – 1,5 м. Боевые стрелы (ук) имели железные наконечники разных форм (удлиненную четырехгранную, плоскую лавровидную, в том числе были наконечники, предназначенные для пробивания кольчуги) и незначительное оперение. Длина стрел была примерно 1,2 м, они хранились в колчанах по 20–25 штук острием вниз. Колчаны изготавливались из дерева, кожи, бересты. Составной лук изготовлялся из полос нескольких пород древесины: лиственницы, березы и т.д., склеенных особым клеем и обернутых берестой или сухожилиями. Места изгиба усиливались роговыми пластинами. Известны и полностью роговые луки. Тетива (кереш) боевого лука была из сухожилий или из шелка. Изготовление лука и стрел было достаточно длительной и сложной работой, поэтому после боя воины старались собрать свои стрелы. Случай с башкирской стрелой, попавшей в нос французскому полковнику в бою под Тильзитом, и башкиром, желавшим её получить, описанный Д.В. Давыдовым, стал хрестоматийным.
Интересно, что французы и немцы, хорошо знакомые с Великими географическими открытиями XVIII в. и описаниями конфликтов европейцев с аборигенами, упорно считали, что башкирские стрелы отравлены. Например, английский представитель при российской армии Р. Вильсон, рассказывая о французе, взятом в плен в 1807 г., сообщает, что «офицер, раненый в бедро стрелою, вынул её, но был всерьёз встревожен ложным представлением о стрелах, якобы отравленных». И.В. Гете, которому башкиры в 1814 г. подарили лук и стрелы, долгие годы хранил это оружие, иногда стреляя ради развлечения в саду, но также считал, что стрелы могли быть отравлены.
Стрельба из лука осуществлялась как с места, так и в движении. Если в европейских средневековых армиях она традиционно осуществлялась исключительно прямо, по ходу движения, то башкиры равно хорошо вели обстрел противника как прямо по ходу движения, так и по монгольскому обычаю, перпендикулярно движению, развернувшись в седле. Убойная сила стрелы в последнем случае уменьшалась, но она компенсировалась мощью лука и большим количеством стрел, которые мог выпустить всадник. Для скорострельности стрелявший вынимал из колчана и держал наготове несколько стрел в левой руке вместе с луком, а несколько – во рту. Именно такой прием с держанием нескольких стрел в руке изобразил на гравюре «Башкир» немецкий художник В. фон Шадов.
Искусство стрельбы из лука башкир наблюдал во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. русский офицер А.Н. Оленин, в будущем Президент Академии художеств: «поставя на большое расстояние старый глиняный горшок среднего размера, или деревянную щепу, и легши на землю, на спину, лицом против сей цели, подняв ноги вверх и упираясь подошвами в средину или в колено лука, натягивали обеими руками тетиву и стрелу, которую они сим средством пускали с большою силою и каждый раз расшибали горшок или сбивали щепу». Он же был переводчиком во время заключения Верельского мира со Швецией в 1790 г. В ходе переговоров шведский король Густав III пожелал познакомиться с башкирами, которые досаждали его солдатам во время войны, и Оленин представил ему своего подчиненного Акчур-Пая, которого называет «башкирским начальником». Так его имя записал Оленин. Нам представляется, что это, возможно, Кучербай Аксулпанов. Вот как он описывает его джигитовку: «Сей смелый всадник <…> перекинул стремена через седло коня своего, чтобы сделать их довольно короткими, дабы можно было стоять прямо на ногах, на скаку, во всю конскую прыть, не садясь на седло. После сего первого приема, [он] положил на землю старую шапку и пустил лошадь шагом до некоторого расстояния. Приехав на место, ему нужное, он вдруг поворачивает своего коня, и бросив поводья на его шею, проскакивает во весь дух мимо шапки, на несколько десятков сажен. Тут поворотясь назад на своем седле, все скакав во весь дух, он простреливает шапку насквозь <…> Проскакивая опять подле шапки и возвращаясь к тому месту, откуда пустился скакать, он повторил тот же прием, и обе стрелы составили над шапкой род литеры Х. После сего действия и опять на всем скаку, [он] бросил вверх яйцо и разбил его при падении, пустив в него стрелу, быструю как молния. Наконец, он вынул из своего тула старую стрелу и бросил её на землю, потом, подняв её рукою, не слезая с лошади и всё скакавши во всю прыть, он бросил её вверх и на лету расколол, подобно яйцу, пустивши в него новую, свежую стрелу». Военные игры башкир, связанные со стрельбой из лука, описаны Лепехиным: «Они метили стрелами как в поставленную цель, так и в известном расстоянии могли увертываться от пущенной стрелы. Иные пускали стрелы, стоя на земле, а удалые, разскакавшись во всю конскую прыть, метили стрелою в поставленной предмет». Еще один вариант игр, увиденный лично в начале XIX в. на Оренбургской линии, сообщает А.Х. Бенкендорф: «Самым красивым, но и самым опасным зрелищем было, когда один из них водружал на свою пику шапку и несся во весь дух, преследуемый всей группой, которая старалась сбить эту шапку стрелой или пистолетным выстрелом».
В первой половине XIX в. стрельба из лука – по-прежнему любимое занятие башкир. В.М. Черемшанский: «башкиры метко стреляют из ружей и луков, – последними действуют с такой силой, что пущенная стрела на недальнем расстоянии, как, например, саженях на 15, пронзает насквозь не только человека, но даже лошадь». П. Размахнин: «Они все вообще искусно ездят верхом, большие мастера управлять пикой, стрелять из ружей и особенно из луков. Последнее искусство доведено у башкирцев до такой степени совершенства, что многие из них каждый раз безошибочно попадают стрелою в самые малые предметы, например, в воробья, находящегося от них шагов во 100 и далее»; другой автор: «40 шагов есть среднее расстояние для верного выстрела. В сражении башкирец передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и пускает мгновенно одну за другую; при нападении крепко нагибается к лошади и с пронзительным криком, раскрытою грудью и засученными рукавами смело кидается на врага и, пустивши 4 стрелы, колет пикою». Выше упомянутый Зефиров, будучи на охоте, обнаружил на скале дикую козу. Его попытку подстрелить её из ружья остановил Джантюря, предложив посмотреть «на удальство» своего сына Нагиба: «Тот взял лук, наложил стрелу, прицелился, лук почти в кольцо свился в руках ловкого башкирца, тетива взвизгнула, и бедная коза, простреленная навылет, рухнулась с горы прямо к нашим ногам».
А вот свидетельства современников, в том числе противника идеи о преобладании в качестве вооружения у башкир луков и стрел. Ж.-Б. Бретон: «Башкирские воины вооружены длинной пикой, украшенной флажком, по которому они определяют офицера, саблей, луком и колчаном с двадцатью стрелами. Луки у них небольшие, имеют типичную азиатскую форму и, как правило, грубо выделаны. На наконечниках стрел мало перьев. Однако стреляют они отменно, с удивительной меткостью». «Описание последних дней пребывания русских в Вильне, занятия ее французами и празднования по случаю провозглашения Варшавской конфедерации», опубликованное в пронаполеоновском «Литовском курьере» № 53 за 1812 г., о башкирах 1-го полка сообщалось: «еще в апреле месяце пришли орды калмыков и башкир, вооруженных луками». Французский офицер Комб: башкиры «были вооружены луками и стрелами, свист которых был для нас нов, и ранили несколько из наших стрелков. Шея лошади капитана Депену, из моего полка, была пронзена под гривой одной из этих стрел, имевших, приблизительно, четыре фута в длину». Уже цитированный выше Рюппель: «Вооружены они были казачьими пиками, большими кожаными колчанами с луком и стрелами, также маленькой саблей». Прусский пастор Бауке (1813 г.): «башкиры <...> превосходно владели луком, стрелами и копьями». Немецкий поэт Д.Ф. Даниил (1813 г.): «Кавалерийская часть состояла из одного офицера и из татар, башкир, вооруженных только луками и стрелами». Житель Лейпцига о башкирах, которыми запугали местных жителей французы (1813 г.): «Если не считать лука и стрел, смотреть, собственно говоря, было не на что». Марбо (1813 г.) о прибывшем к российской армии под Лейпциг подкреплении: «в его рядах насчитывалось очень большое количество татар и башкир, из во¬оружения имевших только луки со стрелами». И. Казанцев о вооружении башкир писал, что оно состоит «из пары пистолетов, ружья, пики, сабли, лука, колчана со стрелами, которыми башкирцы мастерски стреляют на большое пространство в цель и с такою силою, что стрела в 15 саженях может проткнуть насквозь не только человека, но даже и лошадь».
Кроме лука и стрел, в вооружение башкирского воина входило древковое оружие – копье произвольной длины, с железным наконечником, иногда украшенное пучком конских волос, и менее распространенным был кистень в виде железной булавы (иногда капового нароста), прикрепленной на цепи к концу длинного древка. Некоторые копья имели крюк для стаскивания противника с седла. Судя по рисункам современников, отдельные башкиры имели трофейные китайские бамбуковые пики, доставшиеся их предкам еще в XVIII в. от калмыков.
Часть башкир имела в качестве холодного оружия сабли. Клинки украшались серебряной насечкой с растительным орнаментом, либо сурами из Корана. На эфес закреплялся кожаный ремешок с кисточкой – темляк, одевавшийся во время боя на кисть руки. С 1805 г. башкирским, мишарским и тептярским чиновникам, не имевшим действительных офицерских чинов, разрешалось на сабле носить серебряный темляк как отличительный элемент. В ходе наполеоновских войн многие башкиры обзавелись этим видом оружия. Судя по сохранившимся рисункам, у башкир были сабли персидские (восточные), русские легкокавалерийские образца 1798 г., русские гусарские конца XVIII в., немецкие, французские легкокавалерийские. Ни на одном рисунке у башкир не видно палашей, которые были тяжелы по весу и не приспособлены для нанесения рубяще-режущих ударов. Конный воин имел плетенную из сыромятной кожи плетку. Искусство плетения передавалось по наследству, мастера отличались своим конкретным рисунком. Замену у башкир шпор нагайкой заметил все тот же наблюдательный Рюппель: «Они носили сапоги без шпор, а вместо них использовали нагайку».
Незначительное число воинов имело огнестрельное оружие – турки (фитильные, в XVIII в. кремневые ружья на сошках). Ружье предполагало наличие шомпола, пороховницы из рога (котокса), кожаных мешочков для пуль (йэзрэ hалгыс) и для пыжей, костяную или металлическую мерку для пороха, пулелейку, запас свинца и пороха. Стрельба из турок в бою была явлением редким, исключительным. Для этого было необходимо иметь достаточное количество пороха, чтобы научиться метко стрелять, но в первую очередь необходимо было приучить лошадь не бояться звука выстрела, на что тоже был нужен порох.
Массовое отсутствие огнестрельного оружия связано с последствиями известного указа от 11 февраля 1736 г., по которому башкирам было запрещено иметь кузни, огнестрельное оружие. Его появление связано с башкирским восстанием. Запрет сохранялся вплоть до введения кантонной системы в 1798 г. Однако стоит отметить, что в некоторых случаях правительство закрывало глаза на существовавший запрет. Так, во время направления башкир в Польский поход 1771–1773 гг., небольшая часть башкир прибыла с огнестрельным оружием, и это не стало поводом для выяснения, откуда оно. Хотя после введения кантонной системы башкирам разрешалось иметь огнестрельное оружие, однако на протяжении нескольких поколений был утерян навык обращения с ним, и наоборот, искусство стрельбы из лука, как мы видели выше, достигло своего совершенства. В ходе боевых действий 1812–1814 гг. башкиры вновь обратились к огнестрельному оружию, заимствуя его в качестве трофея. Башкиры хорошо владели карабинами, но наиболее популярными у них, как и у казаков, были кавалерийские пистолеты, которые они носили не в ольстерах (пистолетные кобуры), а заткнутыми за пояс.
О примерном соотношении количества карабинов и пистолетов, например, в 1-м Башкирском полку летом-осенью 1813 г., позволяют судить записи в журнале о выдаче начальником отдельного летучего отряда графом М.С. Волконским свидетельств: «Свидетельство дано Башкирскому 1-му полку состоящему в вверенном мне отряде в том, что точно в прежде бывших сражениях и авангардах, перестрелках с неприятелем в продолжении настоящей компании разстрелял ружейных 4015, пистолетных 2015 патронов <…> 9 октября 1813 г. Свидетельство казачьему Башкирскому 1-му полку на разстрелянные в бывших с неприятелем перестрелках 25 и 26 числа сентября при г. Лейпциге ружейных 2000 и пистолетных 1270 боевых патронов». Можно считать, что соотношение карабинов и пистолетов примерно было 2:1.
Что представляла в то время перестрелка? Для того, чтобы произвести выстрел из кремневого ружья, необходимо было иметь патрон и хороший кремень в замке. Патрон делался заранее из бумаги в виде скрученной бумажной колбаски, начиненной порохом. С одной стороны патрона в него была закручена свинцовая пуля. Перед стрельбой пуля в патроне откусывалась и держалась во рту, открывалась полка ружья, туда насыпалось немного пороха, полка закрывалась, в ствол засыпался оставшийся порох. Оставшаяся бумажная оболочка – пыж этот порох плотно забивала с помощью шомпола, затем в дуло вкладывалась пуля и ее бумажная оболочка, находившиеся все это время во рту. После чего шомпол убирался, курок взводился, полка открывалась, нажимался спусковой крючок. Боевая пружина приводила в движение замок, кремень ударялся об полку, высекал искру, она воспламеняла находившийся на полке порох, он в свою очередь поджигал через затравочное отверстие порох в стволе и происходил выстрел. В течение этого времени необходимо было, удерживаясь в седле, прицелиться, чтобы попасть в противника. Воспламенившийся на полке порох иногда выжигал правый глаз, особенно если был встречный ветер, поэтому в таком случае при стрельбе лицо отворачивали. От частого попадания частичек сгоревшего пороха в глаза при стрельбе многие солдаты страдали глазными болезнями. После интенсивной стрельбы лица стрелков покрывались пороховой гарью. В пехоте опытный солдат мог сделать 2–3 выстрела в минуту, но обычно производился 1 выстрел в минуту. В кавалерии темп стрельбы был меньше, здесь надо учитывать, что пехота при заряжании упирала приклад ружья в землю, а кавалерист мог упереть его только в стремя. Упор был необходим, чтобы плотно забить заряд и пулю, иначе произвести выстрел на поражение невозможно.
Защитное вооружение составляли шишаки, шлемы, проволочные кольчуги (тимер кулмэк), металлические панцири, наручи, кожаные доспехи. Кольчуга весом примерно в два пуда (около 32 кг) была у Джантюри. Об этом виде вооружения сообщает Казанцев: «Некоторые из башкирцев в действиях с неприятелем надевают латы, называемые кольчугами, они делаются из проволочных колец». Сохранилось большое количество рисунков европейских художников эпохи наполеоновских войн, на которых башкиры изображены в том числе и в кольчугах. Сабли, турки, доспехи в массе своей были либо привозными, приобретенными у купцов, либо трофейными, в основном иранскими, в меньшем количестве турецкими или европейскими. Башкиры ценили оружие и снаряжение, оно украшалось серебром, бережно хранилось и передавалось по наследству.
Военное искусство
Боевое и защитное вооружение определяли тактику ведения боя. Она заключалась в окружении врага и интенсивном обстреле его стрелами, затем, если противник отступал, то он преследовался. В этом случае использовались копья и сабли. Основа боя – нападение на фланг или в тыл противника, его окружение. Сам бой имел характер скоротечных столкновений. Башкиры были знакомы со всеми приемами ведения войны в степи – разведка, сторожевое охранение, заманивание противника в подготовленную засаду, атаки в конном строю, бой батыров перед сражением, охват, фланговые удары, скрытное захождение в тыл, преследование. Они использовали уклонение от более сильного противника в виде распыления и сбора в условленном месте, тактику «выжженной земли», уничтожая системы коммуникаций и снабжения противника. Все свои военные навыки башкиры успешно применяли и в ходе наполеоновских войн. Контакты с донскими казаками привели к знакомству башкир с тактикой атаки лавой, т.е. рассыпному строю с изменяющейся конфигурацией, стремящейся к охвату противника. Из-за разной длины пик встречные атаки сомкнутым строем башкиры не использовали, предпочитая рассыпной строй и бой на дистанции. Индивидуальный бой с применением сабель также не имел широкой практики, навыками его могли владеть воины, имевшие профессиональную подготовку. Однако таковая подготовка у башкир в это время отсутствовала, да и количество холодного оружия было незначительным, чтобы использовать его в качестве учебного. Лишь с открытием Неплюевского военного училища в Оренбурге, а также созданием Башкирского учебного полка в 50-е гг. XIX в. вопрос о современной боевой подготовке башкир был поставлен в плоскость реализации.
Необходимо иметь в виду, что в то время вся кавалерия, как русская, так и французская, делилась на тяжелую и легкую. Первую составляли у французов – кирасиры, карабинеры, конные гренадеры, драгуны, у русских – кирасиры и драгуны. Тяжелая кавалерия была посажена на крупных лошадей, вооружена палашами и карабинами, действовала в сомкнутом строю, всадники шли в атаку колено к колену, она должна была наносить решающий удар. Остановить разо¬гнавшуюся массу всадников в латах и стальных шлемах с тяжелыми палашами в вытянутой руке было практически невозможно. Драгуны могли воевать как в конном, так и в пешем строю, для чего имели ружье со штыком. Легкую кавалерию составляли конные егеря, уланы, гусары, у французов еще шеволежеры. Она была вооружена саблями, пиками, карабинами и пистолетами, использовалась в атаках как сомкнутым, так и рассыпным строем, несла дозорную службу, участвовала в разведке, конвоях, рейдах, партизанских действиях, шла в авангарде армии. Отличительной чертой российской армии было наличие иррегулярной конницы – казачьей и национальной, которую составляли казаки, башкиры, калмыки, крымские татары, мишари. Иррегулярная конница дополняла русскую легкую кавалерию, которой было мало, и, как правило, участвовала в боевых действиях совместно с ней. Приведем несколько примеров использования башкирами различных приемов ведения боевых действий.
Тактика окружения противника, его обстрела и преследования. В 1812 г. под Миром польские уланы, попав в засаду, сделанную казаками М.И. Платова, подверглись атаке «башкиров, калмыков, которые обычно двигались галопом, проскальзывая от оврага к оврагу, чтобы стрелять с более близкого расстояния. <…> В мгновение ока равнина у Симаково была затоплена легкими войсками. Мы выдвинули вперед 3-й уланский, чтобы освободить 7-й. Полковник Радзиминьский с кипучим рвением воодушевил своих солдат, обрушился на казаков, которые отступили, но было опрометчивой дерзостью атаковать драгун русского резерва, что вынудило генерала Турно ввести в дело остаток своей бригады. Тогда толпы башкиров, калмыков и казаков обошли кругом эти неподвижные эскадроны, отрезая им обход и связывая их узлом». Марбо так описывает атаки башкир под Лейпцигом в 1813 г.: «Они устремились на наших солдат бесчисленными толпами, однако везде были встречены ружейным огнем. Эти потери вовсе не усмирили их пыл. Казалось, они еще больше возбудились. Двигаясь без всякого порядка, используя любые переправы, они непрерывно гарцевали вокруг нас, были похожи на осиный рой, отовсюду ускользали, и нам становилось очень трудно их догонять».
Башкиры, понимая несоразмерность своего вооружения с противником, стремились не вступать в прямой контакт с французской кавалерией, поскольку, по свидетельству Марбо, «когда нашим кавалеристам это удавалось, они безжалостно и во множестве убивали башкиров, ведь наши пики и сабли имели громадное преимущество над их стрелами». Джантюря, рассказывая, как на полусотню башкир напали 20 французских кирасиров (он называет их «те, что носят стальные доски на груди»), сообщает ужасающий результат этого боя – французов осталось 12 человек, потеряв 8, они убили 25, а 25 оставшихся в живых раненых башкир взяли в плен. Джантюря объясняет, как он смог убить в бою одного из кирасиров: «мы вскочили на коней, пики припёрли к седлам и с гиком бросились на злодеев. Лошадь подо мной была бойкая, я навылет проколол одного».
В мемуарах Марбо описано весьма оригинальное, если так можно выразиться, действие командования под Лейпцигом, которое посылало практически невооруженных башкир в лобовые атаки французской кавалерии, чтобы с их помощью нарушить боевые порядки противника, подкреплялись эти атаки гусарами, «чтобы использовать беспорядок, который могли создать башкиры». Как правило, командование старалось беречь любую конницу – регулярную, казачью или национальную, но, как видно из этого примера, ценность регулярной кавалерии для начальников была выше, нежели национальной конницы.
Кстати, Марбо не только наблюдал атаки башкир и описал стрельбу из луков, но пытался проанализировать свой опыт. Так, он считал, что «башкиры, не умеющие подчиняться никаким командам, не знали, как строиться в ряды», из-за чего делал вывод, что «башкирские всадники не могли стрелять горизонтально, не убивая и не раня своих же товарищей, скакавших перед ними». Далее он описывает саму стрельбу: «Башкиры пускали свои стрелы по дуге в воздух, и стрелы при этом описывали большую или меньшую кривую, в зависимости от того, насколько удаленным от себя лучники считали врага. Однако такой способ пускать стрелы во время боя не позволяет точно прицелиться, поэтому 9/10 стрел падают впустую, а то небольшое количество, какое достигает противника, при подъеме уже теряет почти всю силу, что сообщает стреле тетива лука. Поэтому, когда стрела попадает в цель, она имеет лишь силу собственного веса, а он совсем не велик, из-за этого стрелы обычно наносили только очень легкие ранения». В данном случае французский офицер считал, что у башкир тактика влияла на способ применения оружия, когда на самом деле наоборот, характер вооружения диктовал тактические приёмы. Способ стрельбы был вполне продуманным, поскольку в начале боя главная задача – остановить, вывести противника из строя, нанеся ранения, массированной навесной стрельбой из луков выполнялась вполне. А прицельная стрельба из луков велась уже при подходе к противнику на более близкую дистанцию. Это и видно в описании, поскольку «некоторое количество стрел, выпускаемых в воздух, все же наносило кое-какие тяжелые ранения. Так, один из самых смелых моих унтер-офицеров по фамилии Меслен был пронзен стрелой насквозь. Стрела вошла в грудь и вышла из спины! Бесстрашный Меслен схватил эту стрелу двумя руками, сломал ее и сам вырвал оба обломка стрелы из своего тела. Однако это не могло его спасти: он скончался через несколько мгновений». Здесь стоит заметить, что сам Марбо был тоже ранен башкирской стрелой в ногу. Так что, тактика массированной навесной стрельбы на более дальней дистанции и прицельной стрельбы в ближнем бою была отработана башкирами с давних времен.
Приём заманивания противника ложным отступлением в засаду. Его башкиры использовали в бою под Тильзитом в 1807 г.: «Несколько охотников, владея ружьем, завели с неприятелем перестрелку, выманивали его, дали к деревне Колм, и разохотили французские ескадроны к преследованию новых невиданных ими людей. Одна башкирская команда стояла за возвышением, за которым трудно ее было видеть, другая, подпустив неприятеля в довольное разстояние, пустила в кавалерию несколько сот стрел, скрытая же команда сделала потом быстрый поворот направо и ударила дротиками во фланг неприятелю, который не мог устоять, будучи изумлен и замешан новостию оружия, с которым против него действовали. Башкирцы гнали кавалерию до самой пехоты, принудив их сильным огнем оставить конницу, которой они не давали пощады». Марбо сообщает, что в свою очередь этот же прием французы использовали в 1813 г. после Лейпцига, и даже взяли пленных: «Мы уже собирались вернуться в Пильниц, как вдруг заметили множество башкир, мчавшихся на нас со всей скоростью, на какую только были способны их маленькие татарские лошадки. Император, который впервые видел этих экзотичных воинов, остановился на холмике и приказал двум эскадронам моего полка спрятаться за лесочком, а остальные продолжали двигаться дальше. Эта хорошо известная хитрость не обманула бы казаков, но с башкирами она полностью удалась, поскольку они не имеют ни малейшего понятия о войне. Они прошли возле лесочка, не послав туда на разведку хотя бы несколько человек, и продолжали преследовать нашу колонну, когда вдруг наши эскадроны внезапно атаковали их, убили многих и взяли в плен около 30 человек». A la guerre comme a la guerre, «на войне как на войне». Неосторожность башкирского командира, увлекшегося преследованием, посчитавшего, что противник в панике отступает, и попавшего в засаду, не может служить основанием для обобщения, как это пытался сделать Марбо в данной ситуации. Это случай не подтверждается аналогичными примерами из военной практики.
Башкиры активно использовались командованием при блокаде крепостей в качестве подвижных отрядов, нарушавших коммуникационную линию наблюдательных пикетов. Так, во время блокады Глогау в 1813 г. французский гарнизон отказался от содержания по ночам караулов по р. Одеру, поскольку они сильно страдали «от набегов мещеряков и башкир под покровом темноты», лишь на рассвете посты занимались французскими пикетами. Такие же успешные ночные атаки на французские посты, даже в пешем строю, совершали башкиры 15-го Башкирского полка во время блокады Гамбурга. В 1813 г. в Голландии башкиры 1-го полка в ночной атаке штурмом взяли Тергейд. Бенкендорф, командовавший отрядом, сообщает, что к нему подошел «князь Гагарин <…> с Башкирским полком, эскадроном гусар и двумя орудиями. Не раздумывая над тем, что враг по числу намного превосходит его, ночью князь предпринял атаку, закончившуюся полным успехом: Тергейд был отнят, захвачено 200 пленных, а остальные были обязаны своим спасением лишь покрову ночи и труднопроходимой местности».
Башкирская конница постоянно использовалась командованием в 1812 г. в арьергарде. Здесь башкиры несли сторожевую службу, находились в пикетах, участвовали в перестрелках, атаках авангарда противника. Французский офицер Комб, сообщая о событиях 5 и 6 сентября 1812 г., упоминает, что «русская армия прикрывала свое отступление цепью стрелков, составленной из казаков, калмыков и башкир». В 1812 г. в бою у д. Молево Болото башкиры 1-го полка сначала вели успешную перестрелку, а затем атаковали французских гусар. Точно также башкиры в 1813–1814 гг. несли службу в авангарде наступающих армий союзников в Германии и во Франции.
Использовалась башкирская конница и против неприятельской пехоты. Согласно тактике того времени, если пехота вовремя успевала заметить кавалерию, то она перестраивалась в каре, представлявшее собой прямоугольник, внутри которого находились офицеры, музыканты и знаменосец. Выставив перед собой ружья со штыками, каре одновременно вело стрельбу. Пробить пехотное каре кавалерии было не под силу, даже кирасирам. Но если пехота этого с делать не успевала, то она подвергала себя смертельной опасности. В 1813 г. противник, находясь в блокированном Данциге, попытался сделать вылазку за продовольствием. 23 января у с. Брентау колонна французов была окружена донским казаками и башкирами 1-го полка. Итог – колонна уничтожена полностью, убито 600, взято в плен 200 французов. 21 ноября 1813 г. около 100 человек французской пехоты, сбив пикеты казаков, заняли д. Гринбург. Казаки их контратаковали, им в подкрепление был дан поручик Елизаветградского гусарского полка Шияновский с 10 гусарами и 10 башкирами. Атака завершилась тем, что французы бежали к д. Вилсдорф, потеряв несколько человек убитыми и пленными.
Приведённые выше примеры, которых на самом деле больше, ярко показывают, что в ходе наполеоновских войн башкирская конница продемонстрировала свои лучшие качества, а её военное искусство непрерывно развивалось и обогащалось. Она равным образом хорошо противостояла как легкой кавалерии противника, так и пехоте, была незаменима в арьергарде, авангарде, партизанской войне. В отличие от регулярной армии, башкиры вели активные боевые действия даже ночью. Уже в 1813 г. башкирская конница могла совместно действовать не только с казаками, но и с частями регулярной кавалерии, гусарами, уланами, что предполагало знание её офицерами кавалерийских уставов, команд, понимание тактического замысла командования. Всё это показывает возросшее мастерство и опыт командиров-башкир. В ходе войны они учились у казаков, у офицеров регулярной армии, наконец, у своего противника.
Военная организация башкир в эпоху наполеоновских войн 1807–1815 гг. в структурном и тактическом отношениях носила европейский характер, но с сохранявшимися элементами ордынской традиции. Её отличительными качествами были: мобильность, выносливость, однородный состав подвижного конного войска, наличие опытных командиров, крепкая дисциплина, достаточная воинская выучка, большой конский резерв. Немаловажную роль играли массовая отвага и самоотверженность башкир, их патриотический настрой. Все это позволяло башкирским воинам с успехом противостоять легкой европей¬ской коннице (польской, немецкой, французской). Отличительными чертами башкирской конницы были неутомимость, храбрость, сплочённость. К числу частных не
Немного предыстории.
В 1798 году в связи с введением кантонной системы управления башкиры, мишари были переведены на положение военно-казачьего сословия, а башкирские воинские формирования преобразовали в башкиро- мишарское иррегулярное войско. В войско снаряжали башкир и мишарей, от 4-5 дворов поочередно выставлялся один человек. В 1847 был установлен 30-летний срок службы. Летние и зимние сборы продолжались по 6 мес. После прохождения линейной службы некоторая часть башкир и мишарей переводилась на внутреннюю в качестве писарей, посыльных, сторожей. Охрану Оренбургской линии башкирское войско несло за свой счет. Наряд на линию производился в зависимости от количества дворов или от числа подлежащих службе. В среднем 1 человек выставлялся от 4-5 дворов. Так, в 1798 г. было направлено на линейную службу 6519 человек (4485 рядовых, 492 десятника, 99 пятидесятников, 7 старшин), из них - 5416 башкир и 1103 мишаря. Таким образом, один воин снаряжался от 4 мишарских и 4-5 башкирских дворов.
Увеличение или уменьшение наряда зависело от внутренней и международной обстановки. Самым тяжелым периодом для войска были 1812-1814 гг., когда башкиры выставили 28, а мишари и тептяри по 2 пятисотенных полков для борьбы с нашествием Наполеона. Одновременно на Оренбургской линии служило еще 12 тыс. башкир и мишарей. В эти годы каждый третий взрослый башкир наряжался на службу.
При выезде на линию каждый воин должен был получить от населения 8 пуд. муки и 1 пуд крупы. До 20-х гг. размеры общественной помощи колебались в пределах от 25 до 37 коп. серебром с души, или от 4 до 25 руб. на каждого человека, назначенного на службу. Иногда размеры сбора доходили до 40-75 коп. или даже до 1-1,5 руб. с души, как это случилось в 1839-1841 гг., которая оказывалась всеми башкирами, за исключением кантонных начальников, их помощников и юртовых старшин. Командируемого на службу снаряжали один-четыре домохозяина в зависимости от имущественного состояния снаряжаемого. По признанию командующего Башкирским войском Н. Беклемишева, полное снаряжение одного воина в 50-х гг. XIX в. обходилось в 49-64 руб. серебром. Помимо этого, односельчане обязаны были оказывать помощь хозяйствам командированных на службу, особенно во время сенокоса и жатвы.
«Прием и отвод» команд, следуемых на линию и домой, производились походными старшинами или дистаночными начальниками из башкир и мишарей. Последние назначались кантонными начальниками по 2-3 человека на кантон и утверждались генерал-губернатором. Командируемые на военно-сторожевую службу к назначенному сроку должны были прибыть на сборный пункт. Неявившихся в свои отряды людей наказывали «в страх другим» палками. Юртовые старшины передавали по спискам свои команды кантонному начальнику, а те - походным старшинам. При этом обращалось внимание на то. чтобы прибывшие на службу люди были из очередников, соответствовали установленному возрасту и каждый был «о двуконь», с «исправным седельным прибором и с крепкой ременной упряжной сбруей», а также с «исправными копьями, саблями, ружьями и сайдаком со стрелами», с «хорошей, не ветхой одеждой». Поскольку служащие на линии нередко привлекались к различным казенным работам, то каждый должен был иметь по косе и топору.
Должностные лица башкиро - мишарского войска комплектовались из представителей башкирских и мишарских феодалов. Они назначались кантонными начальниками и утверждались генерал-губернатором. Чины войска подразделялись на действительные, классные и зауряд-чины. Армейские (подпрапорщик, прапорщик, поручик, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор), казачьи (урядник, хорунжий, сотник, есаул, войсковой старшина), действительные и классные чины ( от 14 до 12 класса) присваивались царем и военным министром за воинские или особые заслуги. К зауряд-чинам относились: зауряд-хорунжий, зауряд-сотник, зауряд-есаул, которые присваивались генерал-губернатором. Лишь лица, имевшие зауряд-чины, могли стать действительными офицерами. Армейским офицерам и классным чинам давалось звание потомственного дворянина, зауряд-чинам - личного дворянина. Башкиро-мишарское войско подчинялось генерал-губернатору Оренбургского края.
Воинское снаряжение башкир состояло из пики или копья, сабли, боевого лука и колчана со стрелами, кистеня, позднее- огнестрельного оружия. Они должны были иметь две лошади (строевую и вьючную). Носили обычно синего или белого цвета суконный кафтан, парадные кафтаны были из красного сукна, широкие шаровары с красными лампасами, белую остроконечную войлочную шапку и кожаные сапоги.
Башкирское войско делилось на тысячи, сотни, пятидесятки, десятки во главе которых стояли командиры; отличалось мобильностью и строгой дисциплиной. Военная тактика башкир определялась главенствующей ролью конницы. Войско использовало лошадь башкирскую, происходящую от пород степного и лесного типов, сформировавшихся в условиях резко континентального климата при круглогодичном пастбищном содержании.
В 1798-1849 годах башкиры ежегодно выставляли на Оренбургскую пограничную линию 5,5 тысяч человек. Одновременно с пограничной службой на Оренбургской линии, 2500 башкирских воинов "о дву-конь на своем коште" служили на южных дистанциях и Сибирской пограничной линии. Странно о пограничной службе на таких далеких границах говорить "внутренняя", но с другой стороны, служба-то шла с внутренней стороны империи. К внутренней службе относились также этапная (по Сибирскому и Златоустовскому трактам), полицейская (в Казани, Москве, Санкт-Петербурге) и гарнизонная. Гарнизонную службу в российских городах несли эпизодически: в 1768-1774 гг. во время войны России с Турцией, в 1772-1773 гг. после подавления восстания польских конфедератов и др.
Внешняя служба башкир заключалась в участии в войнах, которые Россия вела с другими государствами. Исторические источники свидетельствуют, что башкиры с первых же лет присоединения к Русскому государству начали участвовать в походах и войнах, которые велись Россией. Еще в 1557-1558 гг. в Ливонской войне в составе русских войск были башкиры. В те же годы велась война с Крымом, в которой также отмечается участие башкир. В трудные дни польско-шведской интервенции в начале XVII века, когда нужно было отстаивать независимость Русского государства, вместе с русскими боролись против интервентов и башкирские конники. Башкиры входили в состав войск нижегородского воеводы Андрея Семеновича Алябьева, которые в начале декабря 1608 года нанесли поражение отряду тушинцев, засевших в селе Ворсме. Известно также, что башкирская конница была в знаменитом ополчении Минина и Пожарского и участвовала в освобождении Москвы от польских интервентов. Основной повинностью башкирского населения была сторожевая служба, связанная с охраной восточных границ страны. Однако, кроме пограничной службы, башкирские конники часто принимали участие в дальних походах и войнах XVII и XVIII веков. В разрядных книгах 1629 года о наборах башкирских отрядов говорилось: "Бывает им служба, как посылают всех понизовых городов служилых людей в большую повальную службу, а с тех башкирцов емлют в тое пору на службу с трех дворов по человеку". Как отмечает Н.Ф. Демидова: "Наиболее деятельное участие башкирские конные отряды принимали в шведском и азовском походах. Так, во время Северной войны со всех четырех дорог был собран, снаряжен и отправлен тысячный отряд башкир". Известный ученый и государственный деятель И.К. Кириллов, внимательно изучивший историю башкир, в том числе и историю их военной службы, в 1734 году писал, что башкиры "всегда верно служили не только против шведов и поляков, но и против турок и крымцев".
В середине XVIII века военная служба башкир приобрела более широкий характер. В указе от 16 марта 1754 года Правительствующий сенат определил, что башкиры "без платежа ясака единственно служивыми будут так, как и казаки". С тех пор башкирские конники шли на пограничную службу не только в летнее время, они наряжались и зимою для охраны Сибирской пограничной линии. Кроме того, в более широких масштабах привлекались к участию в дальних походах.
Значительным событием для башкир и мишарей явилось их участие в Семилетней войне. Готовясь к войне, правительство решило наряжать башкир в более значительных размерах, чем во времена прежних походов. 11 апреля 1756 года последовал указ Сената Военной коллегии о посылке из Оренбургской губернии 2000 вооруженных двуконных башкир на Украину, откуда они в составе русских войск должны были отправиться в действующую армию. Кроме того, в том же 1756 году 1 сентября, Правительствующий Сенат приказал "выбрав лутчих и доброконных ... 500 человек башкирцов..., ныне вывести как наискорее в Лифляндию". Наряженные башкирские формирования предназначались для участия в войне с Пруссией, и они сражались с неприятелем под начальством знаменитого полководца П.А.Румянцева и будущего гениального русского полководца-подполковника А.В.Суворова. "Башкирские конники, - пишет Д.Мануильский, - вместе с русскими казаками и драгунами вступили в 1760 году в Берлин, но ни русские, ни башкиры не кричали на всех перекрестках о том, что они били хваленое воинство Фридриха II, которому немецкое бюргерство незаслуженно наклеивало ярлык "Великого". В 1772 году один корпус башкирских конников в 3000 человек был отправлен в Польшу для борьбы с реакционными Барскими конфедератами. В 1790 году более 2000 башкир были откомандированы в Прибалтику, где в составе четырех пятисотенных полков воевали в финляндской армии под командованием М.И.Кутузова.
Военная служба башкир была чрезвычайно выгодной для царского правительства, При формировании башкирских полков оно не несло никаких расходов. К тому же эти народы, так же как казаки, очень быстро могли выставлять свои конные полки и отряды, способные по первому требованию военного ведомства форсированным маршем отправиться в поход. Поэтому правительство решило превратить эти народы в военное сословие. Вследствии чего в конце ХVIII века военная служба башкир приобрела всеобщий характер.
10 апреля 1798 года правительство издало указ о введении кантонной системы управления, превратившей башкир в военное сословие. В указе говорилось: "Сделать точное исчисление башкирцов", способных нести военную службу, "считая по летам от 20 до 50 лет", разделив их по кантонам. Все административные лица кантонов и юртов (команд) сатновились военными. Для этого почти 21 тысячу башкирских и мишарских дворов разделили на 103 «юрта» (команды). Каждый юрт насчитывал от 700 до 1000 душ мужского пола. Во главе юрта стоял юртовой старшина, назначаемый военным губернатором (или наместником). Юртовой старшина имел несколько помощников. На службу подразделений Башкиро- мещерякского войска им управляли 63 походных старшины и 213 сотников, которые, разумеется, вне несения службы также использовались для реализации полицейских функций. Из башкир было сформировано иррегулярное войско, разделенное первоначально на 11 кантонов, затем на 12, а впоследствии на 28. Таким образом, начиная с 1798 года, башкиры несли казацкую службу, подчиняясь военному ведомству. А остальная схема управления была составлена по схеме внутреннего самоуправления близкой к казачьей: для несения войсковой военно-сторожевой приграничной службы было создано и существовало с 1798 г. по 1865 г. Башкиро-мещерякское (позднее, Башкиро-мишарское и Башкирское) нерегулярное войско, несколько напоминавшее казачье. Часть казачьих прав это войско имело. Но в нем не было казачьего самоуправления, чины на должности не избирались, а назначались. Из среды башкир появились командные кадры, имеющие военные заслуги и служившие продолжительное время. Башкиры вместе с оренбургскими и уральскими казаками составляющие иррегулярное войско обширного оренбургского края, приносили большую пользу государству, охраняя за свой счет восточные рубежи страны.
В случае участия Башкирского войска в походах российской армии оно комплектовало пятисотенные полки, в которых по штатному расписанию предусматривался войсковой имам (полковой мулла). В командный состав башкирского казачьего полка входили 30 человек: командир полка, старшина, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжий, квартирмейстер, мулла, 1-2 писаря и 10 пятидесятников.
...Влияние фронтирного опыта на менталитет башкир наиболее ярко показал В.Флоринский: "... вопрос о подчинении вошел в их плоть и кровь… Оттого на все государственные повинности, в том числе и на воинскую, они смотрят, как на дело законное и неизбежное, … Я заметил даже, что башкиры гордятся своими военными заслугами, с удовольствием вспоминая те или другие эпизоды из жизни существовавших прежде башкиро-мещерякских полков. Башкир охотнее идет в военную службу. Старые воины и до сих пор с гордостью щеголяют между своими однодеревенцами нашивками и значками, которые остались им от прежней службы". Несомненно, постфронтирный этап стал своеобразным завершением формирования менталитета башкир, с преобладанием в нем главенства военной службы в системе взаимоотношений с государством.
В 1811—1812 гг. в Оренбургской губернии было сформировано и отправлено в армию 28 башкирских полков(в том числе 6 ремонтных), 2 мишарских, 2 тептярских. В 1813 г. в западные губернии были отправлены 4139 лошадей, подаренных башкирами правительству, их сопровождала тысяча человек, которых можно засчитать как два безномерных полка. Кроме того, 12 тысяч башкир несло линейно-сторожевую службу на восточных границах России. Всего в 1811— 1813 гг. башкирские кантоны мобилизовали и выставили для защиты страны от наполеоновских войск и для охраны юго-восточной границы около 27 тыс. воинов.
В 1812 году в Башкирии был неурожай, народ голодал, но снаряжал воинов конями, обмундированием и оружием. Население края собирало деньги на нужды войны. Уже к 15 августа 1812 года башкиры, тептяри и мишари пожертвовали в пользу армии 500 тысяч тогдашних полновесных рублей царской чеканки. Добровольные взносы продолжались и в сентябре. Народ был охвачен небывалым патриотическим подъемом; на войну вместе с мужьями шли даже женщины.
Интересные факты.
Совместная борьба русского и башкирского народов против иноземных захватчиков укрепляла боевую дружбу башкирского конника и русского солдата. Участник похода 1813—1814 гг. русский генерал Андрей Раевский в своих воспоминаниях рассказывает, что при отступлении Наполеон распространял слухи среди немецкого населения, что башкиры “варвары” и что “они питаются неприятелями, и особенно охотники до детей”. “По сказаниям Наполеона, — продолжает генерал Раевский, — они (жители Легницы. — Авт.) ожидали видеть диких варваров”, и, к удивлению, встречают приветливых, добрых воинов.
Конники больше всего были на виду у публики — они не размещались в казармах или в каких-то других помещениях, а устраивали свои биваки на бульварах и площадях. Количество строевых лошадей соответствовало числу воинов, а вьючных было в 1–6-м полках столько же, в 7–20-м – 250.
В 1812–1814 гг. военные начальники высокого ранга любили включать в свой конвой башкир за экзотичность их внешнего вида и вооружения. В некоторых случаях право включения в конвой или, как тогда называли, в «ординарцы» предоставлялось башкирам, отличившимся в бою и имевшим награду.
Наиболее отличившиеся части русской армии специально отмечались в правительственном журнале военных действий, что являлось большой честью для воинов. 29 марта 1813 года многие джигиты, отличившиеся в боях и показавшие себя храбрыми, стойкими и дисциплинированными воинами, были представлены на повышение в чинах и званиях: Кутлугильды Тимиров и Абдулла Аргамбаков — в старшины; Кучарбай Хусаинов, Игдавлет Илиаринов и Ярмухамет Азаматов — в есаулы; Баймухамет Якшинбаев, Рахматулла Давлетшинов, Давлеткильды Атибаев, Тулукай Сияргужиков и Ильмень Гульискутиков — в сотники; 5 человек — в хорунжии; Бикмухамет Сияргулов — в полковые писари и Хасан Актиберов — в полковые квартирмейстеры.
У большинства башкирских воинов были ружья, а у зажиточной части — еще и пара пистолетов. Основным оружием башкир всегда была сабля. Да и трофейного оружия башкиры приобрели немало, начиная с участия в армейских партизанских отрядах в Центральной России. До наших дней в музеях Башкирии сохранились французские мушкеты, пистолеты.
Основным оружием башкирских казачьих полков было традиционное национальное вооружение: пики, лук и стрелы, которыми они владели виртуозно. Это оружие воины изготавливали сами. Лук имел сложную конструкцию, так как состоял из двух частей, изготовленных из разных пород дерева: березы и ели. Обе части склеивались между собой, а снаружи лук обклеивался берестой. В качестве тетивы использовались сухожилия или крепкая бечевка из конопли. Форма лука – немного выгнутая, длиной 1-1,5 м. Боевые стрелы имели железные наконечники ромбической или широколопастной формы. На заднем конце древка стрелы делался глубокий вырез для тетивы лука, а также два-три пера. Стрелы укладывались наконечниками вниз в деревянные колчаны, обшитые кожей, от 15 до 30 в каждый.
Денис Давыдов в своих записках также отмечал, что башкиры были вооружены луками и стрелами. На это же указывает и английский офицер Роберт Вильсон, который находился в русской армии: «…башкирские воины вооружены длинной пикой, украшенной флажком, по которому они определяют офицера; саблей, луком и колчаном с двадцатью стрелами. Луки у них небольшие, имеют типичную азиатскую форму и, как правило, грубо выделаны. На концах стрел мало перьев. Однако стреляют они отлично, с удивительной легкостью». Существует и описание способа стрельбы из лука: «В сражении воин передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и пускает мгновенно одну за другой».
Гораздо более разнообразным и порой экзотическим было вооружение национальных частей. Например, как уже говорилось, вооружение башкир состояло из ружья, пики или копья, сабли, лука и колчана со стрелами. Ружье и пистолет были у них редкостью.
Наибольший интерес представляли луки со стрелами и пики. Они изготавливались самими башкирами. Боевой сложный лук склеивался из двух половинок – березовой и еловой – и обклеивался снаружи берестой. Тетива делалась из крепкой конопляной бечевки или сухожилий. Луки были примерно 1,5 м длиной и несколько выгнутые.
Боевые стрелы состояли из железных наконечников широколопастной или ромбической формы и черенка. Задний конец древка стрелы всегда снабжался четырьмя перьями, имел глубокий вырез для тетивы лука. Помещались стрелы в колчанах по 15 – 30 штук в каждом. Следует отметить, что в то время, как пистолет у конника был в бою практически одноразовым оружием, поражая противника на дистанции максимум 30 метров, лучник мог прицельно выпустить до 10 и более стрел в минуту, на том же расстоянии пригвоздив тяжелой стрелой неприятеля к его коню. На расстоянии 70 метров стрела пробивала дубовую доску в палец толщиной, на дистанции 100 метров лук по точности боя не уступал ружью, а полная дальнобойность хороших луков достигала 200 метров.
Вооружение, снаряжение и военное искусство башкир в эпоху наполеоновских войн 1807–1815 гг.
Историю героического участия башкир в наполеоновских войнах невозможно изучить, не рассмотрев предварительно характер вооружения и снаряжения башкир в это время, не оценив уровень развития военного искусства, ратных традиций. Нахождение в военно-служилом сословии, пограничная служба на юго-восточной границе страны – все это вело к интенсивному развитию военной организации башкир, интересу к военному искусству. С раннего детства мальчиков сажали на коня и обучали навыкам обращения с оружием, меткой стрельбе из лука. Ношение оружия мужчинами при выезде за пределы кочевья, как и у всех жителей степи, было обязательным. Военная организация башкир опиралась на степную, ордынскую традицию, ее основы заложил Чингисхан. Необходимо отметить, что в XVI–XVIII вв. постоянного башкирского войска как отдельной структуры не существовало. Профессиональные военные – тарханы, батыры, имевшие определенный опыт военной службы и хорошее вооружение, были малочисленны. Если тарханское звание передавалось по наследству, то батыром мог стать любой сильный и отважный воин. Большую часть составляло родовое ополчение, в которое входили все мужчины, способные держать оружие. Отличительным качеством башкирского воинства был его однородный состав – конный, что предполагало высокую мобильность и боевую мощь, возможность использования различных тактических приемов ведения боя, а наличие у всех воинов лука и стрел позволяло вести бой на дистанции.
В XVI–XVIII вв. военные отряды башкир были организованы по десятичной системе: тысячные, сотенные, полусотенные. Но уже во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. башкиры получили полковую организацию. Она была заимствована у донских казаков, которые из иррегулярных войск первыми интегрировались в военную структуру Российской империи. Еще одной особенностью этой войны было то, что башкиры участвовали в боевых действиях вместе с регулярными войсками, иногда в спешенном строю, а по её завершении получили учреждённую для всех участников наградную медаль. Все эти преобразования были результатом реформ российской кавалерии, проводимых Г.А. Потёмкиным. Прямым следствием реформ в отношении иррегулярных войск юго-востока России было введение в 1798 г. по инициативе Оренбургского военного губернатора О.А. Игельстрома кантонной системы управления в Башкирии, которая охватила башкир, мишарей, ставропольских калмык, уральских и оренбургских казаков. Таким образом, во многом благодаря Потёмкину в отношении казачества и национальных войск на рубеже XVIII–XIX вв. произошел отход от прежней архаичной системы организации иррегулярного войска, в том числе и башкирского, и переход её на более высокий уровень.
Организация
В 1811–1814 гг. башкирский полк насчитывал 500 рядовых, или «башкирцев» по терминологии того времени, 10 пятидесятников («урядников»), 5 хорунжих, 5 сотников, 5 есаулов (обер-офицеры), командира полка и его помощника – старшины (штаб-офицеры). Из нестроевых чинов в полку были – писарь, квартирмистр и полковой мулла. Итого – 530 человек. Все эти чины были из башкир. Большинство башкир обер- и штаб-офицеров были зауряд-чинами, т.е. их чины не были уравнены с «Табелью о рангах», и считались таковыми только во время службы. Небольшая часть башкир – командиры полков и их помощники, имели действительные армейские чины: прапорщика, поручика. В процессе боевых действий некоторые башкиры, проявляя героизм и отвагу, были награждены орденами, что в то время сразу давало первый офицерский чин и право на дворянство, иные за отличия получали действительный офицерский чин в качестве награды. Возглавлял полк командующий – офицер российской армии, его сопровождал в качестве писаря унтер-офицер или рядовой из его части (в основном это гарнизонные батальоны, расположенные на Оренбургской пограничной линии), и один-два денщика. В случае назначения нового командующего полком, прежний офицер оставался при нем в качестве прикомандированного.
Полковая организация приближала русскую иррегулярную конницу к, если так можно выразиться, «европейским стандартам» войны, позволяла оптимально использовать национальные и казачьи части, одинаковые штаты позволяли штабным офицерам оперативно решать вопросы боевого планирования, снабжения и передвижения войск. Попав в армию, башкирские полки вместе с казачьими входили в казачий корпус М.И. Платова; с казачьими, гусарскими и драгунскими полками в отдельные отряды, возглавляемые русскими офицерами и генералами (Н.Д. Кудашев, М.С. Воронцов, М.С. Волконский, А.Х. Бенкендорф, К.О. Ламберт, М.М. Свечин), вместе с ополчением в корпус П.А. Тол¬стого, с резервными войсками в Польскую армию Л.Л. Беннигсена.
Поскольку полки были конными, никаких повозок в них не полагалось, воины имели лошадь строевую и под вьюком (с имуществом). Вьючная лошадь, в случае гибели строевой, служила ей временной заменой. Соответственно никаких юрт и иных тяжестей в башкирских полках не было. Соотношение строевых и вьючных лошадей в 1–6-м башкирских полках по штату было одинаковым, а всего – 1060, в полках 7–20-м – 780, поскольку здесь вьючных лошадей полагалось 250, т.е. одна на двоих. Сокращение штатного количества лошадей, вероятно, было сделано для быстроты комплектования полков и скорейшей отправки их к армии. Известны по рапортам настоящие цифры количества лошадей в некоторых полках. В конце 1812 г. во 2-м Башкирском полку было – 998, 6-м –1024, 7 и 9-м по 804, 8-м – 489 (после событий в Самаре), в 10, 12, 13, 14, 20-м по 768, 11-м – 764, в 16, 17, 18-м по 750, 19-м – 798 лошадей. В 1-м мишарском полку – 804, во 2-м – 796 лошадей. Кроме лошадей по штату, чиновники и рядовые башкиры могли на свое усмотрение иметь дополнительных лошадей, но кормить их они должны были за свой счет, поскольку фуражные деньги выделялись исключительно на штатных. Как правило, большинство чиновников имели личную вьючную лошадь, а командир полка и его помощник — по 2–3 строевые. Фуражное довольствие определялось ещё павловскими нормами, утверждёнными 19 сентября 1797 г. Согласно им, при нахождении иррегулярного войска в походе «от домов своих далее ста верст, то лошади удовольствуются сухим фуражом только зимнее время по климатам, фураж отпускается в натуре единственно на строевых лошадей, а на вьючных платятся деньги по тем ценам, по каким сено и овёс заготавливаются, летнее же время они находятся на подножном корме». В 1812 г. в Оренбурге из Провиантского департамента на провиант и фураж выдавалась сумма в 5 тыс. руб. на каждый башкирский полк. Деньги были нужны для закупки фуража, а его достаточного количества на маршрутах движения армии заготовлено не было, подножного корма не хватало, поэтому передвижение башкирской конницы командование осуществляло отдельными полками, либо бригадами из двух, очень редко трех полков. Собрать в одном месте более трех полков, а это 1600 воинов и 2250–2300 лошадей, было бы самоубийственно для последних. Поэтому красивые картины о сборе большой массы башкирских полков в одном месте – вымысел, не имеющий ничего общего с реалиями действительности.
Башкирская лошадь круглогодично содержалась на пастбище, легко переносила сильные морозы, могла питаться в степи зимой, разгребая копытами (копытить) снег, чтобы достать траву (тебенёвка). Лошадь была невысокого роста, около 140 см в холке, с крупной головой, короткой шеей, короткими и крепкими ногами, крупными копытами. Она отличалась необычайной выносливостью, легко преодолевала большие расстояния, была неприхотлива в питании, быстро обучалась. Русский офицер, проезжавший по Оренбургской линии в начале XIX в., особо отметил, что: «башкирские лошади очень легки и гораздо выносливее европейских». Немецкий пастор Д. Бауке так записал об увиденных им башкирах в 1813 г.: «Они скакали на маленьких, по всей видимости, очень выносливых конях, покрытых деревянными седлами». Башкирские лошади были преимущественно гнедой, буланой, саврасой, рыжей, мышастой, серой и игреневой масти. Например, в «Кахым-туря» сохранилось описание скакуна героя, имевшего игреневую масть. Очень часто у современных художников в качестве образа «Северного амура» бытует хрестоматийная картина башкирского воина в хвостатой шапке, верхом на высоком коне, обязательно белой масти… На самом деле – это фантазия людей, не разбирающихся ни в истории, ни в лошадях, она навеяна стереотипами картин о Первой конной, характерных для творчества Студии военных художников им. М.Б. Грекова.
У башкир издавна существовал культ коня. Перед походом лошадей откармливали, надевали украшенную металлическими бляхами сбрую, расчесывали гриву. Если в Европе по моде того времени лошадям подстригали гриву и хвосты, то башкиры этого не делали. Для походов использовали лошадей (кобыл), и меринов (кастрированных жеребцов). Как и все кочевники, башкиры лошадей не подковывали и т.к по Указу от 11 февраля 1736 г., по которому башкирам было запрещено иметь кузни,. На боевых лошадях башкиры обязательно использовали стремена – металлические или деревянные. Вместо шпор башкиры, как и все степные народы, употребляли плетку. Седла имели высокую переднюю луку, которую башкиры использовали при атаке противника, имевшего защитный доспех (панцирь, кольчугу), как упор для копья, направленного вперед. Она же служила для крепления аркана. Зачастую передняя лука имела резное навершие в виде утиной, змеиной или медвежьей головки. Еще одним наследием Чингисхана было законодательное закрепление за конкретным родом имевших иранское происхождение и ранее существовавших у башкир тамг – знаков родовой собственности, которыми таврили лошадей.
Командир отличался богато украшенными серебром конской сбруей и седлом, а также значком на наконечнике копья в виде небольшого флажка-флюгера. По документам известно использование башкирами таких флажков-флюгеров белого, зеленого и красного цветов. К сожалению, на сегодняшний день источники не позволяют отнести к конкретному башкирскому родовому подразделению определенный цвет значка. В XVIII в. академик И.И. Лепехин, находившийся среди башкир, описал сбор отряда, направлявшегося на Оренбургскую линию: «Стройное их ополчение во всем с казацким сходствуют: каждый из них имеет по две лошади осёдланных, дабы в случае нужды в дальной путь пуститься можно и запастися нужным припасом. Оружие их наиболее составляют стрелы и копья; а ружья редкие имеют. Толпы свои означают значками и разделяются во все по казацкому уставу. Всего приятнее было смотреть на их неустрашимость и охоту, с какою они шли против своих неприятелей».
В отношении сёдел и сбруи сохранились воспоминания попавшего в плен гусарского офицера, вестфальца Э. Рюппеля. Он, будучи весьма наблюдательным человеком, встретив осенью 1812 г. башкирские полки, двигавшиеся к армии, описал увиденных им башкир: «Офицеры носили красные шапки, темно-синие меховые кафтаны, перевязь сабли и уздечка у них были украшены серебром, сбруя у них на манер казачьей. Еще я должен заметить, что во всех казацких, калмыцких и башкирских частях знаком высокого ранга является седло, искусно украшенное слоновой костью, перламутром, серебром или золотом».
Какова была судьба лошади, если её хозяин умирал в походе или погибал в бою? Существует красивая легенда, что её берегли, она сопровождала полк, а по возвращении передавалась родственникам погибшего. Никто в этом случае почему-то не предполагает, что лошадь необходимо ежедневно поить, кормить, чистить, следить за её состоянием. Всё это проделывал со своей строевой и вьючной лошадью каждый кавалерист, а еще он должен был воевать, содержать в исправности оружие и амуницию. Сколько времени оставалось для дополнительных лошадей? В условиях повальной бескормицы, когда регулярная, казачья и башкирская конница выедали в округе всю траву до черной земли, держать при полку лошадей, на которых по штату фураж уже не полагался, было физически невозможно. Сохранившиеся архивные документы показывают, что было на самом деле. Обратимся к рапортам 10-го Башкирского полка за 1814 г. Так, 7 января умер башкир Карабай Аблаев, его лошадь продали; 16 февраля получено известие, что оставленный по болезни в Пензенской больнице башкир Хусейн Даутов умер, его лошадь была продана, деньги за нее прислали в полк, и на них купили строевую лошадь; 17 марта умер Агитисам Абдулменяев, его лошадь продали башкиру из полка, не имеющему лошадь и т.д. Как видим, оставшаяся без хозяина лошадь сразу продавалась, её покупали либо сами башкиры, потерявшие собственную, либо местные жители, деньги пересылались в полк. Вырученные от продажи деньги хранились при полку, а по возвращении передавались родственникам погибшего. В отдельных случаях, об этом сохранились предания, в том числе и у немцев, живущих в окрестностях Лейпцига, лошадь после смерти хозяина умерщвлялась и закапывалась рядом. Здесь речь идет о существовавших у башкир доисламских верованиях, связанных с культом коня, эти случаи единичные, умерщвление и захоронение коня осуществлялись как последняя воля покойного. Таким образом, кстати, могла и вернуться домой под седлом башкира, выкупившего во время похода лошадь погибшего. Родственники последнего могли её выкупить вновь и соответственно после её смерти совершить ритуальное захоронение. Но в любом случае надо иметь в виду, что речь идет пока что о двух известных из фольклора сюжетах, связанных с ритуальным захоронением коня героя.
Солдаты российской армии, когда шли в атаку, кричали «Ура!», казаки свистели и гикали. У башкир каждый род имел свой боевой клич, данный ещё Чингисханом, он кричался во время боя для устрашения противника и поднятия собственного боевого духа. В башкирских шежере, например, сохранились боевые кличи племени Табын – «Салават!», башкир-кипчаков – «Туксаба!». Остается открытым вопрос, какие боевые кличи кричали башкиры в 1812–1814 гг. В качестве предположения можно считать, что в сотнях, сформированных по родовому принципу, могли кричаться родовые кличи, но, скорее всего, поскольку полки формировались по кантонам и даже из нескольких кантонов, башкиры в бою кричали общепринятый мусульманский – «Алла Акбар!». Применение боевого клича башкирами описал противник. В бою под Миром в 1812 г. польские уланы были атакованы башкирами 1-го полка и калмыками, в своих мемуарах выживший улан записал: «Я никогда не слышал воя столь ужасного, чем тот, который поднялся в этот момент». В 1813 г. во время Лейпцигского сражения атаку французов башкирами описал генерал М. Марбо: «В мгновение ока [башкиры] с громкими криками окружили наши эскадроны и забросали их стрелами». Во время походов башкиры находились в военных отрядах вместе с донскими казаками. От них они заимствовали многое, в том числе знаменитое гиканье, о чем свидетельствует известный в литературе «Рассказ башкирца Джантюри», записанный В. Зефировым: «мы вскочили на коней, пики припёрли к седлам и с гиком бросились на злодеев».
Вооружение
Вооружение и снаряжение башкирами приобреталось за собственный счет и состояло в основном из лука со стрелами и копья, некоторые башкиры имели сабли. В основе комплекса вооружения у башкир лежал мощный боевой многослойный лук (эдернэ), который хранился в кожаном налучнике (hазак, рус.: садак). Башкирский лук отличался от северно-русского и сибирского большей изогнутостью и меньшей длиной. Боевой лук отличался от охотничьего (йэйэ), простого, изготовленного из вяза или березы. В целом все башкирские луки, как боевые, так и охотничьи, были небольшого размера, боевой не более 1 м, а охотничий – 1,5 м. Боевые стрелы (ук) имели железные наконечники разных форм (удлиненную четырехгранную, плоскую лавровидную, в том числе были наконечники, предназначенные для пробивания кольчуги) и незначительное оперение. Длина стрел была примерно 1,2 м, они хранились в колчанах по 20–25 штук острием вниз. Колчаны изготавливались из дерева, кожи, бересты. Составной лук изготовлялся из полос нескольких пород древесины: лиственницы, березы и т.д., склеенных особым клеем и обернутых берестой или сухожилиями. Места изгиба усиливались роговыми пластинами. Известны и полностью роговые луки. Тетива (кереш) боевого лука была из сухожилий или из шелка. Изготовление лука и стрел было достаточно длительной и сложной работой, поэтому после боя воины старались собрать свои стрелы. Случай с башкирской стрелой, попавшей в нос французскому полковнику в бою под Тильзитом, и башкиром, желавшим её получить, описанный Д.В. Давыдовым, стал хрестоматийным.
Интересно, что французы и немцы, хорошо знакомые с Великими географическими открытиями XVIII в. и описаниями конфликтов европейцев с аборигенами, упорно считали, что башкирские стрелы отравлены. Например, английский представитель при российской армии Р. Вильсон, рассказывая о французе, взятом в плен в 1807 г., сообщает, что «офицер, раненый в бедро стрелою, вынул её, но был всерьёз встревожен ложным представлением о стрелах, якобы отравленных». И.В. Гете, которому башкиры в 1814 г. подарили лук и стрелы, долгие годы хранил это оружие, иногда стреляя ради развлечения в саду, но также считал, что стрелы могли быть отравлены.
Стрельба из лука осуществлялась как с места, так и в движении. Если в европейских средневековых армиях она традиционно осуществлялась исключительно прямо, по ходу движения, то башкиры равно хорошо вели обстрел противника как прямо по ходу движения, так и по монгольскому обычаю, перпендикулярно движению, развернувшись в седле. Убойная сила стрелы в последнем случае уменьшалась, но она компенсировалась мощью лука и большим количеством стрел, которые мог выпустить всадник. Для скорострельности стрелявший вынимал из колчана и держал наготове несколько стрел в левой руке вместе с луком, а несколько – во рту. Именно такой прием с держанием нескольких стрел в руке изобразил на гравюре «Башкир» немецкий художник В. фон Шадов.
Искусство стрельбы из лука башкир наблюдал во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. русский офицер А.Н. Оленин, в будущем Президент Академии художеств: «поставя на большое расстояние старый глиняный горшок среднего размера, или деревянную щепу, и легши на землю, на спину, лицом против сей цели, подняв ноги вверх и упираясь подошвами в средину или в колено лука, натягивали обеими руками тетиву и стрелу, которую они сим средством пускали с большою силою и каждый раз расшибали горшок или сбивали щепу». Он же был переводчиком во время заключения Верельского мира со Швецией в 1790 г. В ходе переговоров шведский король Густав III пожелал познакомиться с башкирами, которые досаждали его солдатам во время войны, и Оленин представил ему своего подчиненного Акчур-Пая, которого называет «башкирским начальником». Так его имя записал Оленин. Нам представляется, что это, возможно, Кучербай Аксулпанов. Вот как он описывает его джигитовку: «Сей смелый всадник <…> перекинул стремена через седло коня своего, чтобы сделать их довольно короткими, дабы можно было стоять прямо на ногах, на скаку, во всю конскую прыть, не садясь на седло. После сего первого приема, [он] положил на землю старую шапку и пустил лошадь шагом до некоторого расстояния. Приехав на место, ему нужное, он вдруг поворачивает своего коня, и бросив поводья на его шею, проскакивает во весь дух мимо шапки, на несколько десятков сажен. Тут поворотясь назад на своем седле, все скакав во весь дух, он простреливает шапку насквозь <…> Проскакивая опять подле шапки и возвращаясь к тому месту, откуда пустился скакать, он повторил тот же прием, и обе стрелы составили над шапкой род литеры Х. После сего действия и опять на всем скаку, [он] бросил вверх яйцо и разбил его при падении, пустив в него стрелу, быструю как молния. Наконец, он вынул из своего тула старую стрелу и бросил её на землю, потом, подняв её рукою, не слезая с лошади и всё скакавши во всю прыть, он бросил её вверх и на лету расколол, подобно яйцу, пустивши в него новую, свежую стрелу». Военные игры башкир, связанные со стрельбой из лука, описаны Лепехиным: «Они метили стрелами как в поставленную цель, так и в известном расстоянии могли увертываться от пущенной стрелы. Иные пускали стрелы, стоя на земле, а удалые, разскакавшись во всю конскую прыть, метили стрелою в поставленной предмет». Еще один вариант игр, увиденный лично в начале XIX в. на Оренбургской линии, сообщает А.Х. Бенкендорф: «Самым красивым, но и самым опасным зрелищем было, когда один из них водружал на свою пику шапку и несся во весь дух, преследуемый всей группой, которая старалась сбить эту шапку стрелой или пистолетным выстрелом».
В первой половине XIX в. стрельба из лука – по-прежнему любимое занятие башкир. В.М. Черемшанский: «башкиры метко стреляют из ружей и луков, – последними действуют с такой силой, что пущенная стрела на недальнем расстоянии, как, например, саженях на 15, пронзает насквозь не только человека, но даже лошадь». П. Размахнин: «Они все вообще искусно ездят верхом, большие мастера управлять пикой, стрелять из ружей и особенно из луков. Последнее искусство доведено у башкирцев до такой степени совершенства, что многие из них каждый раз безошибочно попадают стрелою в самые малые предметы, например, в воробья, находящегося от них шагов во 100 и далее»; другой автор: «40 шагов есть среднее расстояние для верного выстрела. В сражении башкирец передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и пускает мгновенно одну за другую; при нападении крепко нагибается к лошади и с пронзительным криком, раскрытою грудью и засученными рукавами смело кидается на врага и, пустивши 4 стрелы, колет пикою». Выше упомянутый Зефиров, будучи на охоте, обнаружил на скале дикую козу. Его попытку подстрелить её из ружья остановил Джантюря, предложив посмотреть «на удальство» своего сына Нагиба: «Тот взял лук, наложил стрелу, прицелился, лук почти в кольцо свился в руках ловкого башкирца, тетива взвизгнула, и бедная коза, простреленная навылет, рухнулась с горы прямо к нашим ногам».
А вот свидетельства современников, в том числе противника идеи о преобладании в качестве вооружения у башкир луков и стрел. Ж.-Б. Бретон: «Башкирские воины вооружены длинной пикой, украшенной флажком, по которому они определяют офицера, саблей, луком и колчаном с двадцатью стрелами. Луки у них небольшие, имеют типичную азиатскую форму и, как правило, грубо выделаны. На наконечниках стрел мало перьев. Однако стреляют они отменно, с удивительной меткостью». «Описание последних дней пребывания русских в Вильне, занятия ее французами и празднования по случаю провозглашения Варшавской конфедерации», опубликованное в пронаполеоновском «Литовском курьере» № 53 за 1812 г., о башкирах 1-го полка сообщалось: «еще в апреле месяце пришли орды калмыков и башкир, вооруженных луками». Французский офицер Комб: башкиры «были вооружены луками и стрелами, свист которых был для нас нов, и ранили несколько из наших стрелков. Шея лошади капитана Депену, из моего полка, была пронзена под гривой одной из этих стрел, имевших, приблизительно, четыре фута в длину». Уже цитированный выше Рюппель: «Вооружены они были казачьими пиками, большими кожаными колчанами с луком и стрелами, также маленькой саблей». Прусский пастор Бауке (1813 г.): «башкиры <...> превосходно владели луком, стрелами и копьями». Немецкий поэт Д.Ф. Даниил (1813 г.): «Кавалерийская часть состояла из одного офицера и из татар, башкир, вооруженных только луками и стрелами». Житель Лейпцига о башкирах, которыми запугали местных жителей французы (1813 г.): «Если не считать лука и стрел, смотреть, собственно говоря, было не на что». Марбо (1813 г.) о прибывшем к российской армии под Лейпциг подкреплении: «в его рядах насчитывалось очень большое количество татар и башкир, из во¬оружения имевших только луки со стрелами». И. Казанцев о вооружении башкир писал, что оно состоит «из пары пистолетов, ружья, пики, сабли, лука, колчана со стрелами, которыми башкирцы мастерски стреляют на большое пространство в цель и с такою силою, что стрела в 15 саженях может проткнуть насквозь не только человека, но даже и лошадь».
Кроме лука и стрел, в вооружение башкирского воина входило древковое оружие – копье произвольной длины, с железным наконечником, иногда украшенное пучком конских волос, и менее распространенным был кистень в виде железной булавы (иногда капового нароста), прикрепленной на цепи к концу длинного древка. Некоторые копья имели крюк для стаскивания противника с седла. Судя по рисункам современников, отдельные башкиры имели трофейные китайские бамбуковые пики, доставшиеся их предкам еще в XVIII в. от калмыков.
Часть башкир имела в качестве холодного оружия сабли. Клинки украшались серебряной насечкой с растительным орнаментом, либо сурами из Корана. На эфес закреплялся кожаный ремешок с кисточкой – темляк, одевавшийся во время боя на кисть руки. С 1805 г. башкирским, мишарским и тептярским чиновникам, не имевшим действительных офицерских чинов, разрешалось на сабле носить серебряный темляк как отличительный элемент. В ходе наполеоновских войн многие башкиры обзавелись этим видом оружия. Судя по сохранившимся рисункам, у башкир были сабли персидские (восточные), русские легкокавалерийские образца 1798 г., русские гусарские конца XVIII в., немецкие, французские легкокавалерийские. Ни на одном рисунке у башкир не видно палашей, которые были тяжелы по весу и не приспособлены для нанесения рубяще-режущих ударов. Конный воин имел плетенную из сыромятной кожи плетку. Искусство плетения передавалось по наследству, мастера отличались своим конкретным рисунком. Замену у башкир шпор нагайкой заметил все тот же наблюдательный Рюппель: «Они носили сапоги без шпор, а вместо них использовали нагайку».
Незначительное число воинов имело огнестрельное оружие – турки (фитильные, в XVIII в. кремневые ружья на сошках). Ружье предполагало наличие шомпола, пороховницы из рога (котокса), кожаных мешочков для пуль (йэзрэ hалгыс) и для пыжей, костяную или металлическую мерку для пороха, пулелейку, запас свинца и пороха. Стрельба из турок в бою была явлением редким, исключительным. Для этого было необходимо иметь достаточное количество пороха, чтобы научиться метко стрелять, но в первую очередь необходимо было приучить лошадь не бояться звука выстрела, на что тоже был нужен порох.
Массовое отсутствие огнестрельного оружия связано с последствиями известного указа от 11 февраля 1736 г., по которому башкирам было запрещено иметь кузни, огнестрельное оружие. Его появление связано с башкирским восстанием. Запрет сохранялся вплоть до введения кантонной системы в 1798 г. Однако стоит отметить, что в некоторых случаях правительство закрывало глаза на существовавший запрет. Так, во время направления башкир в Польский поход 1771–1773 гг., небольшая часть башкир прибыла с огнестрельным оружием, и это не стало поводом для выяснения, откуда оно. Хотя после введения кантонной системы башкирам разрешалось иметь огнестрельное оружие, однако на протяжении нескольких поколений был утерян навык обращения с ним, и наоборот, искусство стрельбы из лука, как мы видели выше, достигло своего совершенства. В ходе боевых действий 1812–1814 гг. башкиры вновь обратились к огнестрельному оружию, заимствуя его в качестве трофея. Башкиры хорошо владели карабинами, но наиболее популярными у них, как и у казаков, были кавалерийские пистолеты, которые они носили не в ольстерах (пистолетные кобуры), а заткнутыми за пояс.
О примерном соотношении количества карабинов и пистолетов, например, в 1-м Башкирском полку летом-осенью 1813 г., позволяют судить записи в журнале о выдаче начальником отдельного летучего отряда графом М.С. Волконским свидетельств: «Свидетельство дано Башкирскому 1-му полку состоящему в вверенном мне отряде в том, что точно в прежде бывших сражениях и авангардах, перестрелках с неприятелем в продолжении настоящей компании разстрелял ружейных 4015, пистолетных 2015 патронов <…> 9 октября 1813 г. Свидетельство казачьему Башкирскому 1-му полку на разстрелянные в бывших с неприятелем перестрелках 25 и 26 числа сентября при г. Лейпциге ружейных 2000 и пистолетных 1270 боевых патронов». Можно считать, что соотношение карабинов и пистолетов примерно было 2:1.
Что представляла в то время перестрелка? Для того, чтобы произвести выстрел из кремневого ружья, необходимо было иметь патрон и хороший кремень в замке. Патрон делался заранее из бумаги в виде скрученной бумажной колбаски, начиненной порохом. С одной стороны патрона в него была закручена свинцовая пуля. Перед стрельбой пуля в патроне откусывалась и держалась во рту, открывалась полка ружья, туда насыпалось немного пороха, полка закрывалась, в ствол засыпался оставшийся порох. Оставшаяся бумажная оболочка – пыж этот порох плотно забивала с помощью шомпола, затем в дуло вкладывалась пуля и ее бумажная оболочка, находившиеся все это время во рту. После чего шомпол убирался, курок взводился, полка открывалась, нажимался спусковой крючок. Боевая пружина приводила в движение замок, кремень ударялся об полку, высекал искру, она воспламеняла находившийся на полке порох, он в свою очередь поджигал через затравочное отверстие порох в стволе и происходил выстрел. В течение этого времени необходимо было, удерживаясь в седле, прицелиться, чтобы попасть в противника. Воспламенившийся на полке порох иногда выжигал правый глаз, особенно если был встречный ветер, поэтому в таком случае при стрельбе лицо отворачивали. От частого попадания частичек сгоревшего пороха в глаза при стрельбе многие солдаты страдали глазными болезнями. После интенсивной стрельбы лица стрелков покрывались пороховой гарью. В пехоте опытный солдат мог сделать 2–3 выстрела в минуту, но обычно производился 1 выстрел в минуту. В кавалерии темп стрельбы был меньше, здесь надо учитывать, что пехота при заряжании упирала приклад ружья в землю, а кавалерист мог упереть его только в стремя. Упор был необходим, чтобы плотно забить заряд и пулю, иначе произвести выстрел на поражение невозможно.
Защитное вооружение составляли шишаки, шлемы, проволочные кольчуги (тимер кулмэк), металлические панцири, наручи, кожаные доспехи. Кольчуга весом примерно в два пуда (около 32 кг) была у Джантюри. Об этом виде вооружения сообщает Казанцев: «Некоторые из башкирцев в действиях с неприятелем надевают латы, называемые кольчугами, они делаются из проволочных колец». Сохранилось большое количество рисунков европейских художников эпохи наполеоновских войн, на которых башкиры изображены в том числе и в кольчугах. Сабли, турки, доспехи в массе своей были либо привозными, приобретенными у купцов, либо трофейными, в основном иранскими, в меньшем количестве турецкими или европейскими. Башкиры ценили оружие и снаряжение, оно украшалось серебром, бережно хранилось и передавалось по наследству.
Военное искусство
Боевое и защитное вооружение определяли тактику ведения боя. Она заключалась в окружении врага и интенсивном обстреле его стрелами, затем, если противник отступал, то он преследовался. В этом случае использовались копья и сабли. Основа боя – нападение на фланг или в тыл противника, его окружение. Сам бой имел характер скоротечных столкновений. Башкиры были знакомы со всеми приемами ведения войны в степи – разведка, сторожевое охранение, заманивание противника в подготовленную засаду, атаки в конном строю, бой батыров перед сражением, охват, фланговые удары, скрытное захождение в тыл, преследование. Они использовали уклонение от более сильного противника в виде распыления и сбора в условленном месте, тактику «выжженной земли», уничтожая системы коммуникаций и снабжения противника. Все свои военные навыки башкиры успешно применяли и в ходе наполеоновских войн. Контакты с донскими казаками привели к знакомству башкир с тактикой атаки лавой, т.е. рассыпному строю с изменяющейся конфигурацией, стремящейся к охвату противника. Из-за разной длины пик встречные атаки сомкнутым строем башкиры не использовали, предпочитая рассыпной строй и бой на дистанции. Индивидуальный бой с применением сабель также не имел широкой практики, навыками его могли владеть воины, имевшие профессиональную подготовку. Однако таковая подготовка у башкир в это время отсутствовала, да и количество холодного оружия было незначительным, чтобы использовать его в качестве учебного. Лишь с открытием Неплюевского военного училища в Оренбурге, а также созданием Башкирского учебного полка в 50-е гг. XIX в. вопрос о современной боевой подготовке башкир был поставлен в плоскость реализации.
Необходимо иметь в виду, что в то время вся кавалерия, как русская, так и французская, делилась на тяжелую и легкую. Первую составляли у французов – кирасиры, карабинеры, конные гренадеры, драгуны, у русских – кирасиры и драгуны. Тяжелая кавалерия была посажена на крупных лошадей, вооружена палашами и карабинами, действовала в сомкнутом строю, всадники шли в атаку колено к колену, она должна была наносить решающий удар. Остановить разо¬гнавшуюся массу всадников в латах и стальных шлемах с тяжелыми палашами в вытянутой руке было практически невозможно. Драгуны могли воевать как в конном, так и в пешем строю, для чего имели ружье со штыком. Легкую кавалерию составляли конные егеря, уланы, гусары, у французов еще шеволежеры. Она была вооружена саблями, пиками, карабинами и пистолетами, использовалась в атаках как сомкнутым, так и рассыпным строем, несла дозорную службу, участвовала в разведке, конвоях, рейдах, партизанских действиях, шла в авангарде армии. Отличительной чертой российской армии было наличие иррегулярной конницы – казачьей и национальной, которую составляли казаки, башкиры, калмыки, крымские татары, мишари. Иррегулярная конница дополняла русскую легкую кавалерию, которой было мало, и, как правило, участвовала в боевых действиях совместно с ней. Приведем несколько примеров использования башкирами различных приемов ведения боевых действий.
Тактика окружения противника, его обстрела и преследования. В 1812 г. под Миром польские уланы, попав в засаду, сделанную казаками М.И. Платова, подверглись атаке «башкиров, калмыков, которые обычно двигались галопом, проскальзывая от оврага к оврагу, чтобы стрелять с более близкого расстояния. <…> В мгновение ока равнина у Симаково была затоплена легкими войсками. Мы выдвинули вперед 3-й уланский, чтобы освободить 7-й. Полковник Радзиминьский с кипучим рвением воодушевил своих солдат, обрушился на казаков, которые отступили, но было опрометчивой дерзостью атаковать драгун русского резерва, что вынудило генерала Турно ввести в дело остаток своей бригады. Тогда толпы башкиров, калмыков и казаков обошли кругом эти неподвижные эскадроны, отрезая им обход и связывая их узлом». Марбо так описывает атаки башкир под Лейпцигом в 1813 г.: «Они устремились на наших солдат бесчисленными толпами, однако везде были встречены ружейным огнем. Эти потери вовсе не усмирили их пыл. Казалось, они еще больше возбудились. Двигаясь без всякого порядка, используя любые переправы, они непрерывно гарцевали вокруг нас, были похожи на осиный рой, отовсюду ускользали, и нам становилось очень трудно их догонять».
Башкиры, понимая несоразмерность своего вооружения с противником, стремились не вступать в прямой контакт с французской кавалерией, поскольку, по свидетельству Марбо, «когда нашим кавалеристам это удавалось, они безжалостно и во множестве убивали башкиров, ведь наши пики и сабли имели громадное преимущество над их стрелами». Джантюря, рассказывая, как на полусотню башкир напали 20 французских кирасиров (он называет их «те, что носят стальные доски на груди»), сообщает ужасающий результат этого боя – французов осталось 12 человек, потеряв 8, они убили 25, а 25 оставшихся в живых раненых башкир взяли в плен. Джантюря объясняет, как он смог убить в бою одного из кирасиров: «мы вскочили на коней, пики припёрли к седлам и с гиком бросились на злодеев. Лошадь подо мной была бойкая, я навылет проколол одного».
В мемуарах Марбо описано весьма оригинальное, если так можно выразиться, действие командования под Лейпцигом, которое посылало практически невооруженных башкир в лобовые атаки французской кавалерии, чтобы с их помощью нарушить боевые порядки противника, подкреплялись эти атаки гусарами, «чтобы использовать беспорядок, который могли создать башкиры». Как правило, командование старалось беречь любую конницу – регулярную, казачью или национальную, но, как видно из этого примера, ценность регулярной кавалерии для начальников была выше, нежели национальной конницы.
Кстати, Марбо не только наблюдал атаки башкир и описал стрельбу из луков, но пытался проанализировать свой опыт. Так, он считал, что «башкиры, не умеющие подчиняться никаким командам, не знали, как строиться в ряды», из-за чего делал вывод, что «башкирские всадники не могли стрелять горизонтально, не убивая и не раня своих же товарищей, скакавших перед ними». Далее он описывает саму стрельбу: «Башкиры пускали свои стрелы по дуге в воздух, и стрелы при этом описывали большую или меньшую кривую, в зависимости от того, насколько удаленным от себя лучники считали врага. Однако такой способ пускать стрелы во время боя не позволяет точно прицелиться, поэтому 9/10 стрел падают впустую, а то небольшое количество, какое достигает противника, при подъеме уже теряет почти всю силу, что сообщает стреле тетива лука. Поэтому, когда стрела попадает в цель, она имеет лишь силу собственного веса, а он совсем не велик, из-за этого стрелы обычно наносили только очень легкие ранения». В данном случае французский офицер считал, что у башкир тактика влияла на способ применения оружия, когда на самом деле наоборот, характер вооружения диктовал тактические приёмы. Способ стрельбы был вполне продуманным, поскольку в начале боя главная задача – остановить, вывести противника из строя, нанеся ранения, массированной навесной стрельбой из луков выполнялась вполне. А прицельная стрельба из луков велась уже при подходе к противнику на более близкую дистанцию. Это и видно в описании, поскольку «некоторое количество стрел, выпускаемых в воздух, все же наносило кое-какие тяжелые ранения. Так, один из самых смелых моих унтер-офицеров по фамилии Меслен был пронзен стрелой насквозь. Стрела вошла в грудь и вышла из спины! Бесстрашный Меслен схватил эту стрелу двумя руками, сломал ее и сам вырвал оба обломка стрелы из своего тела. Однако это не могло его спасти: он скончался через несколько мгновений». Здесь стоит заметить, что сам Марбо был тоже ранен башкирской стрелой в ногу. Так что, тактика массированной навесной стрельбы на более дальней дистанции и прицельной стрельбы в ближнем бою была отработана башкирами с давних времен.
Приём заманивания противника ложным отступлением в засаду. Его башкиры использовали в бою под Тильзитом в 1807 г.: «Несколько охотников, владея ружьем, завели с неприятелем перестрелку, выманивали его, дали к деревне Колм, и разохотили французские ескадроны к преследованию новых невиданных ими людей. Одна башкирская команда стояла за возвышением, за которым трудно ее было видеть, другая, подпустив неприятеля в довольное разстояние, пустила в кавалерию несколько сот стрел, скрытая же команда сделала потом быстрый поворот направо и ударила дротиками во фланг неприятелю, который не мог устоять, будучи изумлен и замешан новостию оружия, с которым против него действовали. Башкирцы гнали кавалерию до самой пехоты, принудив их сильным огнем оставить конницу, которой они не давали пощады». Марбо сообщает, что в свою очередь этот же прием французы использовали в 1813 г. после Лейпцига, и даже взяли пленных: «Мы уже собирались вернуться в Пильниц, как вдруг заметили множество башкир, мчавшихся на нас со всей скоростью, на какую только были способны их маленькие татарские лошадки. Император, который впервые видел этих экзотичных воинов, остановился на холмике и приказал двум эскадронам моего полка спрятаться за лесочком, а остальные продолжали двигаться дальше. Эта хорошо известная хитрость не обманула бы казаков, но с башкирами она полностью удалась, поскольку они не имеют ни малейшего понятия о войне. Они прошли возле лесочка, не послав туда на разведку хотя бы несколько человек, и продолжали преследовать нашу колонну, когда вдруг наши эскадроны внезапно атаковали их, убили многих и взяли в плен около 30 человек». A la guerre comme a la guerre, «на войне как на войне». Неосторожность башкирского командира, увлекшегося преследованием, посчитавшего, что противник в панике отступает, и попавшего в засаду, не может служить основанием для обобщения, как это пытался сделать Марбо в данной ситуации. Это случай не подтверждается аналогичными примерами из военной практики.
Башкиры активно использовались командованием при блокаде крепостей в качестве подвижных отрядов, нарушавших коммуникационную линию наблюдательных пикетов. Так, во время блокады Глогау в 1813 г. французский гарнизон отказался от содержания по ночам караулов по р. Одеру, поскольку они сильно страдали «от набегов мещеряков и башкир под покровом темноты», лишь на рассвете посты занимались французскими пикетами. Такие же успешные ночные атаки на французские посты, даже в пешем строю, совершали башкиры 15-го Башкирского полка во время блокады Гамбурга. В 1813 г. в Голландии башкиры 1-го полка в ночной атаке штурмом взяли Тергейд. Бенкендорф, командовавший отрядом, сообщает, что к нему подошел «князь Гагарин <…> с Башкирским полком, эскадроном гусар и двумя орудиями. Не раздумывая над тем, что враг по числу намного превосходит его, ночью князь предпринял атаку, закончившуюся полным успехом: Тергейд был отнят, захвачено 200 пленных, а остальные были обязаны своим спасением лишь покрову ночи и труднопроходимой местности».
Башкирская конница постоянно использовалась командованием в 1812 г. в арьергарде. Здесь башкиры несли сторожевую службу, находились в пикетах, участвовали в перестрелках, атаках авангарда противника. Французский офицер Комб, сообщая о событиях 5 и 6 сентября 1812 г., упоминает, что «русская армия прикрывала свое отступление цепью стрелков, составленной из казаков, калмыков и башкир». В 1812 г. в бою у д. Молево Болото башкиры 1-го полка сначала вели успешную перестрелку, а затем атаковали французских гусар. Точно также башкиры в 1813–1814 гг. несли службу в авангарде наступающих армий союзников в Германии и во Франции.
Использовалась башкирская конница и против неприятельской пехоты. Согласно тактике того времени, если пехота вовремя успевала заметить кавалерию, то она перестраивалась в каре, представлявшее собой прямоугольник, внутри которого находились офицеры, музыканты и знаменосец. Выставив перед собой ружья со штыками, каре одновременно вело стрельбу. Пробить пехотное каре кавалерии было не под силу, даже кирасирам. Но если пехота этого с делать не успевала, то она подвергала себя смертельной опасности. В 1813 г. противник, находясь в блокированном Данциге, попытался сделать вылазку за продовольствием. 23 января у с. Брентау колонна французов была окружена донским казаками и башкирами 1-го полка. Итог – колонна уничтожена полностью, убито 600, взято в плен 200 французов. 21 ноября 1813 г. около 100 человек французской пехоты, сбив пикеты казаков, заняли д. Гринбург. Казаки их контратаковали, им в подкрепление был дан поручик Елизаветградского гусарского полка Шияновский с 10 гусарами и 10 башкирами. Атака завершилась тем, что французы бежали к д. Вилсдорф, потеряв несколько человек убитыми и пленными.
Приведённые выше примеры, которых на самом деле больше, ярко показывают, что в ходе наполеоновских войн башкирская конница продемонстрировала свои лучшие качества, а её военное искусство непрерывно развивалось и обогащалось. Она равным образом хорошо противостояла как легкой кавалерии противника, так и пехоте, была незаменима в арьергарде, авангарде, партизанской войне. В отличие от регулярной армии, башкиры вели активные боевые действия даже ночью. Уже в 1813 г. башкирская конница могла совместно действовать не только с казаками, но и с частями регулярной кавалерии, гусарами, уланами, что предполагало знание её офицерами кавалерийских уставов, команд, понимание тактического замысла командования. Всё это показывает возросшее мастерство и опыт командиров-башкир. В ходе войны они учились у казаков, у офицеров регулярной армии, наконец, у своего противника.
Военная организация башкир в эпоху наполеоновских войн 1807–1815 гг. в структурном и тактическом отношениях носила европейский характер, но с сохранявшимися элементами ордынской традиции. Её отличительными качествами были: мобильность, выносливость, однородный состав подвижного конного войска, наличие опытных командиров, крепкая дисциплина, достаточная воинская выучка, большой конский резерв. Немаловажную роль играли массовая отвага и самоотверженность башкир, их патриотический настрой. Все это позволяло башкирским воинам с успехом противостоять легкой европей¬ской коннице (польской, немецкой, французской). Отличительными чертами башкирской конницы были неутомимость, храбрость, сплочённость. К числу частных не
1433 Новый год у мусульман

Начало нового 1433 года по мусульманскому календарю. Правоверные мусульмане встречают Новый год 2012 молитвой на закате, 26 ноября, так как сутки у мусульман заканчиваются с заходом солнца. За два дня до священной ночи мусульмане начинают поститься, и такое голодание прекращается только за два дня после встречи Нового года. В эти дни мусульманин должен славить Аллаха и благодарить его за прошедший год. Начало года по лунному календарю верующие мусульмане встречают постом и молитвами. Этот день приходится на конец декабря по григорианскому календарю. А вот мусульмане считают, что это 1 мухаррама. Этот день совпадает с переломным моментом в истории этого вероучения: переезд пророка Мухаммеда с последователями в Медину, так как на самого пророка охотились идолопоклонники. Есть также специальное название этого события — Хиджра.
Освещаем то, что твориться в мире, а также какие мероприятия будем проводить. В том числе от людей ждем предложений и комментариев.
http://vkontakte.ru/rafis_k...
Природа Башкортостана.
Помогите пожалуста мне выбрать лучщие снимки природы путем голосования.http://foto.mail.ru/mail/ai...
Дилара Гильманова,
25-04-2011 12:02
(ссылка)
Кто что думает о данной заметке?
http://mylenta.com/blog/438...
Я понимаю это не совсем относится к сообществу.Только здесь все адекватные люди.
Я понимаю это не совсем относится к сообществу.Только здесь все адекватные люди.
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

