Юрий Шевченко,
12-02-2008 13:47
(ссылка)
Богородица и Горгона
Шевченко Ю.Ю.
Музей антропологии и этнографии
(Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург,
e-mail: yurshev@kunstkamera.ru; yurishev@rambler.ru
Богородица (Пещерная) на древних христианских филактериях.
«Домашние святыни», или по ныне устанавливающемуся в современной этнографии термину – «предметы личного благочестия», являются обязательной вещью каждого дома в любом «крестьянском мире», как величала себя каждая православная земледельческая община, в каком угодно уголке расселения восточных славян (русских, укураинцев, белорусов). На Украине непременным и совершенно обязательным атрибутом покутя («красного угла»), где размещалась божница, являлась икона определенного вида: «необходимо иметь: "Матерь Божу праворушну, що дите держыть в правий руци, або троерушну…"» [МилорадовичВ.П., 1991, с.183]. Наряду с этим образом, стоящим самым первым (основным) в перечислении, необходимо было разместить в божнице покутя «Козельську [Козельщанскую, - Ю.Ш.] Божу Матир, Св. Тройцу, Неопалыму купыну (од пожару); ище иконы: св. Мыколы (вин велику сылу мае), Грыгория [Георгия, - Ю.Ш.], велыкого побидоносця (вин звиром завидуе), Пантелеймона (дытячого зцилытеля), Антония и Феодосия (вид йих пишлы манастыри – ще не було понятия, як их строить), Парасковеи [Параскевы-Пятницы, - Ю.Ш.] – од лыхорадкы» [Милорадович В.П., 1991, с.183].
В приведенном описании Богородица «праворушна» (рис.1) или Троеручица (рис.2), также держащая Младенца-Христа на правой руке, входит в организующий центр божницы в «красном углу». Такая икона непременный (и организующий) атрибут божницы, описанной в начале ХХ в., на Лубенщине (севера Полтавской губернии и нынешней области Украины). Особо отметим в приведенном описании обязательность для домашней божницы икон препп. Антония и Феодосия Киево-Печерских, как основателей монастырей: как будет ниже показано, это перекликается с типом «праворушных» (право-ручных) образов Божьей Матери. Описанное предпочтение икон Богородицы «праворушной», абсолютная «необходимость» иметь именно ее, а не иной образ, требует объяснения - виду огромного количества повсеместно чтимых чудотворных образов Богородицы с левосторонним держанием Младенца: Казанская, Смоленская, Тихвинская, Белозерская, Иверская, Ильинская-Черниговская-Гефсиманская, Елецкая-Черниговская, Любечская и мн.др.
Такой же статус Богородицы с Младенцем на правой руке мной отмечен (во время экспедиции 2006 г.) среди домашних предметов личного благочестия намного севернее - в каждой «хатней божнице» («домашнем "иконостасе"») на Левобережье Днепра, в междуречье Десны и Днепра, на территории бывшей Черниговской губернии (и нынешней области Украины): от сс. Яриловичи, Задереевка, Радуль, Любеч, Редьковка, Гуньковка; и далее – южнее - по течению Днепра до с. Днепровское (Навозы), а также в бывших сс. Ошитки и Глебов (тех редких домов, которые остались от сел после разлива Киевского водохранилища); и далее - от Днепра до Десны (сс.Моровск, Слабин); и в селах бассейна р. Белоус с древнерусскими названиями: Белоус, Оргощ, Кувечичи, Кратынь, Голубичи, Листвен, Неданчичи, Пльехов, Левковичи, Льгов, Жукотки, Шестовицы, Гущин, Жавинки, и т.д. Из посещенных 338 домов («хат») только в 142 были «божницы», составленные из ряда икон (не менее трех крупных – «писанных», дополнявшихся «малыми» - «з цэрквы»); чаще в «красном углу» располагалась крупная единичная икона («дедовская»), или две («венчальные» или «родительские»), дополняемые малыми образками. Во всех осмотренных «божницах» был представлен образ Богородицы «праворушной».
Даже в деревнях Гущин и Жавинки, приходом которых был Ильинский храм Чернигова с собственным прославленным чудотворным образом Богородицы (Ильинской-Черниговской-Гефсиманской с Христом на левой руке), домашние божницы «возглавляет», в основном, Троеручица (рис.3), или образ Богородицы Иерусалимской (тоже из право-ручных). Таково же положение в домах сс. Хмельница, Редьковка, Юрковка, Мохнатин, пгт. Любеч и др., где в храмах почитаются местночтимые чудотворные образа (с Младенцем на левой руке - Любечская, Мохнатинская или Редьковская – изводы Черниговской), а в домашних божницах установлены иконы с Младенцем-Христом на правой руке Богоматери.
Все свидетельствует не о выборе какого-либо конкретного Богородичного образа (Владимирского, Федоровского, Донского, Иерусалимского, Жировицкого-Лесницкого, Троеручицы, пр.), а вообще - о выборе извода Девы Марии с правосторонним держанием Младенца. Как видно и по иным регионам (Полтавщина), таковое предпочтение иконографической схемы Богородицы с Христом на правой руке и, как одного из ее изводов – Троеручицы, - не локальное, характерное для региона с удивительно сохранной древнерусской ономастикой, а повсеместное явление для территории, некогда составлявшей ядро единой Древней Руси.
Древнейшие иконографические схемы в ранней иконописи Богородицы (Панагия) хорошо известны по мозаикам и фрескам храмов Равенны и Рима, таких как Санта Мария Мажоре, и наиболее ранним – энкаустическим иконам Синайского монастыря св. Екатерины (рис.4:1), от которых ведут свое происхождение аналогичные изображения V в. раннехристианских катакомб в Риме (рис.4:2), и ранние почитаемые иконы Руси – древнейший извод (XIII в.) Богородицы Киево-Печерской - из Свенского монастыря (рис.4:3). Такое изображение становится широко распространенным на предметах «культуры пилигримов» уже с VI в. (рис.5:1,2). С XI в. оно имеется на вислых печатях царевны Марии Комниной (рис.5:3), происходя, видимо из места Божественного воплощения – Вифлеема (Благовещение), появляясь на печатях ближневосточных монастырей, таких как лавра св.Феодосия Киновиарха (рис.5:4).
Недостаточно изученным остается распространение иконографий образа Богородицы, в т.ч. Одигитрии, где Младенец Христос размещается на правой руке Девы Марии. К такому типу относится образ XI в. из ставротеки Сайданайского монастыря, расположенного недалеко от Дамаска в Сирии [Банк А.В., 1969, с.177-182]. Этот «праворушный» образ представлен среди древнейших изображений Богоматери IV в.: фреска в катакомбах св. Прискиллы в Риме (рис.6). Комплексы этих Римских подземелий (как и многих других) развивались при активном участии выходцев из Египта и всего Ближнего Востока. Ближневосточное происхождение, видимо, имеют и италийские раннесредневековые иконы Богородицы «Праворушной» (рис.7). Этот тип образа сохраняется в иконографии Синайской обители и в XI-XII вв. (рис.8), когда подобная иконография распространяется по материковой Греции (рис.9), и на греческих островах Эгейской акватории (рис.10).
Образ Богородицы этой схемы презентует лицевую сторону амулетов-змеевиков, выполненных из золота, найденных возле Смоленска (с.Ковшич Краснянского уезда) и в древнем Белгороде (рис.11), на берегу р. Ирпеня в 17 км от Киева (хранится в ГРМ) [Лихачева Л.Д., Плешанова З.И., 1985, с.191-192, илл.4,5].
Смоленский змеевик, несколько отличается от Белгородского, поскольку иконография Богородицы на этом амулете сближается с чертами, присущими Богоматери-Елеусе (Умиление, или Милующей), изводы которой с Младенцем Христом на правой руке известны на Балканах и на островах Средиземноморской акватории не позднее XI-XII вв. [Мильковик-Пепек П., 1975, с.119-121; Лидов А.М., 1989, с.65-90]. Время появления подобной иконографии на Руси и хронология найденных в Смоленске и Белгороде золотых «гривен» были подробно рассмотрены крупнейшим знатоком христианских средневековых аксессуаров Церкви Василием Григорьевичем Пуцко [Пуцко В.Г., 1994, с.193-198]. Данный тип иконографии Богоматери, соотносимый с изводом Богородицы Горгоепикоос-Афинотиссы IX-XII вв. [Кондаков Н.П., 1915, с.268-269, рис.147], восходит, по мысли В.Г. Пуцко, к изображению Троеручицы, а через нее – к Богоматери Иерусалимской. Данный тип Богородичной иконы попал на Балканы в форме Троеручицы (см.рис.2), перед которой не позднее начала VIII в. молился визирь двора Багдадского халифа Мансур, - известный в православии святой пещерник (рис.12) – преп. Иоанн Дамаскин [Пуцко В.Г., 1994, с.195].
В изначальном виде «праворушная» византийская икона Богоматери Горгоэпикоос (рис.13), была размещена в храме, которой был выстроен, видимо, при Константине Мономахе (XI в.): Панагия Горгоэпикоос Айос-Элефтериос (рис.14) [Hetherington Paul, 1995, p.72-73; Mee Christopher, Spawforth Antony, 2001, p.76; Barber Robin, 2002, p.146-147], - с приделом св. Элевтерии, считавшейся помощницей при родах, что отразилось в названии самого храмового образа: Горгоепикоос (Грогоэпикоос) – Скоропомощница. Это небольшая церковь, носила название Малой Митрополии (рис.15). Не позднее XI в. образ Богородицы Горгоэпикоос появился в другом афинском храме XIв. (рис.16) - Панагии Капникареи (рис.17). Время появления этого образа, и посвященных ему храмов на Балканах (в Афинах, и по всей Греции), синхронно появлению первых драгоценных филактерий (змеевиков) с образом такой же иконографии - на Руси.
История иконы Богородицы Троеручной («праворушной»), являющейся одной из самых почитаемых во всем христианском мире, связана с именем св. Иоанна Дамаскина (Мансура). Перед такой иконой молился чиновник высокого ранга (визирь) из Дамаска – Мансур в начале VIII в., когда император Византии Лев Исавр, начавший движение иконоборчества в своей империи, отписал Багдадскому халифу о том, что Мансур почитает иконы. В Халифате, где иконоборчество началось еще раньше, чем в Византии, и изображение «образа и подобия Божиего» было запрещено в мечетях под страхом смерти (и подобные росписи до того во множестве существовавшие в мечетях усиленно вымарывались). По императорскому доносу Мансуру «всего лишь» милостиво отрубили кисть правой руки, чтобы он более не крестился перед иконой. Тем не менее, невзирая на запреты, ночь после казни Мансур (будущий Иоанн) провел в молении перед Иерусалимской иконой Богоматери (см.рис.1) – и его отрубленная кисть прижила на место. В память этого события Иоанн Дамаскин заказал вотив в виде серебряной кисти руки и поместил его на свою чудотворную икону (см.рис.2). Считается, что этот образ некогда украшал пещеру Воскресения (рис.18) в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
В осознании восточнославянского мира много позднее возникли версии, согласно которых Богородица, с маленьким Христом переправлялась через реку, и по ее молитве, у нее появилась третья рука, необходимая для поддержания Младенца во время плавания: она-то и показана на иконах Троеручицы [Максимов С.В., 1994, с.358-359]. Невзирая на далекое от агиографической фактуры «объяснение», реплики этой иконы стали почитаемыми и широко распространились в Восточно-христианском и восточнославянском мире (рис.19:1). Мансур (будущий св. Иоанн Дамаскин) прибыл в монастырь Саввы Освященного инкогнито, где стал «иноком Иоанном из Дамаска»: в этом же монастыре в самом начале XII в. останавливался во время всего своего пребывания в Палестине «игумен земли Русской» – Даниил. Но не с Даниилом связано появление «праворушного» изображения Богородицы на Руси: Смоленский змеевик относится ко времени до паломничества Даниила.
Однако «Троеручица», появилась на Афоне не ранее 1187 г., если не позднее [Бенчев И., 1996, с.175-183], и поэтому не могла быть протографом наиболее ранних изображений Богоматери праворучной конца XI – начала XII вв. на золотых змеевиках: именно так датируются филактерии с этим изображением, снабженные формулой, похожей на заклинание, и молитвой на греческом языке [Переседов И.Г., 2004, с.108-121]. Иконы Богоматери, тяготеющие к рассматриваемому типу иконографии праводержащей Богородицы: Киккотисса (рис.рис.19:2), или древний список «Отрады» из Афонского монастыря Ватопед (рис.рис.19:3), - также не восходят к Троеручице, и не имеют третьей (вотивной) длани.
Рассмотренная В.Г. Пуцко хронология и иконография обоих золотых амулетов-змеевиков, c интересующей нас иконографией Богородицы, установила появление Смоленской «гривны» (как называли нашейные амулеты на Руси), не позднее начала последней четверти XI в., что соответствует времени княжения в Смоленске Всеволода – отца Владимира Мономаха, которому атрибутируется найденная здесь золотая вещь. Белгородский змеевик В.Г. Пуцко определил практически тем же временем, связав его с княжением в Белгороде сына Мономаха – Мстислава Владимировича с 1117 года. Иконы той же схемы, - отлитой в золоте на Смоленском и Белгородском змеевиках, - связанные с семьей Владимира Мономаха, видимо, были и в Феодоровском монастыре Киева, опекаемом Мономашичами; из этого монастыря Даниилом Галицким, они могли быть перенесены в город Хелм (Холм), где почитаемый образ Богородицы Хелмской (Холмской), выполнен в той же схеме (рис.20) – с Младенцем Христом на правой руке.
Несомненная связь изображений на змеевиках с право-ручной иконографической схемой Владимирской Елеусы (рис.21) - кажущаяся. Это поясное изображение, сделанное с писавшейся в полный рост Богоматери-Гликофелуссы (рис.22), очень отличающейся от прочих право-ручных Богородичных образов особым положением Младенца. Такая поза маленького Христа (с развернутой к молящимся пяточкой), полностью исключает Владимирскую икону из протографов для изображения Богородицы на древнейших змеевиках. К тому же, Владимирская икона была получена в подарок Юрием Долгоруким от Константинопольского патриарха Луки Хризоверга (накануне смерти князя в 1152 г.), и перенесена между 1160-1164 гг. из Киева во Владимир Андреем Боголюбским, что более чем на полвека позднее появления золотых змеевиков на Руси.
Предложенная В.Г. Пуцко схема передачи рассматриваемого иконографического извода Богородицы: Иерусалимский образ Богоматери - Сирийский монастырь Сайданай - «Лавра» Саввы Освященного, где погребен преп. Иоанн Дамаскин под Иерусалимом (Троеручица) – Балканы (Горгоэпикоос-Афинотисса) - Киев – Хелм, - схема достаточно подробная, но может обрести некоторые дополнения, в связи с новыми находками и исследованиями.
Кроме икон Одигитрии с Младенцем на правом предплечье, существуют изображения сближающиеся с Богородицей-Елеусой (Милующей) в той же иконографической схеме. Татьяна Васильевна Николаева под № 2 в своей монографии описывает «змеевики с изображением Богоматери Умиление с младенцем на правой руке (тип древней Владимирской иконы)» [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.30]; а под № 3 - «змеевики с изображением Богоматери с младенцем на правой руке (извод древней Федоровской иконы)» [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.31] (выделено мной, - Ю.Ш.). Но и Владимирская (см.рис.21) [Бусева-Давыдова И.Л., 2006, с.74-75, цв.илл.24], и Федоровская (рис.23) иконы принадлежат к одному типу: Елеусы, которая никак не могла быть протографом изображения Одигитрии на «Белгородской гривне». Федоровская икона, хоть и могла появиться под воздействием иконографии Горгоэпикоос-Афиннотиссы, явлена только в 1239 г., и - по хронологии своего появления – также не могла служить образцом для отливки змеевиков XI – начала XII веков. К типу Федоровской Елеусы относятся другие иконы, прообразом которых она могла послужить, или же они имели с Федоровской единый протограф: Игоревская (рис.24), Днепрская (рис.25), Донская (рис.25) и некоторые другие.
Как показал В.Г. Пуцко, даже значительные типологические расхождения - в обратном порядке: от Одигитрии (Путеводительницы) к Елеусе, - не являются основанием, для разделения протографов: он мог быть общим, а поза Младенца Христа, сближающаяся с иконографией Елеусы (Умиление), диктовалась композиционными особенностями включения изображения в круг медальона [Пуцко В.Г., 1994, с.195], прижимая Младенца к Матери, и делая «Путеводительницу» схожей с иконографией «Умиления». Важным является само положение Христа-Младенца на правой руке Девы.
Нэнси Паттерсон-Шевченко, разбирая вопрос о роли икон в литургии, упоминает миниатюру из «Мадридского Скилицы» XII в., где изображено триумфальное возвращение Иоанна Цимисхия из Болгарии в Константинополь после победы 971 года. В триумфальной колеснице расположена Богородичная икона (которой должна быть Одигитрией!), отбитая у болгар. Но на иконе изображена Богородица с правосторонним держанием Младенца, близкая к типу Елеуса [Паттерсон-Шевченко Нэнси, 1994, с.37, 46-47, 55, илл.1].
В эпоху начавшегося иконоборчества списки и изводы Богородицы Умиление (Елеуса), приобретают значимость Милующей – Спасительницы от притеснителей иконопочитания. Такие иконы сохранялись в малодоступных областях, укромных и скрытых от посторонних глаз урочищах Христианского мира. Одним из таких, почитавшихся еще до периода иконоборчества образов, был рельеф Богородицы Спилеотиссы (Пещерной) из монастыря Мега Спилеон (Большая Пещера) [Голубинский Е., 1880, с.543; Златарски В., 1940, с.321]. Это один из труднодоступных пещерных монастырей (рис.26), каких несколько на Греческом Пелопоннесе (рис.27). Над входом в монастырский комплекс (рис.28) расположена икона (рис.29), полностью дублирующая извод Горгоэпикоос-Афиннотиссу (рис.30). Главная святыня – икона Богоматери находится в специальном теремце пещерного храма (рис.31), справа от иконостаса (рис.32), украшаемая паломниками, постоянно сменяемыми пожертвованиями, и в богатых окладах-ризах (рис.33).
Образ Богородицы Спилеотиссы с Христом-Младенцем на правой руке, выполнен, видимо, на обсидиане (рис.34), который отсутствует в слагающих породах местных гор, и сработан (или сформирован из стекловидной пасты?), скорее всего, на Ближнем Востоке, по образцу иконы Иерусалимской Богородицы (см.рис.1). Согласно монастырского предания образ «вылеплен из воска св.евангелистом Лукой», являясь одним из 70-ти Богородичных образов, созданных этим Апостолом. Сам монастырь Мега Спилеон, основанный около 362 г. братьями Прокопием и Феодором, упоминается уже в VI в., когда Балканы посетил прославленный ближневосточный пещерник – Савва Освященный.
Подобно Спилеотиссе, – изводу Иерусалимской иконы Богоматери, – «по ее образу и подобию» создавались многочисленные иконы Богоматери в пещерных монастырях Болгарии у Мельника в XII-XIII вв. [Нешева В., 1985, с.180] и у Преслава - того же, и последующего времени (рис.35). Аналогией иконам Богородицы Преславской и Спилеотиссе, как и изображению на Смоленском змеевике, является очень раннее и редкое изображение Девы с Младенцем на перстне из северокавказской катакомбы VII в. [Рунич А.П. 1975, с.69, рис.4]. Оно передано на щитке перстня, в полный рост, а Младенец помещен на правой руке Девы (рис.36).
Изображения Богородицы Пещерной (Спилеотиссы), и наследующая ей иконография Горгоэпикоос в Афинах, и, видимо, Десократуссы из Хосиос Лукас (см.рис.9), появляются на Руси не позднее XI в. (Смоленский змеевик), и продолжают существовать на амулетах этого типа (см.рис.11) и в мелкой пластике: Таков образ Богоматери Умиление на иконке XIII в. из Неревского раскопа Великого Новгорода (рис.37), - образок, иконография которого связана с Владимирской Елеусой, поскольку на более поздних - XIX в. - отливках (рис.38) по восковой модели с того же древнего образца, заметно положение пяточки Христа, как в Гликофеллуссе (см.рис.19; 20), совершенно не схожее с Троеручицей (см.рис.2; 3), но уже дублированное на изделиях XVII в., отлитых по тому же древнему (XIII в.) образцу (рис.39).
К началу XIII в. в Новгороде уже имеется «праворушная» икона, Богородицы, называемая «Белозерской» (рис.40:1), протографом которой не могда быть Владимирская икона. «Праворушный» образ передан и на хранившейся в Киево-Печерском монастыре, ныне утраченной, древней иконе Млекопитательницы (рис.40:2) древнерусского времени [Покровский М.В., 2000]. Последняя икона известна и по более поздним изводам в подалтарных подземных криптах храмов, как образец из Самоково в Болгарии (рис.40:3) [Болгарская живопись…, 1976]. Данная иконография соответствует изводам образа Богородицы «Руно Орошенное» (рис.41), как назвал свою книгу – «Руно Орошенное» грядущий святитель Ростовский - Димитрий [Димитрий Ростовский, 1683], описывая (1677-1679) чудеса от образа Богородицы из пещерного Ильинского монастыря в Чернигове. Не случайно изображение этого святителя на епископальных наперсных иконках XIXв., как и на наиболее ранних образах (ок.1757 г.), передано предстоящим перед иконой Богородицы «Праворушной» (рис.42; 43).
Аналогичная Богородичная «праворушная» иконка объявилась в 1470 г. в селении Жировицы, недалеко от Гродно, на территории Великого княжества Литовского в поместье Александра Солтана. Это вырезанное на «шифере» (прирофилитовом сланце), - добывавшемся у г. Овруч до XIII в., - изображение Елеусы с Христом на правом предплечье (рис.44), относящееся к образцам древнерусской мелкой каменной пластики [Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г., 2006, с.157-161]. Ее иконография близка более поздней Почаевской иконе Богоматери (рис.45). Возможно с такой же иконки был расчерчен образец, по которому вырезали форму для иконок из свинцово-оловянистых сплавов, получавшихся в зеркальном отражении. Подобная иконка с зеркальным изображением (рис.46) происходит из постройки, сгоревшей в 1095 г. на территории Черниговского Предгородья [Жаров Г.В., Жарова Т., 2002].
«Праворушный» образ занимает лицевую сторону деривата Смоленского змеевика, - филактерии, найденной возле села Окни Новосокольского района на юге Псковской области. Такие змеевики встречаются издавна и сравнительно часто [Николаева Т.В., 1960, с.98, 99, рис.6: а-б] (рис.47:1) [Толстой И.И., Кондаков Н.П., 1887; Уваров А.С., 1908, с.99-100, рис.80,81, кат.No 348-350]. Аналогично Богородица Иерусалимская, в изводе Спилеотиссы и имеющая черты Елеусы, связующие ее с изводом Федоровской иконы, передана на более поздних (XIV в.) амулетах в форме киотов со змеевиком на реверсе (рис.47:2) [Уваров А.С., 1908, с.101-103, рис.84,85, кат.No 355-356]. На более раннем (XII – начала XIII вв.) змеевике из Окни изображена «праворушная» Богородица, также сближающаяся с типом Елеуса, сближающийся со Спилеотиссой, - на лицевой стороне (рис.48); и Медузы Горгоны - на обороте. Горгона на змеевике из Окни передана в той же композиции, которая характерна для реверса «Черниговской гривны» (рис.49) – золотого змеевика, найденного в 1821 г. на р. Белоусе у Чернигова. Лицевая сторона «Черниговской гривны» имеет изображение Архистратига Михаила. Аналогией последнему изображению может служить раннесредневековая (VI – нач.VII в.) овальная пластинка из собрания Неаполитанского музея [Орлов А.С., 1926, с.11-13] с Богородицей-Знамение - на аверсе, и Архангелом Михаилом - на реверсе.
С Архистратигом Михаилом связано чудо V в. на юго-восточном побережье Аппенинского полуострова в Италии (возле города Монте-Сант-Анджело): Архистратиг разогнал людей, пытавшихся заколоть быка возле священной пещеры, в которой и укрылось перепуганное животное. А вход в пещеру разбушевавшейся толпе преградил огненный меч Архангела. Там и была устроена подземная церковь во имя Предводителя Сил Небесных («Небесная базилика» под землей). Упомянутая пластинка-медальон вполне может связываться с пещерным храмом Архистратига Михаила в Монте-Сант-Анджело (Италия). Отсутствие здесь мощей, и связанной с ними вещевой атрибутики - различных евлогий с елеем от реликвий (см.рис.5:2), заставляло причт подобных пещерных храмов тиражировать своего рода «памятки», - медальоны, иконки и прочие филактерии, свидетельствовавшие о посещении пещерной святыни, и отмеченные патрональной символикой. Таковыми и являются овальная пластина из Неаполитанского музея и, по всей видимости, «Черниговская гривна», - украшенные изображением Михаила-Архангела.
«Черниговская гривна» изготовлена, скорее всего, византийским мастером, возможно, имевшим отношение к созданию врат 1076 года, которые перекрывали с поверхности вход в пещерный храм Михаила-Архангела в Монте-Горгоно (Сант-Анджело); и которые считаются шедевром византийского ювелирного искусства. Изготовлен черниговский золотой змеевик явно для восточнославянского князя, носившего христианское имя, которое, как и обращение ко Всевышнему, переданы на этой филактерии по-славянски и кириллицей: «+ГОСПОДИ ПОМОЗИ РАБУ ТВОЕМУ ВАСИЛИЮ АМИНЬ» (рис.49:2). А заказана эта филактерия, скорее всего, Михаилом в крещении, чьим патроном был небесный тезоименник Михайловского пещерного храма в Монте-Гаргано (Сант-Анджело). Очень вероятно, что это был Олег Святославич (?), носивший христианское имя Михаил. Только этот князь в 80-е гг. XI в. находился где-то в Средиземноморье, и, не исключено, имел отношение к акции 1087 г. по переносу части мощей свт. Николая Мирликийского из Мир Ликийских (современный город Демре на Малоазийском побережье, в прямой видимости от Родоса) в Апулию на Юго-Западном побережье Италии, в Бари. Хотя из плена на острове Родос Олег-Михаил уже освободился (1087), - отбирать у Мономаха отчий Чернигов Олег пришел только к 1095 г.
Пещера на италийском побережье, ставшая подземным храмом Архистратига - «Небесной базиликой» под землей (рис.50), связывалась в представлениях населения позднего античного времени и раннего средневековья с мифологическим существом - Горгоной Медузой. «Гаргано» (Gargano), - античное название Сант-Анджело (в древности - Garganus) – это известковая гора на юго-восточном берегу Апеннинского полуострова, с естественной пещерой, - некогда - обиталищем Медузы Горгоны, в мифологических представлениях, - где с V в. функционировал подземный христианский Михайловский храм, с византийскими входными вратами (1076 г.) – выдающимся памятником византийской торевтики.
Появление «Черниговской гривны» с Архистратигом Михаилом, скорее всего – по качеству, стилю и мастерству исполнения, - связано с одним из ювелирных центров Византийской империи, и обязано своим появлением пещерному храму в Монте-Сант-Анджело. Более поздние змеевики с Архангелом Михаилом (рис.51) [Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, № 49], находимые от Северо-Востока Руси до Киева (рис.52), часто снабжены (наиболее ранние) греческой заклинательной формулой с обращением к таинственной «histera» (рис.53). Отметим, что изображению Архангела Михаила на гербе Киева, бывшего таковым уже во времена Великого княжества Литовского к началу XV в., свойственны те же «геральдические черты» (в полный рост, ракурс, поворот головы, позиция меча), что и для изображений Архангела на змеевиках (рис.54).
Связь медальонов-змеевиков с пещерами и пещерным не исчерпывается изображениями Богородицы, происходящей от Спилеотиссы (Пещерной), из монастыря «Большая Пещера», поскольку змеевики несут и иные изображения, связанные с иными пещерными святынями. Кроме изображений Архангела Михаила – патрона пещерного храма, таков, например, знаменитый яшмовый (Суздальский) змеевик с изображением семи спящих в пещере отроков Эфесских [Рындина А.В., 1972, с. 217-234].
Переплетение символики из пещерных христианских святынь с символом пещерного в мифологическом аспекте существа – Горгоны Медузы на амулетах-змеевиках – христианских филактериях – должно иметь значимые ассоциации и аллюзии в христианском мировоззрении и иметь связь с атрибутикой самого Вероучения. Это касается не только изображения Горгоны на реверсе христианских амулетов-змеевиков, но и другого пещерного, согласно мифологической традиции, существа – Змеедевы Ехидны, соответствовавшей кельтской Мелюзине и скифской Ехидне-Оре [Топоров В.Н., 1995, С. 97, 237-238]. Именно изображение «змееногой богини», как представляли Ехидну после кары богами-Кронидами, украшает ряд подобных амулетов (рис.55) [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, рис.1:2]. Ехидна, и до преображения в полуженщину-полузмею, во времена своего романа со стражем Геры – многоглазым Аргусом, была жительницей пещеры [Голосовкер Я.Э, 2001]. По представлениям эллинов эта пещера располагалась где-то вблизи «счастливой Аркадии» - местообитания титана Атланта до его восстания против Зевса-Кронида, – на Пелопоннесе (не в пещере ли «Мега Спилеон»?). Характерно, что Ехидна, еще будучи Чудодевой (до превращения в полузмею), и обитая в пещере Пелопоннеса, считалась покровительницей «всего живого» [Голосовкер Э.Я., 2001], в древней славянской терминологии (и современной - церковнославянской) – «всего живота», что очень существенно для ее изображения на христианских филактериях исхода раннего средневековья.
После преображения, Ехидна оказалась в другой пещере, на границе дольнего и хтонического миров в наказание за неповиновение Зевсу и его пантеону, которые олицетворяли для ранних христиан весь комплекс эллинского язычества. Такова же была и судьба другой пещерножительницы - Медузы Горгоны, изгнанной политеистическим - Зевсовым пантеоном Эллады, вместе с сестрами-горгонами и граями-старухами, из своей пещеры на берегу лазурного моря (Монте-Сант-Анджело) – в пещеру на берегу Мировой Реки-Океана, «на границе мертвой и живой жизни».
В мироощущении христианства подобные трактовки образа змееногих и/или змееволосых существ – серпентарид не могли не оставить своего следа. Их образы маркировали сущности, которые были борцами с демоническими существами, к коим принадлежали все боги Олимпийского пантеона. Первохристиане, воспринимая образы предшествующих времен «зеркально» (где право – лево, добро – зло, - меняются местами), - с «обратным знаком», - потому и представляли могучего Зевса и обворожительную Афродиту – демонами, а их противников и противниц – серпентарид (змееволосых, змееногих и змееподобных существ) светлыми, ангелоподобными существами: У эллинских политеистов-язычников имелся страж – зверь (пес) Цербер, охранявший подземный «мир мертвой жизни» - царство Аида - от выхода из него теней в мир «жизни живой» (как чуть было, не ушла Эвридика, ведомая Орфеем). А в раннехристианской среде появился упомянутый апокрифами «зверь Горгонии» [Пыпин А.Н., 1862, с.3,6], - охранительница потустороннего мира - Рая (Эдема), - от проникновения в него грешных живых людей. Образ мира оказался «вывернутым наизнанку». – В земном (подземном) обиталище Ехидны-Оры расположился Земной Дом Богородицы – Свято-Успенский Богородичный пещерный монастырь «Мега Спилеон», пещерное обиталище Медузы Горгоны оказалось «Небесной базиликой» под землей в Монте-Горгоне (Анджело), а сама «Горгонии» выступила в качестве цепного пса («зверь»), охраняющего нынешнее место пребывания Святой Девы – Рай.
В гипогеях (пещерных склепах) раннехристианской Александрии в Египете Горгона выступает в качестве охранительницы входа в последний приют. Такие охранительные изображения известны и в мозаике римского времени (рис.56), и в более ранних фресках (рис.57). Такие же мозаики имеются в позднеримских строениях (IV в.), - не исключено, - в христианских храмах (рис.58) Северного (Средиземноморского) побережья Африки, и на Балканах – в болгарском Девне (рис.59:1,2) [Ангелов А., 2004, илл.3,4]. Распространение изображений Медузы Горгоны фиксируется к середине IIв.н.э., когда нагрудная эмблема кентавра (до 14 г. Iв.н.э.) на панцире Октавиана Августа (рис.59:3,1), меняется головой Горгоны на «императорских» доспехах первой половины IIв.н.э. (рис.59:3,2). Обычай размещать эгиду в виде Медузы Горгоны сохраняется в эпоху солдатских императоров (рис.59:4), кода этот символ служит украшением не только аркад форума Северов в Лаптис Магна (рис.59:5), но и обрамляет вход в позднеримскую базилику (рис.59:6) в том же городе римской провинции Ливия. Таковы же позднеантичные изображения Медузы в Мирах Ликийских (рис.59:7) на Малоазийском побережье на Малоазийском побережье во времена епископства там свт. Николая Мирликийского, или барельефы Горгоны – охранительницы истекающей воды в позднеримских термах в самом Вечном городе (рис.59:8).
В гигантском подземном резервуаре «Еребатан Сарничи» - «Подземном дворце четырехсот колонн», снабжавшем водой Константинополь с юстиниановских времен, также присутствует изображение Медузы («Могущественной») Горгоны (Молниеносной), высеченной на импостах первых колонн, подпирающих свод гигантской цистерны, при входе в это грандиозное подземное сооружение (рис.60:1). Горгоны здесь расположены как охрана. С этим согласуется отмеченное Т.В. Николаевой позиционирование Горгоны в христианских представлениях (апокрифических источников) [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1001, гл.2, прим.44]: «В апокрифической литературе упоминается "зверь Горгонии", охраняющий рай от людей после грехопадения (т. е. в роли ангела?)» [Пыпин А.Н., 1862, с.3,6]. Образ Медузы корреспондирует в этом случае с этнографически зафиксированными представлениями украинцев о том, что рай (ирий), доступен «одним птицам и змеям» (подчеркивание мое, - Ю.Ш.) [Маркевич Н.А., 1991 (1860), с.64]. Совсем уж в христианские времена, в таком значительном христианском центре, как Эфес (месте множественных проведений Вселенских Соборов), также создается образ змееволосого существа - Горгоны Медузы в мозаике (рис.60:2), как раз в то время, когда Соборы отлучают от Церкви ересиарха Нестория (V в.н.э.).
Включение в круг христианской литературы повести об Александре Великом (IV в.) [Райт, Дж.К., 1988, с.32-34, 180-182, 236-237, 328-330, 352-353, прим.4,26,129], также способствовало восприятию образа Медузы Горгоны, как вполне адекватного в христианском мировоззрении существа. Александр, стремясь уподобиться Афине Палладе, украсившей свой щит головой Медузы (рис.60:3), или Зевсу - с грозной устрашающей Эгидой на груди, - сыном которого его нарекла молва, - Александр, также украшал свой нагрудный панцирь эгидой с изображением Горгоны (рис.60:4). Видимо, поэтому изображение головы Медузы Горгоны украшало воинские позднеримские и ранневизантийские панцири, являясь оберегом [Molinier E., 1896, р.18, 19; рl.11.]. Не исключено, что этому оберегу, массово используемому армией христианской державы (Византии), обязаны своим происхождением каменные амулеты-змеевики (носимые первоначально военными?). Это односторонние круглые и овальные вещи из Средиземноморья, в основном, из оникса, со «змеиным гнездом» (при малым количеством змей, - в основном, не более шести, ветвящихся от личины в центре), - на аверсе; и с формулой «histera» - на обороте, в основном, без изображений [Спицын А.А. 1915, c. 242, 245; pис.43, 44; Laurent V., 1936, s.306—309; taf. 5:1, 3, 4]. На одном из греческих каменных амулетов-змеевиков известно, все-таки, изображение святого на одной стороне, ставшей при этом лицевой, а на реверсе – «змеиное гнездо» и формула с именем «истеры» [Толстой И.И., 1888, с.411, 412].
Большое количество ониксовых ранневизантийских амулетов (IV-VII вв.) с Горгоной, и соответствующей греческой формулой обращения к «истера» (как на амулетах-змеевиках сработанных в металлопластике на рубеже раннего и высокого средневековья - X-XII вв.) синхронны времени создания и распространения «Александрии» и апокрифических рассказов о вознесении Александра Великого на небеса, что приравнивало умершего в молодости царя к ветхозаветным праведникам в глазах образованных христиан. Создававшиеся в самые ранние христианские времена (с III в.н.э.) овальные амулеты - типа христианской пластины из Неаполитанского музея с Архангелом Михаилом, снабженные различными охранительными надписями (рис.61:1), и изображением семерых «богов-покровителей», - требуют внимания при атрибуции, - поскольку могут оказаться наиболее ранними филактериями древних христиан. Именно так - с упомянутыми Евангелием «пятью корзинами хлебов» - изображена евхаристическая «Вечеря семерых гостей» (рис.61:2) в погребальной кубикуле христианских катакомб св. Каллиста (Калкиста) в Риме (и, добавим: семеро спящих отроков в пещере Эфеса).
Охранительный характер, несколько варьирующей надписи (исключительно на греческом языке), на всех найденных на Руси ранних змеевиках: «Истера [Ύστέρα], черная, почернелая, как змей ты вьешься, и как дракон свищешь, и как лев рычишь, и как ягненок спишь» [Дестунис Г.С., 1881, стб.23-24], - передает обращение к охранительной силе (histera), передаваемой образом Горгоны («истеры») на реверсе филактерий-змеевиков. Считается несомненным локализация «истеры» в животе, несколько ниже пупка [Дестунис Г.С., 1881, стб.24-26; Даль В.И., 1912, III, стб.413; Мазалова Н.Е., 2001, с.38-39]. «Благодаря работам М. И. Соколова выяснилось, что греческая заклинательная формула, сопутствующая змеевидной композиции, была известна также в славянской версии [«дъна», - Ю.Ш.] и… усвоение на Руси рассматриваемых амулетов сопровождалось восприятием связанного с ними византийского мифологического мотива» [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, прим.47-48].
Обычно термин «hystera» (Ύστέρα), встречаемый на филактериях-змеевиках, переводят, как «матка» - и это закономерно, когда речь идет об амулетах этого типа, атрибутированных женщине, как уже упомянутый яшмовый Суздальский змеевик с семерыми спящими в пещере отроками Эфесскими: Он, возможно, принадлежал Марии Шварновне – жене кн. Всеволода Большое Гнездо [Щепкина М.В., 1972, с. 74—80; Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.25]. В этом плане, симптоматично наличие на ранних змеевиках именно Богородицы Горгоэпикоос – извода Спилеотиссы – из афинского храма, в котором имелся придел св. Элевтерии, - родовспомогательницы, - откуда иконография типа Дексиократуссы, как названа точно такая же икона в Хосиос Лукас (см.рис.9), - получила имя Горгоэпикоос – Скропомощница (см.рис.13).
Но термин, чаще всего используемый Г.И. Дестунисом при переводе: «histera» – «утроба» (как активная зона), – несравненно – шире, чем «матка», в том числе – анатомически [Мазалова Н.Е., 2001, с.63, 68]. В случае принадлежности золотых медальонов-змеевиков мужчинам, как это имеет место с «Черниговской гривной» [Срезневский И.И., 1882, с. 40, 41; Куза А.В., 1966], с «Белгородской гривной» и Смоленским змеевиком [Пуцко В.Г., 1994], - когда на одной из этих филактерий надписано имя князя Владимира Мономаха, данное ему в крещении – «Василий», - интерпретация термина «hystera» - «матка» - просто неприемлема. В соответствующей формуле на золотом княжеском амулете – «Черниговской гривне» – «hystera» (Ύστέρα) обозначает, конечно, не «матку», а именно «утробу» - место анатомически ей соответствующее. Употребление для этой анатомической зоны такого слова, как «живот» - «жизнь», - полностью соответствует семантике той силы, которая персонифицирована Медузой Горгоной - «Могущественной Молниеносной» (или «владычицей всего живота» - Ехидной), к которой обращались византийские военные, в баталиях «не щадившие живота своего», и украшавшие этим изображением свой панцирь. Местом, которое символизировала Горгона, является зона концентрации внимания, локализованная «пупком», над крестцовыми позвонками, куда должны направляться все силы души при творении внутренней Иисусовой молитвы, согласно христианскому свято-отеческому учению о творении молитвы и пневмокатарсисе [Добртолюбие, 1889, с.194-196].
Христианская монолитность семиотики образов на амулетах-змеевиках была выяснена более века назад [Соколов М.И., 1889, с.339-368], и подтверждена крупнейшим специалистом в области церковно-христианской вещевой культуры – Татьяной Васильевной Николаевой, что прозвучало в ее посмертной монографии, доработанной и подготовленной к печати соавтором - Алексеем Владимировичем Чернецовым [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991]. Принадлежность амулетов-змеевиков в качестве филактерий всей Восточнохристианской Церкви, а не только Древней Руси, также не вызывает никаких сомнений [Переседов И.Г., 2004, с.108-121]. Хотя находки трех змеевиков с Архангелом Михаилом на Неревском раскопе Великого Новгорода, отлитых в одной форме [Соболев В.Ю., 1995, с.74-76], может свидетельствовать о распространении и производстве подобных украшений не только в Византии, но и на Руси, не позднее конца XI в. [Пуцко В.Г., 2006].
Образ Богородицы с Младенцем Христом на правом предплечье попадает на круглые филактерии-медальоны с изображением Горгоны на аверсе не ранее Х в. [Spier J., 1993, p. 31-33], т.е. тогда, когда подобная иконография пока имеется только в подземной обители Мега Спилеон; и в то же время, когда практика внутренней концентрации внимания, практикуемая монахами-аскетами в пещерных монастырях при творении внутренней сердечной Иисусовой молитвы (Иоанн Лествичник, игумен Синайский, VII в.), выливается в стройное правило этого процесса, изложенное преп. Симеоном Новым Богословом к рубежу X-XI вв. [Иларион (Алфеев), 2001; Прохоров Г.М.,1974, с.317-324]. Концентрация внимания при таком «молчаливом делании» - «умной молитве», предусматривало концентрацию внимания на области пупка (рис.62-1:4), что совпадает с локализацией таинственной «hystera»: «истера» = «утроба» = «живот – жизнь» (рис.62-2:9) в молитвенной формуле на медальонах-змеевиках. Эту «hystera» симолизирует на амулетах-змеевиках изображение Горгоны Медузы, или сходного с ней образа пещерницы-титаниды - Змеедевы Ехидны. «Можно констатировать, что около Х в. этот, несомненно, магический образ [образ Медузы – сильнейшей из трех сестер-Горгон, - Ю.Ш.] появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов продолжающегося становления» [Переседов И.Г., 2004, с.109].
В славянском мире знанием точки, лежащей несколько ниже пупка (рис.62-1:4; 62-2:9) – «живота – жизни» (соответствует «манипуре» - «океан энергий» в практике йоги), - не исчерпываются сведения о подобных нервных центрах (чакрамах), которые активно использовались психотехниками Востока: «Из Краледворской рукописи мы знаем, что славяне признавали в человеке особое существо, которое называли душою или душицею и место ей полагали в горле» (рис.62-1:1) [Костомаров Н.И., 1994, с.232; Костомаров Н.И., 1994, с.273]. Отметим, что и это славянское представление принадлежит по времени к христианской эпохе. Анатомически такая локализация «души» («душицы») соответствует впадинке югули у основания шеи (рис.62-2:2), которая в психотехниках изложенных «Шива-самхитой» и «Кгхеранда-самхитой», названа центром «жизненных дыханий» («вишуддхой»).
Речь идет не о заимствованиях более ранних психопрактик, известных буддизму, или о их переносе на почву христианских воззрений. Физиология человека, обусловленная стержнем его генотипа, может иметь локальные популяционные отличия, но едина на видовом уровне Homo Sapiens, вне расовых или этнических различий. На языке христианской теологии, - человек, сотворенный «по Образу и Подобию», - является таковым в среде индусов (или буддистов), мусульман, христиан, огнепоклонников, или жителей Огненной Земли и Аляски. Физиология человека и ее основные закономерности едины во всем антропогенном разнообразии мира, и активные «точки китайской Чжен-Цзю-терапии», как активные «зоны кожного представительства Макарьева-Гедда» - одни и те же - и для китайцев, и для европейцев, и для негроидов Африки, и для американских и австралийских аборигенов.
Очередная точка, которую в повести «На краю света» Н. Лесков поэтично назвал «Христос за пазушкой» - «духовное сердце», соответствует тому, что в психотехнике Индии называют анахатой (духовным сердцем) – за костью грудины, анатомически локализованное вилочковой железой (тимусом), в области сердца (рис.62:2); или возможно – совпадает с энергетическим центром, расположенным чуть ниже анахаты – акирой («солнечное сплетение»). Обе точки объединены локализацией области сердца - человеческого «корня» - места «средоточия жизненной силы» [Мазалова Н.Е, 2001, с.58, 59]. Все эти «энергетические» нервные центры были задействованы в практике христианской молитвы: обращение к духовному сердцу (анахата или акира) фиксируется с VII в., что известно из трудов св. Иоанна Лествичника, игумена Синайского, как «предстояние ума в сердце» (в духовном, а не физическом).
Для практики, заключавшейся в полном уходе в молитву, необходимым условием была полная концентрация внимания, достижимая только в полной темноте и абсолютной тишине, чтобы звуки окружающего мира и его яркие образы не отвлекали. Такие условия существовали только глубоко под землей, в пещерах. С этим обстоятельством связано не просто отшельничество, а отшельничество пещерное, с первых шагов существования монашества (препп. Антония, Макария и Пахомия Великих, Феодосия Киновиарха, Харитона Исповедника и прочих) в III-IV вв., ставшее массовым пещерничеством; а преп. Иоанн Лествичник в начале VII в. просто зафиксировал этот процесс (рис.63) [Лазарев В.Н., 1986, ил.250].
Движение христианского пещерничества наследовало времена апостольские (рис.64) [Лихачева В.Д., 1986] и практику пещерного затвора и молитвы непосредственных учеников Иисуса Христа (рис.65). Необходимо отметить, что труд преп. Иоанна Лествичника синхронен времени, массового появления евлогий VI в. (см.рис.5:1,2) [Шевченко Ю.Ю., 2006, с. 69-71], в том числе - пластины-талисмана из пещерного христианского центра в Монте-Сант-Анджело (овальная пластина с Архангелом Михаилом из Неаполитанского музея).
Использование всех упомянутых нервно-физиологических зон («живота – жизни» - центра «океан энергий» в области «пупка»; «души – душицы» - центра «жизненных дыханий» у основания шеи; и области духовного сердца), применялось в восточно-христианской молитвенной практике Византии не позднее конца Х – начала XI в., как это следует из трактата преп. Симеона Нового Богослова «Метод священной молитвы и внимания»[1]: «Запри дверь твоей кельи, сядь в углу ее, отвлеки свою мысль от всего земного… Склони затем подбородок твой на грудь свою [т.е., фиксация подбородком впадинки «югули» - центра «жизненных дыханий», - Ю.Ш.] и устреми чувственное и душевное око на пупок твой [«жизнь – живот» - «истера» - центр «океан энергий», - Ю.Ш.]. Далее – сожми обе ноздри так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами то место сердца, где сосредоточены все способности души [точка «духовного сердца», - Ю.Ш.]… проведя в этом положении день и ночь, - о, чудо! - …увидишь, что вокруг сердца распространяется божественный свет» [Цит.по: Замалеев А.Ф., Зоц В.А., 1987, с.59]. Техника дыхания, сопутствовавшая молитве, в христианской практике названа пневмокатарсисом [Добротолюбие, 1889, с.194-196, 228, 303-328, 338], который со времен преп. Симеона Нового Богослова становится обязательным условием «правильной» или «умной молитвы» (в Индии – пранаяма).
Симеон Новый Богослов творил и проповедовал в Греции во времена, когда на Греческом Афоне пребывает преп. Антоний Печерский, - основатель всего русского монашества. С жизнью и деятельностью упомянутых - греческого и восточнославянского - святых синхронизируется не только окончательное принятие Русью христианства в качестве государственной религии, но и распространение на Руси амулетов, названных змеевиками, параллельное распространению пещерных монастырей. Такие амулеты сохранялись у российского населения в качестве почитаемых, но редких амулетов, до XVIII – начала XIXвв. [Нечаев С., 1826, с.136; Дестунис Г.С., 1889, с.113].
До позднего средневековья змеевики хранились в ризницах храмов. Известно, что один из змеевиков использовался как панагия епископами города Полоцка [Спасский И.Г., 1976, c.362]. Яшмовый змеевик подарил в ризницу Троице-Сергиевой Лавры Иоанн Грозный. Один из таких амулетов украшал икону Богородичных праздников (врезан по центру доски) в той же обители, будучи наиболее почитаемой частью всего образа. Змеевик из красной, перемежающейся темно-серыми и светлыми слоями яшмы (рис.66:1) надевали высшие иерархи Церкви. Как владычную панагию во время службы в Троице-Сергиевой Лавре на Великой всенощной [Даль Л.В., 1874, с. 74-76; Николаева Т.В., 1960, с.100-101, рис.Nо 7; Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.6; Переседов И.Г., 2004, с.109] использовали аналогичный змеевик из зеленой яшмы, но трапециевидный, также со Спасом на аверсе.
Мысли, высказываемые исследователями [Переседов И.Г., 2004, с.112], о восточном (ближневосточном – Ю.Ш.) происхождении основной мифологемы, пришедшей из восточных и юго-восточных областей христианского мира, и связанной с змееобразными композициями на рассматриваемых амулетах, корреспондирует не только с пещерным отшельничеством и молчаливом деланием - умной молитвой, творимой в темноте и тишине пещер. Хотя квинтэссенцию такой мысли могла бы иллюстрировать «икона Никифора Савина (XVII в.) из Государственного Русского музея, где мать св. Феодора Тирона изображена в пещере на престоле, а вокруг нее — многочисленные многоглавые змеи, увенчивающие ее короной» [Алпатов М. В., 1955, табл. 169; Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.45]. Изображение св. Феодора Тирона со змеями перед осененной змеями личиной Горгоны на реверсе змеевиков в форме ковчега (рис.67:1) XIV-XVвв. [Уваров А.С., 1908, с.103, рис.86, кат.No 358] - полностью отвечает такому пониманию семантики изображений. Святой Феодор (его житийные коллизии, попавшие в прологи, сходны с таковыми у Феодора Сратилата [Творогов О.М., 1987, с.268-271; Салмина М.А., 1987, с.272-273]) передан на амулете в позе «общения» со змеем, но держа на плече оружие (топор); святой стоит прямо под ликом Горгоны, заключенной в круг (видимо отлитый по скопированному с круглого змеевика). Но такое изображение Медузы, заключенное в круг, было принято на охранительных мозаиках в гипогеях раннехристианской Александрии Египетской
Не укладывающимся в приведенные примеры (Горгоны Медузы и Ехидны-Оры) является еще одно изображение – бородатый лик, увенчанный короной, от которого расходятся змеи (рис.67:2). Он помещен в круге (также скопирован с более раннего круглого змеевика) под сценой, где св. Феодор (Тирон или Стратилат) вонзает копье в разверстую пасть змея. Можно ли видеть в этом образе коронованного бородатого мужчины «владыку змей» Асклепия, в понимании его образа Оригеном [Лосский А.Ф., 1992, гл. II, § 3], - Асклепия, исцелявшего смертных от смерти кровью Медузы Горгоны [Тахо-Тоди А.А., 1991, с.113-114]? Образ этого целителя, уничтоженного самим главой Олимпийского пантеона, также воспринимался как враждебный Кронидам, олицетворявшим все политеистическое язычество в глазах первохристианского мира. Символу Асклепия – змее – Гению Александрии Египетской, было посвящено пещерное святилище, основанное самим Македонским царем – основателем города [Серова М.Ю., 2005, с.219-224] (уж не то ли самое пещерное святилище, разорение которого в III в. вызвало бурю негодования в городе?). Змея - символ Асклепия - также была жительницей пещеры, как в пещере Пелопоннеса (после изгнания из пещеры Пелиона лапитами) у кентавра Хирона воспитывался сам Асклепий.
Сведения о змееборчестве Феодора Тирона, Феодора Стратилата и Георгия Каппадокийца (Победоносца) [Пыпин А., 1862, с. 40; Творогов О.М., 1987, с.268-271; Салмина М.А., 1987, с.272-273; Селиванов Ф.М., 1995, с.26] дополняются не менее многочисленными известиями о мирным сосуществованием христианских святых со змеями: Иоанна Зедазнийского, Шио Мгвимского, или Давида Гареджийского, уговорившего соседа по пещере – гигантского змея не похищать молоко у важенок, чтобы не гибли маленькие оленята [Сабинин Михаил, 2001; Шведов О., 2001]. А для Макария Римлянина змей выступает в качестве соратника и помощника: по распоряжению Архангела змей строит для святого келью-пещеру [Жизнь, деяния и предивное сказаниео… Макарии Римском, 1972, с.39-40]. Во всех случаях и «змееборчества», и «змеесосуществования», - все житийные эпизоды самых разных святых неминуемо связаны с пещерами.
С пещерами связаны и иные святые, представленные в иконографии филактерий- змеевиков. На змеевиках представлен [Пуцко В.М., 2006] св. Георгий Каппадокиец (Комит) или Победоносец [Чудеса святого Георгия, 1972, с.193-207,297.], происходивший и действовавший в «стране пещер» (ок.4500 христианских пещерных комплексов Каппадокии). Пещерная келья, расположенная в Сирии принадлежала свт. Николаю (также попавшему на филактерии), которого позднее стали отождествлять со свт. Мирликийским, на деле – это святой, живший в VI в. (см.рис.68). Персонажи с Суздальского змеевика (и иных) - семь отроков Эфесских, почивающих в пещере у города Дерме, - вот далеко не все сюжеты, присутствующие на змеевиках, - и, так или иначе, связанные как с пещерами, так и с Ближним Востоком.
Наконец, уже упомянутый змеевик-панагия с Христом Пантократором (см.рис.66:1), по замыслу схожий с Троице-Сергиевым [Николаева Т.В., 1960, с.100-101, рис.Nо 7], сработан мастером, несомненно, знакомым с самой ранней иконографией (фотографическое совпадение Ликов, при дессиметрии глаз – четкой «разноокости») Спаса из Синайского монастыря св. Екатерины, - иконы, выполненной в технике энкаустики не позднее середины VI в. (см.рис.66:2). А вся земная жизнь Иисуса Христа полностью связана с пещерами: она началась Рождеством в пещере Вифлеема, протекала в жилом «доме Богородицы» - в пещере Назарета, и завершилась чудом Воскресения - в пещере Гроба Господня в Иерусалиме. Даже чисто статистически – в количественном исчислении (при подсчете элементов, атрибутов и аксессуаров изображений) – связь амулетов-змеевиков с христианскими пещерными святынями представляется более чем значимой. Семантика символа «histera», персонифицированная серпентаридами (змееволосыми или змееногими существами – обитателями пещер) – то Горгоной, то Ехидной-Орой, - как обозначение центра концентрации внимания при внутренней Иисусовой молитве, практикуемой в полной тишине и тьме пещерных келий, - связует филактерии-змеевики с христианскими пещерными святынями на уровне духовной истины в рамках христианской доктрины на исходе раннего средневековья.
В свете всего изложенного материала проникновение на Русь образа Богоматери с Младенцем на правом предплечье выглядит следующим образом. Иконография этого типа в VII-VIII столетиях распространена на Ближнем Востоке как Иерусалимский образ Богордицы (рис.71): в Сирии, Иерусалиме, на Синае, в Риме. Накануне эпохи иконоборчества этот образ попадает на Балканы (Греция) в монастырь Большая Пещера (Богородица Спилеотисса), откуда распространяется по всей Греции как Дексиократусса (Хосиос Лукас) и Горгоепикоос-Афинотисса; а от ее первоначального извода - Спилеотиссы – образ распространяется еще и по пещерным обителям Балкан до Подунавья (Добруджа) на севере, где уже функционировали пещерные скиты к исходу IX в. (Мутафлар). Принимающие в Х в. волну переселенцев из Болгарии, Поднестровские пещерные монастыри [Атанасов Г., 1993, с.63; Антонович В.Б., 1883, с.89-103], по-видимому, восприняли эту иконографию праводержащей Богородицы с Христом, как это видно по рельефу у пещеры возле с. Буши в Поднестровье [Шевченко Ю.Ю., 2007], что могло отразиться на почитании аналогичного иконографического извода Богородицы Хелмской (в Поднестровье), существовавшего на Руси, согласно Церковного Предания, уже в 1002 г. [Пуцко В.Г., 1994, с. 196-197].
Думается связь рассмотренного Богородичного образа на амулетах-змеевиках с изображением Горгоны, обозначенной в греческой надписи на филактериях, как «истера» («hystera»), - обозначает место молитвенной концентрации внимания (в районе пупка), и соотносит образ Богоматери Спилеотиссы (Пещерной) с появившимся в Византии этого времени «Методом святой молитвы и внимания» преп. Симеона Нового Богослова.
В качестве Post Scriptum’а – сюжет из Нового времени. На Украине, к Новому времени, змеевики значительно модифицировались, и изображение Медузы заменили портреты русских (изредка – австрийских – Марии Терезии) цариц: Елизаветы (рис.69) и Екатерины II (рис.70), но они сохранялись в праздничном костюме (в качестве наперсных и нашейных подвесок - дукачей) у различных сословий до XIX века. В Музее Украинского Искусства (Киев) хранится ряд рисунков, в цвете передающих одежды и украшения различных представителей и представительниц населения Малороссии, приписываемых Николаю Андреевичу Маркевичу, и, видимо – в случае его авторства (или заказа) - предназначенных для его книги, готовые главы из которой были опубликованы после его смерти в том же году (Киев, 1860). Возможно, эти рисунки были подготовлены по примеру схожих иллюстраций к «Летописному повествованию о Малой России» Александра Ивановича Ригельмана, законченной около 1787 г. (в первом издании А. Бодянского, 1847 г.). Считается, что впервые эти рисунки увидели свет в публикации «Истории Малой России» Д.Н. Бантыш-Каменского (1822 г.). На пяти женских изображениях показано украшение, называемое «дукачом» [Бантыш-Каменский Д.Н., 1993, с.602, илл.: л.1, об.; л.3,об.: No 11, 13, 19, 22, 23].
Схожие, но иные (по сравнению с публикацией у Бантыш-Каменского) рисунки приведены в переиздании «Летописного повествования о Малой России» А. Ригельмана. Во всех случаях изображения дукача - это круглое украшение с ушком для подвешивания; на большинстве отчетливо прорисовано женское портретное изображение [Рiгельман А., 1994, илл. между сс.704-705: лл.8; 8,об.; 9,об.; 11,об.; 12]; в отдельном случае ушко дукача украшено роскошным металлическим бантом [Рiгельман А., 1994, илл.: л.12]; один из дукачей имеет форму креста: квадрат с выступающими в четыре стороны округлыми выступами ветвей [Рiгельман А., 1994, илл.: л.9]. На «сельских малороссийских девках» [Рiгельман А., 1994, илл.: лл.15; 16,об.] дукач висит над наперсным крестом, и на «монистах» (низке бус), как и сам крест. Один дукач размещенный над крестом на крестьянской девушке [Рiгельман А., 1994, илл.: л.15] имеет какое-то сюжетное изображение (неразборчиво), то же может касаться второго аналогично размещенного дукача [Рiгельман А., 1994, илл.: л.16,об.]. Можно предположить, что дукачи служили исключительно женским (и девичьим) украшением: на малороссийских представителях мужского пола таких украшений нет.
Однако две овальные бляхи, очень схожие с дукачами наперсно изображены на донских казаках. «Войска Донского старшина» носит на широкой ленте овальную бляху с «чудом Георгия о змии» под «бантом» [Рiгельман А., 1994, илл.: л.13], а на «войска Донского войсковом атамане» [Рiгельман А., 1994, илл.: л.14,об.] - такая же овальная бляха, и тоже под «бантом», но портретная, как большинство дукачей. Частым изображением на оборотной («горгоновой») стороне дукача XVIII-XIX вв. является Параскева-Пятница (рис.68; 69). И только на наиболее ранних отливках украинских дукачей сохранилось изображение Горгоны, в свойственном для амулетов древнерусского времени виде [Спаський I.Г., 1972].
Юрий Шевченко,
03-09-2010 23:06
(ссылка)
Наследие Оногурской епархии
Шевченко Ю.Ю.
Осколки Готской митрополии:
наследие Оногурской епархии в Подонье.
Начало и конец такого явления, как христианские пещерные обители Подонья (рис.1), должны рассматриваться в связи с общей, в самом широком плане, динамикой распространения христианства в Восточной Европе. Если по поводу рассмотрения начал христианства на Дону в раннесредневековые времена (Оногурская епархия), уже высказаны некоторые мысли [Шевченко 2004: 196-201; Шевченко 2010: 67-75; Шевченко, Уманец 2010: 97-118], то эпоха финала возникших в ранневизантийские времена христианских памятников (до их возрождения в Новое время) все еще связывается в представлениях исследователей с монголо-татарским нашествием и засильем Золотой Орды. Несмотря на переломную в судьбах всей Евразии роль «империи Чингисидов» в XIII-XIV вв., конкретные материалы христианских пещерных памятников, свидетельствуют об иной хронологии в приостановке их функционирования.
Время учреждения Готской архиерейской кафедры относится к началу IV в., когда митрополит Готии Феофил Боспоританский имел резиденцию в Крыму (путь к которой лежал через Боспор), и участвовал в Первом Вселенском соборе Единой Церкви (325г.). Основы территориального разрастания архиерейской кафедры Готии за пределы Таврического полуострова, лежат в событиях самого начала VI в. Это миссия епископов из Аррана (Азербайджана) - Кардоста и Макария. Первый из них, с тремя священниками и четырьмя проповедниками, почти три десятилетия в начале VI в. проповедовал на Юге Восточной Европы [Артамонов 1960: 93-94], и основными проводниками его миссии были воинственные савиры [Шевченко, Уманец 2010: 97-118] – выходцы из Сибири, по имени которых эта северо-восточная часть Евразии получила свое имя. Их перманентный союз с Византией и стабильные союзнические отношения с антами [Шевченко 1977: 39-52], привели к становлению епископских кафедр на южных территориях некогда обширной и могущественной Готской державы IV в. – государства Германариха [Вольфрам 2003], - от Дона до Днестра. Готы были разгромлены гуннами, а эстафету рухнувшей империи Аттилы (452г.) в Днепро-Донском междуречье приняли савиры. Вплетение части савиров в ритмы славянского этногенеза, положившее начало славянскому племени севериев (северян); и сохранение другой части савиров на территории Хазарского каганата, и, впоследствии, уход части этого народа (сувары) на Каму, – под юрисдикцию образовавшейся независимой Волжской Булгарии после 863 г., – маркируют территорию проповеди Кардоста начала VI в. [Артамонов 1962: 91-94]: от бассейна Дона до Поднестровья, по пространствам расселения союзных савирам антов. К этим временам относиться возникновение в Донском бассейне ряда пещерных христианских монастырей (рис.1), как и в других регионах христианской Эйкумены.
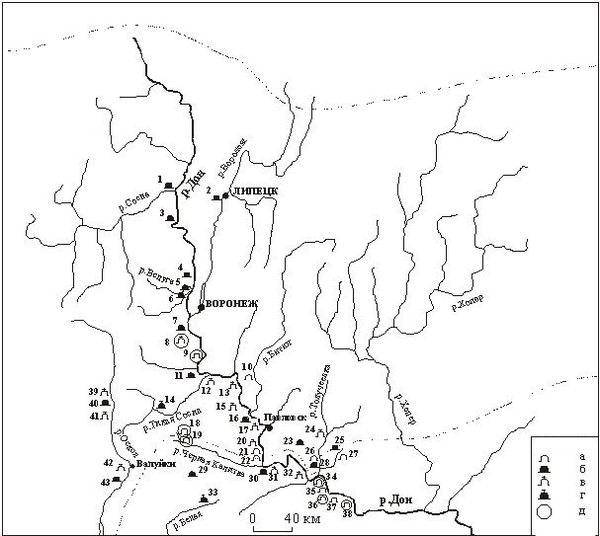
Рис.1. Пещерные памятники Подонья (пунктиром на юге показана граница степи и лесостепи; на севере – граница лесостепи и леса), по В.В. Степкину [2004]: а) исследованные пещеры; б) неисследованные пещеры (в т.ч. – известные по письменным источникам, достоверным рассказам местных жителей, подтверждаемых топографическими картами и планами); в) исследованные пещеры с подземным храмом; г) неисследованные пещеры с подземным храмом; д) пещеры впервые исследованные В.В. Степкиным. Жирным курсивом выделены наименования раннесредневековых пещерных комплексов имеющих ранние литургические устройства. Пещеры у населенных пунктов: 1.- У с. Засосенка. 2.- В г. Липецке. 3.- У с. Каменка. 4.- У с. Хвощеватовка. 5.- У с. Губарево. 6.- Семилукская пещера. 7.- У с. Костенки. 8.- У с. Новосолдатка. 9.- У с. Мечетка (2-е пещеры). 10.- У с. Коротояк. 11.- Дивногорская группа пещер (Большие и Малые Дивы, Селявное, Каземат, Шатрище, Богородицы). 12.- У с. Колыбелька. 13.- Алексеевские пещеры. 14.- Костомаровская группа пещер (8-мь пещер). 15.- У с. Верхний Карабут. 16.- Белогорские пещеры. 17.- У с. Караяшник. 18.- У с Новохарьковка. 19.- У с. Семейки. 20.- У с. Нижний Карабут. 21.- У с. Кулаковка. 22.- Калачеевская пещера. 23.- У с. Скрипниково. 24.- У с. Пески. 25.- У с. Старая Криуша. 26.- У с. Червоно-Чехурск. 27.- У с. Екатериновка. 28.- У с. Новая Калитва. 29.- Гороховская пещера. 30.- Галиевская пещера. 31.- У с. Новобелое. 32.- У с. Старотолучеево. 33.- У с. Красногоровка. 34.- У с. Монастырищина. 35.- Демидовская пещера. 36.- Мигулинские пещеры (2-е пещеры). 37.- У с. Шмарное. 38.- У с. Яблоново. 39.- У с. Холки. 40.- У г. Валуйки. 41.- У с. Кокуевка.
Готская митрополия, куда входила Оногурская епархия Подонья, зафиксирована во времена восстания против хазар крымского епископа Иоанна Готского накануне 791 г. [Артамонов 1962: 258, прим.57, 412; Герцен, Могаричев 1991: 119-122]. Этому крупному Экзархату Церкви были подчинены, из семи епархий, - Астильская, у хазар на Волге (Итильская), и Оногурская (оногуры – болгарское племя между Днепром и Доном) – где-то в Подонье, или в междуречье Дона и Днепра.
«Болгарские территории» (Великую Болгарию) как правило, размещают восточнее Дона – в Приазовье [Артамонов 1962: 152-169]. Но, учитывая место ставки и погребения христианского владетеля Великой Болгарии – Кубрата (рис.2) у с. Малая Перещепина Полтавской губ. на Левобережье Днепра [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988; Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997: 42], - земли Великой Болгарии – Оногурии (и соответственно, Оногурской епископии) следует помещать много северо-западнее: от Дона до Левобережья Среднего Днепра включительно. Именно там, где с последних десятилетий VII в., располагаются памятники алано-болгарской культуры (салтовской) – на Северском Донце и в бассейне Дона, населенного болгарами [Чичуров 1976: 65-80] и до левого берега Днепра, - простиралась Великая Болгария.
Основной военной силой племенного объединения болгар оставались савиры, называвшиеся в этих условиях и в этой среде «черными болгарами» (от «sav» - «черный»; «aric» - «человек», «воин»), что согласно армянским летописным источникам обозначало «черные сыны», «черные воины» [Уманець, Шевченко 1993: 3-13]. Центром савирского княжества («царства гуннов») являлся город Варачан, известный недалеким расположением от «Беленджера», в состав которого входили савиры и Берсилия (барсилы, берсула), причем, последняя частично совпадала с территорией современной Башкирии. «Беленджер», как в результате возможной ошибки переписчиков звучит этот объединяющий термин (савиры + барсилы), считают вариацией названия все тех же Болгар [Артамонов 1962: 184, прим.9-12]. Исследователи с упорством стремятся привязать все перечисленные номенклатуры к Северному Кавказу («царство гуннов», савиров, Беленджер, Варачан): тогда речь шла бы о чрезвычайно маленьком княжестве [Артамонов 1962: 200], вряд ли способном угрожать территориально обширной и могущественной Кавказской Албании VII века. Представляется более чем вероятным, что под этими наименованиями выступает территория Великой Болгарии 682 г., после смерти Кубрата и ухода Аспаруха на Дунай, когда Батбай (в случае его историчности) остался на прежнем месте, но уже под сюзеренатом Хазарии.
Князь этой савирской страны («царства гуннов») выступает под именем Алп-Илитвера, что соответствуют титулу алп-ельтебера – «эфенди», «принца», как в Хазарском Каганате называли великих владетельных князей с номинальной вассальной зависимостью [Marquart 1903: 114-115]. Алп-Илитвер в 661 и 664 гг. наносит Албании военные удары, вынуждающие это значительное и по территории и по военной мощи кавказское царство практически к вассальной зависимости, подтверждая эту зависимость династическим браком и очередным успешным походом 669/670 года. В это время Великая Болгария – еще суверенное государство (до войны с хазарами 679г.).
Посольство, отправленное в 682 г. албанским князем Вараз-Трдата во главе с епископом Исраелем, отправляется в страну Алп-Илитвера, уже вассала Хазарии, не через «Дербентские ворота» (как это произошло бы, будь его «царство гуннов» на берегу Каспия севернее Дербента [Артамонов 1962: 200]), а через Центральный Кавказский хребет между истоками Алазани и Койсу [Артамонов 1962: 186, прим.18]. Посольство направляется не только «севернее Кавказа», но еще и «западнее Кавказа», где лежит Великая Болгария и находится главный город Алп-Илитвера, названный Варачаном, - название фонетически перекликающееся с рекой Бузан, как назван Дон в переписке хазарского царя Иосифа (если под Доном, устье которого является «южной границей с Румом [Византией]» царского письма, как полагал А Гаркави, понимается река «В-д-шан» или «В-р-шан» [Артамонов 1962: 389-391], - то это и вовсе идентично наименованию савирского города).
Христианство было принято Алп-Илитвером вместе со всей савирской аристократией и усиленно насаждалось среди населения: из почитаемого политеистами-савирами дуба был вырезан массивный крест, украшенный «изображениями животных и блестящими крестами» [Артамонов 1962: 188]. А сообщение о вступлении властителя савиров «в семью христианских государей» было направлено армянскому католикосу Сахаку [Артамонов 1962: 189], как возможное свидетельство традиционного сохранения памяти о миссии епископа-армянина Кардоста, проповедовавшего у тех же савиров на полтора столетия ранее.
Если памятники предшествовавшей салтовским в VI-VII вв. (пастырские), распространены в Поднепровье, составляя с предшествующими древностями Южного Приуралья (в Башкирии), и реминисценциями в Поднестровье – Подунавье - некий общий культурный ареал; то памятники собственно салтовской (салтово-маяцкой) культуры конца VII – X вв. распространены по всей территории Хазарского Каганата, и на территории Дунайской Болгарии, где с 680-х гг. обосновались болгары хана Аспаруха. Эти памятники принадлежали болгарам, алано-болгарам, и входившим в их среду савирам, и распространялись в описываемое время на запад до Днепра [Березовець 1965: 47-67], в том числе, включая регион (Полтавская обл.) [Горюнов 1987: 3-7], где найдены погребальные сокровища и среди них - специфически христианские перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии – Кубрата (рис.2) [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988].*1

Рис.2. Перстни из находки под с. Малая Перещепина (Новосенжарского района Полтавской обл.) с монограммой «патрикия Кубрата». Собрание «Золотой кладовой Востока» Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург, Россия.
Крайне интересным является находка в том же микрорегионе постготского (V в.) «речного погребения» [Мацулевич 1934: 89, сл.], где имелся сложносоставной золотой пояс-цепь, во всем схожий с такими же поясами – христианскими реликвиями «от Гроба Господня», в том числе и с поясом, подаренным императором Валентом – защитнику христианства - готскому королю Фритигерну, через посредство епископа Ульфилы [Шевченко 2005: 126-159; он же: наст.изд.]. Христианизация, начавшаяся в эпоху державы готов здесь, на левом берегу Среднего Днепра, продолжалась в эпоху Кубрата.
После смерти Кубрата и хазаро-болгарской войны (679г.), в результате которой часть болгар под водительством сына Кубрата – Аспаруха была вытеснена на Дунай (680г.), Хазарский каганат распространил свою власть на территории, ранее контролировавшиеся союзной Византии – Великой Болгарией (Подонье, Поднепровье). Претензии Хазарии оказались успешными даже в отношении фем (областей) самой Византийской империи (в Крыму), куда в 698 г. бежит сосланный в Херсонес низложенный император Юстиниан II, укрывшись в центре Готской митрополии – Дори [Васильев 1927: 191-199] (видимо, в Эски-Кермене, по заключению Н.И. Репникова [Репников 1932; Веймарн 1958: 28, 54]). Столица Готской митрополии в Крыму (Дори) была в те времена под протекторатом хазар. А Готская митрополия Крыма благополучно продолжала существовать, поскольку Херсонский владыка под решением Трулльского (Дворцового) собора 692г. поставил свою подпись в качестве «Георгия, епископа Херсона Дорантского» (т.е., принадлежавшего к Готской митрополии в Дори) [Васильев 1927: 189-190]. С помощью болгарского хана Тревела (Дунайской Болгарии) к 705 г. Юстиниан II сумел вернуть себе трон Византии [Артамонов 1962:196-198], и остался союзником Хазарского кагана. С хазарским владычеством в Горном Крыму было связано антихазарское восстание Иоанна Готского (до 791г.), после которого наименование Готской митрополии исчезло со страниц исторических источников.
Несмотря на переворот Обадии-бека, сделавшего иудейство государственной религией Хазарского каганата не позднее 820-х гг., христианство продолжало сохранять свой статус в Каганате. Вскоре христианская Византия предоставила Хазарии услуги имперского аристократа (брата жены императора) спафарокандидата Петроны Каматира, под руководством которого, с 834 г. строилась крепость Саркел («Белый Дом») на берегу Дона [Артамонов 1962: 298-308, 328-343]. По Дону в 860-862 гг. пролегает путь в Хазарию и обратно в Херсонскую фему Византии (г.Херсонес в Крыму) св. равноапостольного Кирилла (Константина Философа). Во время миссии Константина Философа 860г., им было крещено на территории Хазарского каганата не менее двухсот человек.
Население Подонья этого времени – носители салтовской культуры – это ассии («ясы» русской летописи) – аланы, смешавшиеся с болгарами [Артамонов 1962: 356; Березовець 1970: 59-74], имевшее обряд погребения (в катакомбах) - происходивший от северокавказского – аланского; и, говорившее на болгарском (тюрском) языке, судя по знакам на камнях салтовских донских городищ. Хотя «серебряные болгары», как утверждают позднесредневековые источники («Хроника Джагфара»), ушли в Волго-Камье около 863г., образовав суверенное государство Волжскую Булгарию, «черные болгары», как называли собственно «савиров», остались под номинальной юрисдикцией Хазарского Каганата; номинальной, поскольку на территории Каганата шла непрерывная гражданская война, с постоянными вспышками восстаний подвластных хазарам народов. Именно «салтовское население» (носители салтово-маяцкой культуры) были наследниками Оногурской епархии, некогда входившей в Готскую митрополию. Восстание этого населения 909 – 912 гг. вместе с гузами и печенегами хазары безжалостно подавили с помощью алан Северного Кавказа [Артамонов 1962: 356, 370], хотя как только угроза миновала, купеческая верхушка Каганата попыталась разделаться с православием и у северокавказских алан также (932 г.) [Артамонов 1962: 364].
Положение православных ясов на Донце и Дону, и соседствующих с ними на Днепровском Левобережье севериев (савиров - «черных болгар») [Шевченко 1977: 39-52], а также алан в Предкавказье спас удар киевского князя Святослава Игоревича по Саркелу и Итилю, разгромивший центральную хазарскую власть в 965 (969) г. [Калитина 1976: 90-101]. После этой войны ясы жили на своем месте – на Донце и в Подонье, еще в начале XII в., когда в 1116 г. сын Владимира Всеволодовича (Мономаха) – Ярополк захватил здесь в плен, во время одного из походов - красавицу-ясыню и женился на ней [Повесть 1950: 201]. Понятно, что взятая Ярополком в жены ассийская княжна, была православной, без чего не стала бы благоверной русской княгиней.
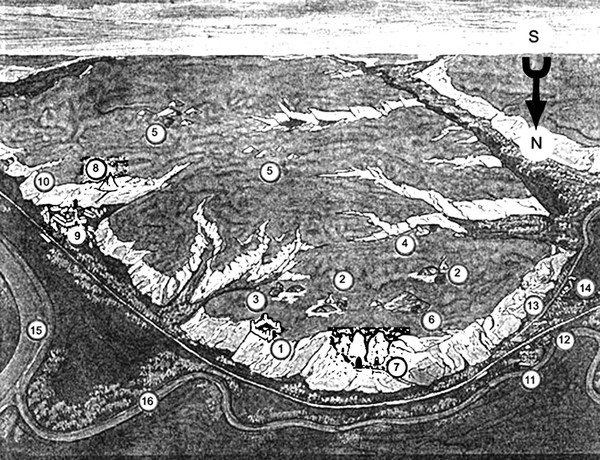
Рис.3. 1) Схема историко-культурного и ландшафтного заповедника «Дивногорье» при впадении в Дон р. Тихой Сосны. 1.- Маяцкая крепость (городище) середины IX-X вв. 2.- Маяцкое селище салтовской культуры VIII-X вв. 3.- Маяцкий гончарный комплекс середины IX-X вв. 4.- Маяцкий некрополь с погребениями середины IX-X вв. 5.- Курганная группа (подкурганные погребения эпохи бронзы). 6.- Крупный одиночный курган. 7.- Пещерная церковь Сицилийской Божьей Матери в подземном монастыре Больших Див. 8.- Пещерная церковь Иоанна Предтечи в Малых Дивах. 9.- Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь. 10.- Пещерная церковь. 11.- Часовня с источником. 12.- Кемпинги. 13.- Автостоянка. 14.- Администрация Музея-заповедника. 15.- Русло р. Тихая Сосна. 16.- Русло р. Дон.

Рис.3. 2) План Маяцкого городища с примыкающими селищем и могильником по отношению ко входу в пещерный комплекс («монастырь» - на плане) по С.А. Плетневой. 1. - Раскопы 1975-1978 гг. (цифрами обозначены номера раскопов). 2. - Распространение «западин» жилых построек при Маяцкой раннесредневековой крепости (городище), отмеченных А.И. Милютиным при исследованиях 1906 г. 3 - Маяцкое городище: крепость VIII-IX вв. 4. - Вход в пещерный монастырь Больших Див.
Еще А.А. Спицын рассматривал наземное Маяцкое городище VIII-X вв. на Дону – известнейший памятник салтовской (эпоним салтово-маяцкой) культуры вместе с его подземными святынями (Большими и Малыми Дивами), как «монастырёк - погост» (рис.3), обслуживавший в качестве погребального христианского центра значительную округу [Спицын 1909: 70-76, сл.]. Сюда, в место функционирования подземной святыни (рис.4), свозили для погребения православные алано-болгары (ясы) и болгары («черные болгары») скончавшихся членов своих семей и общин.
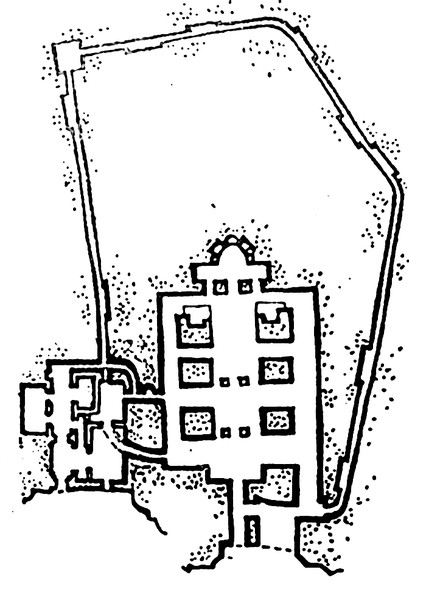
Рис.4. План пещерного монастыря в Малых Дивах по В.Н. Плужникову [1985], (см.рис.3-1: 8-10).
Не исключено, что этот центр во времена вассалитета болгарского населения по отношению к хазарам (VIII-X вв.), наследовал традицию, введенную в столице «царства гуннов» (савиров) Варачане князем Алп-Илитвером. Вопрос о локализации самого города под названием Варачан пока остается открытым. Таковыми могли бы являться центры, к которым относились Борисковский, или Дмитровский могильники (где имеются ранние погребения VII в.) [Березовець 1965: 47-67; он же 1970: 59-74]; а эстафету приняло Правобережное Цимлянское городище [Артамонов 1962: 317-322], погибшее не позднее окончания первой четверти IX в., во время одной из вспышек нескончаемой гражданской войны на территории Хазарского Каганата. Именно оно выделяется качеством, размахом, монументальностью и восточным («закавказско-персидским») мастерством своих крепостных сооружений, свойственных обычно только выдающимся городским и княжеским полисам. Функции оплота христианства в VIII-X вв. приняло на себя Маяцкое городище на Дону, со столь же впечатляющей фортификацией.
Сопоставление Маяцкого городища с христианским монастырем конца VII – первой половины X в. [Шевченко 2004], сделанное А.А. Спицыным, перекликается с миссией по христианизации «черных болгар» («савиров») Алп-Илитвера (682г.), проведенной епископом Исраелем в городе, название которого передано армянскими, арабскими и иудейскими источниками как Варачан.
Такое соотнесение открывает перспективу еще одного сопоставления. Но для несколько иного времени. И для памятника, который С.А. Плетнева связывает с местным населением – наследниками народа хазарского времени, оставившего здесь салтовскую культуру. Это пещерный монастырь в Холках на р.Оскол Донского бассейна [Шевченко 2006: 89-109]. Размеры городища у с. Холок (Новооскольского района Белгородской обл.) необычайно незначительны – всего 1,5 га (рис.5) [Плетнева 1964: 25,28, рис.11].
Рис.5. План «городища» у с.Холки по С.А. Плетневой [1964] – наземной части монастыря, под которым расположены пещеры.
Тем не менее, могильник находится внутри крепостных укреплений городища, как это бывает только на погостах вблизи храмов внутри монастырских стен (укреплений). А погребения, сгруппированные на восточном мысу городища, это ориентированные по оси восток-запад костяки – останки, положенные по требованиям христианского погребального обряда.
Находка в одном из погребений синего витого стеклянного браслета, в случае, если это кобальтовое стекло, может определить дату памятника несколько более ранним периодом [Кропоткин 1957: 35-44], нежели предложенный С.А. Плетневой – XI-XII вв. Тем более, к югу от городища Холок (впритык, через балку) расположено салтовское селище VIII-X веков. Хотя С.А. Плетнева и полагает Холковское городище пограничной крепостью Черниговского княжества, населенной потомками «салтовцев» – алано-болгарского населения Подонья («ясами»), ничто – особенно его размеры, не мешает воспринимать эту крепость как монастырь Черниговской епархии, что не лишало укрепление статуса пограничной крепости. Необычно интересно, что один из немногих пока древнерусских монастырей с полностью археологически установленной территорией – Спасский в Новгороде-Северском [Карманов: наст.изд.] имеет ту же площадь, что и «городище» в Холках - до 1,5 га (150 Х 150 м.). А погребения на территории Холковского «городища» только подтверждают его статус обители. Единственное, что остается неизвестным среди материалов Холковского «городища» (монастыря) – следы или признаки каких-либо монументальных строений – синхронных его культурному слою XI-XII вв. - наземных храмов. Это значит, что ядром кладбища-погоста XI-XII вв. был какой-то иной, и, по всей видимости, единственный имевшийся здесь, подземный храм (рис.6).
Рис.6. План Холкова подземного монастыря (см.рис.1:39) в аксонометрии по В.И. Плужникову [1985]. А.- Пещерный комплекс. В.- Вид подземного храма. 1.- Престол на месте «лежанки» в келье отшельника-первопоселенца. 2.- Обводная галерея для службы «вокруг престола» по чину свт. Василия Великого.
История этого пещерного комплекса видится так. Вначале под холмом была вырыта пещера, построенная по типу «анахоретских галерей-келий», схожих с более поздними киевскими [Бобровский 2002: 156,160, рис.8], но возникших не позднее VII в. Неподалеку от нее в эпоху расселения алано-болгарских племен по территории Хазарского каганата в конце VII-IX в., расположилось селище салтовской культуры. Видимо, во время функционирования жилого поселка из кельи основателя пещерного скита высекается храм, где лежанка инока-основателя (рис.6:1) становиться престолом, а планиметрия подземной Холковской церкви с колонами-останцами строится по образцу прямоугольно спланированных ближневосточных пещерных святынь, типа «Гробниц Синедры». Времена построения Холковского пещерного храма, определяются не позднее VIII в., поскольку престол древнего типа (примыкающий к стене), дополняла вырубленная обводная галерея (рис.6:2) для кругового обхода престола (как в современных ему византийских храмах): по всей видимости, наиболее поздним подобным канонически-планировочным элементом служит галерея для кругового обхода престола, устроенная под синтроном Мирликийской базилики свт.Николая в турецком г.Демре (Мирах Ликийских).
Рис.7. Колонны в наосе пещерного Троицкого храма в подземном монастыре у с. Холки.
Рис.8. Планы Херсонесских склепов IV-VI вв. по В.Л. Якобсону [1959]: 1.- План склепа No 2814 у башни Зинона. 2.- План склепа No 1663. 3, 4.- Планы склепов No/No 2052, 2053 (раскопки 1905 г.).
В эту эпоху прототипом Холковской пещерной церкви (рис.7) могла быть еще служившаяся тогда подземная церковь в Херсонесе, переоборудованная из склепа у башни Зинона (рис.8) [Якобсон 1959: 254, рис.132], и построенная, как следует из ее планиметрии, по образцу «Гробниц Синедры».
Непосредственно после середины IX в., в связи с миссией Константина Философа, когда количество подземных обителей Подонья увеличивается, Холковская пещера превращается в скит из нескольких (не менее 5-ти) подземножителей, ведущих службы в пещерном храме. После разгрома центрального правительства Хазарского каганата Святославом Киевским в 965 (969) г. происходит перегруппировка населения, и над пещерным комплексом Холковского скита возникает наземное укрепление, служащее погостом пещерного храма, а пещерный скит превращается в монастырь, имеющий наземные службы. Возможно, это произошло уже после исторической акции Крещения Руси при св. Владимире (989 г.), когда христианское население Подонья попадает под власть Киевского митрополита, будучи под непосредственным управлением Черниговской архиерейской кафедры (с 992 г.), а Холковская Троицкая обитель становится форпостом Черниговской епархии и Черниговского княжества на восточных рубежах Руси XI-XII веков. Монастырь существовал до так называемого «запустения», после XIV в., точное время наступления которого, по материалам Холковского комплекса, уточнить не удается.
В XIII в. при митрополите Киевском Кирилле не только ведется работа по укреплению позиций твердыни православия – Киево-Печерского монастыря, но и восстанавливается православная епархия на Итиле (Волге) - Сарайская, где некогда при хазарах размещалась Астильская епископия. По сообщению посла Римского папы – Джованни дель Плано Карпини, князь ясский, – владетель Подонья, – жил в это время в ставке Бату-хана [Карамзин 1997: 65, 580, прим.31]. Активная проповедь христианства среди монголов Золотой Орды относится к 1269 г., и усиливается после Собора Русской Православной Церкви 1274 г. под главенством митрополита Кирилла; а в 1297 г. на съезде русских князей во Владимире присутствует экзарх Сарайской епархии епископ Исмаил [Гумилев 1987: 734, 737]. К этому времени относиться не финал, а укрепление христианских центров Подонья, которыми являлись подземные монастыри.
В XIV в., сначала при митрополите Петре (выходце из днестровского пещерного монастыря на р. Рате, первом митрополите, похороненном в Москве), а затем при митрополите Алексии хан Золотой Орды Ахмет подтверждает Владыке Руси грамоту об освобождении от налогов православных духовных институций и лиц, принадлежащих к Церковной иерархии. В это время территория Подонья продолжает оставаться зоной проживания ясов и зоной влияния полиэтнического объединения потомков половцев, куда, однако, вторгаются крымчане, генуэзцы, и множественные орды, в том числе, оказавшиеся под властью темника Мамая, иногда союзного, но часто противостоящего центральному правительству Золотой Орды. Тем не менее, христианские святыни в районах татарского влияния продолжают существовать. К этому времени кроме Дивногорских пещер, еще функционируют комплексы Белогорья, Костомарова (также с нишами-стасидиями), и города Калач (Калачеевская пещера).
Рис.9. План пещерного монастыря в Больших Дивах уходящего под территорию раннесредневекового селища хазарского времени, примыкающего к укреплениям синхронного Маяцкого городища VIII-X вв. (см.: рис.3-1: 7; рис.3-2: 4).
Не позднее, чем к древнерусскому времени относится создание и функционирование второго пещерного монастыря в Дивах (рис.9). Существование пещер Дивногорья Донского бассейна в это время было четко аргументировано В.В. Степкиным [Степкин 2004: 68-75].
Не позднее XIV в. начинает функционировать Святогорский пещерный комплекс на Северском Донце, где, как и в Больших и Малых Дивах, используются погребальные ниши-стасидии.
Рис.10. Предметы из культурного слоя при Святогорском подземном монастыре по Э.Е. Кравченко [1995]: Сланцевая иконка (рисунок иконки А.И. Духина) «Николай Мирликийский в окружении спящих отроков в пещере Эфесской» (С); медальон с «неизвестным святым белого метала» (В), - накладка на лицевую сторону двустворчатой панагии XIV-XV вв; глазированные керамические дискосы (А).
Среди вещевых находок, связанных с пещерами Святогорья, особый интерес представляет сланцевая иконка [Кравченко 1995: 43-50] со свт. Николаем Мирликийским в центре, окруженном изображениями семи спящих отроков в пещере Эфесской (рис.10:С). Находка связана с культурным слоем примонастырских напластований «у ручья» (заметим: у такого же «живоносного источника», также названного во имя свт. Николая Мирликийского, как в Святогорье, была основана и пещерная Поройская пустынь Липецка). Находка такой иконки может указывать на канонические связи, в конкретной исторической коллизии возникновения подземного комплекса над Северским Донцом. Очень вероятно, что основание Святогорских пещер связано с чествованием части мощей свт. Николая, оставшихся в Малой Азии (где, неподалеку расположена и пещера семи отроков Эфесских), после перенесения в 1087 г. мироточивой главы Чудотворца и части его мощей в город Бари на Аппенинском полуострове.
Изображения отроков эфесских оказываются на предметах пластики рядом не только с рельефами Христа и Богородицы, – но, преимущественно – рядом с изображением свт. Николая [Николаева 1983: 1-26, табл. 14:1; 23:2,3; 24:2-6], как на иконке из Святогорья [Шевченко, Богомазова 2006: 157-161] именно в XII-XIV вв. Эта датирующая процветание монастыря вещь, свидетельствующая о включение обители в орбиту паломнических передвижений, относится к «ордынской эпохе», не позднее второй половины XIV в.
Из других находок в культурном слое, связанном с первоначальным существованием Святогорского подземного монастыря, интересен «медальон из белого металла» [Кравченко 1995: 43-50] (рис.10:В). Эта вещь более всего схожа с накладкой на внешнюю лицевую сторону чашечки двустворчатой панагии, которые распространились на Руси в XIV – XV вв. [Рындина 1994: 204-219, рис.5]. Определенные констатации по поводу чрезвычайно схематичного изображения на внешнем корпусе панагии из Святогорья могут оказаться рискованными, поскольку в образе одеяния может равно угадываться «плащ-корзно» или «святительские облачения», а лик с низко опущенными долу очами, мог равно передавать как согбенного годами молитвенника, так и женский, либо моложавый мужской лик.
В силу стилизации черт лика, изображенного на нем «святителя» (?), можно бы предположить в нем Григория Богослова, челюсть которого составляет одну из примечательных святынь в мощехранилищах греческой Святой Горы. Изображение могло принадлежать одному из равно чтимых сподвижников Григория Назианзина: свтт. Василию Великому или Иоанну Златоусту, чьи мощи («всечестная глава») являются достоянием Афонского монастыря Ватопед. На Афоне того времени – с XIV в., также наблюдается активность в пещерных обителях в связи с деятельностью преп. Григория Синаита. Это перекликается и синхронизируется с преданием об основании монастыря на Северском Донце выходцами с Греческого Афона [Шевченко 2010а: гл.6, прим.204]; предание было сохранено местным населением и передавалось в монастырской среде с начала возобновления монашеской жизни в Святогорской обители на Донце в начале XVII века.
Рис.11. Изображение на накладке лицевой стороны серебряной двустворчатой панагии («медальон белого металла») из слоев Святогорского пещерного монастыря. а) Изображение «неизвестного святого» с крестчатым нимбом Христа (видимо, «Христос-Архиерей»); b) «титлы в зерцалах» справа и слева от Фигуры на накладке лицевой створки серебряной панагии XIV-XV вв.
Для понимания изображения на пластинке со Святогорской панагии XIV-XV вв. крайне важны вписанные «в образ» - «титлы»: на медальоне они помещены классически - по обеим сторонам лика, но в «ангельских зерцалах» (хотя последние в иконографии, как правило, несут лишь Имена Бога). На нимбе, окружающем лик (рис.11:а), четко просматривается двойная черта (вертикальная вверху; и горизонтальная – справа), свойственная исключительно «крестчатым нимбам» Христа, а прическа несколько напоминает очень редкое изображение Христа-Архиерея в Софии Киевской, где Иисус передан моложавым [Лидов 1994: 21,27,34].
Сами «титлы», выведенные в «зерцалах», напоминают некоторые «лапидарные знаки» (рис.11:b), часто встречаемые среди начертаний в пещерах Крыма, Добруджи, Поднестровья, Подонья [Гроссу, Василаки 1984; 61-65; Атанасов 1993: 65-67, 71-73]. Возможно, они переданы в одном из семитических алфавитов*2, что более чем вероятно для вещей крымского происхождения, где христианские святыни соседствовали с караимскими общинами на одной территории, как это было в «Крепости Драгоценностей» (Кырк-Ор) в Чуфут-Кале. Такая интерпретация надписей, не исключает ближневосточную, но является более вероятной, нежели применение рунных («младшего футарка») начертаний, которые в средневековые времена могли бы использовать готы на территории крымского Готского княжества Феодоро в XIV в.
Связь Святогорского монастыря на Северском Донце XIV-XV вв. несомненна с Ближним Востоком, в том числе - по находке сланцевой иконки, предназначенной для вставки в оправу (панагия?), связанной с культом оставшихся в Мирах Ликийских (Демре) мощей святителя Николая, связанным с почитанием «спящих отроков в пещере Эфесской». Не исключена связь обители и с Греческим Афоном, о чем пришедшие в 20-30-гг. XVII в. иноки, сохранили предание, услышанное от местного населения [Шевченко 2010а: гл.9, р.4.2, прим.267]. Не менее вероятно, что подземный монастырь на Северском Донце основан выходцами из многочисленных пещерных обителей Крымской Готии (княжества Феодоро), где «давление ислама» уже в XIV в. могло, например, вынудить перенос пещерного монастыря Успения из самой крепости Чуфут-Кале (Кырк-Ор) в ее окрестности [Герцен, Мограричев 1993: 50, 65], что очень уж синхронно строительству в самой крепости соборной мечети в 1346 г. (хотя А.И. Герцен и Ю.М. Могаричев полагают этот перенос результатом простого увеличения площади крепости и перекрытием доступа к отдельным пещерным помещениям новыми оборонительными стенами).
В плане крымских параллелей, тесно связанных с «ордынско-сарайским» кругом, показательны и глазированные тарели-дискосы из Святогорья на Северском Донце (см.рис.10:А) с крестами-четырехлистниками («лист клевера») и «звездой» [Кравченко 1995: табл.5,6], которые имеют аналогии в материалах XV – начала XVI в. Крыма [Мыц 2002: 148, рис.9, 175, рис.33], а стеклянные стаканы и стопки из Святогорья, судя по крымским аналогиям, распространены с начала XIV века. Отметим, что посуда, тех же типов, что найдена в слоях при Святогорском пещерном монастыре на Донце, и характерная для Крыма, наличествует также в синхронных слоях, подвергнутого раскопкам Сарая-Бату – столице Золотой Орды. Судя по датам этих находок, Святогорские пещеры являются самым ранним позднесредневековым пещерным комплексом в Донском бассейне, и, как представляется, могут относиться (по вероятному времени использования иконки) ко времени не позднее пребывания на кафедре Руси митрополита Киприана [Филарет 1852: 146, 170]. Возникновение же этой пещерной обители относиться ко временам задолго до Димитрия Донского, судя по датам найденного стекла (с нач. XIV в.) – не позднее правления в Москве Ивана Калиты (и митрополита Петра); доживает Святогорская пещерная обитель, по наиболее поздно датирующейся глазированной керамике (нач.XVI в.), - до начала царствования Иоанна III. Этот пещерный монастырь не «запустевает», а возникает и благополучно функционирует именно в «золотоордынскую эпоху» (XIV – XV вв.).
Монахи, заново осваивавшие уже существовавшие пещерные монастыри Донского региона во втором (Холки на Осколе) и третьем десятилетии (Святогорский на Северском Донце) XVII века, уже не практиковали коллективных погребений в кимитириях (общих усыпальницах) ниш-стасидиев, как их предшественники по подземным кельям и храмам. Время, когда прервалась традиция пещерного монашества на территории бассейна Дона, до настоящих замечаний о хронологии находок, не было точно локализовано. Ясно, что основная масса пещерных обителей еще функционировала в XIV в., когда только начинает обустраиваться Святогорский подземный монастырь. Вполне понятно, что на этих землях сохранялось какое-то (отнюдь не славянское) население [Шенников 1987], в те времена, которые А.А. Шахматов называл «запустением» этого региона в XIV-XVI вв. Но в XIV-XV вв. здесь все-таки жили.
Несомненным началом противодействия христианству было принятие царевичем Узбеком ислама в качестве государственной религии Золотой Орды в 1312 году. Но постоянные раздоры и династические распри, приведшие к смене Золотой Орды рядом ханств, создавали нишу выживания для степного православия, сохраняя в степи (и лесостепи) высокий статус русских православных Владык – Петра и Алексия, подтверждаемый «ярлыками» владетелей Золотой Орды [Никольский 1983: 53,64,94].
Постоянное противостояние и военные акции конца XIV в., затрагивавшие, в том числе, и территории степи и лесостепи между Азовом и Каспием, приводили к таким крупным коллизиям, как походы Тохтамыша и Тимура, или к ряду менее масштабных, но не менее разрушительных столкновений. Все это инициировало ситуацию неблагоприятную не только для христианства вообще (да и для всего населения в целом), но и для конкретных христианских центров – монастырей, даже подземных, и приходов, функции которых, надо думать, выполняли эти монастыри. Вместе с тем акции подобные походу Тимура не могли не служить проводником для иных религиозных систем – в первую очередь ислама, который стал в XV столетии - ведущей силой не только в Поволжье, но и на Северном Кавказе. К XVII в. постоянные импульсы с востока привели даже к продвижению буддизма в Поволжье, где граф Паллас отметил культовое использование пещер горы Богдо буддистами – калмыками [Муравьев 1977: 51-62; Паллас 1786]. Не исключено, что подобные пещерные святилища буддистов были отголоском использования пещерных вихара (монастырей), активно строившихся в Центральной Азии первой половины I тыс.н.э. Не исключено, что подобным же отголоском в Западной Сибири было почитание идола, установленного в пещере [Миллер 2003: 378, рис.18].
Все XIV столетие событийную канву продолжали сокрушительные походы Едигея, предавшего огню не только ряд селений Подонья, но и предместья Киева; XV столетие - основание Крымского (1436 г.) и Казанского (1438 г.) ханств; усиление Ногайской орды, совершающей походы на Литву (1438 г.), Польшу (1442, 1448 гг.) и Россию (1449, 1451, 1454 гг.). Апофеозом исламского продвижения в Восточноевропейскую степь следует считать захват Турцией Крыма: 1475 г., и закрепление турецких позиций в Северном Причерноморье (Кафа, Очаков, Азов). Значит, временем упадка христианских пещерных комплексов следует считать те фазы неблагоприятствования православию, связанные с прямой угрозой агрессии в степной и лесостепной зоне ордынского влияния, которые были обусловлены событиями, начиная с конца XV столетия. Последняя четверть XV в. оказалась переломной для христианских пещерных святынь в бассейне Дона, запустевших, и пустовавших на протяжении всего века XVI-го. Последний «осколок» Готской митрополии, представленный пещерными монастырями Подонья, некогда (VI-IX вв.) входившими в Оногурскую епархию (а после становления Киевской митрополии 988/989г., в Черниговскую), – обителями, постоянно менявшими «подданство» то Московского, то Киевского митрополитов, исчез вместе с XV столетием.
В данном случае, небесполезным является наблюдение о запустении христианских обителей пограничной и при пограничной полосы грядущей России, в то время, которое называют эпохой ее «становления и укрепления», что соответствует в апогее процесса централизации Московского государства - деятельности царей Иоанна III и его внука Иоанна Васильевича (Грозного). Из чего вытекает неутешительный вывод: «укрепление вертикали власти» отнюдь не способствует и не соответствует «обновлению и процветанию» (или хотя бы простому поддержанию, обычного правопорядка). Только после установления прочного мира в обществе по окончании «Смутного времени»; мира, установленного «соборно» (т.е., общенародно), с воцарением династии Романовых, - со второго десятилетия XVII в. последовало возобновление монастырских обителей в Холках, Больших и Малых Дивах, Шмарном и Костомарово на Дону, деятельность которых прервал период «становления и укрепления» Московского царства с рубежа XV-XVI вв. Предваряя возможные упреки в излишней публицистичности последнего замечания, приведу слова Н.С. Гумилева: «История оправдывает все, что пожелает. Строго говоря, она не учит ничему, ибо содержит в себе все и дает примеры всему. Вот почему нет ничего смехотворнее, чем рассуждать об “уроках истории”. Из них можно извлечь любую политику, любую мораль, любую философию. … Кто в расчете на непостижимое будущее решает строить свои действия, основываясь на неведомом прошлом, тот погиб» [Цит.по: Лукницкая 1990: 150-151].
Литература и примечания
*1 Иоахим Вернер осмотрел хранившиеся тогда в фондах Государственного Эрмитажа в Ленинграде (хранитель Злата Александровна Львова) вещи из Малой Перещепины в конце апреля 1984 г. (чему один из авторов этих строк был свидетелем). Он набросал карандашиком в блокноте зарисовки тех вещей, которые не были известны в иллюстрациях по публикациям 30-х гг. (Манцулевича), и не появились в публикациях 60-х ХХ в. (Артамонова). И через каких-то три месяца в свет вышла монография И.Вернера о погребении на Приднепровских землях Левобережья Днепра (Полтавской обл. Украины) владетеля Великой Болгарии, где исследователь привел расшифровку тамг на перстнях из погребения, принадлежавших «патрикию Кубрату» [Werner 1984], что вызвало массовый отклик в прессе [Вернер 1985]. Как и прочие монографии И.Вернера эта работа была переведена на многие языки мира [Вернер 1988], кроме русского, на который она не переведена и по сей день, поскольку погребение властелина Великой Болгарии оказалось почти в эпицентре «исконно славянских земель», - на территории самой «Русской земли» (Переяславского княжества) - в ядре формирования восточнославянского единства. Это, в глазах загипнотизированных геополитизмом исследователей, «сдвигало» процесс формирования славянства в его восточном глоттогенетическом крыле на время после падения Великой Болгарии. Однозначная трактовка И.Вернером принадлежности погребения кагану Великой Болгарии вызвала несостоятельные возражения чересчур политизированных специалистов-археологов, но при публикации памятника, вопрос о непререкаемой принадлежности тамг из Перещепино Кубрату обойти так и не удалось [Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997]. Однако высказанные в полемике предположения о принадлежности погребения «наследникам Кубрата» (или ограбившему болгарского владавца – хазарскому аристократу) – почему-то продолжают тиражироваться. Хотя никто, например, в аналогичной ситуации не приписывает погребения короля франков Хильдерика (с его перстнем-печаткой) его сыну Хлодвигу, etc.
*2 Знак в левом «зерцале» несколько напоминает «шайн» в семитских алфавитах («m» - «эм» в арамейском; «mem» - «мэм» в финикийском); удвоенный знак в правом «зерцале» схож с сирийским «Kâp-» (мягкий «х»). В случае, если знак «шайн» передает понятие «шехина», обозначающее по А.Д. Амусину [ВДИ, 1961, № 1, с.19] «присутствие божества», то мягкий «h» - титулатуру Бога-Сына: «Христос».
М.И. Артамонов. 1962. История хазар. Л.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 1962. 524 с.
Д.Т. Березовець. 1965. Слов'яни й племена салтiвської культури // Археологiя. Т.XIX. Київ, 1965. С.47–67.
Д.Т. Березовець. 1970. Про ім’я носіїв салтівської культури // Археологія. Київ, 1970. Т. XXIV, с.59-74.
Т.А. Бобровский. 2002. Скальная архитектура средневекового Киева (основные итоги изучения) // Спелестологический Ежегодник Российского общества спелеологических и спелестологических исследований 2000. М., 2002. С.144-161.
Иоахим Вернер 1985. Захоронение в Малом Перещепине и Кубрат, хан болгарский // «Софийские новости (газета). 05.01.1985.
А.А. Васильев. 1927. Время византийского, хазарского и русского влияния (с VI по XI в.) // Изв. ГАИМК.. Вып.V. Л., 1927. С.179-282.
Е.В. Вемарн. 1958. Оборонительные сооружения Эски-Кермен // История и археология средневекового Крыма. М., 1958. С.21-59.
И. Вернер. 1988. Погебалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на българите. София, 1988.
Х. Вольфрам. 2003. Готы. От истоков до середины VI в. (Опыт исторической этнографии). СПб.: «ЮВЕНТА», 2003. 656 с.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1991. О возникновении готской епархии в Таврике // Материалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврики. Вып. II. Симферополь, 1991.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1993. Крепость драгоценностей. Кырк-ор, Чуфут-Кале. Симферополь, 1993.
Е.А. Горюнов. 1987. Пеньковская и салтовская культуры в Среднем Поднепровье // КСИА. Вып.190. 1987. С.3–7.
В.Г. Гроссу, К.Г. Василаки. 1984. Лапидарные знаки Бутученских пещер // Известия Академии наук Молдавской ССР. Вып.3. Кишинев, 1984, с.61-65.
Л.Н. Гумилев. 1989. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 764 с.
В.Н. Залесская, З.А. Львова, Б.И. Маршак, И.В. Соколова, Н.А. Фонякова. 1997. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. СПб: изд.Государственного Эрмитажа, 1997. 336 c.
Т.М. Калинина. 1976. Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времен Святослава // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975 г. М., 1976. С.90-101.
М.Н. Карамзин. 1997. История государства Российского. М., 1997. Т.IV-VI.
Э.Е. Кравченко. 1995. Бытовой комплекс Святогорского монастыря (По результатам археологических исследований 1989 г.) // Материалы исследований, реставрации и использования памятников культуры (к 15-летию основания заповедника). Научно-практический семинар 29-30 мая 1995 г. Славяногорск, 1995, с.43-50
В.В. Кропоткин. 1957. О производстве стекла и стеклянных изделий в средневековых городах Северного Причерноморья и на Руси // КСИИМК, 1957. Вып. 68. С.35-44.
А.М. Лидов. 1994. Схизма и византийская храмовая декорация // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб.: Изд. «Дмитрий Буланин», 1994. С.17-35.
Вера Лукницкая. 1990. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.: Лениздат, 1990. 302 с., илл.
Л.А. Мацулевич. 1934. Погребение варварского князя в Восточной Европе // Изв.ГАИМК. Вып.112. Л., 1934.
Г.Ф. Миллер. 2003. История Сибири. Т.I. Изд. 3-е. СПб., 2003. С.378, рис.18 (630 с., илл., карт.).
В. Муравьев. 1977. Дорогами российских провинций: Путешествия П. С. Палласа. М., 1977.
В.Л. Мыц. 2002. Гэнуэзская Луста и капитанство Готии в 60-70 гг. XV в // Алушта и Алуштинский ркгион с древнейших времен до наших дней. Киев, 2002. С.139-189.
Т.В. Николаева. 1983. Древнерусская мелкая пластика из камня XI-XV веков // САИ. Вып. Е1-60. М., 1983.
Н.М. Никольский. 1983. История Русской Церкви. Изд.3-е. М., 1983.
П.С. Паллас. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства по велению Санктпетербургской Императорской Академии наук / Пер. с нем. Ф. Томанского, В. Зуева. СПб. 1786.- 1788. Ч. 2. Кн. 2 (1770). СПб., 1786. 572 с., ил.;
С.А. Плетнева. 1964. О юго-восточной окраине Русских земель в домонгольское время // КСИА. Вып.99. М., 1964, с.25-29.
В.И. Плужников. 1985. Пещерные монастыри на Дону и Осколе // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Города, ансамбли, зодчие. М.,1985. С.93-111.
Повесть временных лет. Ч.I. М.-Л.: изд. АН СССР, 1950.
Н.И. Репников. 1932. Раскопки Эски-Керменского могильника в 1928 и 1929 гг. // Изв.ГАИМК, 1932. Т. 12, вып. 1–8, с.107–152.
А.В. Рындина. 1994. О литургической символике древнерусских серебряных панагий // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб.: Изд. «Дмитрий Буланин», 1994. С.204-219.
А.А. Спицын. 1909. Историко-археологические разыскания. I. Исконные обитатели Дона и Донца // ЖМНП. 1909, январь, с.70-76, сл.
В.В. Степкин. 2004. Культовые пещеры Среднего Дона (цикл статей) // Спелестологические исследования Российского общества спелеологических и спелестологических исследований (РОСИ): Спелестологический Ежегодник РОСИ, вып.4. М., 2004: 1) «История изучения культовых пещерных сооружений бассейна Дона и Оскола» (с.18-28); 2) «Географические особенности распространения пещерных памятников на Дону и Осколе» (с.29-33); 3) «Пещерные памятники бассейна Верхнего Дона» (с.34-40); 4) «Пещерные памятники Среднедонского региона» (с.41-137); 5) «Пещерные памятники Поосколья» (с.138-146); 6) «Типологическая классификация подземных сооружений Дона и Оскола» (с.147-158); 7) «История появления и развития пещеростроительства в Донском регионе» (с.159-168); 8) «Опыт расчета трудовых затрат и реконструкция процесса организации производства при строительстве пещер Дона» (с.169-177); 9) «Социально-психологические аспекты пещеростроительства в Донском регионе» (с.178-185); 10) «Религиозно-мифологические мотивы в устройстве и оформлении пещерных памятников Придонья» (с.186-197).
О.М. Уманець, Ю.Ю. Шевченко. 1993. Проблема культурогенезу давньорусьоi "севери" з центром у Чернiговi // Проблеми icторичного i географiчного краезнавства Чернiгiвщини. Вип. II. Чернiгiв, 1993, с.3–13.
Филарет (Гумилевский), Архиепископ. 1852. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Харьков, 1852. Т.1.
И.С. Чичуров. 1976. Экскурс Феофана о протоболгарах // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975 г. М.: «Наука», 1976. С.65-80.
А.А. Шенников. 1987. Червленный Яр. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV-XVI вв. Л., 1987. 142 с.
Ю.Ю. Шевченко. 1977. На рубеже двух этнических субстратов Восточной Европы VIII-X вв. // Этнография народов Восточной Европы / Отв.ред. А.А. Шенников. Л., 1977. С.39-57.
Ю.Ю. Шевченко. 2004. Пещерные христианские монастыри Подонья: начало традиции // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиция. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 1 - 4 декабря 2004 г. / Отв.ред. Д.Г. Савинов. СПб., 2004. С.196-201.
Шевченко Ю.Ю. 2005. Реликвия из величайшей пещерной святыни христианского мира // Славянский ход 2005. Материалы и исследования. Вып.2. Ханты-Мансийск – Сургут: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; «Общество русской культуры», 2005. С.126-159
Ю.Ю. Шевченко. 2006. Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве // Археология, этнография и антропологии Евразии. No 1 (25) 2006, с. 89 - 109.
Ю.Ю. Шевченко. 2010. Храмы христиан юга Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип.3. Київ – Глухiв: Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’ятникiв iсторiї та культури, 2010 (355 с.). С.67-75.
Ю.Ю. Шевченко. 2010а. Христианские пещерные святыни / Отв.ред. чл.-корр.РАН К.В. Чистов. СПб.: «Наука», 2010, Т.II.
Ю.Ю. Шевченко, Т.Г. Богомазова. 2006. Шиферные иконки Руси – амулеты от гробов предков (мысли о возможной интерпретации) // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной. ТД. Санкт-Петербург, 10-15 апреля 2006 г. Совместно с семинаром Государственного Эрмитажа «Ювелирное искусство и материальная культура». СПб.: Изд. СПбИИ РАН «Нестор-История», 2006. С.157-161
Ю.Ю. Шевченко, А.Н. Уманец. 2010. Палеоэтнографическая ситуация V-VII вв. в Северном Причерноморье и появление раннехристианских пещерных памятников // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН, С.118-122.
В.Л. Якобсон. 1959. Раннесредневековый Херсонес // МИА, No 63. М.; Л., 1959.
J. Marquart. 1903. Osteuropaische und Ostasiatsche Streifzuge. Leipzig, 1903
Werner Joachim. 1984. Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kubrat, Kagan der Bulgaren. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch – Historische Klasse, Abhandlungen (Neue Folge) Heft 91. Munchen, 1984.
Осколки Готской митрополии:
наследие Оногурской епархии в Подонье.
Начало и конец такого явления, как христианские пещерные обители Подонья (рис.1), должны рассматриваться в связи с общей, в самом широком плане, динамикой распространения христианства в Восточной Европе. Если по поводу рассмотрения начал христианства на Дону в раннесредневековые времена (Оногурская епархия), уже высказаны некоторые мысли [Шевченко 2004: 196-201; Шевченко 2010: 67-75; Шевченко, Уманец 2010: 97-118], то эпоха финала возникших в ранневизантийские времена христианских памятников (до их возрождения в Новое время) все еще связывается в представлениях исследователей с монголо-татарским нашествием и засильем Золотой Орды. Несмотря на переломную в судьбах всей Евразии роль «империи Чингисидов» в XIII-XIV вв., конкретные материалы христианских пещерных памятников, свидетельствуют об иной хронологии в приостановке их функционирования.
Время учреждения Готской архиерейской кафедры относится к началу IV в., когда митрополит Готии Феофил Боспоританский имел резиденцию в Крыму (путь к которой лежал через Боспор), и участвовал в Первом Вселенском соборе Единой Церкви (325г.). Основы территориального разрастания архиерейской кафедры Готии за пределы Таврического полуострова, лежат в событиях самого начала VI в. Это миссия епископов из Аррана (Азербайджана) - Кардоста и Макария. Первый из них, с тремя священниками и четырьмя проповедниками, почти три десятилетия в начале VI в. проповедовал на Юге Восточной Европы [Артамонов 1960: 93-94], и основными проводниками его миссии были воинственные савиры [Шевченко, Уманец 2010: 97-118] – выходцы из Сибири, по имени которых эта северо-восточная часть Евразии получила свое имя. Их перманентный союз с Византией и стабильные союзнические отношения с антами [Шевченко 1977: 39-52], привели к становлению епископских кафедр на южных территориях некогда обширной и могущественной Готской державы IV в. – государства Германариха [Вольфрам 2003], - от Дона до Днестра. Готы были разгромлены гуннами, а эстафету рухнувшей империи Аттилы (452г.) в Днепро-Донском междуречье приняли савиры. Вплетение части савиров в ритмы славянского этногенеза, положившее начало славянскому племени севериев (северян); и сохранение другой части савиров на территории Хазарского каганата, и, впоследствии, уход части этого народа (сувары) на Каму, – под юрисдикцию образовавшейся независимой Волжской Булгарии после 863 г., – маркируют территорию проповеди Кардоста начала VI в. [Артамонов 1962: 91-94]: от бассейна Дона до Поднестровья, по пространствам расселения союзных савирам антов. К этим временам относиться возникновение в Донском бассейне ряда пещерных христианских монастырей (рис.1), как и в других регионах христианской Эйкумены.
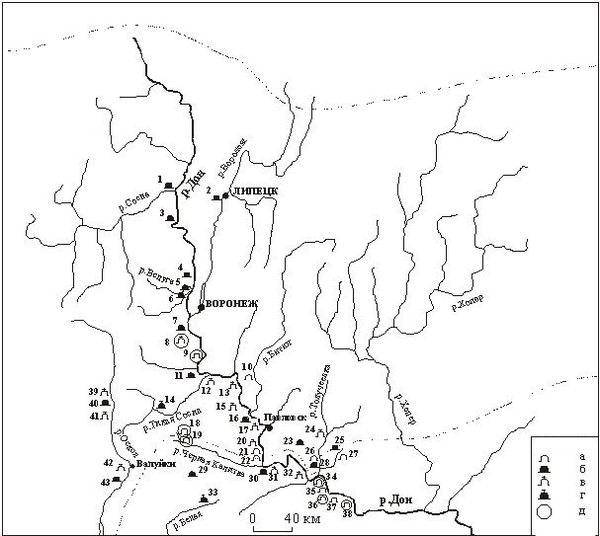
Рис.1. Пещерные памятники Подонья (пунктиром на юге показана граница степи и лесостепи; на севере – граница лесостепи и леса), по В.В. Степкину [2004]: а) исследованные пещеры; б) неисследованные пещеры (в т.ч. – известные по письменным источникам, достоверным рассказам местных жителей, подтверждаемых топографическими картами и планами); в) исследованные пещеры с подземным храмом; г) неисследованные пещеры с подземным храмом; д) пещеры впервые исследованные В.В. Степкиным. Жирным курсивом выделены наименования раннесредневековых пещерных комплексов имеющих ранние литургические устройства. Пещеры у населенных пунктов: 1.- У с. Засосенка. 2.- В г. Липецке. 3.- У с. Каменка. 4.- У с. Хвощеватовка. 5.- У с. Губарево. 6.- Семилукская пещера. 7.- У с. Костенки. 8.- У с. Новосолдатка. 9.- У с. Мечетка (2-е пещеры). 10.- У с. Коротояк. 11.- Дивногорская группа пещер (Большие и Малые Дивы, Селявное, Каземат, Шатрище, Богородицы). 12.- У с. Колыбелька. 13.- Алексеевские пещеры. 14.- Костомаровская группа пещер (8-мь пещер). 15.- У с. Верхний Карабут. 16.- Белогорские пещеры. 17.- У с. Караяшник. 18.- У с Новохарьковка. 19.- У с. Семейки. 20.- У с. Нижний Карабут. 21.- У с. Кулаковка. 22.- Калачеевская пещера. 23.- У с. Скрипниково. 24.- У с. Пески. 25.- У с. Старая Криуша. 26.- У с. Червоно-Чехурск. 27.- У с. Екатериновка. 28.- У с. Новая Калитва. 29.- Гороховская пещера. 30.- Галиевская пещера. 31.- У с. Новобелое. 32.- У с. Старотолучеево. 33.- У с. Красногоровка. 34.- У с. Монастырищина. 35.- Демидовская пещера. 36.- Мигулинские пещеры (2-е пещеры). 37.- У с. Шмарное. 38.- У с. Яблоново. 39.- У с. Холки. 40.- У г. Валуйки. 41.- У с. Кокуевка.
Готская митрополия, куда входила Оногурская епархия Подонья, зафиксирована во времена восстания против хазар крымского епископа Иоанна Готского накануне 791 г. [Артамонов 1962: 258, прим.57, 412; Герцен, Могаричев 1991: 119-122]. Этому крупному Экзархату Церкви были подчинены, из семи епархий, - Астильская, у хазар на Волге (Итильская), и Оногурская (оногуры – болгарское племя между Днепром и Доном) – где-то в Подонье, или в междуречье Дона и Днепра.
«Болгарские территории» (Великую Болгарию) как правило, размещают восточнее Дона – в Приазовье [Артамонов 1962: 152-169]. Но, учитывая место ставки и погребения христианского владетеля Великой Болгарии – Кубрата (рис.2) у с. Малая Перещепина Полтавской губ. на Левобережье Днепра [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988; Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997: 42], - земли Великой Болгарии – Оногурии (и соответственно, Оногурской епископии) следует помещать много северо-западнее: от Дона до Левобережья Среднего Днепра включительно. Именно там, где с последних десятилетий VII в., располагаются памятники алано-болгарской культуры (салтовской) – на Северском Донце и в бассейне Дона, населенного болгарами [Чичуров 1976: 65-80] и до левого берега Днепра, - простиралась Великая Болгария.
Основной военной силой племенного объединения болгар оставались савиры, называвшиеся в этих условиях и в этой среде «черными болгарами» (от «sav» - «черный»; «aric» - «человек», «воин»), что согласно армянским летописным источникам обозначало «черные сыны», «черные воины» [Уманець, Шевченко 1993: 3-13]. Центром савирского княжества («царства гуннов») являлся город Варачан, известный недалеким расположением от «Беленджера», в состав которого входили савиры и Берсилия (барсилы, берсула), причем, последняя частично совпадала с территорией современной Башкирии. «Беленджер», как в результате возможной ошибки переписчиков звучит этот объединяющий термин (савиры + барсилы), считают вариацией названия все тех же Болгар [Артамонов 1962: 184, прим.9-12]. Исследователи с упорством стремятся привязать все перечисленные номенклатуры к Северному Кавказу («царство гуннов», савиров, Беленджер, Варачан): тогда речь шла бы о чрезвычайно маленьком княжестве [Артамонов 1962: 200], вряд ли способном угрожать территориально обширной и могущественной Кавказской Албании VII века. Представляется более чем вероятным, что под этими наименованиями выступает территория Великой Болгарии 682 г., после смерти Кубрата и ухода Аспаруха на Дунай, когда Батбай (в случае его историчности) остался на прежнем месте, но уже под сюзеренатом Хазарии.
Князь этой савирской страны («царства гуннов») выступает под именем Алп-Илитвера, что соответствуют титулу алп-ельтебера – «эфенди», «принца», как в Хазарском Каганате называли великих владетельных князей с номинальной вассальной зависимостью [Marquart 1903: 114-115]. Алп-Илитвер в 661 и 664 гг. наносит Албании военные удары, вынуждающие это значительное и по территории и по военной мощи кавказское царство практически к вассальной зависимости, подтверждая эту зависимость династическим браком и очередным успешным походом 669/670 года. В это время Великая Болгария – еще суверенное государство (до войны с хазарами 679г.).
Посольство, отправленное в 682 г. албанским князем Вараз-Трдата во главе с епископом Исраелем, отправляется в страну Алп-Илитвера, уже вассала Хазарии, не через «Дербентские ворота» (как это произошло бы, будь его «царство гуннов» на берегу Каспия севернее Дербента [Артамонов 1962: 200]), а через Центральный Кавказский хребет между истоками Алазани и Койсу [Артамонов 1962: 186, прим.18]. Посольство направляется не только «севернее Кавказа», но еще и «западнее Кавказа», где лежит Великая Болгария и находится главный город Алп-Илитвера, названный Варачаном, - название фонетически перекликающееся с рекой Бузан, как назван Дон в переписке хазарского царя Иосифа (если под Доном, устье которого является «южной границей с Румом [Византией]» царского письма, как полагал А Гаркави, понимается река «В-д-шан» или «В-р-шан» [Артамонов 1962: 389-391], - то это и вовсе идентично наименованию савирского города).
Христианство было принято Алп-Илитвером вместе со всей савирской аристократией и усиленно насаждалось среди населения: из почитаемого политеистами-савирами дуба был вырезан массивный крест, украшенный «изображениями животных и блестящими крестами» [Артамонов 1962: 188]. А сообщение о вступлении властителя савиров «в семью христианских государей» было направлено армянскому католикосу Сахаку [Артамонов 1962: 189], как возможное свидетельство традиционного сохранения памяти о миссии епископа-армянина Кардоста, проповедовавшего у тех же савиров на полтора столетия ранее.
Если памятники предшествовавшей салтовским в VI-VII вв. (пастырские), распространены в Поднепровье, составляя с предшествующими древностями Южного Приуралья (в Башкирии), и реминисценциями в Поднестровье – Подунавье - некий общий культурный ареал; то памятники собственно салтовской (салтово-маяцкой) культуры конца VII – X вв. распространены по всей территории Хазарского Каганата, и на территории Дунайской Болгарии, где с 680-х гг. обосновались болгары хана Аспаруха. Эти памятники принадлежали болгарам, алано-болгарам, и входившим в их среду савирам, и распространялись в описываемое время на запад до Днепра [Березовець 1965: 47-67], в том числе, включая регион (Полтавская обл.) [Горюнов 1987: 3-7], где найдены погребальные сокровища и среди них - специфически христианские перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии – Кубрата (рис.2) [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988].*1

Рис.2. Перстни из находки под с. Малая Перещепина (Новосенжарского района Полтавской обл.) с монограммой «патрикия Кубрата». Собрание «Золотой кладовой Востока» Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург, Россия.
Крайне интересным является находка в том же микрорегионе постготского (V в.) «речного погребения» [Мацулевич 1934: 89, сл.], где имелся сложносоставной золотой пояс-цепь, во всем схожий с такими же поясами – христианскими реликвиями «от Гроба Господня», в том числе и с поясом, подаренным императором Валентом – защитнику христианства - готскому королю Фритигерну, через посредство епископа Ульфилы [Шевченко 2005: 126-159; он же: наст.изд.]. Христианизация, начавшаяся в эпоху державы готов здесь, на левом берегу Среднего Днепра, продолжалась в эпоху Кубрата.
После смерти Кубрата и хазаро-болгарской войны (679г.), в результате которой часть болгар под водительством сына Кубрата – Аспаруха была вытеснена на Дунай (680г.), Хазарский каганат распространил свою власть на территории, ранее контролировавшиеся союзной Византии – Великой Болгарией (Подонье, Поднепровье). Претензии Хазарии оказались успешными даже в отношении фем (областей) самой Византийской империи (в Крыму), куда в 698 г. бежит сосланный в Херсонес низложенный император Юстиниан II, укрывшись в центре Готской митрополии – Дори [Васильев 1927: 191-199] (видимо, в Эски-Кермене, по заключению Н.И. Репникова [Репников 1932; Веймарн 1958: 28, 54]). Столица Готской митрополии в Крыму (Дори) была в те времена под протекторатом хазар. А Готская митрополия Крыма благополучно продолжала существовать, поскольку Херсонский владыка под решением Трулльского (Дворцового) собора 692г. поставил свою подпись в качестве «Георгия, епископа Херсона Дорантского» (т.е., принадлежавшего к Готской митрополии в Дори) [Васильев 1927: 189-190]. С помощью болгарского хана Тревела (Дунайской Болгарии) к 705 г. Юстиниан II сумел вернуть себе трон Византии [Артамонов 1962:196-198], и остался союзником Хазарского кагана. С хазарским владычеством в Горном Крыму было связано антихазарское восстание Иоанна Готского (до 791г.), после которого наименование Готской митрополии исчезло со страниц исторических источников.
Несмотря на переворот Обадии-бека, сделавшего иудейство государственной религией Хазарского каганата не позднее 820-х гг., христианство продолжало сохранять свой статус в Каганате. Вскоре христианская Византия предоставила Хазарии услуги имперского аристократа (брата жены императора) спафарокандидата Петроны Каматира, под руководством которого, с 834 г. строилась крепость Саркел («Белый Дом») на берегу Дона [Артамонов 1962: 298-308, 328-343]. По Дону в 860-862 гг. пролегает путь в Хазарию и обратно в Херсонскую фему Византии (г.Херсонес в Крыму) св. равноапостольного Кирилла (Константина Философа). Во время миссии Константина Философа 860г., им было крещено на территории Хазарского каганата не менее двухсот человек.
Население Подонья этого времени – носители салтовской культуры – это ассии («ясы» русской летописи) – аланы, смешавшиеся с болгарами [Артамонов 1962: 356; Березовець 1970: 59-74], имевшее обряд погребения (в катакомбах) - происходивший от северокавказского – аланского; и, говорившее на болгарском (тюрском) языке, судя по знакам на камнях салтовских донских городищ. Хотя «серебряные болгары», как утверждают позднесредневековые источники («Хроника Джагфара»), ушли в Волго-Камье около 863г., образовав суверенное государство Волжскую Булгарию, «черные болгары», как называли собственно «савиров», остались под номинальной юрисдикцией Хазарского Каганата; номинальной, поскольку на территории Каганата шла непрерывная гражданская война, с постоянными вспышками восстаний подвластных хазарам народов. Именно «салтовское население» (носители салтово-маяцкой культуры) были наследниками Оногурской епархии, некогда входившей в Готскую митрополию. Восстание этого населения 909 – 912 гг. вместе с гузами и печенегами хазары безжалостно подавили с помощью алан Северного Кавказа [Артамонов 1962: 356, 370], хотя как только угроза миновала, купеческая верхушка Каганата попыталась разделаться с православием и у северокавказских алан также (932 г.) [Артамонов 1962: 364].
Положение православных ясов на Донце и Дону, и соседствующих с ними на Днепровском Левобережье севериев (савиров - «черных болгар») [Шевченко 1977: 39-52], а также алан в Предкавказье спас удар киевского князя Святослава Игоревича по Саркелу и Итилю, разгромивший центральную хазарскую власть в 965 (969) г. [Калитина 1976: 90-101]. После этой войны ясы жили на своем месте – на Донце и в Подонье, еще в начале XII в., когда в 1116 г. сын Владимира Всеволодовича (Мономаха) – Ярополк захватил здесь в плен, во время одного из походов - красавицу-ясыню и женился на ней [Повесть 1950: 201]. Понятно, что взятая Ярополком в жены ассийская княжна, была православной, без чего не стала бы благоверной русской княгиней.
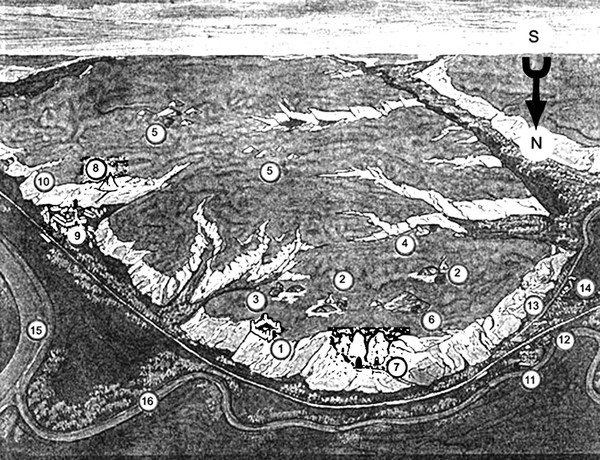
Рис.3. 1) Схема историко-культурного и ландшафтного заповедника «Дивногорье» при впадении в Дон р. Тихой Сосны. 1.- Маяцкая крепость (городище) середины IX-X вв. 2.- Маяцкое селище салтовской культуры VIII-X вв. 3.- Маяцкий гончарный комплекс середины IX-X вв. 4.- Маяцкий некрополь с погребениями середины IX-X вв. 5.- Курганная группа (подкурганные погребения эпохи бронзы). 6.- Крупный одиночный курган. 7.- Пещерная церковь Сицилийской Божьей Матери в подземном монастыре Больших Див. 8.- Пещерная церковь Иоанна Предтечи в Малых Дивах. 9.- Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь. 10.- Пещерная церковь. 11.- Часовня с источником. 12.- Кемпинги. 13.- Автостоянка. 14.- Администрация Музея-заповедника. 15.- Русло р. Тихая Сосна. 16.- Русло р. Дон.

Рис.3. 2) План Маяцкого городища с примыкающими селищем и могильником по отношению ко входу в пещерный комплекс («монастырь» - на плане) по С.А. Плетневой. 1. - Раскопы 1975-1978 гг. (цифрами обозначены номера раскопов). 2. - Распространение «западин» жилых построек при Маяцкой раннесредневековой крепости (городище), отмеченных А.И. Милютиным при исследованиях 1906 г. 3 - Маяцкое городище: крепость VIII-IX вв. 4. - Вход в пещерный монастырь Больших Див.
Еще А.А. Спицын рассматривал наземное Маяцкое городище VIII-X вв. на Дону – известнейший памятник салтовской (эпоним салтово-маяцкой) культуры вместе с его подземными святынями (Большими и Малыми Дивами), как «монастырёк - погост» (рис.3), обслуживавший в качестве погребального христианского центра значительную округу [Спицын 1909: 70-76, сл.]. Сюда, в место функционирования подземной святыни (рис.4), свозили для погребения православные алано-болгары (ясы) и болгары («черные болгары») скончавшихся членов своих семей и общин.
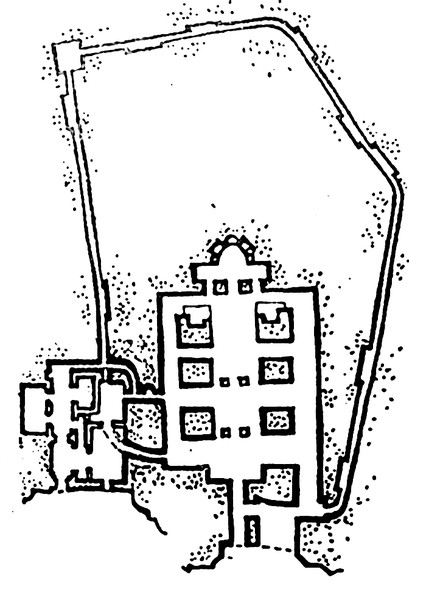
Рис.4. План пещерного монастыря в Малых Дивах по В.Н. Плужникову [1985], (см.рис.3-1: 8-10).
Не исключено, что этот центр во времена вассалитета болгарского населения по отношению к хазарам (VIII-X вв.), наследовал традицию, введенную в столице «царства гуннов» (савиров) Варачане князем Алп-Илитвером. Вопрос о локализации самого города под названием Варачан пока остается открытым. Таковыми могли бы являться центры, к которым относились Борисковский, или Дмитровский могильники (где имеются ранние погребения VII в.) [Березовець 1965: 47-67; он же 1970: 59-74]; а эстафету приняло Правобережное Цимлянское городище [Артамонов 1962: 317-322], погибшее не позднее окончания первой четверти IX в., во время одной из вспышек нескончаемой гражданской войны на территории Хазарского Каганата. Именно оно выделяется качеством, размахом, монументальностью и восточным («закавказско-персидским») мастерством своих крепостных сооружений, свойственных обычно только выдающимся городским и княжеским полисам. Функции оплота христианства в VIII-X вв. приняло на себя Маяцкое городище на Дону, со столь же впечатляющей фортификацией.
Сопоставление Маяцкого городища с христианским монастырем конца VII – первой половины X в. [Шевченко 2004], сделанное А.А. Спицыным, перекликается с миссией по христианизации «черных болгар» («савиров») Алп-Илитвера (682г.), проведенной епископом Исраелем в городе, название которого передано армянскими, арабскими и иудейскими источниками как Варачан.
Такое соотнесение открывает перспективу еще одного сопоставления. Но для несколько иного времени. И для памятника, который С.А. Плетнева связывает с местным населением – наследниками народа хазарского времени, оставившего здесь салтовскую культуру. Это пещерный монастырь в Холках на р.Оскол Донского бассейна [Шевченко 2006: 89-109]. Размеры городища у с. Холок (Новооскольского района Белгородской обл.) необычайно незначительны – всего 1,5 га (рис.5) [Плетнева 1964: 25,28, рис.11].
Рис.5. План «городища» у с.Холки по С.А. Плетневой [1964] – наземной части монастыря, под которым расположены пещеры.
Тем не менее, могильник находится внутри крепостных укреплений городища, как это бывает только на погостах вблизи храмов внутри монастырских стен (укреплений). А погребения, сгруппированные на восточном мысу городища, это ориентированные по оси восток-запад костяки – останки, положенные по требованиям христианского погребального обряда.
Находка в одном из погребений синего витого стеклянного браслета, в случае, если это кобальтовое стекло, может определить дату памятника несколько более ранним периодом [Кропоткин 1957: 35-44], нежели предложенный С.А. Плетневой – XI-XII вв. Тем более, к югу от городища Холок (впритык, через балку) расположено салтовское селище VIII-X веков. Хотя С.А. Плетнева и полагает Холковское городище пограничной крепостью Черниговского княжества, населенной потомками «салтовцев» – алано-болгарского населения Подонья («ясами»), ничто – особенно его размеры, не мешает воспринимать эту крепость как монастырь Черниговской епархии, что не лишало укрепление статуса пограничной крепости. Необычно интересно, что один из немногих пока древнерусских монастырей с полностью археологически установленной территорией – Спасский в Новгороде-Северском [Карманов: наст.изд.] имеет ту же площадь, что и «городище» в Холках - до 1,5 га (150 Х 150 м.). А погребения на территории Холковского «городища» только подтверждают его статус обители. Единственное, что остается неизвестным среди материалов Холковского «городища» (монастыря) – следы или признаки каких-либо монументальных строений – синхронных его культурному слою XI-XII вв. - наземных храмов. Это значит, что ядром кладбища-погоста XI-XII вв. был какой-то иной, и, по всей видимости, единственный имевшийся здесь, подземный храм (рис.6).
Рис.6. План Холкова подземного монастыря (см.рис.1:39) в аксонометрии по В.И. Плужникову [1985]. А.- Пещерный комплекс. В.- Вид подземного храма. 1.- Престол на месте «лежанки» в келье отшельника-первопоселенца. 2.- Обводная галерея для службы «вокруг престола» по чину свт. Василия Великого.
История этого пещерного комплекса видится так. Вначале под холмом была вырыта пещера, построенная по типу «анахоретских галерей-келий», схожих с более поздними киевскими [Бобровский 2002: 156,160, рис.8], но возникших не позднее VII в. Неподалеку от нее в эпоху расселения алано-болгарских племен по территории Хазарского каганата в конце VII-IX в., расположилось селище салтовской культуры. Видимо, во время функционирования жилого поселка из кельи основателя пещерного скита высекается храм, где лежанка инока-основателя (рис.6:1) становиться престолом, а планиметрия подземной Холковской церкви с колонами-останцами строится по образцу прямоугольно спланированных ближневосточных пещерных святынь, типа «Гробниц Синедры». Времена построения Холковского пещерного храма, определяются не позднее VIII в., поскольку престол древнего типа (примыкающий к стене), дополняла вырубленная обводная галерея (рис.6:2) для кругового обхода престола (как в современных ему византийских храмах): по всей видимости, наиболее поздним подобным канонически-планировочным элементом служит галерея для кругового обхода престола, устроенная под синтроном Мирликийской базилики свт.Николая в турецком г.Демре (Мирах Ликийских).
Рис.7. Колонны в наосе пещерного Троицкого храма в подземном монастыре у с. Холки.
Рис.8. Планы Херсонесских склепов IV-VI вв. по В.Л. Якобсону [1959]: 1.- План склепа No 2814 у башни Зинона. 2.- План склепа No 1663. 3, 4.- Планы склепов No/No 2052, 2053 (раскопки 1905 г.).
В эту эпоху прототипом Холковской пещерной церкви (рис.7) могла быть еще служившаяся тогда подземная церковь в Херсонесе, переоборудованная из склепа у башни Зинона (рис.8) [Якобсон 1959: 254, рис.132], и построенная, как следует из ее планиметрии, по образцу «Гробниц Синедры».
Непосредственно после середины IX в., в связи с миссией Константина Философа, когда количество подземных обителей Подонья увеличивается, Холковская пещера превращается в скит из нескольких (не менее 5-ти) подземножителей, ведущих службы в пещерном храме. После разгрома центрального правительства Хазарского каганата Святославом Киевским в 965 (969) г. происходит перегруппировка населения, и над пещерным комплексом Холковского скита возникает наземное укрепление, служащее погостом пещерного храма, а пещерный скит превращается в монастырь, имеющий наземные службы. Возможно, это произошло уже после исторической акции Крещения Руси при св. Владимире (989 г.), когда христианское население Подонья попадает под власть Киевского митрополита, будучи под непосредственным управлением Черниговской архиерейской кафедры (с 992 г.), а Холковская Троицкая обитель становится форпостом Черниговской епархии и Черниговского княжества на восточных рубежах Руси XI-XII веков. Монастырь существовал до так называемого «запустения», после XIV в., точное время наступления которого, по материалам Холковского комплекса, уточнить не удается.
В XIII в. при митрополите Киевском Кирилле не только ведется работа по укреплению позиций твердыни православия – Киево-Печерского монастыря, но и восстанавливается православная епархия на Итиле (Волге) - Сарайская, где некогда при хазарах размещалась Астильская епископия. По сообщению посла Римского папы – Джованни дель Плано Карпини, князь ясский, – владетель Подонья, – жил в это время в ставке Бату-хана [Карамзин 1997: 65, 580, прим.31]. Активная проповедь христианства среди монголов Золотой Орды относится к 1269 г., и усиливается после Собора Русской Православной Церкви 1274 г. под главенством митрополита Кирилла; а в 1297 г. на съезде русских князей во Владимире присутствует экзарх Сарайской епархии епископ Исмаил [Гумилев 1987: 734, 737]. К этому времени относиться не финал, а укрепление христианских центров Подонья, которыми являлись подземные монастыри.
В XIV в., сначала при митрополите Петре (выходце из днестровского пещерного монастыря на р. Рате, первом митрополите, похороненном в Москве), а затем при митрополите Алексии хан Золотой Орды Ахмет подтверждает Владыке Руси грамоту об освобождении от налогов православных духовных институций и лиц, принадлежащих к Церковной иерархии. В это время территория Подонья продолжает оставаться зоной проживания ясов и зоной влияния полиэтнического объединения потомков половцев, куда, однако, вторгаются крымчане, генуэзцы, и множественные орды, в том числе, оказавшиеся под властью темника Мамая, иногда союзного, но часто противостоящего центральному правительству Золотой Орды. Тем не менее, христианские святыни в районах татарского влияния продолжают существовать. К этому времени кроме Дивногорских пещер, еще функционируют комплексы Белогорья, Костомарова (также с нишами-стасидиями), и города Калач (Калачеевская пещера).
Рис.9. План пещерного монастыря в Больших Дивах уходящего под территорию раннесредневекового селища хазарского времени, примыкающего к укреплениям синхронного Маяцкого городища VIII-X вв. (см.: рис.3-1: 7; рис.3-2: 4).
Не позднее, чем к древнерусскому времени относится создание и функционирование второго пещерного монастыря в Дивах (рис.9). Существование пещер Дивногорья Донского бассейна в это время было четко аргументировано В.В. Степкиным [Степкин 2004: 68-75].
Не позднее XIV в. начинает функционировать Святогорский пещерный комплекс на Северском Донце, где, как и в Больших и Малых Дивах, используются погребальные ниши-стасидии.
Рис.10. Предметы из культурного слоя при Святогорском подземном монастыре по Э.Е. Кравченко [1995]: Сланцевая иконка (рисунок иконки А.И. Духина) «Николай Мирликийский в окружении спящих отроков в пещере Эфесской» (С); медальон с «неизвестным святым белого метала» (В), - накладка на лицевую сторону двустворчатой панагии XIV-XV вв; глазированные керамические дискосы (А).
Среди вещевых находок, связанных с пещерами Святогорья, особый интерес представляет сланцевая иконка [Кравченко 1995: 43-50] со свт. Николаем Мирликийским в центре, окруженном изображениями семи спящих отроков в пещере Эфесской (рис.10:С). Находка связана с культурным слоем примонастырских напластований «у ручья» (заметим: у такого же «живоносного источника», также названного во имя свт. Николая Мирликийского, как в Святогорье, была основана и пещерная Поройская пустынь Липецка). Находка такой иконки может указывать на канонические связи, в конкретной исторической коллизии возникновения подземного комплекса над Северским Донцом. Очень вероятно, что основание Святогорских пещер связано с чествованием части мощей свт. Николая, оставшихся в Малой Азии (где, неподалеку расположена и пещера семи отроков Эфесских), после перенесения в 1087 г. мироточивой главы Чудотворца и части его мощей в город Бари на Аппенинском полуострове.
Изображения отроков эфесских оказываются на предметах пластики рядом не только с рельефами Христа и Богородицы, – но, преимущественно – рядом с изображением свт. Николая [Николаева 1983: 1-26, табл. 14:1; 23:2,3; 24:2-6], как на иконке из Святогорья [Шевченко, Богомазова 2006: 157-161] именно в XII-XIV вв. Эта датирующая процветание монастыря вещь, свидетельствующая о включение обители в орбиту паломнических передвижений, относится к «ордынской эпохе», не позднее второй половины XIV в.
Из других находок в культурном слое, связанном с первоначальным существованием Святогорского подземного монастыря, интересен «медальон из белого металла» [Кравченко 1995: 43-50] (рис.10:В). Эта вещь более всего схожа с накладкой на внешнюю лицевую сторону чашечки двустворчатой панагии, которые распространились на Руси в XIV – XV вв. [Рындина 1994: 204-219, рис.5]. Определенные констатации по поводу чрезвычайно схематичного изображения на внешнем корпусе панагии из Святогорья могут оказаться рискованными, поскольку в образе одеяния может равно угадываться «плащ-корзно» или «святительские облачения», а лик с низко опущенными долу очами, мог равно передавать как согбенного годами молитвенника, так и женский, либо моложавый мужской лик.
В силу стилизации черт лика, изображенного на нем «святителя» (?), можно бы предположить в нем Григория Богослова, челюсть которого составляет одну из примечательных святынь в мощехранилищах греческой Святой Горы. Изображение могло принадлежать одному из равно чтимых сподвижников Григория Назианзина: свтт. Василию Великому или Иоанну Златоусту, чьи мощи («всечестная глава») являются достоянием Афонского монастыря Ватопед. На Афоне того времени – с XIV в., также наблюдается активность в пещерных обителях в связи с деятельностью преп. Григория Синаита. Это перекликается и синхронизируется с преданием об основании монастыря на Северском Донце выходцами с Греческого Афона [Шевченко 2010а: гл.6, прим.204]; предание было сохранено местным населением и передавалось в монастырской среде с начала возобновления монашеской жизни в Святогорской обители на Донце в начале XVII века.
Рис.11. Изображение на накладке лицевой стороны серебряной двустворчатой панагии («медальон белого металла») из слоев Святогорского пещерного монастыря. а) Изображение «неизвестного святого» с крестчатым нимбом Христа (видимо, «Христос-Архиерей»); b) «титлы в зерцалах» справа и слева от Фигуры на накладке лицевой створки серебряной панагии XIV-XV вв.
Для понимания изображения на пластинке со Святогорской панагии XIV-XV вв. крайне важны вписанные «в образ» - «титлы»: на медальоне они помещены классически - по обеим сторонам лика, но в «ангельских зерцалах» (хотя последние в иконографии, как правило, несут лишь Имена Бога). На нимбе, окружающем лик (рис.11:а), четко просматривается двойная черта (вертикальная вверху; и горизонтальная – справа), свойственная исключительно «крестчатым нимбам» Христа, а прическа несколько напоминает очень редкое изображение Христа-Архиерея в Софии Киевской, где Иисус передан моложавым [Лидов 1994: 21,27,34].
Сами «титлы», выведенные в «зерцалах», напоминают некоторые «лапидарные знаки» (рис.11:b), часто встречаемые среди начертаний в пещерах Крыма, Добруджи, Поднестровья, Подонья [Гроссу, Василаки 1984; 61-65; Атанасов 1993: 65-67, 71-73]. Возможно, они переданы в одном из семитических алфавитов*2, что более чем вероятно для вещей крымского происхождения, где христианские святыни соседствовали с караимскими общинами на одной территории, как это было в «Крепости Драгоценностей» (Кырк-Ор) в Чуфут-Кале. Такая интерпретация надписей, не исключает ближневосточную, но является более вероятной, нежели применение рунных («младшего футарка») начертаний, которые в средневековые времена могли бы использовать готы на территории крымского Готского княжества Феодоро в XIV в.
Связь Святогорского монастыря на Северском Донце XIV-XV вв. несомненна с Ближним Востоком, в том числе - по находке сланцевой иконки, предназначенной для вставки в оправу (панагия?), связанной с культом оставшихся в Мирах Ликийских (Демре) мощей святителя Николая, связанным с почитанием «спящих отроков в пещере Эфесской». Не исключена связь обители и с Греческим Афоном, о чем пришедшие в 20-30-гг. XVII в. иноки, сохранили предание, услышанное от местного населения [Шевченко 2010а: гл.9, р.4.2, прим.267]. Не менее вероятно, что подземный монастырь на Северском Донце основан выходцами из многочисленных пещерных обителей Крымской Готии (княжества Феодоро), где «давление ислама» уже в XIV в. могло, например, вынудить перенос пещерного монастыря Успения из самой крепости Чуфут-Кале (Кырк-Ор) в ее окрестности [Герцен, Мограричев 1993: 50, 65], что очень уж синхронно строительству в самой крепости соборной мечети в 1346 г. (хотя А.И. Герцен и Ю.М. Могаричев полагают этот перенос результатом простого увеличения площади крепости и перекрытием доступа к отдельным пещерным помещениям новыми оборонительными стенами).
В плане крымских параллелей, тесно связанных с «ордынско-сарайским» кругом, показательны и глазированные тарели-дискосы из Святогорья на Северском Донце (см.рис.10:А) с крестами-четырехлистниками («лист клевера») и «звездой» [Кравченко 1995: табл.5,6], которые имеют аналогии в материалах XV – начала XVI в. Крыма [Мыц 2002: 148, рис.9, 175, рис.33], а стеклянные стаканы и стопки из Святогорья, судя по крымским аналогиям, распространены с начала XIV века. Отметим, что посуда, тех же типов, что найдена в слоях при Святогорском пещерном монастыре на Донце, и характерная для Крыма, наличествует также в синхронных слоях, подвергнутого раскопкам Сарая-Бату – столице Золотой Орды. Судя по датам этих находок, Святогорские пещеры являются самым ранним позднесредневековым пещерным комплексом в Донском бассейне, и, как представляется, могут относиться (по вероятному времени использования иконки) ко времени не позднее пребывания на кафедре Руси митрополита Киприана [Филарет 1852: 146, 170]. Возникновение же этой пещерной обители относиться ко временам задолго до Димитрия Донского, судя по датам найденного стекла (с нач. XIV в.) – не позднее правления в Москве Ивана Калиты (и митрополита Петра); доживает Святогорская пещерная обитель, по наиболее поздно датирующейся глазированной керамике (нач.XVI в.), - до начала царствования Иоанна III. Этот пещерный монастырь не «запустевает», а возникает и благополучно функционирует именно в «золотоордынскую эпоху» (XIV – XV вв.).
Монахи, заново осваивавшие уже существовавшие пещерные монастыри Донского региона во втором (Холки на Осколе) и третьем десятилетии (Святогорский на Северском Донце) XVII века, уже не практиковали коллективных погребений в кимитириях (общих усыпальницах) ниш-стасидиев, как их предшественники по подземным кельям и храмам. Время, когда прервалась традиция пещерного монашества на территории бассейна Дона, до настоящих замечаний о хронологии находок, не было точно локализовано. Ясно, что основная масса пещерных обителей еще функционировала в XIV в., когда только начинает обустраиваться Святогорский подземный монастырь. Вполне понятно, что на этих землях сохранялось какое-то (отнюдь не славянское) население [Шенников 1987], в те времена, которые А.А. Шахматов называл «запустением» этого региона в XIV-XVI вв. Но в XIV-XV вв. здесь все-таки жили.
Несомненным началом противодействия христианству было принятие царевичем Узбеком ислама в качестве государственной религии Золотой Орды в 1312 году. Но постоянные раздоры и династические распри, приведшие к смене Золотой Орды рядом ханств, создавали нишу выживания для степного православия, сохраняя в степи (и лесостепи) высокий статус русских православных Владык – Петра и Алексия, подтверждаемый «ярлыками» владетелей Золотой Орды [Никольский 1983: 53,64,94].
Постоянное противостояние и военные акции конца XIV в., затрагивавшие, в том числе, и территории степи и лесостепи между Азовом и Каспием, приводили к таким крупным коллизиям, как походы Тохтамыша и Тимура, или к ряду менее масштабных, но не менее разрушительных столкновений. Все это инициировало ситуацию неблагоприятную не только для христианства вообще (да и для всего населения в целом), но и для конкретных христианских центров – монастырей, даже подземных, и приходов, функции которых, надо думать, выполняли эти монастыри. Вместе с тем акции подобные походу Тимура не могли не служить проводником для иных религиозных систем – в первую очередь ислама, который стал в XV столетии - ведущей силой не только в Поволжье, но и на Северном Кавказе. К XVII в. постоянные импульсы с востока привели даже к продвижению буддизма в Поволжье, где граф Паллас отметил культовое использование пещер горы Богдо буддистами – калмыками [Муравьев 1977: 51-62; Паллас 1786]. Не исключено, что подобные пещерные святилища буддистов были отголоском использования пещерных вихара (монастырей), активно строившихся в Центральной Азии первой половины I тыс.н.э. Не исключено, что подобным же отголоском в Западной Сибири было почитание идола, установленного в пещере [Миллер 2003: 378, рис.18].
Все XIV столетие событийную канву продолжали сокрушительные походы Едигея, предавшего огню не только ряд селений Подонья, но и предместья Киева; XV столетие - основание Крымского (1436 г.) и Казанского (1438 г.) ханств; усиление Ногайской орды, совершающей походы на Литву (1438 г.), Польшу (1442, 1448 гг.) и Россию (1449, 1451, 1454 гг.). Апофеозом исламского продвижения в Восточноевропейскую степь следует считать захват Турцией Крыма: 1475 г., и закрепление турецких позиций в Северном Причерноморье (Кафа, Очаков, Азов). Значит, временем упадка христианских пещерных комплексов следует считать те фазы неблагоприятствования православию, связанные с прямой угрозой агрессии в степной и лесостепной зоне ордынского влияния, которые были обусловлены событиями, начиная с конца XV столетия. Последняя четверть XV в. оказалась переломной для христианских пещерных святынь в бассейне Дона, запустевших, и пустовавших на протяжении всего века XVI-го. Последний «осколок» Готской митрополии, представленный пещерными монастырями Подонья, некогда (VI-IX вв.) входившими в Оногурскую епархию (а после становления Киевской митрополии 988/989г., в Черниговскую), – обителями, постоянно менявшими «подданство» то Московского, то Киевского митрополитов, исчез вместе с XV столетием.
В данном случае, небесполезным является наблюдение о запустении христианских обителей пограничной и при пограничной полосы грядущей России, в то время, которое называют эпохой ее «становления и укрепления», что соответствует в апогее процесса централизации Московского государства - деятельности царей Иоанна III и его внука Иоанна Васильевича (Грозного). Из чего вытекает неутешительный вывод: «укрепление вертикали власти» отнюдь не способствует и не соответствует «обновлению и процветанию» (или хотя бы простому поддержанию, обычного правопорядка). Только после установления прочного мира в обществе по окончании «Смутного времени»; мира, установленного «соборно» (т.е., общенародно), с воцарением династии Романовых, - со второго десятилетия XVII в. последовало возобновление монастырских обителей в Холках, Больших и Малых Дивах, Шмарном и Костомарово на Дону, деятельность которых прервал период «становления и укрепления» Московского царства с рубежа XV-XVI вв. Предваряя возможные упреки в излишней публицистичности последнего замечания, приведу слова Н.С. Гумилева: «История оправдывает все, что пожелает. Строго говоря, она не учит ничему, ибо содержит в себе все и дает примеры всему. Вот почему нет ничего смехотворнее, чем рассуждать об “уроках истории”. Из них можно извлечь любую политику, любую мораль, любую философию. … Кто в расчете на непостижимое будущее решает строить свои действия, основываясь на неведомом прошлом, тот погиб» [Цит.по: Лукницкая 1990: 150-151].
Литература и примечания
*1 Иоахим Вернер осмотрел хранившиеся тогда в фондах Государственного Эрмитажа в Ленинграде (хранитель Злата Александровна Львова) вещи из Малой Перещепины в конце апреля 1984 г. (чему один из авторов этих строк был свидетелем). Он набросал карандашиком в блокноте зарисовки тех вещей, которые не были известны в иллюстрациях по публикациям 30-х гг. (Манцулевича), и не появились в публикациях 60-х ХХ в. (Артамонова). И через каких-то три месяца в свет вышла монография И.Вернера о погребении на Приднепровских землях Левобережья Днепра (Полтавской обл. Украины) владетеля Великой Болгарии, где исследователь привел расшифровку тамг на перстнях из погребения, принадлежавших «патрикию Кубрату» [Werner 1984], что вызвало массовый отклик в прессе [Вернер 1985]. Как и прочие монографии И.Вернера эта работа была переведена на многие языки мира [Вернер 1988], кроме русского, на который она не переведена и по сей день, поскольку погребение властелина Великой Болгарии оказалось почти в эпицентре «исконно славянских земель», - на территории самой «Русской земли» (Переяславского княжества) - в ядре формирования восточнославянского единства. Это, в глазах загипнотизированных геополитизмом исследователей, «сдвигало» процесс формирования славянства в его восточном глоттогенетическом крыле на время после падения Великой Болгарии. Однозначная трактовка И.Вернером принадлежности погребения кагану Великой Болгарии вызвала несостоятельные возражения чересчур политизированных специалистов-археологов, но при публикации памятника, вопрос о непререкаемой принадлежности тамг из Перещепино Кубрату обойти так и не удалось [Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997]. Однако высказанные в полемике предположения о принадлежности погребения «наследникам Кубрата» (или ограбившему болгарского владавца – хазарскому аристократу) – почему-то продолжают тиражироваться. Хотя никто, например, в аналогичной ситуации не приписывает погребения короля франков Хильдерика (с его перстнем-печаткой) его сыну Хлодвигу, etc.
*2 Знак в левом «зерцале» несколько напоминает «шайн» в семитских алфавитах («m» - «эм» в арамейском; «mem» - «мэм» в финикийском); удвоенный знак в правом «зерцале» схож с сирийским «Kâp-» (мягкий «х»). В случае, если знак «шайн» передает понятие «шехина», обозначающее по А.Д. Амусину [ВДИ, 1961, № 1, с.19] «присутствие божества», то мягкий «h» - титулатуру Бога-Сына: «Христос».
М.И. Артамонов. 1962. История хазар. Л.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 1962. 524 с.
Д.Т. Березовець. 1965. Слов'яни й племена салтiвської культури // Археологiя. Т.XIX. Київ, 1965. С.47–67.
Д.Т. Березовець. 1970. Про ім’я носіїв салтівської культури // Археологія. Київ, 1970. Т. XXIV, с.59-74.
Т.А. Бобровский. 2002. Скальная архитектура средневекового Киева (основные итоги изучения) // Спелестологический Ежегодник Российского общества спелеологических и спелестологических исследований 2000. М., 2002. С.144-161.
Иоахим Вернер 1985. Захоронение в Малом Перещепине и Кубрат, хан болгарский // «Софийские новости (газета). 05.01.1985.
А.А. Васильев. 1927. Время византийского, хазарского и русского влияния (с VI по XI в.) // Изв. ГАИМК.. Вып.V. Л., 1927. С.179-282.
Е.В. Вемарн. 1958. Оборонительные сооружения Эски-Кермен // История и археология средневекового Крыма. М., 1958. С.21-59.
И. Вернер. 1988. Погебалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на българите. София, 1988.
Х. Вольфрам. 2003. Готы. От истоков до середины VI в. (Опыт исторической этнографии). СПб.: «ЮВЕНТА», 2003. 656 с.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1991. О возникновении готской епархии в Таврике // Материалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврики. Вып. II. Симферополь, 1991.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1993. Крепость драгоценностей. Кырк-ор, Чуфут-Кале. Симферополь, 1993.
Е.А. Горюнов. 1987. Пеньковская и салтовская культуры в Среднем Поднепровье // КСИА. Вып.190. 1987. С.3–7.
В.Г. Гроссу, К.Г. Василаки. 1984. Лапидарные знаки Бутученских пещер // Известия Академии наук Молдавской ССР. Вып.3. Кишинев, 1984, с.61-65.
Л.Н. Гумилев. 1989. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 764 с.
В.Н. Залесская, З.А. Львова, Б.И. Маршак, И.В. Соколова, Н.А. Фонякова. 1997. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. СПб: изд.Государственного Эрмитажа, 1997. 336 c.
Т.М. Калинина. 1976. Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времен Святослава // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975 г. М., 1976. С.90-101.
М.Н. Карамзин. 1997. История государства Российского. М., 1997. Т.IV-VI.
Э.Е. Кравченко. 1995. Бытовой комплекс Святогорского монастыря (По результатам археологических исследований 1989 г.) // Материалы исследований, реставрации и использования памятников культуры (к 15-летию основания заповедника). Научно-практический семинар 29-30 мая 1995 г. Славяногорск, 1995, с.43-50
В.В. Кропоткин. 1957. О производстве стекла и стеклянных изделий в средневековых городах Северного Причерноморья и на Руси // КСИИМК, 1957. Вып. 68. С.35-44.
А.М. Лидов. 1994. Схизма и византийская храмовая декорация // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб.: Изд. «Дмитрий Буланин», 1994. С.17-35.
Вера Лукницкая. 1990. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.: Лениздат, 1990. 302 с., илл.
Л.А. Мацулевич. 1934. Погребение варварского князя в Восточной Европе // Изв.ГАИМК. Вып.112. Л., 1934.
Г.Ф. Миллер. 2003. История Сибири. Т.I. Изд. 3-е. СПб., 2003. С.378, рис.18 (630 с., илл., карт.).
В. Муравьев. 1977. Дорогами российских провинций: Путешествия П. С. Палласа. М., 1977.
В.Л. Мыц. 2002. Гэнуэзская Луста и капитанство Готии в 60-70 гг. XV в // Алушта и Алуштинский ркгион с древнейших времен до наших дней. Киев, 2002. С.139-189.
Т.В. Николаева. 1983. Древнерусская мелкая пластика из камня XI-XV веков // САИ. Вып. Е1-60. М., 1983.
Н.М. Никольский. 1983. История Русской Церкви. Изд.3-е. М., 1983.
П.С. Паллас. 1786. Путешествие по разным местам Российского государства по велению Санктпетербургской Императорской Академии наук / Пер. с нем. Ф. Томанского, В. Зуева. СПб. 1786.- 1788. Ч. 2. Кн. 2 (1770). СПб., 1786. 572 с., ил.;
С.А. Плетнева. 1964. О юго-восточной окраине Русских земель в домонгольское время // КСИА. Вып.99. М., 1964, с.25-29.
В.И. Плужников. 1985. Пещерные монастыри на Дону и Осколе // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Города, ансамбли, зодчие. М.,1985. С.93-111.
Повесть временных лет. Ч.I. М.-Л.: изд. АН СССР, 1950.
Н.И. Репников. 1932. Раскопки Эски-Керменского могильника в 1928 и 1929 гг. // Изв.ГАИМК, 1932. Т. 12, вып. 1–8, с.107–152.
А.В. Рындина. 1994. О литургической символике древнерусских серебряных панагий // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб.: Изд. «Дмитрий Буланин», 1994. С.204-219.
А.А. Спицын. 1909. Историко-археологические разыскания. I. Исконные обитатели Дона и Донца // ЖМНП. 1909, январь, с.70-76, сл.
В.В. Степкин. 2004. Культовые пещеры Среднего Дона (цикл статей) // Спелестологические исследования Российского общества спелеологических и спелестологических исследований (РОСИ): Спелестологический Ежегодник РОСИ, вып.4. М., 2004: 1) «История изучения культовых пещерных сооружений бассейна Дона и Оскола» (с.18-28); 2) «Географические особенности распространения пещерных памятников на Дону и Осколе» (с.29-33); 3) «Пещерные памятники бассейна Верхнего Дона» (с.34-40); 4) «Пещерные памятники Среднедонского региона» (с.41-137); 5) «Пещерные памятники Поосколья» (с.138-146); 6) «Типологическая классификация подземных сооружений Дона и Оскола» (с.147-158); 7) «История появления и развития пещеростроительства в Донском регионе» (с.159-168); 8) «Опыт расчета трудовых затрат и реконструкция процесса организации производства при строительстве пещер Дона» (с.169-177); 9) «Социально-психологические аспекты пещеростроительства в Донском регионе» (с.178-185); 10) «Религиозно-мифологические мотивы в устройстве и оформлении пещерных памятников Придонья» (с.186-197).
О.М. Уманець, Ю.Ю. Шевченко. 1993. Проблема культурогенезу давньорусьоi "севери" з центром у Чернiговi // Проблеми icторичного i географiчного краезнавства Чернiгiвщини. Вип. II. Чернiгiв, 1993, с.3–13.
Филарет (Гумилевский), Архиепископ. 1852. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Харьков, 1852. Т.1.
И.С. Чичуров. 1976. Экскурс Феофана о протоболгарах // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975 г. М.: «Наука», 1976. С.65-80.
А.А. Шенников. 1987. Червленный Яр. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV-XVI вв. Л., 1987. 142 с.
Ю.Ю. Шевченко. 1977. На рубеже двух этнических субстратов Восточной Европы VIII-X вв. // Этнография народов Восточной Европы / Отв.ред. А.А. Шенников. Л., 1977. С.39-57.
Ю.Ю. Шевченко. 2004. Пещерные христианские монастыри Подонья: начало традиции // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиция. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 1 - 4 декабря 2004 г. / Отв.ред. Д.Г. Савинов. СПб., 2004. С.196-201.
Шевченко Ю.Ю. 2005. Реликвия из величайшей пещерной святыни христианского мира // Славянский ход 2005. Материалы и исследования. Вып.2. Ханты-Мансийск – Сургут: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; «Общество русской культуры», 2005. С.126-159
Ю.Ю. Шевченко. 2006. Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве // Археология, этнография и антропологии Евразии. No 1 (25) 2006, с. 89 - 109.
Ю.Ю. Шевченко. 2010. Храмы христиан юга Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип.3. Київ – Глухiв: Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’ятникiв iсторiї та культури, 2010 (355 с.). С.67-75.
Ю.Ю. Шевченко. 2010а. Христианские пещерные святыни / Отв.ред. чл.-корр.РАН К.В. Чистов. СПб.: «Наука», 2010, Т.II.
Ю.Ю. Шевченко, Т.Г. Богомазова. 2006. Шиферные иконки Руси – амулеты от гробов предков (мысли о возможной интерпретации) // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной. ТД. Санкт-Петербург, 10-15 апреля 2006 г. Совместно с семинаром Государственного Эрмитажа «Ювелирное искусство и материальная культура». СПб.: Изд. СПбИИ РАН «Нестор-История», 2006. С.157-161
Ю.Ю. Шевченко, А.Н. Уманец. 2010. Палеоэтнографическая ситуация V-VII вв. в Северном Причерноморье и появление раннехристианских пещерных памятников // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН, С.118-122.
В.Л. Якобсон. 1959. Раннесредневековый Херсонес // МИА, No 63. М.; Л., 1959.
J. Marquart. 1903. Osteuropaische und Ostasiatsche Streifzuge. Leipzig, 1903
Werner Joachim. 1984. Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kubrat, Kagan der Bulgaren. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch – Historische Klasse, Abhandlungen (Neue Folge) Heft 91. Munchen, 1984.
Юрий Шевченко,
03-02-2011 22:14
(ссылка)
ГОТСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
Ю.Ю. Шевченко (МАЭ РАН, Санкт-Петербург, РФ),
О ВРЕМЕНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ
ГОТСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Время учреждения Готской архиерейской кафедры относится к началу IV в., когда митрополит Готии Феофил Боспоританский имел резиденцию в Крыму (путь к которой лежал через Боспор), и участвовал в Первом Вселенском соборе Единой Церкви (325г.). Этот экзарх, судя по титулатуре («Боспоританский»), был выше в иерархии, нежели упомянутый на том же Никейском соборе епископ города Боспора – Кадм. На том же Первом соборе присутствовал и епископ города Херсонеса Филипп. Связь Феофила Боспоританского с Боспором Киммерийский, а не с Боспором Фракийским, подтверждается хронологией ухода готов «за Дунай» не ранее 348 г. (см.ниже).

Рис.1. Мощи (десница) св.вмч. Никиты Готского (+372), перенесенные из храма города Аназарвы (Киликия) в сербский монастырь Высокие Дечаны в Косово.
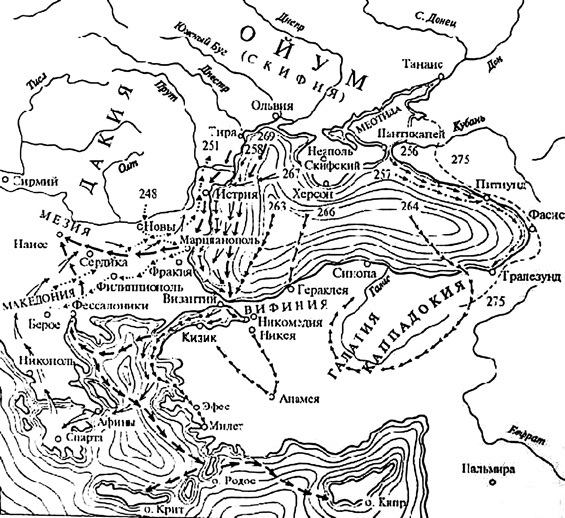
Рис.2. Ранние походы готов периода «готских войн» (через Боспор Киммерийский, - из Крыма) по М.Б. Щукину [2005: рис.52].
В Тавриде (Крыму) от епископа Феофила получает святое крещение Никита (+369-372), будущий святой и великомученик готский (рис.1); а восприемником Феофила Боспортианского на Готской кафедре становится Ульфила, чьи прародители (дед и бабка) были приведены в Готию из Каппадокии (264г.), во времена именно того «готского похода» на Малую Азию, который был совершен через Боспор, т.е – из Крыма (рис.2) [Юрочкин 1999: 326-332; Щукин 2005: 143-144, рис.52].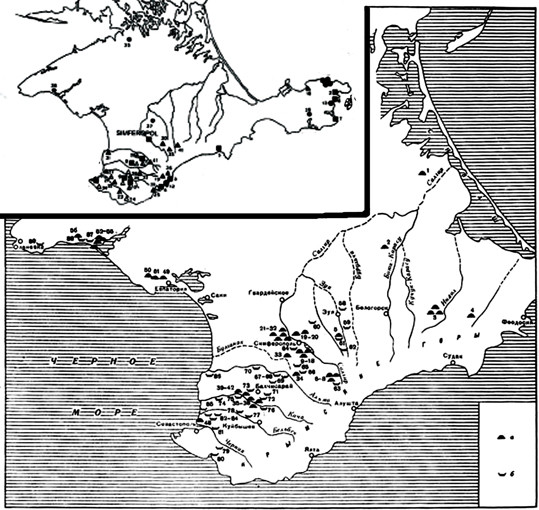
Рис.3. Погребальные (1) и поселенческие (2) позднескифские памтники Юго-Западного Крыма по О.Д. Дашевской [1991: табл.36]; на врезке – география находок «готского стиля» III-VII вв. по М. Биербрауэру [Bierbrouer 2008: 112, abb.15].
Уместно считать, что во времена рукоположения Ульфилы это была уже Крымская Готия. Имя Феофила Боспоританского связывает происхождение и Никиты, и Ульфилы с территорией Крымского полуострова, в его юго-западной части, входящей во владения Неаполя Скифского (рис.3), где имеются признаки готского присутствия [Дашевская 1991: табл.36; Казанский 2006: 26-41; Scukin, Kazansi, Sharov 2006: 301, ill.16; Bierbrouer 2008: 37,112,125, abb.2,15-17].
Не исключено, что с территорией Крыма связано и появление 308 готских мучеников (+372), 26 из которых известны поименно, и мощи которых были сохранены готской «королевой» Граафой (Грэтой?), хранились готской «королевой» Аллой и дочерью Граафы Дуклидой (Лидией?), возможно, недалеко от Алушты (вершина Ай-Дуклу?); и, в конце концов, были перевезены в малоазийский город Кизик (см.рис.2). Об этих событиях, и пребывании данных реликвий в Крымской Готии (в пещере Йограф?)

Рис.4. Вход в пещеру Йограф на Главной горной гряде Крымских гор, на высотах Ай-Петри
(рис.4), - в княжестве, дожившем до позднесредневековых времен, - сохранилось соответствующее предание [Струков 1882; Беликов 1887; Голубинский 1901: 30-35]. Гонения на христиан связываются Готским синаксарем с именем Унгериха, в котором видят то Эрманариха (Германариха), то исторически известного преследователя готов-христиан – Атанариха (и, видимо, с большей степенью вероятности).
Все перипетии, связанные как с гибелью Никиты Готского (см.рис.1), так и сожжением 308 готских христиан в храме, - происходили при епископстве в Готии Ульфилы, который позднее увел часть христианизированного народа готов за Дунай. Это переселение по хронологии, приведенной блж. Иеронимом Стридонским, относится ко временам ок.375/378 г.; а более поздние источники, например, арианский историк Авксентий Дуросторский, предлагают более раннюю дату - 348 г., что подтверждается сведениями Кирилла Иерусалимского [Лавров 1995; он же 2003]. Военные столкновения между готскими вождями Фритигерном и Атанарихом, времен императора Валента (ок. 369 г.), и участие в их переговорах готского епископа Ульфилы, делают предпочтительной более позднюю дату (между 348 - 378 гг.) образования Малой Готии на Дунае, по отношеню к Первому Вселенскому собору Церкви с участием Феофила Боспоританского (экзарха Готии) и епископа города Боспора Кадма. Именно после 348-372 гг., готское присутствие южнее Дуная стало ощутимым: готы перерезали почти 7000 жителей Фессалоник, из-за налоговой политики императора Феодосия Великого и убийства их вождя Бутериха (389 г.) [Горайко 2006: 4-17]. Образование Малой Готии на Дунае только и могло способствовать «готскому этническому наполнению» города Боспора Фракийского, цари которого удивительно дублировали своими именами царей Боспора Киммерийского (как это было с Котисом II). У этих «малых готов», и в этом Боспоре (Фракийском) обосновал Церковную кафедру, рукополагая на нее Готского владыку, только святитель Иоанн Златоуст (347-407гг.), пребывая на патриаршей престоле Константинополя (398-404гг.).
Борьба готского христианского короля («рекса») Фритигерна против готского короля-язычника Атанариха – явление значительное [Вольфрам 2003], и посреднической роли епископа Ульфилы в переговорах Фритигерна с императором Валентом посвящено отдельное исследование, результаты которого вошли в крупную обобщающую работу [Щукин, 2004: 158-168; Щукин, 2005: 207-254, 364-372]. А наличие черняховского материала в Крыму [Казанский М.М. 2006: 26-41] с одной стороны, и связанность с полуостровом происхождения христианских вождей готов (каковым был, например, Никита), с другой, является серьезным аргументом в пользу вхождения территории Тавриды (народа названного боранами) в Готское королевство [Байер 2001]. Об «исходной территории», каковым для готов был Крым, свидетельствует и произошедшее под натиском персов возвращение готов - федератов Византии, охранявших Кавказские перевалы в IV-VI вв., обратно в Крым к середине VI в. [Бажан 2010; Шевченко, Уманец 2010: 119-120], и восстановление Готской митрополии (вместо епархии), как во времена Первого Вселенского собора и Феофила Боспоританского, включавшей епархиальные образования, разместившиеся на месте некогда обширной Готской державы [Вольфрам 2003; Шевченко, Уманец 2010а: 60-67]. Пребывание готов на Кавказском Побережье, отражено и нарративными источниками: это готы-тетракситы, помещаемые «южнее Таманского полуострова» [Васильев 1927: 261], часть которых при обратном переселении в Крым осталась на Черноморском Побережье под именем «евдусиан, говоривших на готском и таврском языках».
Основы территориального разрастания архиерейской кафедры Готии за пределы Таврического полуострова, лежат в событиях после крушения готских королевств под ударами гуннов и в событиях самого начала VI в. Это миссия епископов из Аррана (Азербайджана) - Кардоста и Макария. Первый из них, с тремя священниками и четырьмя проповедниками, почти три десятилетия в начале VI в. проповедовал на Юге Восточной Европы [Артамонов 1960: 93-94], и основными проводниками его миссии были воинственные савиры [Шевченко, Уманец 2010: 97-118] – выходцы из Сибири, по имени которых эта северо-восточная часть Евразии получила свое имя. Их перманентный союз с Византией и стабильные союзнические отношения с антами [Шевченко 1977: 39-52], привели к становлению епископских кафедр на южных территориях некогда обширной и могущественной Готской державы IV в. – государства Германариха [Вольфрам 2003], - от Дона до Днестра. Готы были разгромлены гуннами, а эстафету рухнувшей империи Аттилы (452г.) в Днепро-Донском междуречье приняли савиры. Проблеме существования «варварских королевств» гуннского времени посвящено отдельное исследование [Казанский, Мастыкова 2008: 225-252], в котором локализация центров («королевства Винитария» для Киевского Поднепровья и Левобережья Днепра; и аналогичные образования Донского региона) полностью согласуется с излагаемой версией.
Готская митрополия, куда входила Оногурская епархия Подонья, зафиксирована во времена восстания против хазар крымского епископа Иоанна Готского накануне 791 г. [Артамонов 1962: 258, прим.57, 412; Герцен, Могаричев 1991: 119-122]. Этому крупному Экзархату Церкви были подчинены, из семи епархий, - Астильская, у хазар на Волге (Итильская), и Оногурская (оногуры – болгарское племя между Днепром и Доном) – где-то в Подонье, или в междуречье Дона и Днепра.
«Болгарские территории» (Великую Болгарию) как правило, размещают восточнее Дона – в Приазовье [Артамонов 1962: 152-169]. Но, учитывая место ставки и погребения христианского владетеля Великой Болгарии – Кубрата у с. Малая Перещепина Полтавской губ. на Левобережье Днепра [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988; Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997: 42], - земли Великой Болгарии – Оногурии (и соответственно, Оногурской епископии) следует помещать много северо-западнее: от Дона до Левобережья Среднего Днепра включительно. Именно там, где с последних десятилетий VII в., располагаются памятники алано-болгарской культуры (салтовской) – на Северском Донце и в бассейне Дона, населенного болгарами [Чичуров 1976: 65-80] и до левого берега Днепра, - простиралась Великая Болгария.
Основной военной силой племенного объединения болгар оставались савиры, называвшиеся в этих условиях и в этой среде «черными болгарами» (от «sav» - «черный»; «aric» - «человек», «воин»), что согласно армянским летописным источникам обозначало «черные сыны», «черные воины» [Уманець, Шевченко 1993: 3-13]. Центром савирского княжества («царства гуннов») являлся город Варачан, известный недалеким расположением от «Беленджера», в состав которого входили савиры и Берсилия (барсилы, берсула), причем, последняя частично совпадала с территорией современной Башкирии. «Беленджер», как в результате возможной ошибки переписчиков звучит этот объединяющий термин (савиры + барсилы), считают вариацией названия все тех же Болгар [Артамонов 1962: 184, прим.9-12]. Исследователи с упорством стремятся привязать все перечисленные номенклатуры к Северному Кавказу («царство гуннов», савиров, Беленджер, Варачан): тогда речь шла бы о чрезвычайно маленьком княжестве [Артамонов 1962: 200], вряд ли способном угрожать территориально обширной и могущественной Кавказской Албании VII века. Представляется более чем вероятным, что под этими наименованиями выступает территория Великой Болгарии 682 г., после смерти Кубрата и ухода Аспаруха на Дунай, когда Батбай (в случае его историчности) остался на прежнем месте, но уже под сюзеренатом Хазарии.
Князь этой савирской страны («царства гуннов») выступает под именем Алп-Илитвера, что соответствуют титулу алп-ельтебера – «эфенди», «принца», как в Хазарском Каганате называли великих владетельных князей с номинальной вассальной зависимостью [Marquart 1903: 114-115]. Алп-Илитвер в 661 и 664 гг. наносит Албании военные удары, вынуждающие это значительное и по территории и по военной мощи кавказское царство практически к вассальной зависимости, подтверждая эту зависимость династическим браком и очередным успешным походом 669/670 года. В это время Великая Болгария – еще суверенное государство (до войны с хазарами 679г.).
Посольство, отправленное в 682 г. албанским князем Вараз-Трдата во главе с епископом Исраелем, отправляется в страну Алп-Илитвера, уже вассала Хазарии, не через «Дербентские ворота» (как это произошло бы, будь его «царство гуннов» на берегу Каспия севернее Дербента [Артамонов 1962: 200]), а через Центральный Кавказский хребет между истоками Алазани и Койсу [Артамонов 1962: 186, прим.18]. Посольство направляется не только «севернее Кавказа», но еще и «западнее Кавказа», где лежит Великая Болгария и находится главный город Алп-Илитвера, названный Варачаном, - название фонетически перекликающееся с рекой Бузан, как назван Дон в переписке хазарского царя Иосифа (если под Доном, устье которого является «южной границей с Румом [Византией]» царского письма, как полагал А Гаркави, понимается река «В-д-шан» или «В-д-шан» [Артамонов 1962: 389-391], - то это и вовсе идентично наименованию савирского города).
Христианство было принято Алп-Илитвером вместе со всей савирской аристократией и усиленно насаждалось среди населения: из почитаемого политеистами-савирами дуба был вырезан массивный крест, украшенный «изображениями животных и блестящими крестами» [Артамонов 1962: 188]. А сообщение о вступлении властителя савиров «в семью христианских государей» было направлено армянскому католикосу Сахаку [Артамонов 1962: 189], как возможное свидетельство традиционного сохранения памяти о миссии епископа-армянина Кардоста, проповедовавшего у тех же савиров на полтора столетия ранее.
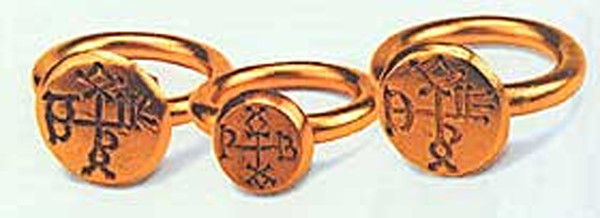
Рис.5. Перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии Кубрата. Золото, Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.6. Вещи из «речного погребения варварского князя» (Л.А. Мацулевич), найденные в р.Суджа у с. Большая Каменка (Украина).
Все это происходило на территории, где властвовал христианин Кубрат, где найдены погребальные сокровища и среди них - специфически христианские перстни с тамгами этого владетеля Великой Болгарии (рис.5) [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988].*1 Крайне интересным является находка в том же микрорегионе постготского (V в.) «речного погребения» [Мацулевич 1934: 89, сл.], где имелся сложносоставной золотой пояс-цепь (рис.6), во всем схожий с такими же поясами – христианскими реликвиями «от Гроба Господня», в том числе и с поясом, подаренным императором Валентом – защитнику христианства - готскому королю Фритигерну, через посредство епископа Ульфилы [Шевченко 2005: 126-159]. Христианизация, начавшаяся в эпоху державы готов здесь, на левом берегу Среднего Днепра, где располагалось «царство Винитария» [Казанский, Мастыкова 2009], продолжалась в эпоху Кубрата.
После смерти Кубрата и хазаро-болгарской войны (679г.), в результате которой часть болгар под водительством сына Кубрата – Аспаруха была вытеснена на Дунай (680г.), Хазарский каганат распространил свою власть на территории, ранее контролировавшиеся союзной Византии – Великой Болгарией (Подонье, Поднепровье). Претензии Хазарии оказались успешными даже в отношении фем (областей) самой Византийской империи (в Крыму), куда в 698 г. бежит сосланный в Херсонес низложенный император Юстиниан II, укрывшись в центре Готской митрополии – Дори [Васильев 1927: 191-199] (видимо, в Эски-Кермене, по заключению Н.И. Репникова [Репников 1932; Веймарн 1958: 28, 54]). Столица Готской митрополии в Крыму (Дори) была в те времена под протекторатом хазар.
Рис.7. Вид престола древнего типа (до 692г.) в южном приделе центрального пещерного храма «Судилище» на Эски-Кермене. Крым, Украина.
Рис.8. Престол древнего типа (до 692г.) в храме Евграфия в Инкермане. Крым, Украина.
Именно в это время функционируют пещерные церкви Юго-Западного Крыма (рис.7; 8) [Виноградов, Гайдуков, Желтов 2005: 72-80; Гайдуков, Желтов 2006], среди которых особо показательны пещерные храмы Эски-Кермена [Шевченко 2008].
В эти времена Готская митрополия Крыма благополучно продолжала существовать, поскольку Херсонский владыка под решением Трулльского (Дворцового) собора 692г. поставил свою подпись в качестве «Георгия, епископа Херсона Дорантского» (т.е., принадлежавшего к Готской митрополии в Дори) [Васильев 1927: 189-190]. С помощью болгарского хана Тревела (Дунайской Болгарии) к 705 г. Юстиниан II сумел вернуть себе трон Византии [Артамонов 1962:196-198], и остался союзником Хазарского кагана. С хазарским владычеством в Горном Крыму было связано антихазарское восстание Иоанна Готского (до 791г.), после которого наименование Готской митрополии исчезло со страниц исторических источников.
*1) Иоахим Вернер осмотрел хранившиеся тогда в фондах Государственного Эрмитажа в Ленинграде (хранитель Злата Александровна Львова) вещи из Малой Перещепины в конце апреля 1984 г. (чему автор этих строк был свидетелем). Он набросал карандашиком в блокноте зарисовки тех вещей, которые не были известны в иллюстрациях по публикациям 30-х гг. (Л.А. Манцулевича), и не появились в публикациях 60-х ХХ в. (М.И. Артамонова). И через каких-то три месяца в свет вышла монография И.Вернера о погребении на Приднепровских землях Левобережья Днепра (Полтавской обл. Украины) владетеля Великой Болгарии, где исследователь привел расшифровку тамг на перстнях из погребения, принадлежавших «патрикию Кубрату» [Werner 1984], что вызвало массовый отклик в прессе [Вернер 1985]. Как и прочие монографии И.Вернера эта работа была переведена на многие языки мира [Вернер 1988], кроме русского, на который она не переведена и по сей день, поскольку погребение властелина Великой Болгарии оказалось почти в эпицентре «исконно славянских земель», - на территории самой «Русской земли» (Переяславского княжества) - в ядре формирования восточнославянского единства. Это, в глазах загипнотизированных геополитизмом исследователей, «сдвигало» процесс формирования славянства в его восточном глоттогенетическом крыле на время после падения Великой Болгарии. Однозначная трактовка И.Вернером принадлежности погребения кагану Великой Болгарии вызвала несостоятельные возражения чересчур политизированных специалистов-археологов, но при публикации памятника, вопрос о непререкаемой принадлежности тамг из Перещепино Кубрату обойти так и не удалось [Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997]. Однако высказанные в полемике предположения о принадлежности погребения «наследникам Кубрата» (или ограбившему болгарского владавца – хазарскому аристократу) – почему-то продолжают тиражироваться. Хотя никто, например, в аналогичной ситуации не приписывает погребения короля франков Хильдерика (с его перстнем-печаткой) его сыну Хлодвигу, etc.
Храм "Донаторов" (Эски-Кермен, Крым)
Литература
М.И. Артамонов. 1962. История хазар. Л.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 1962. 524 с.
И.А. Бажан. 2010. Многолепестковые инкрустированные фибулы и вопросы хронологии цебельдинских древностей // Доклад на семинаре «Хронограф» 06.04.2009. в ИИМК РАН. Изв. ИИМК РАН, СПб. (в печати).
Х.-Ф. Байер. 2001. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург: Изд. Уральского гос.университета, 2001. 500 с.
Д.Н. Беликов. 1887. Начало христианства у Готов и деятельность епископа Ульфилы. Вып.1. Казань: Духовная Академия, 1887. 205 + V с.
Д.Т. Березовець. 1965. Слов'яни й племена салтiвської культури // Археологiя. Т.XIX. Київ, 1965. С.47–67.
Д.Т. Березовець. 1970. Про ім’я носіїв салтівської культури // Археологія. Київ, 1970. Т. XXIV, с.59-74.
А.А. Васильев. 1927. Время византийского, хазарского и русского влияния (с VI по XI в.) // Изв. ГАИМК.. Вып.V. Л., 1927. С.179-282.
Е.В. Веймарн. 1958. Оборонительные сооружения Эски-Кермен // История и археология средневекового Крыма. М., 1958. С.21-59.
И. Вернер. 1988. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на българите. София, 1988.
А.Ю. Виноградов, Н.Е. Гайдуков, М.С. Желтов. 2005. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // РА.1995. № 1. С. 72–80.
Х. Вольфрам. 2003. Готы. От истоков до середины VI в. (Опыт исторической этнографии). СПб.: «ЮВЕНТА», 2003. 656 с.
Н.Е. Гайдуков, Михаил Желтов, диак. 2006. Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы III Судакской международной научной конференции. Киев; Судак, 2006. Т. 2. С. 76–85.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1991. О возникновении готской епархии в Таврике // Материалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврики. Вып. II. Симферополь, 1991.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1993. Крепость драгоценностей. Кырк-ор, Чуфут-Кале. Симферополь, 1993.
Е.Е. Голубинский. 1901. История Русской Церкви. СПб., 1901. Т. 1. Ч.1.
А.В. Горайко. 2006. О роли Антиохийской Церкви в восстании 397 г. // Проблемы теологии. Вып.3: Материалы Третьей международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа. 2 – 3 марта 2006. Часть 1. Екатеринбург, 2006. С.4-17.
О.Д. Дашевская. 1991. Поздние скифы в Юго-Западном Крыму // САИ, вып. Д 1 – 7. М.: «Наука», 1991. 140 с.+75 табл.
В.Н. Залесская, З.А. Львова, Б.И. Маршак, И.В. Соколова, Н.А. Фонякова. 1997. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. СПб: изд.Государственного Эрмитажа, 1997. 336 c.
М. Казанский. 2006. Германцы в Юго-Западном Крыму в позднеримское время и в эпоху Великого переселения народов // Готы и Рим. Сборник научных статей. Киев: ИД «Стилос», 2006. С.26-41.
М.М. Казанский, А.В. Мастыкова. 2009. Кочевые и оседлые варвары гуннского времени в Восточной Европе // Дивногорский сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып.1: Археология / Отв.ред. А.З. Винников, М.И. Лылова. Воронеж: Изд. Воронеж.ГУ, 2009. С.225-252.
В.В. Лавров. 1995. Епископ Ульфила и развитие готской литературы // Интеллектуальная элита античного мира. ТД научной конференции. 8 – 9 ноября 1995 г. СПб., 1995.
В.В Лавров. 2003. Готские войны III в.н.э.: римское культурное влияние на восточногерманские племена Северного Причерноморья // Проблемы античной истории. Сборник научных статей к 70-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. Д.и.н.А.Ю. Дворниченко. СПб., 2003. С.332-352.
Л.А. Мацулевич. 1934. Погребение варварского князя в Восточной Европе // Изв.ГАИМК. Вып.112. Л., 1934.
Н.И. Репников. 1932. Раскопки Эски-Керменского могильника в 1928 и 1929 гг. // Изв.ГАИМК, 1932. Т. 12, вып. 1–8, с.107–152.
Д.М. Струков. 1882. Жития святых Таврических (Крымских) чудотворцев. Изд.2-е. М., 1882. 72 с., ил.
И.С. Чичуров. 1976. Экскурс Феофана о протоболгарах // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975 г. М.: «Наука», 1976. С.65-80.
Уманець О.М., Шевченко Ю.Ю. 1993. Проблема культурогенезу давньорусьоi "севери" з центром у Чернiговi // Проблеми iсторичного i географiчного краезнавства Чернiгiвщини. Вип.2. Чернiгiв: Чернигiвський державний педагогiчний iнститут, 1993. С.3-13.
Ю.Ю. Шевченко. 1977. На рубеже двух этнических субстратов Восточной Европы VIII-X вв. // Этнография народов Восточной Европы / Отв.ред. А.А. Шенников. Л., 1977. С.39-57.
Шевченко Ю.Ю. 2005. Реликвия из величайшей пещерной святыни христианского мира // Славянский ход 2005. Материалы и исследования. Вып.2. Ханты-Мансийск – Сургут: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; «Общество русской культуры», 2005. С.126-159.
Шевченко Ю.Ю. 2008. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства юга Восточной Европы // Христианство в регионах мира. Вып.2 / Отв.ред. Т.А.Бернштам., А.И.Терюков. СПб: МАЭ РАН, 2008. С.151-206.
Ю.Ю. Шевченко. 2010. Храмы христиан юга Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип.3. Київ – Глухiв: Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’ятникiв iсторiї та культури, 2010 (355 с.). С.67-75.
Ю.Ю. Шевченко, А.Н. Уманец. 2010. Палеоэтнографическая ситуация V-VII вв. в Северном Причерноморье и появление раннехристианских пещерных памятников // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН, С.118-122.
Ю.Ю. Шевченко, А.Н. Уманец. 2010а. Появление раннего христианства Ш-VП вв. в Северном Причерноморье // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип.3. Київ – Глухiв: Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’ятникiв iсторiї та культури, 2010. С.60-67.
М.Б. Щукин. 2004. Силадьшомйо или Сильвано-Шильмоне и Фритигерн // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье. Доклады научной конференции к 60-летию со дня рождения Е.А. Горюнова. СПб., 2004. С.158-168.
М.Б. Щукин. 2005. Готский путь (Готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. 576 с., библиогр., илл.
В.Ю. Юрочкин. 1999. Боспор и православное начало у готов // Боспорский феномен: Греческая культура на переферии Античного мира. Материалы Международной научной конференции. Декабрь 1999. СПб., 1999. С.326-332.
В.Ю. Юрочкин. 2002. Происхождение склепов Центрального и Юго-Западного Крыма: Боспор или Кавказ? // Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции. Ч. II, СПб., 2002. С.125-137.
Volker Bierbrouer. 2008. Ethnos und Mobilitat im 5.Jahrhundert aus archeologischer Sicht: VomKaukasus bis nach Niederosterreich. Munchen: Verlag der Bayerischen Akademie Der Wissenschaften in Kommission beim verlag C.H. Beck, 2008 130 s., 16 abb., 32 taf.
J. Marquart. 1903. Osteuropaische und Ostasiatsche Streifzuge. Leipzig, 1903.
Mark Scukin, Michel Kazanski et Oleg Sharov. 2006. Des les goths aux huns : Le nord de la mer noire au Bas – empire et a l’epoque des grandes migrations. BAR International Series 1535 / Series Editors : Sauro Gelichi, Lopez Quiroga, Patrick Perin. Monographs, I. Oxford, 2006. 486 s., 197 ill.
Werner Joachim. 1984. Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kubrat, Kagan der Bulgaren. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch – Historische Klasse, Abhandlungen (Neue Folge) Heft 91. Munchen, 1984.
Иллюстрации
Рис.1. Мощи (десница) св.вмч. Никиты Готского (+372), перенесенные из храма города Аназарвы (Киликия) в сербский монастырь Высокие Дечаны в Косово.
Рис.2. Ранние походы готов периода «готских войн» (через Боспор Киммерийский, - из Крыма) по М.Б. Щукину [2005: рис.52].
Рис.3. Погребальные (1) и поселенческие (2) позднескифские памтники Юго-Западного Крыма по О.Д. Дашевской [1991: табл.36]; на врезке – география находок «готского стиля» III-VII вв. по М. Биербрауэру [Bierbrouer 2008: 112, abb.15].
Рис.4. Вход в пещеру Йограф на Главной горной гряде Крымских гор, на высотах Ай-Петри.
Рис.5. Перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии Кубрата. Золото, Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.6. Вещи из «речного погребения варварского князя» (Л.А. Мацулевич), найденные в р.Суджа у с. Большая Каменка (Украина).
Рис.7. Вид престола древнего типа (до 692г.) в южном приделе центрального пещерного храма «Судилище» на Эски-Кермене. Крым, Украина.
Рис.8. Престол древнего типа (до 692г.) в храме Евграфия в Инкермане. Крым, Украина.
О ВРЕМЕНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ
ГОТСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Время учреждения Готской архиерейской кафедры относится к началу IV в., когда митрополит Готии Феофил Боспоританский имел резиденцию в Крыму (путь к которой лежал через Боспор), и участвовал в Первом Вселенском соборе Единой Церкви (325г.). Этот экзарх, судя по титулатуре («Боспоританский»), был выше в иерархии, нежели упомянутый на том же Никейском соборе епископ города Боспора – Кадм. На том же Первом соборе присутствовал и епископ города Херсонеса Филипп. Связь Феофила Боспоританского с Боспором Киммерийский, а не с Боспором Фракийским, подтверждается хронологией ухода готов «за Дунай» не ранее 348 г. (см.ниже).

Рис.1. Мощи (десница) св.вмч. Никиты Готского (+372), перенесенные из храма города Аназарвы (Киликия) в сербский монастырь Высокие Дечаны в Косово.
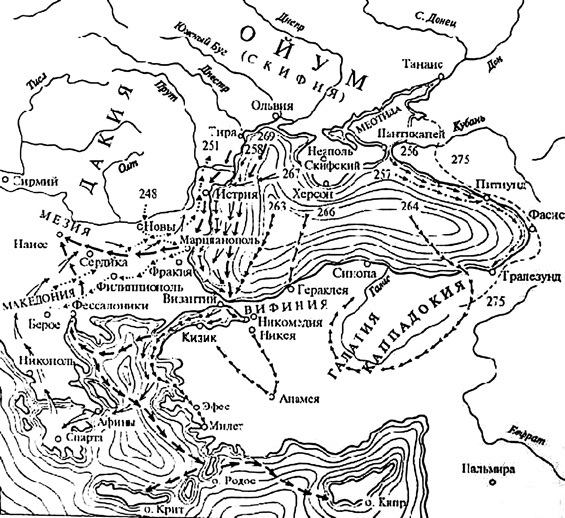
Рис.2. Ранние походы готов периода «готских войн» (через Боспор Киммерийский, - из Крыма) по М.Б. Щукину [2005: рис.52].
В Тавриде (Крыму) от епископа Феофила получает святое крещение Никита (+369-372), будущий святой и великомученик готский (рис.1); а восприемником Феофила Боспортианского на Готской кафедре становится Ульфила, чьи прародители (дед и бабка) были приведены в Готию из Каппадокии (264г.), во времена именно того «готского похода» на Малую Азию, который был совершен через Боспор, т.е – из Крыма (рис.2) [Юрочкин 1999: 326-332; Щукин 2005: 143-144, рис.52].
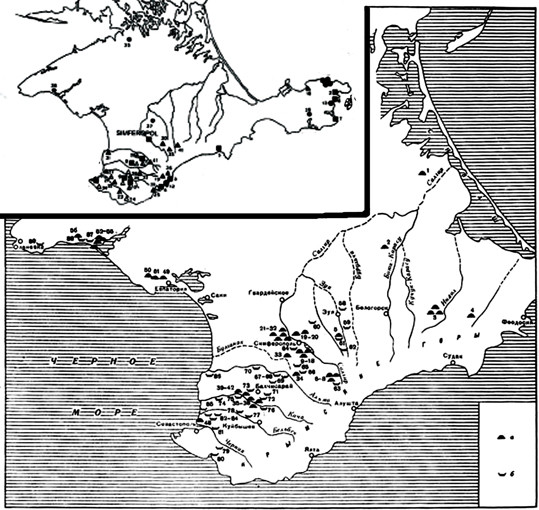
Рис.3. Погребальные (1) и поселенческие (2) позднескифские памтники Юго-Западного Крыма по О.Д. Дашевской [1991: табл.36]; на врезке – география находок «готского стиля» III-VII вв. по М. Биербрауэру [Bierbrouer 2008: 112, abb.15].
Уместно считать, что во времена рукоположения Ульфилы это была уже Крымская Готия. Имя Феофила Боспоританского связывает происхождение и Никиты, и Ульфилы с территорией Крымского полуострова, в его юго-западной части, входящей во владения Неаполя Скифского (рис.3), где имеются признаки готского присутствия [Дашевская 1991: табл.36; Казанский 2006: 26-41; Scukin, Kazansi, Sharov 2006: 301, ill.16; Bierbrouer 2008: 37,112,125, abb.2,15-17].
Не исключено, что с территорией Крыма связано и появление 308 готских мучеников (+372), 26 из которых известны поименно, и мощи которых были сохранены готской «королевой» Граафой (Грэтой?), хранились готской «королевой» Аллой и дочерью Граафы Дуклидой (Лидией?), возможно, недалеко от Алушты (вершина Ай-Дуклу?); и, в конце концов, были перевезены в малоазийский город Кизик (см.рис.2). Об этих событиях, и пребывании данных реликвий в Крымской Готии (в пещере Йограф?)

Рис.4. Вход в пещеру Йограф на Главной горной гряде Крымских гор, на высотах Ай-Петри
(рис.4), - в княжестве, дожившем до позднесредневековых времен, - сохранилось соответствующее предание [Струков 1882; Беликов 1887; Голубинский 1901: 30-35]. Гонения на христиан связываются Готским синаксарем с именем Унгериха, в котором видят то Эрманариха (Германариха), то исторически известного преследователя готов-христиан – Атанариха (и, видимо, с большей степенью вероятности).
Все перипетии, связанные как с гибелью Никиты Готского (см.рис.1), так и сожжением 308 готских христиан в храме, - происходили при епископстве в Готии Ульфилы, который позднее увел часть христианизированного народа готов за Дунай. Это переселение по хронологии, приведенной блж. Иеронимом Стридонским, относится ко временам ок.375/378 г.; а более поздние источники, например, арианский историк Авксентий Дуросторский, предлагают более раннюю дату - 348 г., что подтверждается сведениями Кирилла Иерусалимского [Лавров 1995; он же 2003]. Военные столкновения между готскими вождями Фритигерном и Атанарихом, времен императора Валента (ок. 369 г.), и участие в их переговорах готского епископа Ульфилы, делают предпочтительной более позднюю дату (между 348 - 378 гг.) образования Малой Готии на Дунае, по отношеню к Первому Вселенскому собору Церкви с участием Феофила Боспоританского (экзарха Готии) и епископа города Боспора Кадма. Именно после 348-372 гг., готское присутствие южнее Дуная стало ощутимым: готы перерезали почти 7000 жителей Фессалоник, из-за налоговой политики императора Феодосия Великого и убийства их вождя Бутериха (389 г.) [Горайко 2006: 4-17]. Образование Малой Готии на Дунае только и могло способствовать «готскому этническому наполнению» города Боспора Фракийского, цари которого удивительно дублировали своими именами царей Боспора Киммерийского (как это было с Котисом II). У этих «малых готов», и в этом Боспоре (Фракийском) обосновал Церковную кафедру, рукополагая на нее Готского владыку, только святитель Иоанн Златоуст (347-407гг.), пребывая на патриаршей престоле Константинополя (398-404гг.).
Борьба готского христианского короля («рекса») Фритигерна против готского короля-язычника Атанариха – явление значительное [Вольфрам 2003], и посреднической роли епископа Ульфилы в переговорах Фритигерна с императором Валентом посвящено отдельное исследование, результаты которого вошли в крупную обобщающую работу [Щукин, 2004: 158-168; Щукин, 2005: 207-254, 364-372]. А наличие черняховского материала в Крыму [Казанский М.М. 2006: 26-41] с одной стороны, и связанность с полуостровом происхождения христианских вождей готов (каковым был, например, Никита), с другой, является серьезным аргументом в пользу вхождения территории Тавриды (народа названного боранами) в Готское королевство [Байер 2001]. Об «исходной территории», каковым для готов был Крым, свидетельствует и произошедшее под натиском персов возвращение готов - федератов Византии, охранявших Кавказские перевалы в IV-VI вв., обратно в Крым к середине VI в. [Бажан 2010; Шевченко, Уманец 2010: 119-120], и восстановление Готской митрополии (вместо епархии), как во времена Первого Вселенского собора и Феофила Боспоританского, включавшей епархиальные образования, разместившиеся на месте некогда обширной Готской державы [Вольфрам 2003; Шевченко, Уманец 2010а: 60-67]. Пребывание готов на Кавказском Побережье, отражено и нарративными источниками: это готы-тетракситы, помещаемые «южнее Таманского полуострова» [Васильев 1927: 261], часть которых при обратном переселении в Крым осталась на Черноморском Побережье под именем «евдусиан, говоривших на готском и таврском языках».
Основы территориального разрастания архиерейской кафедры Готии за пределы Таврического полуострова, лежат в событиях после крушения готских королевств под ударами гуннов и в событиях самого начала VI в. Это миссия епископов из Аррана (Азербайджана) - Кардоста и Макария. Первый из них, с тремя священниками и четырьмя проповедниками, почти три десятилетия в начале VI в. проповедовал на Юге Восточной Европы [Артамонов 1960: 93-94], и основными проводниками его миссии были воинственные савиры [Шевченко, Уманец 2010: 97-118] – выходцы из Сибири, по имени которых эта северо-восточная часть Евразии получила свое имя. Их перманентный союз с Византией и стабильные союзнические отношения с антами [Шевченко 1977: 39-52], привели к становлению епископских кафедр на южных территориях некогда обширной и могущественной Готской державы IV в. – государства Германариха [Вольфрам 2003], - от Дона до Днестра. Готы были разгромлены гуннами, а эстафету рухнувшей империи Аттилы (452г.) в Днепро-Донском междуречье приняли савиры. Проблеме существования «варварских королевств» гуннского времени посвящено отдельное исследование [Казанский, Мастыкова 2008: 225-252], в котором локализация центров («королевства Винитария» для Киевского Поднепровья и Левобережья Днепра; и аналогичные образования Донского региона) полностью согласуется с излагаемой версией.
Готская митрополия, куда входила Оногурская епархия Подонья, зафиксирована во времена восстания против хазар крымского епископа Иоанна Готского накануне 791 г. [Артамонов 1962: 258, прим.57, 412; Герцен, Могаричев 1991: 119-122]. Этому крупному Экзархату Церкви были подчинены, из семи епархий, - Астильская, у хазар на Волге (Итильская), и Оногурская (оногуры – болгарское племя между Днепром и Доном) – где-то в Подонье, или в междуречье Дона и Днепра.
«Болгарские территории» (Великую Болгарию) как правило, размещают восточнее Дона – в Приазовье [Артамонов 1962: 152-169]. Но, учитывая место ставки и погребения христианского владетеля Великой Болгарии – Кубрата у с. Малая Перещепина Полтавской губ. на Левобережье Днепра [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988; Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997: 42], - земли Великой Болгарии – Оногурии (и соответственно, Оногурской епископии) следует помещать много северо-западнее: от Дона до Левобережья Среднего Днепра включительно. Именно там, где с последних десятилетий VII в., располагаются памятники алано-болгарской культуры (салтовской) – на Северском Донце и в бассейне Дона, населенного болгарами [Чичуров 1976: 65-80] и до левого берега Днепра, - простиралась Великая Болгария.
Основной военной силой племенного объединения болгар оставались савиры, называвшиеся в этих условиях и в этой среде «черными болгарами» (от «sav» - «черный»; «aric» - «человек», «воин»), что согласно армянским летописным источникам обозначало «черные сыны», «черные воины» [Уманець, Шевченко 1993: 3-13]. Центром савирского княжества («царства гуннов») являлся город Варачан, известный недалеким расположением от «Беленджера», в состав которого входили савиры и Берсилия (барсилы, берсула), причем, последняя частично совпадала с территорией современной Башкирии. «Беленджер», как в результате возможной ошибки переписчиков звучит этот объединяющий термин (савиры + барсилы), считают вариацией названия все тех же Болгар [Артамонов 1962: 184, прим.9-12]. Исследователи с упорством стремятся привязать все перечисленные номенклатуры к Северному Кавказу («царство гуннов», савиров, Беленджер, Варачан): тогда речь шла бы о чрезвычайно маленьком княжестве [Артамонов 1962: 200], вряд ли способном угрожать территориально обширной и могущественной Кавказской Албании VII века. Представляется более чем вероятным, что под этими наименованиями выступает территория Великой Болгарии 682 г., после смерти Кубрата и ухода Аспаруха на Дунай, когда Батбай (в случае его историчности) остался на прежнем месте, но уже под сюзеренатом Хазарии.
Князь этой савирской страны («царства гуннов») выступает под именем Алп-Илитвера, что соответствуют титулу алп-ельтебера – «эфенди», «принца», как в Хазарском Каганате называли великих владетельных князей с номинальной вассальной зависимостью [Marquart 1903: 114-115]. Алп-Илитвер в 661 и 664 гг. наносит Албании военные удары, вынуждающие это значительное и по территории и по военной мощи кавказское царство практически к вассальной зависимости, подтверждая эту зависимость династическим браком и очередным успешным походом 669/670 года. В это время Великая Болгария – еще суверенное государство (до войны с хазарами 679г.).
Посольство, отправленное в 682 г. албанским князем Вараз-Трдата во главе с епископом Исраелем, отправляется в страну Алп-Илитвера, уже вассала Хазарии, не через «Дербентские ворота» (как это произошло бы, будь его «царство гуннов» на берегу Каспия севернее Дербента [Артамонов 1962: 200]), а через Центральный Кавказский хребет между истоками Алазани и Койсу [Артамонов 1962: 186, прим.18]. Посольство направляется не только «севернее Кавказа», но еще и «западнее Кавказа», где лежит Великая Болгария и находится главный город Алп-Илитвера, названный Варачаном, - название фонетически перекликающееся с рекой Бузан, как назван Дон в переписке хазарского царя Иосифа (если под Доном, устье которого является «южной границей с Румом [Византией]» царского письма, как полагал А Гаркави, понимается река «В-д-шан» или «В-д-шан» [Артамонов 1962: 389-391], - то это и вовсе идентично наименованию савирского города).
Христианство было принято Алп-Илитвером вместе со всей савирской аристократией и усиленно насаждалось среди населения: из почитаемого политеистами-савирами дуба был вырезан массивный крест, украшенный «изображениями животных и блестящими крестами» [Артамонов 1962: 188]. А сообщение о вступлении властителя савиров «в семью христианских государей» было направлено армянскому католикосу Сахаку [Артамонов 1962: 189], как возможное свидетельство традиционного сохранения памяти о миссии епископа-армянина Кардоста, проповедовавшего у тех же савиров на полтора столетия ранее.
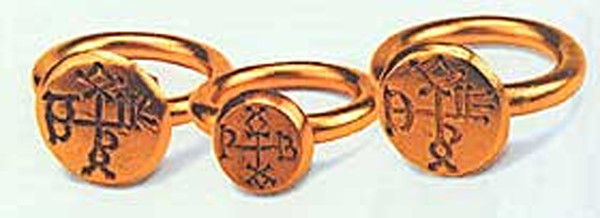
Рис.5. Перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии Кубрата. Золото, Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.6. Вещи из «речного погребения варварского князя» (Л.А. Мацулевич), найденные в р.Суджа у с. Большая Каменка (Украина).
Все это происходило на территории, где властвовал христианин Кубрат, где найдены погребальные сокровища и среди них - специфически христианские перстни с тамгами этого владетеля Великой Болгарии (рис.5) [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988].*1 Крайне интересным является находка в том же микрорегионе постготского (V в.) «речного погребения» [Мацулевич 1934: 89, сл.], где имелся сложносоставной золотой пояс-цепь (рис.6), во всем схожий с такими же поясами – христианскими реликвиями «от Гроба Господня», в том числе и с поясом, подаренным императором Валентом – защитнику христианства - готскому королю Фритигерну, через посредство епископа Ульфилы [Шевченко 2005: 126-159]. Христианизация, начавшаяся в эпоху державы готов здесь, на левом берегу Среднего Днепра, где располагалось «царство Винитария» [Казанский, Мастыкова 2009], продолжалась в эпоху Кубрата.
После смерти Кубрата и хазаро-болгарской войны (679г.), в результате которой часть болгар под водительством сына Кубрата – Аспаруха была вытеснена на Дунай (680г.), Хазарский каганат распространил свою власть на территории, ранее контролировавшиеся союзной Византии – Великой Болгарией (Подонье, Поднепровье). Претензии Хазарии оказались успешными даже в отношении фем (областей) самой Византийской империи (в Крыму), куда в 698 г. бежит сосланный в Херсонес низложенный император Юстиниан II, укрывшись в центре Готской митрополии – Дори [Васильев 1927: 191-199] (видимо, в Эски-Кермене, по заключению Н.И. Репникова [Репников 1932; Веймарн 1958: 28, 54]). Столица Готской митрополии в Крыму (Дори) была в те времена под протекторатом хазар.
Рис.7. Вид престола древнего типа (до 692г.) в южном приделе центрального пещерного храма «Судилище» на Эски-Кермене. Крым, Украина.
Рис.8. Престол древнего типа (до 692г.) в храме Евграфия в Инкермане. Крым, Украина.
Именно в это время функционируют пещерные церкви Юго-Западного Крыма (рис.7; 8) [Виноградов, Гайдуков, Желтов 2005: 72-80; Гайдуков, Желтов 2006], среди которых особо показательны пещерные храмы Эски-Кермена [Шевченко 2008].
В эти времена Готская митрополия Крыма благополучно продолжала существовать, поскольку Херсонский владыка под решением Трулльского (Дворцового) собора 692г. поставил свою подпись в качестве «Георгия, епископа Херсона Дорантского» (т.е., принадлежавшего к Готской митрополии в Дори) [Васильев 1927: 189-190]. С помощью болгарского хана Тревела (Дунайской Болгарии) к 705 г. Юстиниан II сумел вернуть себе трон Византии [Артамонов 1962:196-198], и остался союзником Хазарского кагана. С хазарским владычеством в Горном Крыму было связано антихазарское восстание Иоанна Готского (до 791г.), после которого наименование Готской митрополии исчезло со страниц исторических источников.
*1) Иоахим Вернер осмотрел хранившиеся тогда в фондах Государственного Эрмитажа в Ленинграде (хранитель Злата Александровна Львова) вещи из Малой Перещепины в конце апреля 1984 г. (чему автор этих строк был свидетелем). Он набросал карандашиком в блокноте зарисовки тех вещей, которые не были известны в иллюстрациях по публикациям 30-х гг. (Л.А. Манцулевича), и не появились в публикациях 60-х ХХ в. (М.И. Артамонова). И через каких-то три месяца в свет вышла монография И.Вернера о погребении на Приднепровских землях Левобережья Днепра (Полтавской обл. Украины) владетеля Великой Болгарии, где исследователь привел расшифровку тамг на перстнях из погребения, принадлежавших «патрикию Кубрату» [Werner 1984], что вызвало массовый отклик в прессе [Вернер 1985]. Как и прочие монографии И.Вернера эта работа была переведена на многие языки мира [Вернер 1988], кроме русского, на который она не переведена и по сей день, поскольку погребение властелина Великой Болгарии оказалось почти в эпицентре «исконно славянских земель», - на территории самой «Русской земли» (Переяславского княжества) - в ядре формирования восточнославянского единства. Это, в глазах загипнотизированных геополитизмом исследователей, «сдвигало» процесс формирования славянства в его восточном глоттогенетическом крыле на время после падения Великой Болгарии. Однозначная трактовка И.Вернером принадлежности погребения кагану Великой Болгарии вызвала несостоятельные возражения чересчур политизированных специалистов-археологов, но при публикации памятника, вопрос о непререкаемой принадлежности тамг из Перещепино Кубрату обойти так и не удалось [Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997]. Однако высказанные в полемике предположения о принадлежности погребения «наследникам Кубрата» (или ограбившему болгарского владавца – хазарскому аристократу) – почему-то продолжают тиражироваться. Хотя никто, например, в аналогичной ситуации не приписывает погребения короля франков Хильдерика (с его перстнем-печаткой) его сыну Хлодвигу, etc.
Храм "Донаторов" (Эски-Кермен, Крым)
Литература
М.И. Артамонов. 1962. История хазар. Л.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 1962. 524 с.
И.А. Бажан. 2010. Многолепестковые инкрустированные фибулы и вопросы хронологии цебельдинских древностей // Доклад на семинаре «Хронограф» 06.04.2009. в ИИМК РАН. Изв. ИИМК РАН, СПб. (в печати).
Х.-Ф. Байер. 2001. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург: Изд. Уральского гос.университета, 2001. 500 с.
Д.Н. Беликов. 1887. Начало христианства у Готов и деятельность епископа Ульфилы. Вып.1. Казань: Духовная Академия, 1887. 205 + V с.
Д.Т. Березовець. 1965. Слов'яни й племена салтiвської культури // Археологiя. Т.XIX. Київ, 1965. С.47–67.
Д.Т. Березовець. 1970. Про ім’я носіїв салтівської культури // Археологія. Київ, 1970. Т. XXIV, с.59-74.
А.А. Васильев. 1927. Время византийского, хазарского и русского влияния (с VI по XI в.) // Изв. ГАИМК.. Вып.V. Л., 1927. С.179-282.
Е.В. Веймарн. 1958. Оборонительные сооружения Эски-Кермен // История и археология средневекового Крыма. М., 1958. С.21-59.
И. Вернер. 1988. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на българите. София, 1988.
А.Ю. Виноградов, Н.Е. Гайдуков, М.С. Желтов. 2005. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // РА.1995. № 1. С. 72–80.
Х. Вольфрам. 2003. Готы. От истоков до середины VI в. (Опыт исторической этнографии). СПб.: «ЮВЕНТА», 2003. 656 с.
Н.Е. Гайдуков, Михаил Желтов, диак. 2006. Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы III Судакской международной научной конференции. Киев; Судак, 2006. Т. 2. С. 76–85.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1991. О возникновении готской епархии в Таврике // Материалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврики. Вып. II. Симферополь, 1991.
А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев. 1993. Крепость драгоценностей. Кырк-ор, Чуфут-Кале. Симферополь, 1993.
Е.Е. Голубинский. 1901. История Русской Церкви. СПб., 1901. Т. 1. Ч.1.
А.В. Горайко. 2006. О роли Антиохийской Церкви в восстании 397 г. // Проблемы теологии. Вып.3: Материалы Третьей международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа. 2 – 3 марта 2006. Часть 1. Екатеринбург, 2006. С.4-17.
О.Д. Дашевская. 1991. Поздние скифы в Юго-Западном Крыму // САИ, вып. Д 1 – 7. М.: «Наука», 1991. 140 с.+75 табл.
В.Н. Залесская, З.А. Львова, Б.И. Маршак, И.В. Соколова, Н.А. Фонякова. 1997. Сокровища хана Кубрата. Перещепинский клад. СПб: изд.Государственного Эрмитажа, 1997. 336 c.
М. Казанский. 2006. Германцы в Юго-Западном Крыму в позднеримское время и в эпоху Великого переселения народов // Готы и Рим. Сборник научных статей. Киев: ИД «Стилос», 2006. С.26-41.
М.М. Казанский, А.В. Мастыкова. 2009. Кочевые и оседлые варвары гуннского времени в Восточной Европе // Дивногорский сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып.1: Археология / Отв.ред. А.З. Винников, М.И. Лылова. Воронеж: Изд. Воронеж.ГУ, 2009. С.225-252.
В.В. Лавров. 1995. Епископ Ульфила и развитие готской литературы // Интеллектуальная элита античного мира. ТД научной конференции. 8 – 9 ноября 1995 г. СПб., 1995.
В.В Лавров. 2003. Готские войны III в.н.э.: римское культурное влияние на восточногерманские племена Северного Причерноморья // Проблемы античной истории. Сборник научных статей к 70-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. Д.и.н.А.Ю. Дворниченко. СПб., 2003. С.332-352.
Л.А. Мацулевич. 1934. Погребение варварского князя в Восточной Европе // Изв.ГАИМК. Вып.112. Л., 1934.
Н.И. Репников. 1932. Раскопки Эски-Керменского могильника в 1928 и 1929 гг. // Изв.ГАИМК, 1932. Т. 12, вып. 1–8, с.107–152.
Д.М. Струков. 1882. Жития святых Таврических (Крымских) чудотворцев. Изд.2-е. М., 1882. 72 с., ил.
И.С. Чичуров. 1976. Экскурс Феофана о протоболгарах // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975 г. М.: «Наука», 1976. С.65-80.
Уманець О.М., Шевченко Ю.Ю. 1993. Проблема культурогенезу давньорусьоi "севери" з центром у Чернiговi // Проблеми iсторичного i географiчного краезнавства Чернiгiвщини. Вип.2. Чернiгiв: Чернигiвський державний педагогiчний iнститут, 1993. С.3-13.
Ю.Ю. Шевченко. 1977. На рубеже двух этнических субстратов Восточной Европы VIII-X вв. // Этнография народов Восточной Европы / Отв.ред. А.А. Шенников. Л., 1977. С.39-57.
Шевченко Ю.Ю. 2005. Реликвия из величайшей пещерной святыни христианского мира // Славянский ход 2005. Материалы и исследования. Вып.2. Ханты-Мансийск – Сургут: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; «Общество русской культуры», 2005. С.126-159.
Шевченко Ю.Ю. 2008. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства юга Восточной Европы // Христианство в регионах мира. Вып.2 / Отв.ред. Т.А.Бернштам., А.И.Терюков. СПб: МАЭ РАН, 2008. С.151-206.
Ю.Ю. Шевченко. 2010. Храмы христиан юга Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип.3. Київ – Глухiв: Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’ятникiв iсторiї та культури, 2010 (355 с.). С.67-75.
Ю.Ю. Шевченко, А.Н. Уманец. 2010. Палеоэтнографическая ситуация V-VII вв. в Северном Причерноморье и появление раннехристианских пещерных памятников // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН, С.118-122.
Ю.Ю. Шевченко, А.Н. Уманец. 2010а. Появление раннего христианства Ш-VП вв. в Северном Причерноморье // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип.3. Київ – Глухiв: Національний заповідник "Глухів", Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’ятникiв iсторiї та культури, 2010. С.60-67.
М.Б. Щукин. 2004. Силадьшомйо или Сильвано-Шильмоне и Фритигерн // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье. Доклады научной конференции к 60-летию со дня рождения Е.А. Горюнова. СПб., 2004. С.158-168.
М.Б. Щукин. 2005. Готский путь (Готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. 576 с., библиогр., илл.
В.Ю. Юрочкин. 1999. Боспор и православное начало у готов // Боспорский феномен: Греческая культура на переферии Античного мира. Материалы Международной научной конференции. Декабрь 1999. СПб., 1999. С.326-332.
В.Ю. Юрочкин. 2002. Происхождение склепов Центрального и Юго-Западного Крыма: Боспор или Кавказ? // Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции. Ч. II, СПб., 2002. С.125-137.
Volker Bierbrouer. 2008. Ethnos und Mobilitat im 5.Jahrhundert aus archeologischer Sicht: VomKaukasus bis nach Niederosterreich. Munchen: Verlag der Bayerischen Akademie Der Wissenschaften in Kommission beim verlag C.H. Beck, 2008 130 s., 16 abb., 32 taf.
J. Marquart. 1903. Osteuropaische und Ostasiatsche Streifzuge. Leipzig, 1903.
Mark Scukin, Michel Kazanski et Oleg Sharov. 2006. Des les goths aux huns : Le nord de la mer noire au Bas – empire et a l’epoque des grandes migrations. BAR International Series 1535 / Series Editors : Sauro Gelichi, Lopez Quiroga, Patrick Perin. Monographs, I. Oxford, 2006. 486 s., 197 ill.
Werner Joachim. 1984. Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kubrat, Kagan der Bulgaren. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch – Historische Klasse, Abhandlungen (Neue Folge) Heft 91. Munchen, 1984.
Иллюстрации
Рис.1. Мощи (десница) св.вмч. Никиты Готского (+372), перенесенные из храма города Аназарвы (Киликия) в сербский монастырь Высокие Дечаны в Косово.
Рис.2. Ранние походы готов периода «готских войн» (через Боспор Киммерийский, - из Крыма) по М.Б. Щукину [2005: рис.52].
Рис.3. Погребальные (1) и поселенческие (2) позднескифские памтники Юго-Западного Крыма по О.Д. Дашевской [1991: табл.36]; на врезке – география находок «готского стиля» III-VII вв. по М. Биербрауэру [Bierbrouer 2008: 112, abb.15].
Рис.4. Вход в пещеру Йограф на Главной горной гряде Крымских гор, на высотах Ай-Петри.
Рис.5. Перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии Кубрата. Золото, Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.6. Вещи из «речного погребения варварского князя» (Л.А. Мацулевич), найденные в р.Суджа у с. Большая Каменка (Украина).
Рис.7. Вид престола древнего типа (до 692г.) в южном приделе центрального пещерного храма «Судилище» на Эски-Кермене. Крым, Украина.
Рис.8. Престол древнего типа (до 692г.) в храме Евграфия в Инкермане. Крым, Украина.
putnikiegipet @mail.ru,
02-12-2010 16:36
(ссылка)
Без заголовка
Кто скажет, где они, наши христианские древности? Кто видел Египет Антония Великого, Павла Фивейского и Макария Египетского;может представить в реальных условиях жизнь этих первых анахоретов, удалившихся от мира и живших в полном уединении, посвятив себя покаянию, молитве и Богопознанию.
Кто прошел по местам, освященным пребыванием в Египте Святого Семейства, и лично пережил страницы Библейской истории.
Кто вошел в Египет Православный в безчисленном множестве бережно сохраненных Святынь, вдохнул древность и силу намоленных храмов ?
Мы изучаем Египет по старым книгам, я три раза была, неделю назад наши русские мужчины вернулись из экспедиции, весной еще поедем.
Каждый раз путешествие показывает нам, христианам, землю, где совершались события, стоящие у истоков нашей веры.
Кто прошел по местам, освященным пребыванием в Египте Святого Семейства, и лично пережил страницы Библейской истории.
Кто вошел в Египет Православный в безчисленном множестве бережно сохраненных Святынь, вдохнул древность и силу намоленных храмов ?
Мы изучаем Египет по старым книгам, я три раза была, неделю назад наши русские мужчины вернулись из экспедиции, весной еще поедем.
Каждый раз путешествие показывает нам, христианам, землю, где совершались события, стоящие у истоков нашей веры.
Юрий Шевченко,
08-03-2011 20:57
(ссылка)
Игнатий - старец Сийский (в пещере Урала)
Шевченко Ю.Ю.
О НЕОБЫЧНОМ ПОЧИТАЕМОМ ХРИСТИАНАМИ-ПАЛОМНИКАМИ ПРИРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ИГНАТЬЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ УРАЛА
(Радловский сборник Музейные проекты и исследования 2010 г. СПб.: МАЭ РАН, 2011.С.239-244 )
Появление объектов, отраженных в таких терминах как: «святая страна», «священный путь», «святая дорога», «священное “место”» (озеро, роща, долина с источником, пещера, etc.), имеет чрезвычайно давнюю традицию. В свое время Д.А. Мачинским (Machinsky, Mousbakhova,2001, c.4-5) было предложено объяснение появлению древних, «священных путей», восходящих к периодам массовых миграций населения позднего палеолита, что оказалось очень созвучным идее Ю.Е. Березкина (2003, с.24-36) о палеолитической древности ряда фольклорных сюжетов, и синхронизировалось с ней. С такими трассами «священного пути» было связано все многообразие «святых мест», расположенных на нем, как некие его «вехи», отмечающие саму трассу.
Нередко, естественный ландшафт (или фация), как узловой пункт подобного «священного пути», включал в себя необычное природное образование (естественное укрытие, например, в виде пещеры), и/или его антропогенную модификацию, и именно такое сочетание естественного и искусственного приобретало сакральные формы. Наиболее древними «почитаемыми местами» подобного рода – настоящими святилищами - оказались пещеры: средне- и позднепалеолитического времени, – с встроенными в нишах черепами пещерных медведей, или останками иных хищников (Житнев, 2000, с.33-37; Котов, 2000, с.37-40; Сериков, 2000, с.40-42); и исключительно позднепалеолитического времени - с живописью (Филиппов, 2000, с.27-33). Точно так же, но уже в эпоху палеометалла (бронзовый век), образовался «Гластонберийский Тор» - окаймленная высотами долина в Англии, увенчанная гигантским курганом эпохи бронзы (с «пещерой Мерлина» неподалеку); место, с которым представления раннего средневековья связали хранение Священного Грааля (чаши с Кровью Христа) и погребение короля Артура (в подземельях Гластонберийского аббатства). Аналогичны окультуренные раннесредневековыми оборонными эскарпами склоны второй надпойменной террасы Десны с местом расположения княжеского кургана «Черная могила», где произошло «первое на Руси явление Богородичной иконы», и где Антоний Печерский обосновал свой первый пещерный монастырь в Чернигове. Таков и участок ландшафта береговой долины р.Луга с группой погребальных насыпей и выделяющейся сопкой-уникумом «Шум-гора» у древнерусского погоста Передол (Шевченко, Богомазова, 2004, с.265-299).
К таким естественным объектам, подвергнувшимся антропогенному воздействию, относятся Капова (Шульган-таш) и Игнатьевская (Ямазы-таш, или Симская) пещеры на Урале. Из всей группы Серпиевских пещер, именно Симскую пещеру стали называть Игнатьевской со времени около середины XIX в. (Лялицкая 1939; Баранов, 1998, с. 13). Если верхнепалеолитическая атрибуция живописи Каповой пещеры обоснована уже давно (Бадер, 1965), и исследования в пещере проводились планомерно: с 1960 по 1978 г. – О.Н. Бадером, а с 1982 г. под руководством В.Е Щелинского (Петрин, 1992, с. 3-9); то точные данные о появлении живописи в Игнатьевской пещере (открыта в 1980) не позднее, чем на исходе верхнего палеолита, появились лишь в результате обследования специальной комиссией ЮНЕСКО в 2010 г., при непосредственном участии Г.А. Хлопачева.
Структура карстового образования, названная «Игнатьевской пещерой», развернута в горизонтальной плоскости, хоть и имеет некоторое вертикальное членение. Из аркообразного входного грота, удобного в качестве укрытия, внутрь ведёт широкий, но низкий вход в главную «галерею Столба», длиной более 130 метров, откуда можно попасть в «Грот Столба», из которого по труднопроходимому лазу можно достигнуть дальнего грота, размещенного несколько выше (на «втором ярусе»), называного «Келией старца Игнатия».
Пока нет данных об использовании Игнатьевской пещеры в эпоху палеометалла (медный – бронзовый – железный века) и средневековья, как это имеет место в других пещерах Урала (Семенов, Багин, 2000, с.128-131; Балина, 2000, с.162-166; Косинцев, Чаиркин, 2000, с.166-175). Но в Игнатьевской пещере имеется артефакт, редкие аналогии которому представлены именно в средневековых древностях. Среди множественных кальцитовых образований (сталактиты, сталагмиты, кальцитовые «реки», пещерный «жемчуг»), в дальнем зале Игнатьевской пещеры, на втором ярусе, выделяется сталагмитовый столбец, сохранившийся на одной из стен. Он выглядит как «отлитый поясной образ женской фигуры», с отчётливо просматривающимися лицом, руками; а по бокам – расположены еще два сталагмита, напоминающие подсвечники (рис.1).
Это сталагмитовое образование получило наименование «икона старца Игнатия», или «Игнатьевская Богоматерь», и при осмотре Г.А. Хлопачевым (2010), трассологические характеристики его поверхности свидетельствуют о возможной искусственной подработке лика этого, в целом, нерукотворного образа. Эта природная скульптура, несущая следы антропогенного воздействия (подработка Лика), пользуется почитанием и служит одним из наиболее известных объектов паломничества в наши дни (рис.2).

Древнейшим внешне очень похожим на «Игнатьевскую Богоматерь» памятником является икона «Богородицы Спилеотиссы», перенесенная в пещеру Мега Спилеон на севере полуострова Пелопоннес двумя братьями – Прокопом и Феодором и их сестрой Екатериной, при начале здесь христианского пещерного общежития, в 362 г. (Шевченко, 2008, с.81-82).
 "Спилеотисса" из Успенского монастыря "Мега Спилеон" ("Большая пещера") на Пелопоннесе (Греция)
"Спилеотисса" из Успенского монастыря "Мега Спилеон" ("Большая пещера") на Пелопоннесе (Греция)
По существующему монастырскому преданию икона «вылеплена из воска апостолом-евангелистом Лукой», а материал, в котором она сработана, с течением времени - «окаменел». Не вызывает сомнения искусственное происхождение Спилеотиссы, различимое в проработке деталей: ликов Богородицы и Младенца, а также характерного положения Их рук. Икона сработана в стиле высокого рельефа (горельефа), в том же «поясном» варианте, что еще более сближает восприятие этого памятника с «Игнатьевской Богоматерью». Судя по внешнему виду (натурные геолого-минерологические обследования, насколько известно автору, не проводились), Богородица Спилеотисса сработана либо из обсидиана, либо из «стеклянной пасты», из которой обычно производились различные позднеантичные и раннесредневековые амулеты (известны значительно более мелкие предметы) на Ближнем Востоке. Богородица Спилеотисса являлась образцом для различных подражаний и изображений на христианских филактериях (амулетах) до рубежа раннего и высокого Средневековья, включая такие престижные предметы, как золотые амулеты-змеевики (например, золотая Белгородская «гривна» конца XI – начала XII в.).
 Амулет-змеевик "Белгородская гривна" XI в.
Амулет-змеевик "Белгородская гривна" XI в.
 "Черная Мадонна" Монсерата (Испания)
"Черная Мадонна" Монсерата (Испания)
"Черная Мадонна" из Дома Богородицы, перенесенного из Назарета в Лоретто (Италия)
Наиболее известными и почитаемыми образами Богородицы того же плана, что и «Игнатиевская», были знаменитые «черные Мадонны» пещерных монастырей. Из них наиболее известны: скульптура Богоматери в пещерной части кафедрального собора св. Бенедикта монастыря Монсерат (Испания) XII в. (рис.3), средневековое изваяние Богородицы из Ейнсейделна (Einsiedeln) в Швейцарии, Мадонны Олот в Каталонии, а одна из наиболее поздних – Лурдская Богородица (рис.4) во Франции.
Лурдская Богоматерь
"Магдалина Окситанская"
Второй яркой средневековой аналогией «Игнатьевской Богоматери» является почитаемый сталагмит, очень напоминающий женскую фигуру (рис.5), в пещерах Окситании, называемых Ломбривэ – катарских пещерах в горах Сабартэ (департамент Арьеж, Франция). Его почитание, несомненно, уже во времена альбигойского движения (не позднее начала XII в.). Катары - «чистые» (Borst, 1953) видели в этой естественной сталагмитовой «скульптуре» портрет равноапостольной Марии Магдалины. Причем, почитаемая сталагмитовая фигура была не единственной (рис.6) в этом пещерном комплексе.
"Святая Девочка" в пещере Ломбривэ (Окситания)
С Игнатьевской пещерой связано множество легенд и преданий. Согласно одной из них здесь долгое время жил старец, отшельник Игнатий - по имени которого пещера Ямазы-таш (Симская) получила свое нынешнее название. В этом пещерном комплексе старец Игнатий умер и был погребен (с последующим неудачной попыткой перемещения его останков в иное место, во времена Николая I). Вокруг этой личности ходило немало легенд. По одной из них, Игнатий был не кто иной, как император Александр I (когда в царствование Николая Павловича распространялись слухи о «загадочном старце Кузьмиче» с «лицом императора Александра»), сменивший славу мира сего на тяжкий крест странничества. Другая легенда утверждает, что этот старец был ни кто иной, как великий князь Константин Павлович – брат российских царей Александра I и Николая I, в последние годы жизни предпочетший уединение молитвенного затвора. Еще в 50-е годы ХХ в. в дальнем зале пещеры («Келия старца Игнатия») были разбросаны остатки деревянного сруба, в котором он жил. Святой старец почитался и после смерти, а в пещеру, согласно описаниям начала ХХ века, «в девятую пятницу после Пасхи... стекается масса народу из соседних заводов, сел и деревень» (Лялицкая 1939; Петрин, 1992, с.3-5). Первым эту пещеру из полудесятка Сийских пещер Игнатьевской назвал в печатном издании Феодосий Николаевич Чернышов, грядущий академик Российской Академии наук в Петербурге, - геолог и палеонтолог. Он попал на Урал (и в Игнатьевскую пещеру, описанную им под этим названием) во время учебы в Горном институте, во второй половине 70-х гг. XIX в. Судя по его примечанию о жительстве здесь старца "лет тридцать тому назад, а может и более, поскольку никаких следов пребывания оного в пещере не имеется", определяется приблизительный период пещерного обитания Игнатия.
Наиболее интересно, что время жительства старца Игнатия в этой уральской пещере совпало со знаменательным явлением, наблюдаемым с конца XVIII в., и блистательно охарактеризованным Н.С. Лесковым: «Удивительно, что наши народоведы и народолюбцы, копавшиеся во всех мелочах народной жизни, просмотрели или не сочли достойным своего внимания малороссийских простолюдинов, которые пустили совершенно новую струю в религиозный обиход южнорусского народа. - …скажу, что это были какие-то отшельники в миру: они строили себе маленькие хаточки при своих родных домах, где-нибудь в закоулочке, жили тихо и опрятно – как душевно, так и во внешности. Они никого не избегали и не чуждались – трудились и работали вместе с семейными и даже были образцами трудолюбия и домовитости… но во все вносили свой немножко пуританский характер» (Лесков, 1957, с.190). Еще более интересна синхронность этого явления, с деятельностью старца Паисия Величковского, тогда же имевшего обширную переписку с иерархами Русской Православной Церкви, и отправлявшего из Нямецкого монастыря (Румынская Молдова) своих учеников, положивших начало такому, более чем значимому, для всей русской культуры явлению духовной жизни Империи, как «русское старчество» (Шевченко, 2010, с.252-253, 471-478).
Видимо это были не только синхронные, но и взаимосвязанные явления: «старчество при храмах», появившееся как «живое наследие» преп. Паисия Величковского, и «старчество в миру», описанное Лесковым. При таком понимании исторических последовательностей, пещерная жизнь старца Игнатия в эпоху Александра I, и ее апогей, пришедшийся на царствование Николая Павловича, во время гонений этого государя на старообрядцев, представляла интерес для всей «фрондирующей России». В то же самое время (царствование Александра Павловича) начинаются работы по пещерному строительству на Дону, встречавшие постоянное противодействие как в чиновничье-церковных, так и в губернско-полицейских кругах в эпоху Александровского и, особенно – последующего – Николаевского царствования. Но, несмотря на гонения и в противовес им, возобновление пещерничества наблюдается по всей, как минимум, Европейской России: от Волги и Дона до Днепра и Днестра. Это явление также синхронно и связано с формированием того разряда людей Церкви, из которого вышли «старец Гоголя» (Макарий) и «старец Достоевского» (Амвросий).
С 1881 г. в местностях Урала, включавших и поречье по р.Сим, начинает свою работу сотрудник Геологического комитета (будущий академик) Феодосий Николаевич Чернышев, впервые назвавший Симско-Серпиевскую пещеру (Ямазы-таш) именем старца Игнатия (в публикациях 1881 - 1884 и 1889 гг.). В эти времена уже только почиталась память старца, и изустно передавались рассказы о его молитве в подземном затворе; о слепоте, пришедшей за время многолетнего пребывания в темноте; о необыкновенном видении-происшествии, когда старца, якобы, посетила необыкновенная девочка Анна* («Нюрка») 5 – 10 лет, ненадолго выведшая уже ослепшего Игнатия на поверхность; о его недолгом пещерном затворе после выхода «на Свт Божий» перед кончиной… На 1881 год уже давно миновали те времена, когда урядник, прибывший из Катав-Ивановска безуспешно пытался перезахоронить останки старца Игнатия, и Ф.Н. Чернышеву остались лишь легенды и новое имя Игнатьевской пещеры (Баранов, 1998). Но сталагмитовый столбик в виде отлитой поясной женской фигуры почитали, как «икону старца Игнатия» уже и тогда. Не исключено, что «Игнатьевская Богородица», была одной из первых естественно-антропогенных святынь, и своеобразной «прозвестницей» во времени изваяния Богородицы в Лурде.
*) Из святых дев по имени Анна, Церковь чтит только одну: Анну (Агнию) Римскую, замученную в публичном доме Вечного города, накануне эпохи Константина Великого (III в.н.э.). Второе - житие Агнии Римской очень схоже с первым – Анны-Агнии, и почитаются они в одни и те же дни (21 января и 5 июля):
«Родилась в Риме от благочестивых родителей и была воспитана в христианской вере. В 13 лет она отказала в замужестве сыну начальника области и, не принеся жертву богине Весте, была нагой отправлена в непотребный дом. Но по Божию изволению у нее выросли такие длинные волосы на голове, что покрыли все ее тело как одежда, а в доме встретил ее Ангел Божий и покрыл таким блистающим сиянием, что от этого блеска нечестивые юноши не могли смотреть на нее. Когда св. Агния начала молиться, то увидела перед собой белую одежду, сотканную ангельскими руками. Юноша, виновник зла, вошел к Агнии и хотел совершить над ней насилие, но пал бездыханным, преданный Ангелом Божиим сатане. По просьбе отца юноши святая дева воскресила своей молитвой умершего, который стал прославлять Бога. И от этого 160 человек уверовали во Христа, крестились, а спустя некоторое время язычники отсекли головы им и воскрешенному юноше. []Тогда св. мученица Агния была предана жестоким мучениям, после которых ей воткнули в гортань меч, от чего она и предала свой дух Господу. []Молясь у гроба св. Агнии, от рук язычников пострадала сверстница ее Эмерентиана, которую похоронили вблизи св. Агнии. Спустя много лет дочь Константина Великого Констанция исцелилась от тяжкой болезни на гробе св. Агнии, устроив в благодарность на месте погребения ее церковь во имя св. мученицы, а затем и девичий монастырь».
«Святая мученица Агния родилась в Риме в III веке от христианских родителей и была воспитана ими в правилах христианской веры. С юных лет всей душой предалась она Богу и решила посвятить себя девственной жизни. Когда она отказалась выйти замуж за сына городского начальника Симфрония, один из приближенных открыл ему, что Агния христианка. Озлобленный правитель решил подвергнуть святую деву бесчестию и повелел обнажить и отправить ее в дом для блудниц за хулу на языческих богов. Но Господь не допустил поругания святой - на голове ее мгновенно выросли густые и длинные волосы, скрывшие тело от людей; помещенная в дом для блудниц святая облечена была Небесным светом, помрачавшим зрение всем, кто приходил. Сын правителя, пришедший, чтобы обесчестить деву, пал мертвым, едва коснувшись до нее рукой, но по горячей молитве святой Агнии был воскрешен и провозгласил перед лицом своего отца и многих людей: "Один Бог на небе и земле - Бог христианский, прочие же боги - прах и пепел!". При виде этого чуда сто шестьдесят человек уверовали в Бога и крестились, приняв в скором времени мученическую смерть от язычников. Святая Агния, по требованию языческих жрецов, была предана мучениям. Ее пытались сжечь на костре, как чародейку, но святая осталась невредима в огне, пребывая в молитве к Богу, после чего была убита ударом меча в горло. Святая дева-мученица была похоронена родителями недалеко от города Рима (около 304 года). На могиле святой Агнии совершалось много чудес. Мощи святой почивают в Риме в загородном храме, созданном в честь ее имени, по дороге Номентанской».
(Четьи-Минеи: 21 января, 5 июля).
Литература
Бадер О.Н.Каповая пещера. Палеолитическая живопись. М.: «Наука», 1965.
Балина Н.Н.К археологической реконструкции Канинского и Уньинского пещерных святилищ на Печорском Урале// САРВС. СПб., 2000.
Баранов С.М. Спелеорекорды Челябинской области. Плутон, бюл. №1. Челябинск, 1998, 31 с.
Березкин Ю.Е. Об универсалиях в мифологии // «Теория и методология архаики (ТЕМА)».. Вып.3: I. Стратиграфия культуры. II. Что такое архаика? СПб., 2003.
(Продолжить)
Житнев В.С. Археозоологические критерии «ритуальных медвежьих комплексов» верхнего палеолита // САРВС. СПб., 2000.
Косинцев П.А., Чаиркин С.Е. Культовые пещеры Урала // САРВС. СПб., 2000
Котов В.Г. Палеолитическое святилище со следами культа пещерного медведя на Южном Урале // САРВС. СПб., 2000.
Лесков Н.С. Некрещеный поп // Н.С. Лесков. Собрание сочинений. М., 1957.
Лялицкая С.Д. Дворцы под Землей: Очерки об уральских пещерах, Челябинск: ОГИЗ, 1939.
Петрин В.Т.Палеолитическое святилище в Игнатьевской пещере на Южном Урале. Нвосибирск: «Наука», 1992. 207 с.
Семенов И.А., Багин А.Л. Археолого-этнографические параллели некоторых артефактов на средневековых святилищах Европейского Северо-Востока // САРВС. СПб., 2000.
Сериков Ю.Б.Новый тип палеолитического святилища на Среднем Урале // САРВС. СПб., 2000.
Филиппов А.К. Святилище пещеры Труа Фрэр // САРВС. СПб., 2000.
Шевченко Ю.Ю. Домашние святыни: Богородица Пещерная на древнехристианских филактериях // Славянский ход / Отв.ред. Е.А. Резван. СПб – Сургут – Ханты-Мансийск, 2008. С.71-101.
Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. Т.2: Пещерные святыни христианской Руси: генезис, функционирование, контекст / Отв.ред. чл.-корр.РАН К.В. Чистов. СПб.: «Наука», 2010. 640 с., 248 илл.
Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г.. Уникальный погребальный макрообъект Шум-гора в контексте его культурной округи на Русском Северо-Западе. Светлой памяти безвременно погибшего Глеба Сергеевича Лебедева. Посвящаем… // Русский Север: аспекты уникального в этнокультурной истории и народной традиции / Отв.ред. Т.А. Бернштам. СПб., 2004.
Borst A. Die Katharer/ Stuttgfrt, 1953.
Machinsky D.A., Mousbakhova V.T. The Land of Aea, the Island of Aeaea and the Entrance to the Hades in Early Argonauticsand in Odyssey in the Light of Evidences on Pontic Region Preserved by the Ancient Tradition // Боспорскийфеномен: Колонизациярегиона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции. Часть I. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2001.
Перечень иллюстраций.
Рис.1. «Игнатьевская Богоматерь». Сталагмит в виде отлитый поясной образ женской фигуры и искусственно подработанным Ликом, у стены зала «Келия старца Игнатия» в пещере Ямазы-таш (Симской). Урал. Фотография автора, 1996 г.
Рис.2. Предметы, свидетельствующие о современном почитании сталагмита «Игнатьевской Богоматери». Фотография автора, 1996 г.
Рис.3. Изваяние «черной Мадонны» (XII в.) в пещерной части кафедрального храма св. Бенедикта монастыря Монсерат (Испания). Фотография Т.Г. Богомазовой, 2005 г.
Рис.4. Изваяние «Лурдской Богородицы» в пещере над источником XIX в. Лурд, Франция. Фотография М.В. Соболевой 2007 г.
Рис.5. Сталагмит «равноапостольная Мария Магдалина» в Окситанских пещерах катаров (департамент Арьеж, Франция). Фотография М.В.Соболевой, 2007 г.
Рис.6. Сталагмит «Святая девочка» в Окситанских пещерах катаров (департамент Арьеж, Франция). Фотография М.В.Соболевой, 2007 г.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
САРВС - Святилища: Археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г. СПб., 2000.
О НЕОБЫЧНОМ ПОЧИТАЕМОМ ХРИСТИАНАМИ-ПАЛОМНИКАМИ ПРИРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ИГНАТЬЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ УРАЛА
(Радловский сборник Музейные проекты и исследования 2010 г. СПб.: МАЭ РАН, 2011.С.239-244 )
Появление объектов, отраженных в таких терминах как: «святая страна», «священный путь», «святая дорога», «священное “место”» (озеро, роща, долина с источником, пещера, etc.), имеет чрезвычайно давнюю традицию. В свое время Д.А. Мачинским (Machinsky, Mousbakhova,2001, c.4-5) было предложено объяснение появлению древних, «священных путей», восходящих к периодам массовых миграций населения позднего палеолита, что оказалось очень созвучным идее Ю.Е. Березкина (2003, с.24-36) о палеолитической древности ряда фольклорных сюжетов, и синхронизировалось с ней. С такими трассами «священного пути» было связано все многообразие «святых мест», расположенных на нем, как некие его «вехи», отмечающие саму трассу.
Нередко, естественный ландшафт (или фация), как узловой пункт подобного «священного пути», включал в себя необычное природное образование (естественное укрытие, например, в виде пещеры), и/или его антропогенную модификацию, и именно такое сочетание естественного и искусственного приобретало сакральные формы. Наиболее древними «почитаемыми местами» подобного рода – настоящими святилищами - оказались пещеры: средне- и позднепалеолитического времени, – с встроенными в нишах черепами пещерных медведей, или останками иных хищников (Житнев, 2000, с.33-37; Котов, 2000, с.37-40; Сериков, 2000, с.40-42); и исключительно позднепалеолитического времени - с живописью (Филиппов, 2000, с.27-33). Точно так же, но уже в эпоху палеометалла (бронзовый век), образовался «Гластонберийский Тор» - окаймленная высотами долина в Англии, увенчанная гигантским курганом эпохи бронзы (с «пещерой Мерлина» неподалеку); место, с которым представления раннего средневековья связали хранение Священного Грааля (чаши с Кровью Христа) и погребение короля Артура (в подземельях Гластонберийского аббатства). Аналогичны окультуренные раннесредневековыми оборонными эскарпами склоны второй надпойменной террасы Десны с местом расположения княжеского кургана «Черная могила», где произошло «первое на Руси явление Богородичной иконы», и где Антоний Печерский обосновал свой первый пещерный монастырь в Чернигове. Таков и участок ландшафта береговой долины р.Луга с группой погребальных насыпей и выделяющейся сопкой-уникумом «Шум-гора» у древнерусского погоста Передол (Шевченко, Богомазова, 2004, с.265-299).
К таким естественным объектам, подвергнувшимся антропогенному воздействию, относятся Капова (Шульган-таш) и Игнатьевская (Ямазы-таш, или Симская) пещеры на Урале. Из всей группы Серпиевских пещер, именно Симскую пещеру стали называть Игнатьевской со времени около середины XIX в. (Лялицкая 1939; Баранов, 1998, с. 13). Если верхнепалеолитическая атрибуция живописи Каповой пещеры обоснована уже давно (Бадер, 1965), и исследования в пещере проводились планомерно: с 1960 по 1978 г. – О.Н. Бадером, а с 1982 г. под руководством В.Е Щелинского (Петрин, 1992, с. 3-9); то точные данные о появлении живописи в Игнатьевской пещере (открыта в 1980) не позднее, чем на исходе верхнего палеолита, появились лишь в результате обследования специальной комиссией ЮНЕСКО в 2010 г., при непосредственном участии Г.А. Хлопачева.
Структура карстового образования, названная «Игнатьевской пещерой», развернута в горизонтальной плоскости, хоть и имеет некоторое вертикальное членение. Из аркообразного входного грота, удобного в качестве укрытия, внутрь ведёт широкий, но низкий вход в главную «галерею Столба», длиной более 130 метров, откуда можно попасть в «Грот Столба», из которого по труднопроходимому лазу можно достигнуть дальнего грота, размещенного несколько выше (на «втором ярусе»), называного «Келией старца Игнатия».
Пока нет данных об использовании Игнатьевской пещеры в эпоху палеометалла (медный – бронзовый – железный века) и средневековья, как это имеет место в других пещерах Урала (Семенов, Багин, 2000, с.128-131; Балина, 2000, с.162-166; Косинцев, Чаиркин, 2000, с.166-175). Но в Игнатьевской пещере имеется артефакт, редкие аналогии которому представлены именно в средневековых древностях. Среди множественных кальцитовых образований (сталактиты, сталагмиты, кальцитовые «реки», пещерный «жемчуг»), в дальнем зале Игнатьевской пещеры, на втором ярусе, выделяется сталагмитовый столбец, сохранившийся на одной из стен. Он выглядит как «отлитый поясной образ женской фигуры», с отчётливо просматривающимися лицом, руками; а по бокам – расположены еще два сталагмита, напоминающие подсвечники (рис.1).

Это сталагмитовое образование получило наименование «икона старца Игнатия», или «Игнатьевская Богоматерь», и при осмотре Г.А. Хлопачевым (2010), трассологические характеристики его поверхности свидетельствуют о возможной искусственной подработке лика этого, в целом, нерукотворного образа. Эта природная скульптура, несущая следы антропогенного воздействия (подработка Лика), пользуется почитанием и служит одним из наиболее известных объектов паломничества в наши дни (рис.2).

Древнейшим внешне очень похожим на «Игнатьевскую Богоматерь» памятником является икона «Богородицы Спилеотиссы», перенесенная в пещеру Мега Спилеон на севере полуострова Пелопоннес двумя братьями – Прокопом и Феодором и их сестрой Екатериной, при начале здесь христианского пещерного общежития, в 362 г. (Шевченко, 2008, с.81-82).
 "Спилеотисса" из Успенского монастыря "Мега Спилеон" ("Большая пещера") на Пелопоннесе (Греция)
"Спилеотисса" из Успенского монастыря "Мега Спилеон" ("Большая пещера") на Пелопоннесе (Греция)По существующему монастырскому преданию икона «вылеплена из воска апостолом-евангелистом Лукой», а материал, в котором она сработана, с течением времени - «окаменел». Не вызывает сомнения искусственное происхождение Спилеотиссы, различимое в проработке деталей: ликов Богородицы и Младенца, а также характерного положения Их рук. Икона сработана в стиле высокого рельефа (горельефа), в том же «поясном» варианте, что еще более сближает восприятие этого памятника с «Игнатьевской Богоматерью». Судя по внешнему виду (натурные геолого-минерологические обследования, насколько известно автору, не проводились), Богородица Спилеотисса сработана либо из обсидиана, либо из «стеклянной пасты», из которой обычно производились различные позднеантичные и раннесредневековые амулеты (известны значительно более мелкие предметы) на Ближнем Востоке. Богородица Спилеотисса являлась образцом для различных подражаний и изображений на христианских филактериях (амулетах) до рубежа раннего и высокого Средневековья, включая такие престижные предметы, как золотые амулеты-змеевики (например, золотая Белгородская «гривна» конца XI – начала XII в.).
 Амулет-змеевик "Белгородская гривна" XI в.
Амулет-змеевик "Белгородская гривна" XI в. "Черная Мадонна" Монсерата (Испания)
"Черная Мадонна" Монсерата (Испания)"Черная Мадонна" из Дома Богородицы, перенесенного из Назарета в Лоретто (Италия)
Наиболее известными и почитаемыми образами Богородицы того же плана, что и «Игнатиевская», были знаменитые «черные Мадонны» пещерных монастырей. Из них наиболее известны: скульптура Богоматери в пещерной части кафедрального собора св. Бенедикта монастыря Монсерат (Испания) XII в. (рис.3), средневековое изваяние Богородицы из Ейнсейделна (Einsiedeln) в Швейцарии, Мадонны Олот в Каталонии, а одна из наиболее поздних – Лурдская Богородица (рис.4) во Франции.
Лурдская Богоматерь
"Магдалина Окситанская"
Второй яркой средневековой аналогией «Игнатьевской Богоматери» является почитаемый сталагмит, очень напоминающий женскую фигуру (рис.5), в пещерах Окситании, называемых Ломбривэ – катарских пещерах в горах Сабартэ (департамент Арьеж, Франция). Его почитание, несомненно, уже во времена альбигойского движения (не позднее начала XII в.). Катары - «чистые» (Borst, 1953) видели в этой естественной сталагмитовой «скульптуре» портрет равноапостольной Марии Магдалины. Причем, почитаемая сталагмитовая фигура была не единственной (рис.6) в этом пещерном комплексе.
"Святая Девочка" в пещере Ломбривэ (Окситания)
С Игнатьевской пещерой связано множество легенд и преданий. Согласно одной из них здесь долгое время жил старец, отшельник Игнатий - по имени которого пещера Ямазы-таш (Симская) получила свое нынешнее название. В этом пещерном комплексе старец Игнатий умер и был погребен (с последующим неудачной попыткой перемещения его останков в иное место, во времена Николая I). Вокруг этой личности ходило немало легенд. По одной из них, Игнатий был не кто иной, как император Александр I (когда в царствование Николая Павловича распространялись слухи о «загадочном старце Кузьмиче» с «лицом императора Александра»), сменивший славу мира сего на тяжкий крест странничества. Другая легенда утверждает, что этот старец был ни кто иной, как великий князь Константин Павлович – брат российских царей Александра I и Николая I, в последние годы жизни предпочетший уединение молитвенного затвора. Еще в 50-е годы ХХ в. в дальнем зале пещеры («Келия старца Игнатия») были разбросаны остатки деревянного сруба, в котором он жил. Святой старец почитался и после смерти, а в пещеру, согласно описаниям начала ХХ века, «в девятую пятницу после Пасхи... стекается масса народу из соседних заводов, сел и деревень» (Лялицкая 1939; Петрин, 1992, с.3-5). Первым эту пещеру из полудесятка Сийских пещер Игнатьевской назвал в печатном издании Феодосий Николаевич Чернышов, грядущий академик Российской Академии наук в Петербурге, - геолог и палеонтолог. Он попал на Урал (и в Игнатьевскую пещеру, описанную им под этим названием) во время учебы в Горном институте, во второй половине 70-х гг. XIX в. Судя по его примечанию о жительстве здесь старца "лет тридцать тому назад, а может и более, поскольку никаких следов пребывания оного в пещере не имеется", определяется приблизительный период пещерного обитания Игнатия.
Наиболее интересно, что время жительства старца Игнатия в этой уральской пещере совпало со знаменательным явлением, наблюдаемым с конца XVIII в., и блистательно охарактеризованным Н.С. Лесковым: «Удивительно, что наши народоведы и народолюбцы, копавшиеся во всех мелочах народной жизни, просмотрели или не сочли достойным своего внимания малороссийских простолюдинов, которые пустили совершенно новую струю в религиозный обиход южнорусского народа. - …скажу, что это были какие-то отшельники в миру: они строили себе маленькие хаточки при своих родных домах, где-нибудь в закоулочке, жили тихо и опрятно – как душевно, так и во внешности. Они никого не избегали и не чуждались – трудились и работали вместе с семейными и даже были образцами трудолюбия и домовитости… но во все вносили свой немножко пуританский характер» (Лесков, 1957, с.190). Еще более интересна синхронность этого явления, с деятельностью старца Паисия Величковского, тогда же имевшего обширную переписку с иерархами Русской Православной Церкви, и отправлявшего из Нямецкого монастыря (Румынская Молдова) своих учеников, положивших начало такому, более чем значимому, для всей русской культуры явлению духовной жизни Империи, как «русское старчество» (Шевченко, 2010, с.252-253, 471-478).
Видимо это были не только синхронные, но и взаимосвязанные явления: «старчество при храмах», появившееся как «живое наследие» преп. Паисия Величковского, и «старчество в миру», описанное Лесковым. При таком понимании исторических последовательностей, пещерная жизнь старца Игнатия в эпоху Александра I, и ее апогей, пришедшийся на царствование Николая Павловича, во время гонений этого государя на старообрядцев, представляла интерес для всей «фрондирующей России». В то же самое время (царствование Александра Павловича) начинаются работы по пещерному строительству на Дону, встречавшие постоянное противодействие как в чиновничье-церковных, так и в губернско-полицейских кругах в эпоху Александровского и, особенно – последующего – Николаевского царствования. Но, несмотря на гонения и в противовес им, возобновление пещерничества наблюдается по всей, как минимум, Европейской России: от Волги и Дона до Днепра и Днестра. Это явление также синхронно и связано с формированием того разряда людей Церкви, из которого вышли «старец Гоголя» (Макарий) и «старец Достоевского» (Амвросий).
С 1881 г. в местностях Урала, включавших и поречье по р.Сим, начинает свою работу сотрудник Геологического комитета (будущий академик) Феодосий Николаевич Чернышев, впервые назвавший Симско-Серпиевскую пещеру (Ямазы-таш) именем старца Игнатия (в публикациях 1881 - 1884 и 1889 гг.). В эти времена уже только почиталась память старца, и изустно передавались рассказы о его молитве в подземном затворе; о слепоте, пришедшей за время многолетнего пребывания в темноте; о необыкновенном видении-происшествии, когда старца, якобы, посетила необыкновенная девочка Анна* («Нюрка») 5 – 10 лет, ненадолго выведшая уже ослепшего Игнатия на поверхность; о его недолгом пещерном затворе после выхода «на Свт Божий» перед кончиной… На 1881 год уже давно миновали те времена, когда урядник, прибывший из Катав-Ивановска безуспешно пытался перезахоронить останки старца Игнатия, и Ф.Н. Чернышеву остались лишь легенды и новое имя Игнатьевской пещеры (Баранов, 1998). Но сталагмитовый столбик в виде отлитой поясной женской фигуры почитали, как «икону старца Игнатия» уже и тогда. Не исключено, что «Игнатьевская Богородица», была одной из первых естественно-антропогенных святынь, и своеобразной «прозвестницей» во времени изваяния Богородицы в Лурде.
*) Из святых дев по имени Анна, Церковь чтит только одну: Анну (Агнию) Римскую, замученную в публичном доме Вечного города, накануне эпохи Константина Великого (III в.н.э.). Второе - житие Агнии Римской очень схоже с первым – Анны-Агнии, и почитаются они в одни и те же дни (21 января и 5 июля):
«Родилась в Риме от благочестивых родителей и была воспитана в христианской вере. В 13 лет она отказала в замужестве сыну начальника области и, не принеся жертву богине Весте, была нагой отправлена в непотребный дом. Но по Божию изволению у нее выросли такие длинные волосы на голове, что покрыли все ее тело как одежда, а в доме встретил ее Ангел Божий и покрыл таким блистающим сиянием, что от этого блеска нечестивые юноши не могли смотреть на нее. Когда св. Агния начала молиться, то увидела перед собой белую одежду, сотканную ангельскими руками. Юноша, виновник зла, вошел к Агнии и хотел совершить над ней насилие, но пал бездыханным, преданный Ангелом Божиим сатане. По просьбе отца юноши святая дева воскресила своей молитвой умершего, который стал прославлять Бога. И от этого 160 человек уверовали во Христа, крестились, а спустя некоторое время язычники отсекли головы им и воскрешенному юноше. []Тогда св. мученица Агния была предана жестоким мучениям, после которых ей воткнули в гортань меч, от чего она и предала свой дух Господу. []Молясь у гроба св. Агнии, от рук язычников пострадала сверстница ее Эмерентиана, которую похоронили вблизи св. Агнии. Спустя много лет дочь Константина Великого Констанция исцелилась от тяжкой болезни на гробе св. Агнии, устроив в благодарность на месте погребения ее церковь во имя св. мученицы, а затем и девичий монастырь».
«Святая мученица Агния родилась в Риме в III веке от христианских родителей и была воспитана ими в правилах христианской веры. С юных лет всей душой предалась она Богу и решила посвятить себя девственной жизни. Когда она отказалась выйти замуж за сына городского начальника Симфрония, один из приближенных открыл ему, что Агния христианка. Озлобленный правитель решил подвергнуть святую деву бесчестию и повелел обнажить и отправить ее в дом для блудниц за хулу на языческих богов. Но Господь не допустил поругания святой - на голове ее мгновенно выросли густые и длинные волосы, скрывшие тело от людей; помещенная в дом для блудниц святая облечена была Небесным светом, помрачавшим зрение всем, кто приходил. Сын правителя, пришедший, чтобы обесчестить деву, пал мертвым, едва коснувшись до нее рукой, но по горячей молитве святой Агнии был воскрешен и провозгласил перед лицом своего отца и многих людей: "Один Бог на небе и земле - Бог христианский, прочие же боги - прах и пепел!". При виде этого чуда сто шестьдесят человек уверовали в Бога и крестились, приняв в скором времени мученическую смерть от язычников. Святая Агния, по требованию языческих жрецов, была предана мучениям. Ее пытались сжечь на костре, как чародейку, но святая осталась невредима в огне, пребывая в молитве к Богу, после чего была убита ударом меча в горло. Святая дева-мученица была похоронена родителями недалеко от города Рима (около 304 года). На могиле святой Агнии совершалось много чудес. Мощи святой почивают в Риме в загородном храме, созданном в честь ее имени, по дороге Номентанской».
(Четьи-Минеи: 21 января, 5 июля).
Литература
Бадер О.Н.Каповая пещера. Палеолитическая живопись. М.: «Наука», 1965.
Балина Н.Н.К археологической реконструкции Канинского и Уньинского пещерных святилищ на Печорском Урале// САРВС. СПб., 2000.
Баранов С.М. Спелеорекорды Челябинской области. Плутон, бюл. №1. Челябинск, 1998, 31 с.
Березкин Ю.Е. Об универсалиях в мифологии // «Теория и методология архаики (ТЕМА)».. Вып.3: I. Стратиграфия культуры. II. Что такое архаика? СПб., 2003.
(Продолжить)
Житнев В.С. Археозоологические критерии «ритуальных медвежьих комплексов» верхнего палеолита // САРВС. СПб., 2000.
Косинцев П.А., Чаиркин С.Е. Культовые пещеры Урала // САРВС. СПб., 2000
Котов В.Г. Палеолитическое святилище со следами культа пещерного медведя на Южном Урале // САРВС. СПб., 2000.
Лесков Н.С. Некрещеный поп // Н.С. Лесков. Собрание сочинений. М., 1957.
Лялицкая С.Д. Дворцы под Землей: Очерки об уральских пещерах, Челябинск: ОГИЗ, 1939.
Петрин В.Т.Палеолитическое святилище в Игнатьевской пещере на Южном Урале. Нвосибирск: «Наука», 1992. 207 с.
Семенов И.А., Багин А.Л. Археолого-этнографические параллели некоторых артефактов на средневековых святилищах Европейского Северо-Востока // САРВС. СПб., 2000.
Сериков Ю.Б.Новый тип палеолитического святилища на Среднем Урале // САРВС. СПб., 2000.
Филиппов А.К. Святилище пещеры Труа Фрэр // САРВС. СПб., 2000.
Шевченко Ю.Ю. Домашние святыни: Богородица Пещерная на древнехристианских филактериях // Славянский ход / Отв.ред. Е.А. Резван. СПб – Сургут – Ханты-Мансийск, 2008. С.71-101.
Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. Т.2: Пещерные святыни христианской Руси: генезис, функционирование, контекст / Отв.ред. чл.-корр.РАН К.В. Чистов. СПб.: «Наука», 2010. 640 с., 248 илл.
Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г.. Уникальный погребальный макрообъект Шум-гора в контексте его культурной округи на Русском Северо-Западе. Светлой памяти безвременно погибшего Глеба Сергеевича Лебедева. Посвящаем… // Русский Север: аспекты уникального в этнокультурной истории и народной традиции / Отв.ред. Т.А. Бернштам. СПб., 2004.
Borst A. Die Katharer/ Stuttgfrt, 1953.
Machinsky D.A., Mousbakhova V.T. The Land of Aea, the Island of Aeaea and the Entrance to the Hades in Early Argonauticsand in Odyssey in the Light of Evidences on Pontic Region Preserved by the Ancient Tradition // Боспорскийфеномен: Колонизациярегиона. Формирование полисов. Образование государства. Материалы Международной научной конференции. Часть I. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2001.
Перечень иллюстраций.
Рис.1. «Игнатьевская Богоматерь». Сталагмит в виде отлитый поясной образ женской фигуры и искусственно подработанным Ликом, у стены зала «Келия старца Игнатия» в пещере Ямазы-таш (Симской). Урал. Фотография автора, 1996 г.
Рис.2. Предметы, свидетельствующие о современном почитании сталагмита «Игнатьевской Богоматери». Фотография автора, 1996 г.
Рис.3. Изваяние «черной Мадонны» (XII в.) в пещерной части кафедрального храма св. Бенедикта монастыря Монсерат (Испания). Фотография Т.Г. Богомазовой, 2005 г.
Рис.4. Изваяние «Лурдской Богородицы» в пещере над источником XIX в. Лурд, Франция. Фотография М.В. Соболевой 2007 г.
Рис.5. Сталагмит «равноапостольная Мария Магдалина» в Окситанских пещерах катаров (департамент Арьеж, Франция). Фотография М.В.Соболевой, 2007 г.
Рис.6. Сталагмит «Святая девочка» в Окситанских пещерах катаров (департамент Арьеж, Франция). Фотография М.В.Соболевой, 2007 г.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
САРВС - Святилища: Археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г. СПб., 2000.
Юрий Шевченко,
12-02-2008 13:51
(ссылка)
Богородица и Горгона: Иллюстрации
Список иллюстраций.
Рис.1.Икона Богородицы Иерусалимской, XVI в. Из собрания Музеев Московского Кремля. Рис.2.Икона Богородицы Троеручицы из Хелендарского монастыря Афонской горы. Греция.Рис.3.«Народная» икона Троеручицы с Левобережья Днепра (Черниговская обл., Украина). XIX в.
Рис.4.1. - Икона Богородицы из Синайского монастыря св. Екатерины в технике энкаустики. VI в., привезенная с Востока преосвященным Профирием (Успенским). 2. – Фреска Богородица с предстоящими свв. Феликсом и Авдатом (V-VI вв.) из катакомб Комодиллы в Риме, Италия. 3. – Богородица Киево-Печеская (XI в.), с предстоящими препп. Антонием и Феодосием Печерскими; древнейший из сохранившихся списков (XIII в.) из Свенского монастыря под Брянском, Россия.
Рис.5.1. – Прорись: Богородица на ближневосточной резной печати VI в., которой отмечались евлогии – ампулы для миро от многочисленных реликвий Ближнего Востока. 2. – Палестинская ампула-евлогия (VI в.) с Богородицей [Кондаков Н.П., 1914, с. 168-169, рис. 92]. 3. – Моливдовул с Богородицей «Воплощение Христово» («Знаменье») византийской царевны Марии Комниной (1082 г.). 4. – Моливдовул с Богородицей «Воплощение Христово» («Знаменье») и ликом св. Феодосия Киновиарха. Находка в постройке начала XII в. при раскопках 1939 г. в Суздале, Россия.
Рис.6.Богородица с Младенцем на правой руке. Роспись катакомб св. Прискиллы (участок Арен) [Кондаков Н.П., т.I, с.90, рис.68].
Рис.7.Икона Богородицы «Санта Франческа Романа», VIIв. Рим, Италия.Рис.8.Иконы Синайского монастыря св. Екатерины, XII – начала XIII в.: Одигитрия (слева); Недреманное Око (справа).
Рис.9.Праводержащая Богородица Дексиократусса. Фреска в конхе апсиды. Начало XI в. Монастырь Хосиос Лукас в Фокиде, Греция.
Рис.10.Праводержащая Богородица Аракиотисса. Икона 1192 г. Лагудера, Кипр.Рис.11.«Белгородская гривна». Золотой амулет-змеевик. Около 1117 г. Собрание Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.12.Пещерная келья (начала VIII в.) преп. Иоанна Дамаскина (Мансура) в Лавре Саввы Освященного под Иерусалимом. Палестина, Израиль. Справа – икона преп. Иоанна Дамаскина (XIV в.) из монастыря Хилендар на горе Афон. Греция.
Рис.13.Мозаичная икона Богородицы Горогоэпикоос-Афиннотиссы над порталом южного входа в храм Панагии Капникареи в Афинах. ГрецияРис.14.Храм Малой Митрополии — Панагии Горгоэпикоос Айос-Элефтериос (с приделом св. Элевтерии) XI в. в Афинах: аксонометрия (слева); вид на центральный купол и конху апсиды за хоросом (справа). Греция.
Рис.15.Украшенный резным камнем западный фасад храма Панагии Горгоэпикоос в Афинах. Греция.Рис.16.Южный фасад храма Капникарея XI в. в Афинах (справа); портал южного входа с мозаичной иконой Горгоэпикоос-Афинотиссы над ним (слева). Греция.Рис.17.Храм Капникарея. Вид на восточный трехапсидный фасад (верхний); вид на западный фасад (нижний). Афины, Греция.
Рис.18.Лавица, над ней - Богородичная икона, украшенная вотивами в виде кистей рук из серебра, в пещере Воскресения храма Гроба Господня в Иерусалиме. Палестина.Рис.19.Икона праводержащей Богородицы под шитым бисерным окладом. XIX в. Собрание Кемеровского историко-краеведческого музея. Кемерово, Россия.
Рис.20.Икона Богородицы Хелмской. XVIII в. Холм, Украина.
Рис.21.1. - Владимирская икона Богородицы нач. XVII в. [Бусева-Давыдова И.Л., 2006, с.74 – 82, цв.илл.24-25]. 2. – Владимирская икона, принадлежавшая императрице Анне Иоанновне в собрании Государственного Эрмитажа (инв. No Э-9752). 3. - Владимирская икона Богородицы. До 1152 г. Собрание Государственной Третьяковской галереи. Москва, Россия.Рис.22.Богородица Гликофеллусса. Фреска XII-XIIIвв., Кахреми Джарми. Турция.Рис.23.Федоровская икона Богородицы в Ипатьевском монастыре Костромы (Россия), XVII в. (слева); изображение 1239 г. – в процессе реставрации Федоровского подлинника (справа). Рис.24.Игоревская икона Богородицы. XV в.
Рис.25.Донская (справа) и Днепрская (слева) иконы Богородицы. XVII в.
Рис.26.Монастырь Мега Спилеон у Калавитры на Пелопоннесе. Греция.
Рис.27.Монастырь Элона на полуострове Пелопоннес. Греция.
Рис.28.Вход в монастырь Мега Спилеон. Греция.
Рис.29.Икона Богородицы Спилеотиссы (мозаика) над входом в монастырь Мега Спилеон. Греция.
Рис.30.Икона Богородицы Спилеотиссы (мозаика) над входом в монастырь Мега Спилеон на Пелопоненесе (слева); икона Богородицы Горогоэпикоос-Афиннотиссы (мозаика) над порталом южного входа в храм Капникареи в Афинах (справа). Греция.
Рис.31.Икона Богородицы Спилеотиссы в специальном теремце. Успенский храм пещерного монастыря Мега Спилеон. Греция.
Рис.32.Вид на иконостас храма пещерного монастыря Мега Спилеон (Греция). Икона Богородицы Спилеотиссы - справа в теремце и киоте.
Рис.33.Икона Богородицы Спилеотиссы с украшениями риз (венцы, цаты) и приношениями за оградой киота в храме пещерного монастыря Мега Спилеон. Греция.
Рис.34.Вид рельефной иконы Богородицы Спилеотиссы (снята решетка киота, украшающие икону ризы, венцы, и основная масса приношений) в храме пещерного монастыря Мега Спилеон. Греция.
Рис.35.Праводержащая Богородица Дексократусса, XIV в. Кожа, тиснение. Преслав, Болгария.
Рис.36.Перстень с изображением Богородицы праводержащей (праворушной) в полный рост, с Младенцем на руках из аланского пещерного склепа VII в. в верховьях р. Эшкакон на Северном Кавказе.
Рис.37.Иконка XIII в. Богоматери Елеусы (Владимирской) из Неревского раскопа в Великом Новгороде.
Рис.38. Складень с идентичной, отлитой по восковой модели с того же протографа (что на рис.37), иконкой Богородицы Елеусы, определенной экспертами аукциона «Гелос» XIX в.
Рис.38.а. - Иконка XIII в. Богоматери Владимирской из Неревского раскопа в Великом Новгороде. в. – Складень с идентичной (отлита по восковой модели с того же протографа) иконкой, определенной экспертами аукциона «Гелос» XIX в. с. – Иконка Троеручицы XIXв. (?) из лотов аукциона «Гелос» (слева – деталь, увеличено).
Рис.39.Идентичная находке на Неревском раскопе Великого Новгорода (см.рис.38:а) и складню (см.рис.38:в) - иконка-складень XVII – начала XVIII в. в собрании лотов аукциона «Гелос».
Рис.40.1. - Икона Богордицы «Белозерская», XIII в., Новгород. Собрание Государственного Русского музея (инв. Nо 2116) в Санкт-Петербурге, Россия. 2. - Прорисовка М.В. Никольского ныне утраченной иконы («Праворушной») древнерусского времени Богородицы Млекопитательницы, из собрания Киево-Печерской Лавры. 3. – Богородица Млекопитательница из Самоково XVIIIв. Болгария.
Рис.41.1. - Богородица «Руно Орошенное». XVII в. 2. - Близкая по композиции Богородичная икона «Трех Радостей» с четырьмя предстоящими на ковчежце – в собрании храма «На Грязях». Москва, Россия (близкая по иконографии в Кемеровском краеведческом музее – см.рис.19).Рис.42.Икона свт. Димитрия Ростовского, близкая по написанию ко времени канонизации (1757 г.) святителя. Собрание ГАИЗ «Ростовский кремль».
Рис.43.Икона свт. Димитрия Ростовского, написанная ко времени канонизации (1757 г.) святителя. Собрание ГАИЗ «Ростовский кремль».
Рис.44.Жировицкая иконка (пирофиллитовый сланец – «овручский шифер») древнерусского времени. Явлена в 1470 г. в поместье Александра Солтана, возле Гродно. Беларусь.
Рис.45.Почаевская «праворушная» икона Богородицы, XVв. Свято-Успенская Почаевская Лавра. Украина.
Рис.46.Иконка Богородицы Елеусы. Из постройки, сгоревшей в конце XI в. на Черниговском предградье. Раскопки Г.В. Жарова, 2000 г. Собрание Исторического музея им. В.В. Тарновского. Чернигов, Украина.
Рис.47.1. - Амулет-змеевик XII в. из медного сплава (латунь?) с Богородицей Праворушной [Уваров А.С., 1908, с.101, рис.80,81, кат.No 348,350]. 2. - Амулеты в форме киотов со змеевиком на реверсе [Уваров А.С., 1908, с.101-103, рис.84,85, кат.No 355-356].
Рис.48.Змеевик из медного сплава (латунь?) XII– начала XIII в. из с. Окни Новосокольского района Псковской области. Случайная находка.
Рис.49.«Черниговская гривна». Золотой змеевик с Архангелом Михаилом, утерянный между 1078 - 1095 гг. на р. Белоусе под Черниговом (найден в с. Ст.Белоус, 1821 г.).
Предположительно, принадлежавший Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Собрание Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.50.Пещерный храм Михаила-Архангела в горе Монте-Гаргано у городка Монте-Сант-Анджело. Италия.
Рис.51.Амулет-змеевик XII в. с изображением Архангела Михаила (с греческой молитвой вокруг фигуры) на аверсе, и Горгоной в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей (с окружающей «гнездо змей» греческой охранительной формулой с воззванием к «истера») на реверсе [Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, № 49].
Рис.52.Амулет-змеевик XIII в. из Киева с изображением Архангела Михаила на аверсе, и Горгоной в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей на реверсе (близкий змеевику: Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, № 49, - но без греческих надписей). Частное собрание (Украина).
Рис.53.Надпись «histera» на змеевике XII в. (см.рис.51).
Рис.54.Утраченный амулет-змеевик XII в. с изображением Архангела Михаила (с греческой молитвой вокруг фигуры) на аверсе, и Горгоной в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей (с окружающей «гнездо змей», греческой охранительной формулой с воззванием к «истера») на реверсе.
Рис.55.Амулет-змеевик XII в. с изображением Крещения на аверсе, и змееногой богиней (Змеедевой Ехидной - Ехидной-Орой) на реверсе, из постройки 1 поселения Мякинино-1 на Москва-реке (у северо-западной околицы столицы). Находка в Подмосковье. Россия.
Рис.56.Медуза Горгона. Мозаика из гипогея раннеримского времени (II в.н.э.) в катакомбах Ком-эль-Шукафа. Александрия, Египет.
Рис.57.Медуза Горгона. Фреска в гипогее катакомб Ком-эль-Шукафа. Погребение Тиграна 29-30 г. I в.н.э. Александрия, Египет.
Рис.58.Медуза Горгона. Мозаика позднего римского времени (IV в.н.э.) в городе Сусс (Музей древнеримских фресок) в Тунисе (Северная Африка).
Рис.59 1,2. -Медуза Горгона. Мозаика позднего римского времени - IV в.н.э. Музей мозаики в Девен. Болгария. 3. - (1). - Эгида-эмблема на нагрудной части панциря Октавиана в виде кентавра (справа – увеличено). Статуя принцепса Октавиана Августа, 20-е гг. Iв.н.э. Прима Порта, Ватиканский музей. Рим, Италия. (2).- Торс римского «императора» (принцепса Антонина Пия?) в доспехах с эгидой в виде головы Медузы Горгоны на груди. Первая половина - середина IIв.н.э. Собрание Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург, Россия.4. -Бюст императора Септимия Севера (193-211 гг.н.э.) с эгидой в виде головы Горгоны на панцире.5. - Горгоны на аркаде форума Северов в Лаптис Магна – полисе римской провинции Ливия. Фото М.В. Соболевой, 2006 г. 6. - Голова Горгоны, на входе в позднеримскую базилику в Лаптис Магна – полисе римской провинции Ливия. Фото М.В. Соболевой, 2006 г. 7. – Голова Горгоны на позднеантичной плите в Демре (Миры Ликийские). Турция. Фото М.В. Соболевой, 2006 г. 8. – Голова Горгоны в Римских термах, Италия. Фото М.В. Соболевой, 2005 г.
Рис.60.1. – Импост одной из двух колонн с изображением головы Медузы Горгоны возле входа в подземной водной цистерне Константинополя («Цистерны-базилики») «Еребатан Сарничи» («Подземный Дворец» или «Подземелье четырехсот колонн»: колонн в действительности 336-ть) времен императора Юстиниана. Стамбул, Турция. 2. – Медуза Горгона на ранневизантийской мозаике из Эфеса. V в.н.э. Турция. 3. – Щит Афины Паллады в скульптуре Фидия. Римская копия. 4. - Александр Великий (Македонский) в бою с персами («Александр атакующий Дария» в битве при Иссе). Мозаика в доме Фавна (House of the Faun) в Помпеях, начала I в.н.э. На врезке (правый нижний угол) голова Горгоны Медузы в виде эгиды на нагрудном панцире Александра (увеличено). Собрание Национального археологического музея в Неаполе, Италия.
Рис.61.1.- Овальный амулет на ониксе. Семь «богов покровителей Рима» (с молитвенной формулой и "заклинанием «истеры»") III в.н.э. Собрание Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург, Россия. 2.- Изображение евхаристической трапезы (Вечери семерых гостей) и «пяти корзин хлебов» (справа и слева от пирующих) в погребальной кубикуле христианских катакомб св. Каллиста (Калкиста). Рим, Италия.
Рис.62.1. - Точки «энергетических» нервных центров, на которые направлена концентрация внимания в практике «умной молитвы», а также в традициях индуистской, буддийской и даосской психотехник: 1. – Вишуддха. Центр «жизненных дыханий» («Душа», «душица» - «существо» жизненных дыханий по восточнославянским, христианским представлениям). 2. – Анахата (духовное сердце, как и в христианских представлениях). 3. – Акира – «солнечное сплетение» (центр концентрации энергии дыхания). 4. – Манипура (точка «Океан энергий», - «живот» - «жизнь», по восточнославянским, христианским представлениям). 2. – Анатомические соответствия и соматическая локализация точек нервных центров, приведенных на рис.62-1: 1, - 2; 2, - 5; 3, - 6; 4, - 9.
Рис.63.Лествица Евангельских Блаженств (различные ступени аскезы). Миниатюра из «Лествицы» Иоанна Лествечника (gr.394), игумена Синайского. Рукопись X в. Библиотека Ватикана, Рим [Лазарев В.Н., 1986, ил.250].
Рис.64.Пещера Тайной вечери. Миниатюра Евангелия конца IX в. Собрание Ватикана. Рис.65.Пещера апостола Иоанна Богослова на острове Патмос (Греция). Лежанка Апостола являет престол пещерной церковки.
Рис.66.1. – Змеевик из красной, перемежающейся темно-серыми и светлыми слоями яшмы. Оправа XVв. Собрание ризницы монастыря Ватопед на Святой горе Афон. Греция (аналогичная панагия имеется в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Россия [Николаева Т.В., 1960, с.100-101, рис.Nо 7]). Афон, Греция. 2. - Икона Спаса Пантократора в технике энкаустики (VI в.) из Синайского монастыря св. Екатерины.
Рис.67.Амулет-змеевик в форме ковчежча иконы XIV-XVвв. (Уваров А.С., 1908, с.103, рис.86, кат.No 358).
Рис.68. Келья епископа Николая, VIв., Палестина (неверно отождествленного у Метафраста – Х в., - со святителем Мирликийским, IVв.).
Рис.69.Дукач с изображением Парскевы-Пятницы на реверсе и империатрицы Елизаветы Петровны на аверсе. XVIII в. Медный сплав. Частное собрание. Украина.
Рис.70.Дукач с изображением Парскевы-Пятницы на реверсе и империатрицы Екатерины (II) Алексеевны на аверсе. XVIII в. Медный сплав (латунь?). Частное собрание. Украина.Рис.71.Икона Богородицы Иерусалимской, по преданию, попавшая в Софию Новгородскую между 1204 - 1211 гг., вместе с даром Добрыни Ядрейковича – святителя Антония Новгородского (с 1211 г.) и увезенная из Великого Новгорода в Москву Иоанном IV (1570 г.). Собрание Музеев Московского Кремля. Россия.
Рис.1.Икона Богородицы Иерусалимской, XVI в. Из собрания Музеев Московского Кремля. Рис.2.Икона Богородицы Троеручицы из Хелендарского монастыря Афонской горы. Греция.Рис.3.«Народная» икона Троеручицы с Левобережья Днепра (Черниговская обл., Украина). XIX в.
Рис.4.1. - Икона Богородицы из Синайского монастыря св. Екатерины в технике энкаустики. VI в., привезенная с Востока преосвященным Профирием (Успенским). 2. – Фреска Богородица с предстоящими свв. Феликсом и Авдатом (V-VI вв.) из катакомб Комодиллы в Риме, Италия. 3. – Богородица Киево-Печеская (XI в.), с предстоящими препп. Антонием и Феодосием Печерскими; древнейший из сохранившихся списков (XIII в.) из Свенского монастыря под Брянском, Россия.
Рис.5.1. – Прорись: Богородица на ближневосточной резной печати VI в., которой отмечались евлогии – ампулы для миро от многочисленных реликвий Ближнего Востока. 2. – Палестинская ампула-евлогия (VI в.) с Богородицей [Кондаков Н.П., 1914, с. 168-169, рис. 92]. 3. – Моливдовул с Богородицей «Воплощение Христово» («Знаменье») византийской царевны Марии Комниной (1082 г.). 4. – Моливдовул с Богородицей «Воплощение Христово» («Знаменье») и ликом св. Феодосия Киновиарха. Находка в постройке начала XII в. при раскопках 1939 г. в Суздале, Россия.
Рис.6.Богородица с Младенцем на правой руке. Роспись катакомб св. Прискиллы (участок Арен) [Кондаков Н.П., т.I, с.90, рис.68].
Рис.7.Икона Богородицы «Санта Франческа Романа», VIIв. Рим, Италия.Рис.8.Иконы Синайского монастыря св. Екатерины, XII – начала XIII в.: Одигитрия (слева); Недреманное Око (справа).
Рис.9.Праводержащая Богородица Дексиократусса. Фреска в конхе апсиды. Начало XI в. Монастырь Хосиос Лукас в Фокиде, Греция.
Рис.10.Праводержащая Богородица Аракиотисса. Икона 1192 г. Лагудера, Кипр.Рис.11.«Белгородская гривна». Золотой амулет-змеевик. Около 1117 г. Собрание Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.12.Пещерная келья (начала VIII в.) преп. Иоанна Дамаскина (Мансура) в Лавре Саввы Освященного под Иерусалимом. Палестина, Израиль. Справа – икона преп. Иоанна Дамаскина (XIV в.) из монастыря Хилендар на горе Афон. Греция.
Рис.13.Мозаичная икона Богородицы Горогоэпикоос-Афиннотиссы над порталом южного входа в храм Панагии Капникареи в Афинах. ГрецияРис.14.Храм Малой Митрополии — Панагии Горгоэпикоос Айос-Элефтериос (с приделом св. Элевтерии) XI в. в Афинах: аксонометрия (слева); вид на центральный купол и конху апсиды за хоросом (справа). Греция.
Рис.15.Украшенный резным камнем западный фасад храма Панагии Горгоэпикоос в Афинах. Греция.Рис.16.Южный фасад храма Капникарея XI в. в Афинах (справа); портал южного входа с мозаичной иконой Горгоэпикоос-Афинотиссы над ним (слева). Греция.Рис.17.Храм Капникарея. Вид на восточный трехапсидный фасад (верхний); вид на западный фасад (нижний). Афины, Греция.
Рис.18.Лавица, над ней - Богородичная икона, украшенная вотивами в виде кистей рук из серебра, в пещере Воскресения храма Гроба Господня в Иерусалиме. Палестина.Рис.19.Икона праводержащей Богородицы под шитым бисерным окладом. XIX в. Собрание Кемеровского историко-краеведческого музея. Кемерово, Россия.
Рис.20.Икона Богородицы Хелмской. XVIII в. Холм, Украина.
Рис.21.1. - Владимирская икона Богородицы нач. XVII в. [Бусева-Давыдова И.Л., 2006, с.74 – 82, цв.илл.24-25]. 2. – Владимирская икона, принадлежавшая императрице Анне Иоанновне в собрании Государственного Эрмитажа (инв. No Э-9752). 3. - Владимирская икона Богородицы. До 1152 г. Собрание Государственной Третьяковской галереи. Москва, Россия.Рис.22.Богородица Гликофеллусса. Фреска XII-XIIIвв., Кахреми Джарми. Турция.Рис.23.Федоровская икона Богородицы в Ипатьевском монастыре Костромы (Россия), XVII в. (слева); изображение 1239 г. – в процессе реставрации Федоровского подлинника (справа). Рис.24.Игоревская икона Богородицы. XV в.
Рис.25.Донская (справа) и Днепрская (слева) иконы Богородицы. XVII в.
Рис.26.Монастырь Мега Спилеон у Калавитры на Пелопоннесе. Греция.
Рис.27.Монастырь Элона на полуострове Пелопоннес. Греция.
Рис.28.Вход в монастырь Мега Спилеон. Греция.
Рис.29.Икона Богородицы Спилеотиссы (мозаика) над входом в монастырь Мега Спилеон. Греция.
Рис.30.Икона Богородицы Спилеотиссы (мозаика) над входом в монастырь Мега Спилеон на Пелопоненесе (слева); икона Богородицы Горогоэпикоос-Афиннотиссы (мозаика) над порталом южного входа в храм Капникареи в Афинах (справа). Греция.
Рис.31.Икона Богородицы Спилеотиссы в специальном теремце. Успенский храм пещерного монастыря Мега Спилеон. Греция.
Рис.32.Вид на иконостас храма пещерного монастыря Мега Спилеон (Греция). Икона Богородицы Спилеотиссы - справа в теремце и киоте.
Рис.33.Икона Богородицы Спилеотиссы с украшениями риз (венцы, цаты) и приношениями за оградой киота в храме пещерного монастыря Мега Спилеон. Греция.
Рис.34.Вид рельефной иконы Богородицы Спилеотиссы (снята решетка киота, украшающие икону ризы, венцы, и основная масса приношений) в храме пещерного монастыря Мега Спилеон. Греция.
Рис.35.Праводержащая Богородица Дексократусса, XIV в. Кожа, тиснение. Преслав, Болгария.
Рис.36.Перстень с изображением Богородицы праводержащей (праворушной) в полный рост, с Младенцем на руках из аланского пещерного склепа VII в. в верховьях р. Эшкакон на Северном Кавказе.
Рис.37.Иконка XIII в. Богоматери Елеусы (Владимирской) из Неревского раскопа в Великом Новгороде.
Рис.38. Складень с идентичной, отлитой по восковой модели с того же протографа (что на рис.37), иконкой Богородицы Елеусы, определенной экспертами аукциона «Гелос» XIX в.
Рис.38.а. - Иконка XIII в. Богоматери Владимирской из Неревского раскопа в Великом Новгороде. в. – Складень с идентичной (отлита по восковой модели с того же протографа) иконкой, определенной экспертами аукциона «Гелос» XIX в. с. – Иконка Троеручицы XIXв. (?) из лотов аукциона «Гелос» (слева – деталь, увеличено).
Рис.39.Идентичная находке на Неревском раскопе Великого Новгорода (см.рис.38:а) и складню (см.рис.38:в) - иконка-складень XVII – начала XVIII в. в собрании лотов аукциона «Гелос».
Рис.40.1. - Икона Богордицы «Белозерская», XIII в., Новгород. Собрание Государственного Русского музея (инв. Nо 2116) в Санкт-Петербурге, Россия. 2. - Прорисовка М.В. Никольского ныне утраченной иконы («Праворушной») древнерусского времени Богородицы Млекопитательницы, из собрания Киево-Печерской Лавры. 3. – Богородица Млекопитательница из Самоково XVIIIв. Болгария.
Рис.41.1. - Богородица «Руно Орошенное». XVII в. 2. - Близкая по композиции Богородичная икона «Трех Радостей» с четырьмя предстоящими на ковчежце – в собрании храма «На Грязях». Москва, Россия (близкая по иконографии в Кемеровском краеведческом музее – см.рис.19).Рис.42.Икона свт. Димитрия Ростовского, близкая по написанию ко времени канонизации (1757 г.) святителя. Собрание ГАИЗ «Ростовский кремль».
Рис.43.Икона свт. Димитрия Ростовского, написанная ко времени канонизации (1757 г.) святителя. Собрание ГАИЗ «Ростовский кремль».
Рис.44.Жировицкая иконка (пирофиллитовый сланец – «овручский шифер») древнерусского времени. Явлена в 1470 г. в поместье Александра Солтана, возле Гродно. Беларусь.
Рис.45.Почаевская «праворушная» икона Богородицы, XVв. Свято-Успенская Почаевская Лавра. Украина.
Рис.46.Иконка Богородицы Елеусы. Из постройки, сгоревшей в конце XI в. на Черниговском предградье. Раскопки Г.В. Жарова, 2000 г. Собрание Исторического музея им. В.В. Тарновского. Чернигов, Украина.
Рис.47.1. - Амулет-змеевик XII в. из медного сплава (латунь?) с Богородицей Праворушной [Уваров А.С., 1908, с.101, рис.80,81, кат.No 348,350]. 2. - Амулеты в форме киотов со змеевиком на реверсе [Уваров А.С., 1908, с.101-103, рис.84,85, кат.No 355-356].
Рис.48.Змеевик из медного сплава (латунь?) XII– начала XIII в. из с. Окни Новосокольского района Псковской области. Случайная находка.
Рис.49.«Черниговская гривна». Золотой змеевик с Архангелом Михаилом, утерянный между 1078 - 1095 гг. на р. Белоусе под Черниговом (найден в с. Ст.Белоус, 1821 г.).
Предположительно, принадлежавший Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Собрание Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.
Рис.50.Пещерный храм Михаила-Архангела в горе Монте-Гаргано у городка Монте-Сант-Анджело. Италия.
Рис.51.Амулет-змеевик XII в. с изображением Архангела Михаила (с греческой молитвой вокруг фигуры) на аверсе, и Горгоной в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей (с окружающей «гнездо змей» греческой охранительной формулой с воззванием к «истера») на реверсе [Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, № 49].
Рис.52.Амулет-змеевик XIII в. из Киева с изображением Архангела Михаила на аверсе, и Горгоной в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей на реверсе (близкий змеевику: Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, № 49, - но без греческих надписей). Частное собрание (Украина).
Рис.53.Надпись «histera» на змеевике XII в. (см.рис.51).
Рис.54.Утраченный амулет-змеевик XII в. с изображением Архангела Михаила (с греческой молитвой вокруг фигуры) на аверсе, и Горгоной в виде личины с семью отходящими отростками двуглавых змей (с окружающей «гнездо змей», греческой охранительной формулой с воззванием к «истера») на реверсе.
Рис.55.Амулет-змеевик XII в. с изображением Крещения на аверсе, и змееногой богиней (Змеедевой Ехидной - Ехидной-Орой) на реверсе, из постройки 1 поселения Мякинино-1 на Москва-реке (у северо-западной околицы столицы). Находка в Подмосковье. Россия.
Рис.56.Медуза Горгона. Мозаика из гипогея раннеримского времени (II в.н.э.) в катакомбах Ком-эль-Шукафа. Александрия, Египет.
Рис.57.Медуза Горгона. Фреска в гипогее катакомб Ком-эль-Шукафа. Погребение Тиграна 29-30 г. I в.н.э. Александрия, Египет.
Рис.58.Медуза Горгона. Мозаика позднего римского времени (IV в.н.э.) в городе Сусс (Музей древнеримских фресок) в Тунисе (Северная Африка).
Рис.59 1,2. -Медуза Горгона. Мозаика позднего римского времени - IV в.н.э. Музей мозаики в Девен. Болгария. 3. - (1). - Эгида-эмблема на нагрудной части панциря Октавиана в виде кентавра (справа – увеличено). Статуя принцепса Октавиана Августа, 20-е гг. Iв.н.э. Прима Порта, Ватиканский музей. Рим, Италия. (2).- Торс римского «императора» (принцепса Антонина Пия?) в доспехах с эгидой в виде головы Медузы Горгоны на груди. Первая половина - середина IIв.н.э. Собрание Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург, Россия.4. -Бюст императора Септимия Севера (193-211 гг.н.э.) с эгидой в виде головы Горгоны на панцире.5. - Горгоны на аркаде форума Северов в Лаптис Магна – полисе римской провинции Ливия. Фото М.В. Соболевой, 2006 г. 6. - Голова Горгоны, на входе в позднеримскую базилику в Лаптис Магна – полисе римской провинции Ливия. Фото М.В. Соболевой, 2006 г. 7. – Голова Горгоны на позднеантичной плите в Демре (Миры Ликийские). Турция. Фото М.В. Соболевой, 2006 г. 8. – Голова Горгоны в Римских термах, Италия. Фото М.В. Соболевой, 2005 г.
Рис.60.1. – Импост одной из двух колонн с изображением головы Медузы Горгоны возле входа в подземной водной цистерне Константинополя («Цистерны-базилики») «Еребатан Сарничи» («Подземный Дворец» или «Подземелье четырехсот колонн»: колонн в действительности 336-ть) времен императора Юстиниана. Стамбул, Турция. 2. – Медуза Горгона на ранневизантийской мозаике из Эфеса. V в.н.э. Турция. 3. – Щит Афины Паллады в скульптуре Фидия. Римская копия. 4. - Александр Великий (Македонский) в бою с персами («Александр атакующий Дария» в битве при Иссе). Мозаика в доме Фавна (House of the Faun) в Помпеях, начала I в.н.э. На врезке (правый нижний угол) голова Горгоны Медузы в виде эгиды на нагрудном панцире Александра (увеличено). Собрание Национального археологического музея в Неаполе, Италия.
Рис.61.1.- Овальный амулет на ониксе. Семь «богов покровителей Рима» (с молитвенной формулой и "заклинанием «истеры»") III в.н.э. Собрание Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург, Россия. 2.- Изображение евхаристической трапезы (Вечери семерых гостей) и «пяти корзин хлебов» (справа и слева от пирующих) в погребальной кубикуле христианских катакомб св. Каллиста (Калкиста). Рим, Италия.
Рис.62.1. - Точки «энергетических» нервных центров, на которые направлена концентрация внимания в практике «умной молитвы», а также в традициях индуистской, буддийской и даосской психотехник: 1. – Вишуддха. Центр «жизненных дыханий» («Душа», «душица» - «существо» жизненных дыханий по восточнославянским, христианским представлениям). 2. – Анахата (духовное сердце, как и в христианских представлениях). 3. – Акира – «солнечное сплетение» (центр концентрации энергии дыхания). 4. – Манипура (точка «Океан энергий», - «живот» - «жизнь», по восточнославянским, христианским представлениям). 2. – Анатомические соответствия и соматическая локализация точек нервных центров, приведенных на рис.62-1: 1, - 2; 2, - 5; 3, - 6; 4, - 9.
Рис.63.Лествица Евангельских Блаженств (различные ступени аскезы). Миниатюра из «Лествицы» Иоанна Лествечника (gr.394), игумена Синайского. Рукопись X в. Библиотека Ватикана, Рим [Лазарев В.Н., 1986, ил.250].
Рис.64.Пещера Тайной вечери. Миниатюра Евангелия конца IX в. Собрание Ватикана. Рис.65.Пещера апостола Иоанна Богослова на острове Патмос (Греция). Лежанка Апостола являет престол пещерной церковки.
Рис.66.1. – Змеевик из красной, перемежающейся темно-серыми и светлыми слоями яшмы. Оправа XVв. Собрание ризницы монастыря Ватопед на Святой горе Афон. Греция (аналогичная панагия имеется в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Россия [Николаева Т.В., 1960, с.100-101, рис.Nо 7]). Афон, Греция. 2. - Икона Спаса Пантократора в технике энкаустики (VI в.) из Синайского монастыря св. Екатерины.
Рис.67.Амулет-змеевик в форме ковчежча иконы XIV-XVвв. (Уваров А.С., 1908, с.103, рис.86, кат.No 358).
Рис.68. Келья епископа Николая, VIв., Палестина (неверно отождествленного у Метафраста – Х в., - со святителем Мирликийским, IVв.).
Рис.69.Дукач с изображением Парскевы-Пятницы на реверсе и империатрицы Елизаветы Петровны на аверсе. XVIII в. Медный сплав. Частное собрание. Украина.
Рис.70.Дукач с изображением Парскевы-Пятницы на реверсе и империатрицы Екатерины (II) Алексеевны на аверсе. XVIII в. Медный сплав (латунь?). Частное собрание. Украина.Рис.71.Икона Богородицы Иерусалимской, по преданию, попавшая в Софию Новгородскую между 1204 - 1211 гг., вместе с даром Добрыни Ядрейковича – святителя Антония Новгородского (с 1211 г.) и увезенная из Великого Новгорода в Москву Иоанном IV (1570 г.). Собрание Музеев Московского Кремля. Россия.
Юрий Шевченко,
28-06-2010 09:10
(ссылка)
ПЕРВОХРИСТИАНСКИЕ ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ
Шевченко Ю.Ю.
ПЕРВОХРИСТИАНСКИЕ ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Исследование пещерных храмовых памятников на рассматриваемой территории имеет давнюю традицию. Но феноменологический подход к изучению христианства и его артефактов (с позиций мироощущения, сформированного рядом апокрифических источников), был предложен только Т.А. Бернштам (Бернштам. 2000). Из глубин этого первого периода распространения христианства в славянском мире (I-VII вв.), – выделенного протоиереем Нью-Йоркской Духованой Академии А. Шмеманом (Шмеман. 1954), и охарактеризованного профессором РАН – Т.А. Бернштам, – происходят множественные представления и обычаи «славянского мира» (например, «пронимальная символика»: Шевченко. 2010). Контекст наиболее раннего появления подобных памятников (в Крыму, в III в.н.э.), и их продвижения в позднеримское и ранневизантийское время на север, в Причерноморье наиболее полно был изложен М.Б. Щукиным (Щукин. 2005).
Что до конкретных представлений по позиционированию пещерных христианских святынь, то разные исследователи, базируясь на одном и том же материале, делали различные выводы, касательно хронологии и интерпретации изучаемых объектов.
На материалах Крыма были сформулированы версии о создании и бытовании пещерных храмов: в ранневизантийское время III-VII вв. (Струков. 1872; он же. 1876; он же. 1879; он же. 1882; Веймарн, Репников. 1935; Веймарн. 1958, он же. 1992; Веймарн, Чореф. 1978; Шевченко. 2004; он же. 2006, он же. 2008); во времена иконоборчества VIII-IX вв. (Василевский. 1912; Кулаковский. 1914; Беляев, Бушенков. 1986; Даниленко. 1993); и в период высокого Средневековья XII-XIV вв. (Могаричев. 1997. С.98). Последняя версия допускала создание наиболее древних пещерных храмов Крыма около середины IX в., и включала типологию по системе обработки внутренних поверхностей (пещерных стен и сводов) (см.: Шевченко. 2008) в пещерных сооружениях Таврики.
Оговоренная в самых общих чертах «типологичность», свойственна и разработкам по пещерным сооружениям бассейнов Южного Буга - Днестра - Прута: Оформление стрельчатых и близких к ним полуциркульных сводов пещерных галерей, позволяет отдельным авторам относить их создание к раннеславянскому времени – VI-VIII вв. (Ридуш. 1999. С.149-163). Примыкают к интерпретациям XIX в. (Wagilewicz. 1843. С.3-17; Kirkor. 1879. С.107) и высказывания отдельных археологов о языческом характере пещерных храмов Приднестровского региона (Винокур. 1970. С.39-40; Димитрий. 1995. С.130), созданных по представлениям этих авторов, в IX-X веках. Версия Т.А. Бобровского (1993. С.121-129) связывает расцвет пещерных скитов и келий этого региона с волной христианского исихазма, вызванной проповедью свт. Григория Паламы и деятельностью св. Григория Синаита в XIV в., что вводит данные пещерные памятники в соответствующий исторический контекст.
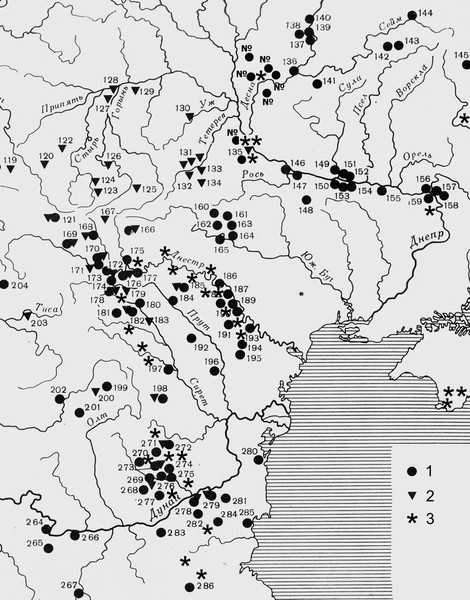
Рис.1. а) Памятники пеньковско-колочинской (1) и пражско-корчакской раннеславянских культур по В.В. Седову (1979), с отметками пещерных христианских памятников (3) по Г.Атанасову (1993), с дополнениями автора (по Дону, Десне и Днепру) и Е.Базгу по Поднестровью (Bazgu. 1997. Р.11. Fig.1).
Еще более концептуальна версия Георги Атанасова, предложившего иное историческое осмысление, и даже попытавшегося ввести пещерные памятники в контекст определенного археологического континуума. Картографированные им основные пещерные христианские святыни Поднестровья и Добруджи (рис.1:3) (Атанасов. 1993. С.68. Обр.1), соотносятся с картой заселения Поднестровского региона, в период катастрофического разгрома Болгарского царства, начавшегося во второй половине X века. Тогда «на север от Дуная хлынула волна беженцев» – в том числе - монахов, устраивавших подземные скиты в Поднестровье, не затронутом византийской агрессией и южными походами киевского князя Святослава Игоревича (Атанасов. 1993. С.63). Именно в это время, наблюдается картина, характеризуемая Г. Атанасовым, как «апокалиптические разрушения в Добрудже».
Георги Атанасовым активно акцентируется связь подземных обителей с поздними балкано-дунайскими культурными реминисценциями в Поднестровье, представленными в последней третьи Х века памятниками типа Алчедар. Локальное скопление пещер Поднестровья (Bazgu. 1997. С.11. Fig.1) действительно имеет некоторое территориальное сопряжение с памятниками этой волны. Но это только два подземных монастыря Поднестровья – в Бутученах и Ципово – надежно территориально связанные с памятником Балкано-Дунайской культуры (культуры Дриду) – с раннесредневековой крепостью Калфа, а культура Дриду появляется на данной территории, - ранее времени, предложенного Г. Атанасовым, - не позднее середины IX века. Прочие пещерные памятники Поднестровья, судя по карте Г. Атанасова с дополнениями (рис.1:3) (Атанасов. 1993. С.64; Bazgu. 1997. С.11. Fig.1), образуют иные локальные скопления.
Отметки подземных христианских памятников в Поднестровье, с имеющимися дополнениями (Bazgu. 1997. Fig.1), совпадают с местами заселения позднего римского времени, в основном, – с поселениями носителей черняховской культуры (Славяне. 1993. С.126. Карта 23). Активные связи вдоль по Днестру и вероятное продвижение населения по этой водной магистрали, иллюстрирует карта находок римских импортов (Славяне. 1993. С.158. Карта 27). Возможно, это связано с памятниками типа Этулия, и с их продвижением с Низовьев Дуная, - из Мезии, где была основана первохристианская община ап. Андреем Первозванным, - на север, в Верхнее Поднестровье. Среди памятников черняховской культуры позднеримского времени в Поднестровье, в районе концентрации пещерных христианских святынь, наблюдаются и отложения киевской культуры (Щукин. 1988. С.207-214), генетически гомогенной памятникам типа Этулия (Гудкова. 1987. С.8-13; она же. 1989; Терпиловський. 1994. С.73-79). Возможно, в связи с этим «противостоянием», зоны концентрации пещерных христианских святынь Поднестровья составляют некие обособленные локусы в общем ареале черняховских памятников Поднестровского региона, потому, что памятники киевской и черняховской культур, консолидировавшихся во взаимном противопоставлении (Щукин. 2002. С.206), существуют в этом регионе чересполосно. Думается, пещерные отметки на карте (рис.1:3), скорее, могут маркировать наличие материалов киевской культуры. Это подтверждается наличием пещерных христианских святынь с престолом древнего типа и вне зоны черняховской, в ареале киевской культуры, Днепровском и в Донском бассейнах.
Зоны концентрации памятников следующего хронологического периода, по происхождению связанных с «киевскими», полностью соответствуют локусам, маркируемым пещерами. Районы заселения в VI-VII вв. (Федоров, Чеботаренко. 1974. С.18. Рис.2) накладываются с достаточно высокой степенью совпадения на картографию пещерных памятников, составляя единый континуум (рис.1:1,3). Это может свидетельствовать о связи древностей этого горизонта с созданием, а может – уже с использованием пещерных святынь, появившихся во времена предшествующего – черняховского (позднеримского) времени.
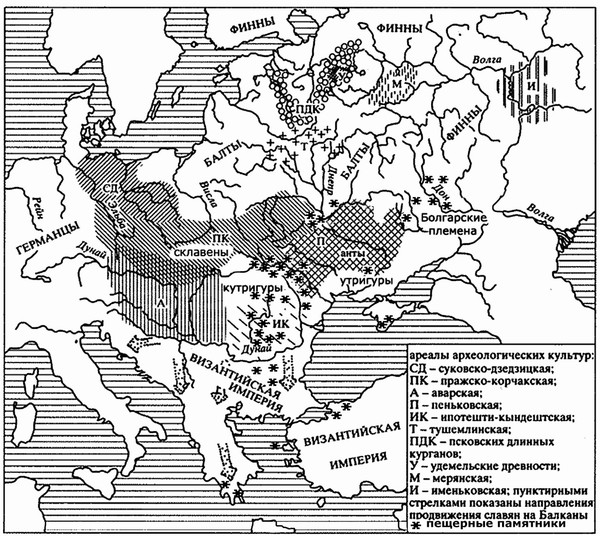
Рис.1. b) Пещерные памятники на фоне раннесредневековых этно-культурных массивов по В.В. Седову (1995).
Некоторая общность пещерных комплексов с материалами балкано-дунайской культуры, отмеченная Г. Атанасовым, может состоять и в том, что на памятниках VI-VII вв., связанных с локусами месторасположения пещерных святынь, имеются и более поздние славянские материалы, типа Луки-Райковецкой (VII-VIII вв.). Это раннеславянские поселения Лукашевка I, II и IV, Иванча IV и X , Лопатна, Глинжены III, Тарасовка I, Пояны, Алчедар IV, III, V и VII, городище Екимуцы; по р. Реуту - Бранешты I, Слободка, Скок (Федоров. 1960. С.240-246, 247. No 6 – 11; С. 278-279, 280, No 7 – 14, 20 – 22). Сюда и попадает керамика, являющаяся характерной для древностей Дунайской Болгарии - Балкано-Дунайской культуры (культуры Дриду) (Димитров. б/г. С.120–145. Табл.5–16; Шевченко. 2002. С.127).
Пещерные памятники Поднестровского региона входят в единый континуум и с древнерусскими поселениями IX-XIII вв. ([Атанасов. 1993. С.69. Обр.2; ср.: Федоров, Чеботаренко. 1974. С.73. Рис.9). Такое соотношение, как и наличие древнерусской фрагментированной керамики в слое у пещер Межигорья (Монастырька) над Серетом, Бакоты и других, - свидетельствует о продолжавшемся почитании пещерных святынь в этих местах в великокняжеский период X-XIII вв.: сюда ходили на богомолье и в IX-XIII вв. Судя по материалу (фрагментированной керамике), – найденному у множества пещер Приднестровья, - хождения на богомолье в эти места продолжались и в позднем средневековье. Но древнейшее использование пещерных святынь Поднестровья относиться не позднее времени распространения раннеславянских памятников в VI веке. Остановлюсь на некоторых из них.
К древним памятникам раннеславянского горизонта относится пещерный монастырь у с.Страдч Яворовского района Львовской области, с длинной привходной галереей (40 м), частично вырубленый в скальных породах высокого правого берега р.Верещицы (ок.270 м), частично занимающий естественные полости. В пещерах расположено несколько монашеских келий с выступами-лежанками, подземная церковь древнерусского времени («прямоугольный зал»), небольшой пещерный храм («круглый зал») с престолом древнего типа, и примыкающими сопрестолиями. Городище над пещерами было заброшено к XIV в., в XVII в. монастырь был возобновлен, как Греко-католический (униатский). Престол древнего типа не мог быть поставлен после 692 г. (Шевченко. 2004. С.196-201).
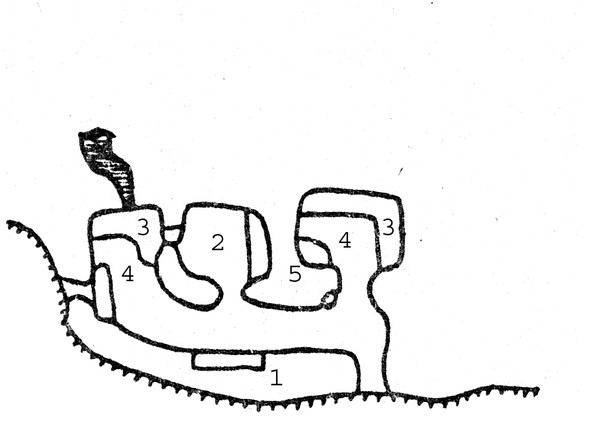 Рис.2. План Свято-Троицкого пещерного скита у Сатанова. Поднстровье, Западная Украина. 1.- Погребальная ниша-аркасолий. 2.- Помещение келии. 3.- «Сопрестолия» в маленьких пещерных храмах (4).
Рис.2. План Свято-Троицкого пещерного скита у Сатанова. Поднстровье, Западная Украина. 1.- Погребальная ниша-аркасолий. 2.- Помещение келии. 3.- «Сопрестолия» в маленьких пещерных храмах (4).
 Рис.3. 1. Сопрестолия Свято-Троицкого пещерного скита у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области (Украина).
Рис.3. 1. Сопрестолия Свято-Троицкого пещерного скита у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области (Украина).
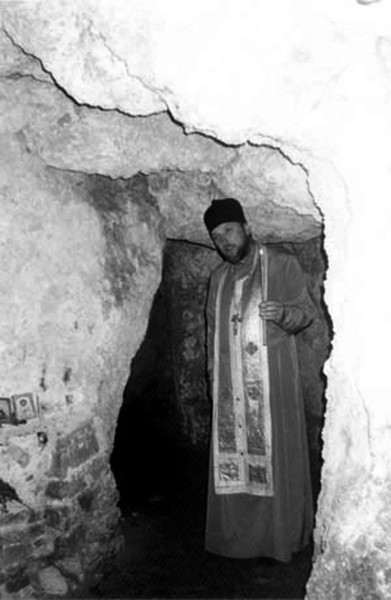 Рис.3. 2. Служба в Свято-Троицком пещерном ските у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области на 07.06.1995 г. (Духов день Троицкого праздника).
Рис.3. 2. Служба в Свято-Троицком пещерном ските у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области на 07.06.1995 г. (Духов день Троицкого праздника).
У местечка Сатанов над Збручем (притоком Днестра), на склоне Слепого оврага (заповедник «Медоборы») у с. Крутилов, в окружении раннеславянских памятников, в Троицком пещерном скиту (рис.2) сохранились реликтовые «сопрестолия» (рис.3) аналогичные первохристианским, существовавшим до VII в. в Египте (рис.4), происходящих от подобного элемента в храмах («монастерионах») эссенов (ессеев). Служба у подобных сопрестолий по сей день проводится по древнему «чину Иакова Старшего» (см.рис.3).
Рис.4. План (I) и вид от входа (II) на храмовую пещеру горы Кармел, Палестина. 1.- Вход. 2.- Оконце в скале. 3- Центральный столп-останец скалы. 4.- Скальные выступы-останцы сопрестолий. 5.- Возвышение, соответствующее «жертвеннику». 6.- Скальные выступы в виде полуколоннок. 7.- Лестница на нижние уровни подземных помещений. III. Cопрестолия в пещерном храме Вади Загра, VII в. (Египет).
Недалеко от пещерного скита расположена гора Богит – раннесредневековый славянский хутор VII-VIII вв. и небольшое укрепленное древнерусское городище, которое отдельные исследователи связывают с политеистическим религиозным центром (Русанова, Тимощук. 1993. С.32-35. Рис.20), по находке неподалеку знаменитого Збручского идола Свентовита (Святовита).
Пещерное помещение и храм у с. Стенка высечен путем подработки естественного, карстового грота. В своде жилого грота пробито широкое – 1,5 м. - вертикальное отверстие вверх, где над первой небольшой камерой, высечена в скале другая, - трапециевидная в плане 8 х 9 м. (высотой 4 м.). По центру восточной стены верхнего помещения высечен дополнительный кубический объем, углубленный в скалу еще на 3 метра. Здесь, как полагает исследователь этих подземных полостей - В.С. Артюх, располагался алтарь храма (Артюх. 1998. С.6-8). Рядом с «трехметровым помещением» в стене вырублена еще одна ниша, которую можно интерпретировать, как древнее литургическое устройство (жертвенник), вынесенное к пределам алтаря, в наос, как в древнейших христианских храмах (Муравьев. 1846. С.208). Многочисленные лапидарные знаки (в виде петель, перевернутого латинского «F» и свастики, как в других пещерных храмах: у с. Межигорье Тернопольской обл., в молдавских Бутученах, и др.), обнаружены на стенах храмового помещения у с. Стенка, где имеется также изображение креста, типа «мальтийского» - с расширяющимися ветвями, и «изображение бегущего зверя» (Суховей. 2001. С.269. Рис.1).
Рис.5. План и разрез Загнитковского пещерного скита («пещера Кармалюка») по Л.Н. Суховей (1999; 2001). Одесская область (Украина).
Двухъярусное пещерное сооружение (рис.5) той же структуры, что и двухярусный храм с келией у с. Стенка, расположено возле с. Загнитков Кодымского района на севере Одесской области, на правом берегу р. Майстринцы (левый приток, впадающий в р. Днестр возле с. Рашков, где располагается «куст» хорошо известных черняховских и раннеславянских памятников IV-VI вв.). Верхняя камера Загнитковского пещерного скита соединена с нижней вертикальным «люком», и имеет еще и отдельный широкий выход (ориентированный на юг) в небольшой овражек (Суховей. 1999. С.141. Рис.1). В западной стене верхнего грота вырублена «ниша-лежанка», а в восточной – полуциркульная в плане апсида, по центру которой расположено литургическое устройство – ниша напоминающая древнейшие типы храмовых престолов.
Рис.6. Входы в двухъярусный пещерный скит в парке села Малеевцы Дунаевецкого района Хмельницкой области. Украина. Фотография Сергея Клименко, 2004 г.
Аналогичный «двухъярусный» пещерный скит расположен у с. Малеевцы Дунаевецкого района Хмельницкой области (рис.6). В алтаре - углубленной и несколько скругленной в плане стены, в виде апсиды, - вырублена ниша, нижняя часть которой образует поверхность престола (рис.7) древнего типа.
Рис.7. Алтарная ниша (престол) и остатки ниши-жертвенника (справа) пещерного скита с. Малеевцы Дунаевецкого района Хмельницкой области. Украина. Фотография Сергея Клименко, 2004 г.
Справа возле алтарной апсиды видны остатки ниши с плоским «зеркалом» (тыльной стеной), и плоским горизонтальным дном, служившей жертвенником, вынесенным к наосу, как в синхронных храмах Крыма VI в. (рис.8), и в древнейшем («Малом») подземном храме Успенского пещерного монастыря Мега Спилеон в Греции, основанного в 362 г (рис.9).
Рис.8. Вверху: Вид на наос с алтарем (и примыкающим к стене престолом) пещерного храма «Донаторов» (фотография автора, 2006 г.). Внизу: Реконструкция И.Г. Волконской алтарной части пещерного храма «Донаторов» в Эски-Кермене. Крым (слева). План (справа) пещерного храма «Донаторов» по Ю.М. Могаричеву (1997. С.263. Рис.198).
Рис.9. Древний престол (1) и жертвенник (2) в пещерной церкви Успенского монастыря, названного «Мега Спилеон» («Большая Пещера»), основанная в 362 г. свв. Феодором, Прокопием и Ефросинией у города Калаврита. Пелопоннес, Греция. Фотография М.В. Соболевой, 2007 г.
«Выносной» престол древнего типа устроен в нише скального навеса, представляющего апсиду, высеченную в скале у с. Пидкамень (рис.10:1), в 12 км от Свято-Успенской Почаевской Лавры. Пещерные храмы (рис.10:2) этого комплекса еще ожидают своего исследования, как и высеченные в скале келии (рис.10:3).
Рис.10. Скала «Черного Камня» у с. Пидкамень в 12 км от Свято-Успенской Почаевской лавры (Украина), с пещерным скитом в скале: 1. - вход в пещерный храм; 2. - древний престол под скальным навесом; 3.- вход в келию. Фотография автора, 2006 г.
Столь же показательна микрогеография культурного контекста одного из древнейших, как представляется, пещерных комплексов Среднего Поднепровья, - пещерного монастыря Рождества Богородицы, в ур. Церковщина (Гнилец). Келии-затворы в этих пещерах выполнены так, как в ранневизантийской лавре Саввы Освященного (Палестина), и средневековых - на Руси (Зверинецкий и Киево-Печерский монастыри).
Рис.11. Келия-затвор с лежанками под тремя стенами. В тыльной стене над уступом «лежанки» - множественные ниши для размещения мощей (черепов) – т.н., «мироточивых голов». Пещерный монастырь в ур. Церковщина (Гнилец) возле Киева. Украина. Фотографии автора, 2006 г.
Но в одной из камер-«затворов» Гнильца расположена «костница» - «кимитирий мироточивых голов» (рис.11), свойственный ранневизантийским памятникам. Кроме того, один из храмов этого пещерного комплекса имел примыкающий к внутренней стене алтаря престол древнего типа (Верлюжский. 1880. С.25-26, прим.3). Аналогично устроен престол в маленьком храме пещер Зверинецкого монастыря (рис.12).
Рис.12. Вид на престол в храме пещерного Зверинецкого монастыря (Киев, Украина). Начертание «Креста-Голгофы» над престолом храма Зверинецкого подземного монастыря (врезка: слева, внизу). Фотографии автора, 2006 г.
Рождественско-Богородичный (Церковщина-Гнилец) и Зверинецкий пещерные монастыри, обычно относят к древнерусскому времени, связывая первый с «загородней пещерой» преп.Феодосия Печерского (Бобровський. 2007. С.54-58,151-153. Рис.33-35). Но подземные храмы этих пещер имеют древние типы престолов, возведенных до VII в., а микрорегион в котором расположен пещерный комплекс Гнильца (Церковщины): Ходосовка (Диброва) – Новые Безрадичи – Обухов, – насыщен раннеславянскими памятниками, начиная с киевской археологической культуры III-V вв. (Даниленко. 1976. С.65-62), и до памятников летописных славян включительно (Петрашенко. 1994. С.182–183. Рис.8–10; Славяне… 1993. С.40-52, 106-122).
Рис.13. Вид на древний престол в Китаевских пещерах. Киев, Украина. Фотография автора, 2008 г.
Рис.14. Древний престол в Китаевских пещерах. Киев, Украина Фотография автора, 2005 г.
Аналогичен археологический контекст размещения пещерного комплекса в ур. Китаево (Киев), с престолом древнего типа (рис.13, 14), расположенного впритык к поселению киевской культуры IV-V вв.
Пока остается непонятным «археологический контекст» округи древнего Зверинецкого пещерного монастыря, но весь Киевский участок течения Днепра представляет аномально богатую находками зону, насыщенную предметами выемчатых эмалей (IV-VI вв) и вещей ранневизантийского времени (VI-IX вв.) (Корзухина. 1978). Признак «древности престола», в силу практически полного отсутствия иных артефактов в самих пещерных комплексах является единственным датирующим объектом.
Сходно, как престол древнего типа, описан этот объект (примыкающий к стене помещения) в одном пещерном комплексе Чернигова (Ефимов. 1911. С.78). Этот пещерный монастырь был описан при случайных оползнях 1810 и 1820 гг., открывавших вход под землю, «смотрящий» прямо на Черниговский подол, постоянно заселяемый в IV-VII вв., и стационарно заселенный не позднее Х в. (Шевченко. 2002. Карта 20,21). Имеются редкие находки, связывающие пещеры Подонья, где также имеются престолы древнего типа, с древностями V-VII вв. (Степкин. 2001. С.71-75; он же. 2004. С.18-197; он же 2008. С.207-213).
Таким образом на Юге Восточной Европы имеется пятнадцать древнехристианских памятников (c престолами древнего типа), и расположенных в ареале раннеславянской этно-лингвистической среды (см.рис.1b), не считая многочисленных аналогичных объектов Крыма (не менее девяти), и таких же памятников в бассейне Дона (не менее пяти). Все описанные литургические устройства в данных пещерных храмах могли быть созданы только до 692 г., когда престол примыкал к стене апсиды, предназначенный для службы перед ним по Иерусалимскому чину (приписываемому ап. Иакову Старшему, брату Господню), или по чину Александрийской службы (приписываемой ап. Марку). Эти обе редакции литургии восходят к чину Богослужения, известному не позднее самого начала II в.н.э., изложенному в учении «Двенадцати Апостолов» [Дидахе 1996].
Рис.15. Литургическое устройство - престол (1) и жертвенник (2) в храмовой пещере Чилтер-Коба на горном мысу Ай-Тодор у с. Малое Садовое Бахчисарайского района, Крым (Украина). 1.- Углубление «стационарного потира» на престоле; 1’.- Желоб стока для пролива по престолу преосуществляемого в Кровь вина; 1’’.- Полка престола для преосуществляемого в Тело хлеба; 2.- углубление в виде чаши в нише жертвенника. Фотография В.Н. Даниленко (1993).
В 2009 г. были обнаружены (у источника Хор-Хор) и интерпретированы два престола пещерного комплекса Чилтер-Кобы в Крыму (Шевченко. 2010. С.94-117), датируемые не позднее первой четверти IV в.н.э., построенные, видимо, пленными христианами из Каппадокии, доставленными в Тавриду во время готских походов на Малую Азию 264 и 275 гг. (Щукин. 2005. Рис.52). Престолы этого типа (Чилтер-Коба) составляют единый с жертвенником архитектурно-канонический элемент храма (рис.15), являясь аналогией литургическому устройству II-III вв. в «Пещере Апокалипсиса» на о.Патмос, и III-IV вв. в «Пещере Иоанна Крестителя» под Иерусалимом (Gibson. 2005; Шевченко. 2008). Такие артефакты более древние, нежели заброшенные уже во времена первых крестоносцев Иерусалимские престолы (у Голгофы в храме Гроба; в «Темнице Христовой»; в пещерном храме Рождества Богородицы в доме правед. Иоакима и Анны) со одним сквозным отверстием и чашеобразным углублением «стационарного потира» в престольной плите (мензе), активно использовавшиеся во времена арианской ориентации императорской власти в Византии. Несколько более поздние древние престолы, примыкающие к внутренней стене храма, связанные со строительством Дороса в Крыму (см.рис.8), не имеют сквозного отверстия, но сохраняют на поверхности углубление «стационарного потира».
Престолов характерных для Иерусалима времен Констанция (при арианской ориентации правительства Византии), – со сквозным отверстием в мензе (Шевченко. 2010. Рис.1,2), – на Юге Восточной Европы не обнаружено. Это значит, что более поздние раннесредневековые храмы V-VII вв. с типологически иными престолами, имевшими только с чашеобразное углубление стационарного потира (без сквозного отверстия) не связаны здесь непосредственным преемством с предшествующими престолами, предназначенными для пролива вина по поверхности, и являются памятниками более поздней волны христиан-переселенцев, попавших на Юг Восточной Европы в юстиниановские времена (V-VI вв.), когда строился Дорос – столица Крымской Готии.
Рис.16. Домашний алтарь-жертвенник сер. I в.н.э. Портик перед фонтаном (с кубическим алтарем в апсиде) в саду с виноградником. Вилла Лорея Тибуртина, недалеко от "улицы Изобилия", Помпеи, Италия. Фотография Карины Мамалыго, 2009 г.
Рис.17. Крипта в катакомбах св. Каллиста с надписью папы Дамаса на мраморной плите. В древнем престоле (за приставным) видно отверстие (слева) и углубление (справа), как в древних престолах времен Констанция II в Иерусалиме [Шевченко 2010]. Римские катакомбы, Италия. Фотография М.В. Соболевой, 2007 г.
Рис.18. Древнее литургическое устройство с чашеобразным углублением на поверхности в Папской крипте в Римских катакомбах св. Каллиста (Италия). Фотография М.В. Соболевой, 2007 г.
Наиболее древние престолы храмов этого периода в регионе Горного Крыма, как литургическое устройство в храме «Донаторов» Эски-Кермена, вполне соответствуют несколько более ранним представлениям населения позднеэллинистического времени (I в.) на Аппенинах об алтаре-жертвеннике (рис.16), и схожи с престолами в Римских катакомбах именно этого периода (рис.17,18). Структура размещения литургических устройств, сближает пещерный храм в Малеевцах (см.рис.7) с храмом «Донаторов», а размещение престола в нише – с храмом «Трех всадников» Эски-Кермена» в Крыму.
Литература.
Георги Атанасов. 1993. За един старобългарски скален манастир от X-XI век в Централна Молдова // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Том втори. Велико Търново, 1993. С.61-73.
Л.А. Беляев. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / сер. «Византийская библиотека». 2-е стереотипное изд. СПб., 2000. 575 с.
С.А. Беляев, В.А. Бушенков. Исследования пещерного комплекса Чилтера в 1973 – 1981 гг. // Византийский временник, 1986. No 46. С.184-187.
Т.А. Бернштам. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб.: «Петербургское востоковедение», 2000. 396 с.
Т.А. Бобровский. К вопросу о типологии и датировке древнерусских подземных монастырей // РА, 1993, No 4. С.121-129.
Т. Бобровський. Пiдземнi споруди Киева вiд найдавнiших часiв до середини XIX ст. (спелео-археологiчний нарис). Київ: Науково-дослiдний iнститут пам’ятко-охоронних дослiдженнь; видавництво «АртЕк», 2007. 175 с., 58 рис.
В.Г. Василевский. Житие Иоанна Готского // Тр. В.Г. Василевского, СПб., 1912. Т. II, вып.2.
Е.В. Веймарн. «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследований 1954-1955 гг. // СА. № 1. 1958. С.71-79.
Е.В. Веймарн. "Пещерные города" Крыма // Проблемы истории "пещерных городов" в Крыму. Симферополь, 1992. С. 163–169.
Е.В. Веймарн, Н.И. Репников. Сюйренское укрепление // ИГАИМК. Вып.117: Материалы Эски-Керменской экспедиции. М.;Л., 1935. С.115-124.
Е.В. Веймарн, М.Я. Чореф. Пещерный ансамбль Чильтер в Крыму // Пещеры Грузии. Тбилиси, 1978. С.114-144.
[И. Верюжский]. Исторические сказания о жизни святых подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда: Типограф. В.А. Гудкова-Белякова, 1880. 694+V стр.
А.Ю. Виноградов, Н.Е. Гайдуков, М.С. Желтов. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // РА, № 1. С.72-80.
И.С. Винокур. Новые языческие памятники на Среднем Днестре // Древние славяне и их соседи. М., 1970. C.38-40.
А.В. Гудкова. Оседлое население Северо-Западного Причерноморья в первой половине I тыс.н.э.// Автореф.дисс…. д-ра ист.наук. Киев, 1987. 51 с.
А.В. Гудкова. О классификации памятников III – IV вв. н.э. в Днепро – Дунайской степи // Археологические памятники степей Поднестровья и Подунавья. Киев, 1989.
В.Н. Даниленко. Монастырь Чильтер-Коба: архитектурный аспект // История и археология Юго-Западного Крыма. Симферополь, 1993. С.349-367.
[Дидахе, 1996]: Учение Двенадцати Апостолов. Введение В.С. Соловьева (к изд. 1886г.). Перевод с греческого, вводная статья и комментарии игумена Иннокентия (Павлова). New York: Gnosis Press, 1996
Димитрiй, Патрiарх. Печернi монастирi, скити та келii у свiтi й Украiнi // Основа. Киiв, 1995. No 28 (6). С.118-134.
Д.И. Димитров. Некрополът при гора Разделъна // Известия народного музея Варны. – Кн. ХIV. Варна (б/г изд.).
А.Н. Ефимов, свящ. Елецкие пещеры при монастыре того же имени // Тр. XIV АС в Чернигове 1908 г.. М., 1911, T.II. C.73-80.
Ю.А. Кулаковский. Прошлое Тавриды. Краткий исторический очерк. 2-е изд. Киев, 1914.
Ю.М. Могаричев. Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997. 383 с.
В.О. Петрашенко. До проблеми археологiчноi iнтерпретацii лiтописних полян // Старожитностi Украiни–Русi. К.– С.181–187.
Б.Т. Ридуш. Подземные ходы на территории Подолья, Галиции и Буковины // Спелестологические Ежегодник РОСИ 1999. М., 1999. С.149-163.
И.П. Русанова, Б.А. Тимощук. Языческие святилища древних славян. М., 1993.
В.В. Седов. Происхождение и ранняя история славян. М.: «Наука», 1979. 158 с., илл.
В.В. Седов. Славяне в раннем средневековье. М. 1995.
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. / Сер.: «Археология СССР» / Отв.ред.тома И.П.Русанова, Э.А.Сымонович. М., 1993.
В.В. Степкин. Пещера «Ухо» у села Селявного // Вести Воронежского отдела РГО. Т.2, вып.2. Воронеж, 2001.
В.В. Степкин. Культовые пещеры Среднего Дона и Оскола (цикл статей) // Культовые пещеры Среднего Дона / Сер.: «Спелестологические исследования» (Спелестологический Ежегодник РОСИ). Вып.4. М., 2004.
В.В. Степкин. Пещера у с. Селявное в Воронежской области (к вопросу о первоначальном этапе пещерного строительства в Донском регионе) // Христианство в регионах мира. Вып.2 / Отв.ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: МАЭ РАН, 2008, с.207-213
Д. Струков. О древне-христианских памятниках в Крыму. Опыт археологических изысканий. М., 1872. 14 с.
Д. Струков. Древние памятники христианства в Тавриде. М., 1876. 51 с., с илл.
Д.М. Струков. О доисторических памятниках Тавриды. М., 1879. 20 с.
Д.М. Струков. Жития святых Таврических (Крымских) чудотворцев. Изд.2-е. М., 1882. 72 с.
Л.Н. Суховей. Культовые пещеры Одесской области // СЕ РОСИ 1999. М., 1999. С.140-144.
Л.Н. Суховей. К истории исследования древних пещер Пензенской области // СЕ РОСИ 2000. М., 2001. С.268-271.
Р.В. Терпиловський. Праслов’янскi старожитностi Схiдної Европи // Старожитності України-Русі. Збірник наукових праць (до 70-річчя Михайла Юліановича Брайчевського). Київ, 1994, с.73-79.
Г.Б. Федоров. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетиии н.э. // МИА No 89. М., 1960. 379 с. +71 таб.
Г.Б. Федоров, Г.Ф. Чеботаренко. Памятники древних славян (VI-VIII вв.) // Археологическая карта Молдавской ССР / Отв.ред. Н.А.Кетрару. Кишинев, 1974. 134 с.
Ю.Ю. Шевченко. Пещерные христианские монастыри Подонья: начало традиции // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиция. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 1 – 4 декабря 2004 г. СПб., 2004. С.196-201.
Ю.Ю. Шевченко. Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве // Археология, этнография и антропологии Евразии. No 1 (25) 2006, с. 89 - 109.
Ю.Ю. Шевченко Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства юга Восточной Европы // Христианство в регионах мира. Вып. 2 / Отв.ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: МАЭ РАН, 2008, с.151-207.
Ю.Ю. Шевченко О египетских элементах в христианском храмовом престоле // Проблемы истории Центральной и Восточной Европы / Под ред. С.И. Михальченко, В.Н. Гурьянова. Брянск: Изд-во Брянского ГУ, 2009 (194 с.). С.162-169 (иллюстрации: http://www.rusarch.ru/shevc...).
Ю.Ю. Шевченко О времени возможного возникновения пещерного храма на Ай-Тодоре (Чилтер-коба) в Крыму // Полевые исследования МАЭ РАН 2009 года. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С.94-117.
Протопресвитер Александр (Шмеман). Исторический путь Православия. Нью-Йорк, 1954.
М.Б. Щукин. Керамика киевского типа с поселения Лепесовка // СА, 1988, No 3.
М.Б. Щукин. О первом появлении готов в Дунайско-Причерноморском регионе и начале Черняховской культуры. Памяти Иохима Вернера // Европа – Азия: Проблемы этнокультурных контактов / Отв.ред. Г.С. Лебедев; под науч.ред. А.С. Мыльникова, М.Б. Щукина. СПб., 2002, с.194-214.
М.Б. Щукин. Готский путь (Готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. 576 с., библиогр., илл.
Eugen Bazgu. 1997. Manastrile rupestre din bazinul fluviulyi Nistru – artere de raspindire a crestinismului // Sud-Est. 1997.4.30 Revista apare din anul 1990 / Red.-sef: Valentina Tazlauanu.. Chisinau, 1997. P.10-19.
Shimon Gibson. 2005. The Cave of John the Baptist: The First Archaeological Evidence of the Historical Reality of the Gospel Story (Paperback). ISBN-10: 0385503482; ISBN-13: 978-0385503488. London, 2005. 416 p.
A. Kirkor. Zabitki Balwochwalcze w Galicyi // Klosy. Warszawa, 1879. S.107-134.
I. Wagilewicz. Berda w Uryczu // Lwow, 1843. No VI.
ПЕРВОХРИСТИАНСКИЕ ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Исследование пещерных храмовых памятников на рассматриваемой территории имеет давнюю традицию. Но феноменологический подход к изучению христианства и его артефактов (с позиций мироощущения, сформированного рядом апокрифических источников), был предложен только Т.А. Бернштам (Бернштам. 2000). Из глубин этого первого периода распространения христианства в славянском мире (I-VII вв.), – выделенного протоиереем Нью-Йоркской Духованой Академии А. Шмеманом (Шмеман. 1954), и охарактеризованного профессором РАН – Т.А. Бернштам, – происходят множественные представления и обычаи «славянского мира» (например, «пронимальная символика»: Шевченко. 2010). Контекст наиболее раннего появления подобных памятников (в Крыму, в III в.н.э.), и их продвижения в позднеримское и ранневизантийское время на север, в Причерноморье наиболее полно был изложен М.Б. Щукиным (Щукин. 2005).
Что до конкретных представлений по позиционированию пещерных христианских святынь, то разные исследователи, базируясь на одном и том же материале, делали различные выводы, касательно хронологии и интерпретации изучаемых объектов.
На материалах Крыма были сформулированы версии о создании и бытовании пещерных храмов: в ранневизантийское время III-VII вв. (Струков. 1872; он же. 1876; он же. 1879; он же. 1882; Веймарн, Репников. 1935; Веймарн. 1958, он же. 1992; Веймарн, Чореф. 1978; Шевченко. 2004; он же. 2006, он же. 2008); во времена иконоборчества VIII-IX вв. (Василевский. 1912; Кулаковский. 1914; Беляев, Бушенков. 1986; Даниленко. 1993); и в период высокого Средневековья XII-XIV вв. (Могаричев. 1997. С.98). Последняя версия допускала создание наиболее древних пещерных храмов Крыма около середины IX в., и включала типологию по системе обработки внутренних поверхностей (пещерных стен и сводов) (см.: Шевченко. 2008) в пещерных сооружениях Таврики.
Оговоренная в самых общих чертах «типологичность», свойственна и разработкам по пещерным сооружениям бассейнов Южного Буга - Днестра - Прута: Оформление стрельчатых и близких к ним полуциркульных сводов пещерных галерей, позволяет отдельным авторам относить их создание к раннеславянскому времени – VI-VIII вв. (Ридуш. 1999. С.149-163). Примыкают к интерпретациям XIX в. (Wagilewicz. 1843. С.3-17; Kirkor. 1879. С.107) и высказывания отдельных археологов о языческом характере пещерных храмов Приднестровского региона (Винокур. 1970. С.39-40; Димитрий. 1995. С.130), созданных по представлениям этих авторов, в IX-X веках. Версия Т.А. Бобровского (1993. С.121-129) связывает расцвет пещерных скитов и келий этого региона с волной христианского исихазма, вызванной проповедью свт. Григория Паламы и деятельностью св. Григория Синаита в XIV в., что вводит данные пещерные памятники в соответствующий исторический контекст.
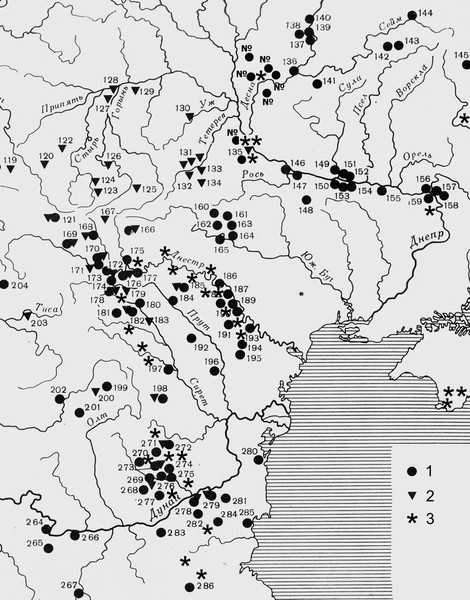
Рис.1. а) Памятники пеньковско-колочинской (1) и пражско-корчакской раннеславянских культур по В.В. Седову (1979), с отметками пещерных христианских памятников (3) по Г.Атанасову (1993), с дополнениями автора (по Дону, Десне и Днепру) и Е.Базгу по Поднестровью (Bazgu. 1997. Р.11. Fig.1).
Еще более концептуальна версия Георги Атанасова, предложившего иное историческое осмысление, и даже попытавшегося ввести пещерные памятники в контекст определенного археологического континуума. Картографированные им основные пещерные христианские святыни Поднестровья и Добруджи (рис.1:3) (Атанасов. 1993. С.68. Обр.1), соотносятся с картой заселения Поднестровского региона, в период катастрофического разгрома Болгарского царства, начавшегося во второй половине X века. Тогда «на север от Дуная хлынула волна беженцев» – в том числе - монахов, устраивавших подземные скиты в Поднестровье, не затронутом византийской агрессией и южными походами киевского князя Святослава Игоревича (Атанасов. 1993. С.63). Именно в это время, наблюдается картина, характеризуемая Г. Атанасовым, как «апокалиптические разрушения в Добрудже».
Георги Атанасовым активно акцентируется связь подземных обителей с поздними балкано-дунайскими культурными реминисценциями в Поднестровье, представленными в последней третьи Х века памятниками типа Алчедар. Локальное скопление пещер Поднестровья (Bazgu. 1997. С.11. Fig.1) действительно имеет некоторое территориальное сопряжение с памятниками этой волны. Но это только два подземных монастыря Поднестровья – в Бутученах и Ципово – надежно территориально связанные с памятником Балкано-Дунайской культуры (культуры Дриду) – с раннесредневековой крепостью Калфа, а культура Дриду появляется на данной территории, - ранее времени, предложенного Г. Атанасовым, - не позднее середины IX века. Прочие пещерные памятники Поднестровья, судя по карте Г. Атанасова с дополнениями (рис.1:3) (Атанасов. 1993. С.64; Bazgu. 1997. С.11. Fig.1), образуют иные локальные скопления.
Отметки подземных христианских памятников в Поднестровье, с имеющимися дополнениями (Bazgu. 1997. Fig.1), совпадают с местами заселения позднего римского времени, в основном, – с поселениями носителей черняховской культуры (Славяне. 1993. С.126. Карта 23). Активные связи вдоль по Днестру и вероятное продвижение населения по этой водной магистрали, иллюстрирует карта находок римских импортов (Славяне. 1993. С.158. Карта 27). Возможно, это связано с памятниками типа Этулия, и с их продвижением с Низовьев Дуная, - из Мезии, где была основана первохристианская община ап. Андреем Первозванным, - на север, в Верхнее Поднестровье. Среди памятников черняховской культуры позднеримского времени в Поднестровье, в районе концентрации пещерных христианских святынь, наблюдаются и отложения киевской культуры (Щукин. 1988. С.207-214), генетически гомогенной памятникам типа Этулия (Гудкова. 1987. С.8-13; она же. 1989; Терпиловський. 1994. С.73-79). Возможно, в связи с этим «противостоянием», зоны концентрации пещерных христианских святынь Поднестровья составляют некие обособленные локусы в общем ареале черняховских памятников Поднестровского региона, потому, что памятники киевской и черняховской культур, консолидировавшихся во взаимном противопоставлении (Щукин. 2002. С.206), существуют в этом регионе чересполосно. Думается, пещерные отметки на карте (рис.1:3), скорее, могут маркировать наличие материалов киевской культуры. Это подтверждается наличием пещерных христианских святынь с престолом древнего типа и вне зоны черняховской, в ареале киевской культуры, Днепровском и в Донском бассейнах.
Зоны концентрации памятников следующего хронологического периода, по происхождению связанных с «киевскими», полностью соответствуют локусам, маркируемым пещерами. Районы заселения в VI-VII вв. (Федоров, Чеботаренко. 1974. С.18. Рис.2) накладываются с достаточно высокой степенью совпадения на картографию пещерных памятников, составляя единый континуум (рис.1:1,3). Это может свидетельствовать о связи древностей этого горизонта с созданием, а может – уже с использованием пещерных святынь, появившихся во времена предшествующего – черняховского (позднеримского) времени.
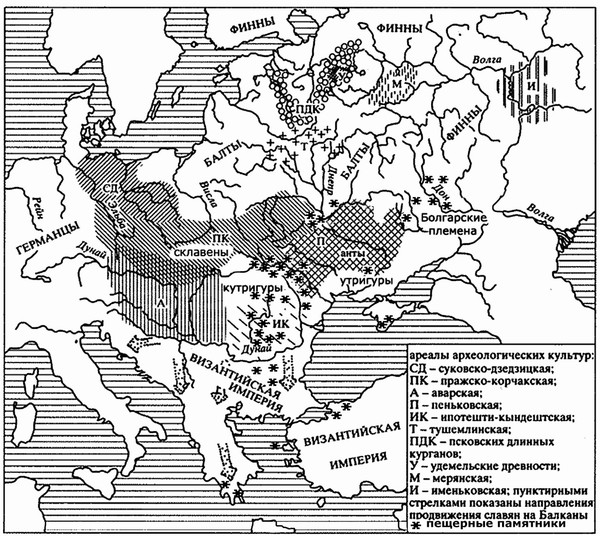
Рис.1. b) Пещерные памятники на фоне раннесредневековых этно-культурных массивов по В.В. Седову (1995).
Некоторая общность пещерных комплексов с материалами балкано-дунайской культуры, отмеченная Г. Атанасовым, может состоять и в том, что на памятниках VI-VII вв., связанных с локусами месторасположения пещерных святынь, имеются и более поздние славянские материалы, типа Луки-Райковецкой (VII-VIII вв.). Это раннеславянские поселения Лукашевка I, II и IV, Иванча IV и X , Лопатна, Глинжены III, Тарасовка I, Пояны, Алчедар IV, III, V и VII, городище Екимуцы; по р. Реуту - Бранешты I, Слободка, Скок (Федоров. 1960. С.240-246, 247. No 6 – 11; С. 278-279, 280, No 7 – 14, 20 – 22). Сюда и попадает керамика, являющаяся характерной для древностей Дунайской Болгарии - Балкано-Дунайской культуры (культуры Дриду) (Димитров. б/г. С.120–145. Табл.5–16; Шевченко. 2002. С.127).
Пещерные памятники Поднестровского региона входят в единый континуум и с древнерусскими поселениями IX-XIII вв. ([Атанасов. 1993. С.69. Обр.2; ср.: Федоров, Чеботаренко. 1974. С.73. Рис.9). Такое соотношение, как и наличие древнерусской фрагментированной керамики в слое у пещер Межигорья (Монастырька) над Серетом, Бакоты и других, - свидетельствует о продолжавшемся почитании пещерных святынь в этих местах в великокняжеский период X-XIII вв.: сюда ходили на богомолье и в IX-XIII вв. Судя по материалу (фрагментированной керамике), – найденному у множества пещер Приднестровья, - хождения на богомолье в эти места продолжались и в позднем средневековье. Но древнейшее использование пещерных святынь Поднестровья относиться не позднее времени распространения раннеславянских памятников в VI веке. Остановлюсь на некоторых из них.
К древним памятникам раннеславянского горизонта относится пещерный монастырь у с.Страдч Яворовского района Львовской области, с длинной привходной галереей (40 м), частично вырубленый в скальных породах высокого правого берега р.Верещицы (ок.270 м), частично занимающий естественные полости. В пещерах расположено несколько монашеских келий с выступами-лежанками, подземная церковь древнерусского времени («прямоугольный зал»), небольшой пещерный храм («круглый зал») с престолом древнего типа, и примыкающими сопрестолиями. Городище над пещерами было заброшено к XIV в., в XVII в. монастырь был возобновлен, как Греко-католический (униатский). Престол древнего типа не мог быть поставлен после 692 г. (Шевченко. 2004. С.196-201).
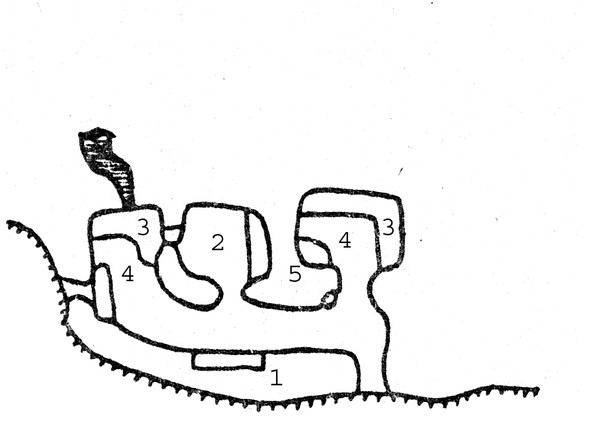 Рис.2. План Свято-Троицкого пещерного скита у Сатанова. Поднстровье, Западная Украина. 1.- Погребальная ниша-аркасолий. 2.- Помещение келии. 3.- «Сопрестолия» в маленьких пещерных храмах (4).
Рис.2. План Свято-Троицкого пещерного скита у Сатанова. Поднстровье, Западная Украина. 1.- Погребальная ниша-аркасолий. 2.- Помещение келии. 3.- «Сопрестолия» в маленьких пещерных храмах (4). Рис.3. 1. Сопрестолия Свято-Троицкого пещерного скита у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области (Украина).
Рис.3. 1. Сопрестолия Свято-Троицкого пещерного скита у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области (Украина). 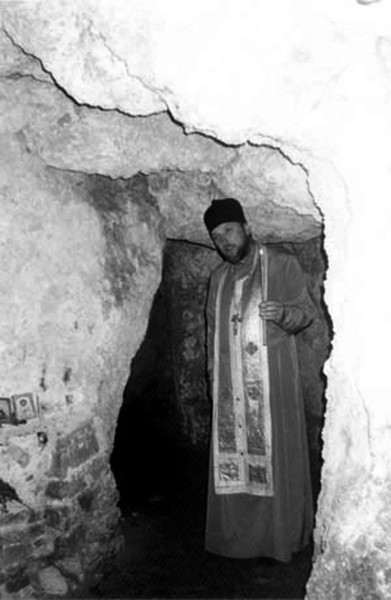 Рис.3. 2. Служба в Свято-Троицком пещерном ските у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области на 07.06.1995 г. (Духов день Троицкого праздника).
Рис.3. 2. Служба в Свято-Троицком пещерном ските у местечка Сатанов Городоцкого района Хмельницкой области на 07.06.1995 г. (Духов день Троицкого праздника).У местечка Сатанов над Збручем (притоком Днестра), на склоне Слепого оврага (заповедник «Медоборы») у с. Крутилов, в окружении раннеславянских памятников, в Троицком пещерном скиту (рис.2) сохранились реликтовые «сопрестолия» (рис.3) аналогичные первохристианским, существовавшим до VII в. в Египте (рис.4), происходящих от подобного элемента в храмах («монастерионах») эссенов (ессеев). Служба у подобных сопрестолий по сей день проводится по древнему «чину Иакова Старшего» (см.рис.3).
Рис.4. План (I) и вид от входа (II) на храмовую пещеру горы Кармел, Палестина. 1.- Вход. 2.- Оконце в скале. 3- Центральный столп-останец скалы. 4.- Скальные выступы-останцы сопрестолий. 5.- Возвышение, соответствующее «жертвеннику». 6.- Скальные выступы в виде полуколоннок. 7.- Лестница на нижние уровни подземных помещений. III. Cопрестолия в пещерном храме Вади Загра, VII в. (Египет).
Недалеко от пещерного скита расположена гора Богит – раннесредневековый славянский хутор VII-VIII вв. и небольшое укрепленное древнерусское городище, которое отдельные исследователи связывают с политеистическим религиозным центром (Русанова, Тимощук. 1993. С.32-35. Рис.20), по находке неподалеку знаменитого Збручского идола Свентовита (Святовита).
Пещерное помещение и храм у с. Стенка высечен путем подработки естественного, карстового грота. В своде жилого грота пробито широкое – 1,5 м. - вертикальное отверстие вверх, где над первой небольшой камерой, высечена в скале другая, - трапециевидная в плане 8 х 9 м. (высотой 4 м.). По центру восточной стены верхнего помещения высечен дополнительный кубический объем, углубленный в скалу еще на 3 метра. Здесь, как полагает исследователь этих подземных полостей - В.С. Артюх, располагался алтарь храма (Артюх. 1998. С.6-8). Рядом с «трехметровым помещением» в стене вырублена еще одна ниша, которую можно интерпретировать, как древнее литургическое устройство (жертвенник), вынесенное к пределам алтаря, в наос, как в древнейших христианских храмах (Муравьев. 1846. С.208). Многочисленные лапидарные знаки (в виде петель, перевернутого латинского «F» и свастики, как в других пещерных храмах: у с. Межигорье Тернопольской обл., в молдавских Бутученах, и др.), обнаружены на стенах храмового помещения у с. Стенка, где имеется также изображение креста, типа «мальтийского» - с расширяющимися ветвями, и «изображение бегущего зверя» (Суховей. 2001. С.269. Рис.1).
Рис.5. План и разрез Загнитковского пещерного скита («пещера Кармалюка») по Л.Н. Суховей (1999; 2001). Одесская область (Украина).
Двухъярусное пещерное сооружение (рис.5) той же структуры, что и двухярусный храм с келией у с. Стенка, расположено возле с. Загнитков Кодымского района на севере Одесской области, на правом берегу р. Майстринцы (левый приток, впадающий в р. Днестр возле с. Рашков, где располагается «куст» хорошо известных черняховских и раннеславянских памятников IV-VI вв.). Верхняя камера Загнитковского пещерного скита соединена с нижней вертикальным «люком», и имеет еще и отдельный широкий выход (ориентированный на юг) в небольшой овражек (Суховей. 1999. С.141. Рис.1). В западной стене верхнего грота вырублена «ниша-лежанка», а в восточной – полуциркульная в плане апсида, по центру которой расположено литургическое устройство – ниша напоминающая древнейшие типы храмовых престолов.
Рис.6. Входы в двухъярусный пещерный скит в парке села Малеевцы Дунаевецкого района Хмельницкой области. Украина. Фотография Сергея Клименко, 2004 г.
Аналогичный «двухъярусный» пещерный скит расположен у с. Малеевцы Дунаевецкого района Хмельницкой области (рис.6). В алтаре - углубленной и несколько скругленной в плане стены, в виде апсиды, - вырублена ниша, нижняя часть которой образует поверхность престола (рис.7) древнего типа.
Рис.7. Алтарная ниша (престол) и остатки ниши-жертвенника (справа) пещерного скита с. Малеевцы Дунаевецкого района Хмельницкой области. Украина. Фотография Сергея Клименко, 2004 г.
Справа возле алтарной апсиды видны остатки ниши с плоским «зеркалом» (тыльной стеной), и плоским горизонтальным дном, служившей жертвенником, вынесенным к наосу, как в синхронных храмах Крыма VI в. (рис.8), и в древнейшем («Малом») подземном храме Успенского пещерного монастыря Мега Спилеон в Греции, основанного в 362 г (рис.9).
Рис.8. Вверху: Вид на наос с алтарем (и примыкающим к стене престолом) пещерного храма «Донаторов» (фотография автора, 2006 г.). Внизу: Реконструкция И.Г. Волконской алтарной части пещерного храма «Донаторов» в Эски-Кермене. Крым (слева). План (справа) пещерного храма «Донаторов» по Ю.М. Могаричеву (1997. С.263. Рис.198).
Рис.9. Древний престол (1) и жертвенник (2) в пещерной церкви Успенского монастыря, названного «Мега Спилеон» («Большая Пещера»), основанная в 362 г. свв. Феодором, Прокопием и Ефросинией у города Калаврита. Пелопоннес, Греция. Фотография М.В. Соболевой, 2007 г.
«Выносной» престол древнего типа устроен в нише скального навеса, представляющего апсиду, высеченную в скале у с. Пидкамень (рис.10:1), в 12 км от Свято-Успенской Почаевской Лавры. Пещерные храмы (рис.10:2) этого комплекса еще ожидают своего исследования, как и высеченные в скале келии (рис.10:3).
Рис.10. Скала «Черного Камня» у с. Пидкамень в 12 км от Свято-Успенской Почаевской лавры (Украина), с пещерным скитом в скале: 1. - вход в пещерный храм; 2. - древний престол под скальным навесом; 3.- вход в келию. Фотография автора, 2006 г.
Столь же показательна микрогеография культурного контекста одного из древнейших, как представляется, пещерных комплексов Среднего Поднепровья, - пещерного монастыря Рождества Богородицы, в ур. Церковщина (Гнилец). Келии-затворы в этих пещерах выполнены так, как в ранневизантийской лавре Саввы Освященного (Палестина), и средневековых - на Руси (Зверинецкий и Киево-Печерский монастыри).
Рис.11. Келия-затвор с лежанками под тремя стенами. В тыльной стене над уступом «лежанки» - множественные ниши для размещения мощей (черепов) – т.н., «мироточивых голов». Пещерный монастырь в ур. Церковщина (Гнилец) возле Киева. Украина. Фотографии автора, 2006 г.
Но в одной из камер-«затворов» Гнильца расположена «костница» - «кимитирий мироточивых голов» (рис.11), свойственный ранневизантийским памятникам. Кроме того, один из храмов этого пещерного комплекса имел примыкающий к внутренней стене алтаря престол древнего типа (Верлюжский. 1880. С.25-26, прим.3). Аналогично устроен престол в маленьком храме пещер Зверинецкого монастыря (рис.12).
Рис.12. Вид на престол в храме пещерного Зверинецкого монастыря (Киев, Украина). Начертание «Креста-Голгофы» над престолом храма Зверинецкого подземного монастыря (врезка: слева, внизу). Фотографии автора, 2006 г.
Рождественско-Богородичный (Церковщина-Гнилец) и Зверинецкий пещерные монастыри, обычно относят к древнерусскому времени, связывая первый с «загородней пещерой» преп.Феодосия Печерского (Бобровський. 2007. С.54-58,151-153. Рис.33-35). Но подземные храмы этих пещер имеют древние типы престолов, возведенных до VII в., а микрорегион в котором расположен пещерный комплекс Гнильца (Церковщины): Ходосовка (Диброва) – Новые Безрадичи – Обухов, – насыщен раннеславянскими памятниками, начиная с киевской археологической культуры III-V вв. (Даниленко. 1976. С.65-62), и до памятников летописных славян включительно (Петрашенко. 1994. С.182–183. Рис.8–10; Славяне… 1993. С.40-52, 106-122).
Рис.13. Вид на древний престол в Китаевских пещерах. Киев, Украина. Фотография автора, 2008 г.
Рис.14. Древний престол в Китаевских пещерах. Киев, Украина Фотография автора, 2005 г.
Аналогичен археологический контекст размещения пещерного комплекса в ур. Китаево (Киев), с престолом древнего типа (рис.13, 14), расположенного впритык к поселению киевской культуры IV-V вв.
Пока остается непонятным «археологический контекст» округи древнего Зверинецкого пещерного монастыря, но весь Киевский участок течения Днепра представляет аномально богатую находками зону, насыщенную предметами выемчатых эмалей (IV-VI вв) и вещей ранневизантийского времени (VI-IX вв.) (Корзухина. 1978). Признак «древности престола», в силу практически полного отсутствия иных артефактов в самих пещерных комплексах является единственным датирующим объектом.
Сходно, как престол древнего типа, описан этот объект (примыкающий к стене помещения) в одном пещерном комплексе Чернигова (Ефимов. 1911. С.78). Этот пещерный монастырь был описан при случайных оползнях 1810 и 1820 гг., открывавших вход под землю, «смотрящий» прямо на Черниговский подол, постоянно заселяемый в IV-VII вв., и стационарно заселенный не позднее Х в. (Шевченко. 2002. Карта 20,21). Имеются редкие находки, связывающие пещеры Подонья, где также имеются престолы древнего типа, с древностями V-VII вв. (Степкин. 2001. С.71-75; он же. 2004. С.18-197; он же 2008. С.207-213).
Таким образом на Юге Восточной Европы имеется пятнадцать древнехристианских памятников (c престолами древнего типа), и расположенных в ареале раннеславянской этно-лингвистической среды (см.рис.1b), не считая многочисленных аналогичных объектов Крыма (не менее девяти), и таких же памятников в бассейне Дона (не менее пяти). Все описанные литургические устройства в данных пещерных храмах могли быть созданы только до 692 г., когда престол примыкал к стене апсиды, предназначенный для службы перед ним по Иерусалимскому чину (приписываемому ап. Иакову Старшему, брату Господню), или по чину Александрийской службы (приписываемой ап. Марку). Эти обе редакции литургии восходят к чину Богослужения, известному не позднее самого начала II в.н.э., изложенному в учении «Двенадцати Апостолов» [Дидахе 1996].
Рис.15. Литургическое устройство - престол (1) и жертвенник (2) в храмовой пещере Чилтер-Коба на горном мысу Ай-Тодор у с. Малое Садовое Бахчисарайского района, Крым (Украина). 1.- Углубление «стационарного потира» на престоле; 1’.- Желоб стока для пролива по престолу преосуществляемого в Кровь вина; 1’’.- Полка престола для преосуществляемого в Тело хлеба; 2.- углубление в виде чаши в нише жертвенника. Фотография В.Н. Даниленко (1993).
В 2009 г. были обнаружены (у источника Хор-Хор) и интерпретированы два престола пещерного комплекса Чилтер-Кобы в Крыму (Шевченко. 2010. С.94-117), датируемые не позднее первой четверти IV в.н.э., построенные, видимо, пленными христианами из Каппадокии, доставленными в Тавриду во время готских походов на Малую Азию 264 и 275 гг. (Щукин. 2005. Рис.52). Престолы этого типа (Чилтер-Коба) составляют единый с жертвенником архитектурно-канонический элемент храма (рис.15), являясь аналогией литургическому устройству II-III вв. в «Пещере Апокалипсиса» на о.Патмос, и III-IV вв. в «Пещере Иоанна Крестителя» под Иерусалимом (Gibson. 2005; Шевченко. 2008). Такие артефакты более древние, нежели заброшенные уже во времена первых крестоносцев Иерусалимские престолы (у Голгофы в храме Гроба; в «Темнице Христовой»; в пещерном храме Рождества Богородицы в доме правед. Иоакима и Анны) со одним сквозным отверстием и чашеобразным углублением «стационарного потира» в престольной плите (мензе), активно использовавшиеся во времена арианской ориентации императорской власти в Византии. Несколько более поздние древние престолы, примыкающие к внутренней стене храма, связанные со строительством Дороса в Крыму (см.рис.8), не имеют сквозного отверстия, но сохраняют на поверхности углубление «стационарного потира».
Престолов характерных для Иерусалима времен Констанция (при арианской ориентации правительства Византии), – со сквозным отверстием в мензе (Шевченко. 2010. Рис.1,2), – на Юге Восточной Европы не обнаружено. Это значит, что более поздние раннесредневековые храмы V-VII вв. с типологически иными престолами, имевшими только с чашеобразное углубление стационарного потира (без сквозного отверстия) не связаны здесь непосредственным преемством с предшествующими престолами, предназначенными для пролива вина по поверхности, и являются памятниками более поздней волны христиан-переселенцев, попавших на Юг Восточной Европы в юстиниановские времена (V-VI вв.), когда строился Дорос – столица Крымской Готии.
Рис.16. Домашний алтарь-жертвенник сер. I в.н.э. Портик перед фонтаном (с кубическим алтарем в апсиде) в саду с виноградником. Вилла Лорея Тибуртина, недалеко от "улицы Изобилия", Помпеи, Италия. Фотография Карины Мамалыго, 2009 г.
Рис.17. Крипта в катакомбах св. Каллиста с надписью папы Дамаса на мраморной плите. В древнем престоле (за приставным) видно отверстие (слева) и углубление (справа), как в древних престолах времен Констанция II в Иерусалиме [Шевченко 2010]. Римские катакомбы, Италия. Фотография М.В. Соболевой, 2007 г.
Рис.18. Древнее литургическое устройство с чашеобразным углублением на поверхности в Папской крипте в Римских катакомбах св. Каллиста (Италия). Фотография М.В. Соболевой, 2007 г.
Наиболее древние престолы храмов этого периода в регионе Горного Крыма, как литургическое устройство в храме «Донаторов» Эски-Кермена, вполне соответствуют несколько более ранним представлениям населения позднеэллинистического времени (I в.) на Аппенинах об алтаре-жертвеннике (рис.16), и схожи с престолами в Римских катакомбах именно этого периода (рис.17,18). Структура размещения литургических устройств, сближает пещерный храм в Малеевцах (см.рис.7) с храмом «Донаторов», а размещение престола в нише – с храмом «Трех всадников» Эски-Кермена» в Крыму.
Литература.
Георги Атанасов. 1993. За един старобългарски скален манастир от X-XI век в Централна Молдова // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Том втори. Велико Търново, 1993. С.61-73.
Л.А. Беляев. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / сер. «Византийская библиотека». 2-е стереотипное изд. СПб., 2000. 575 с.
С.А. Беляев, В.А. Бушенков. Исследования пещерного комплекса Чилтера в 1973 – 1981 гг. // Византийский временник, 1986. No 46. С.184-187.
Т.А. Бернштам. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб.: «Петербургское востоковедение», 2000. 396 с.
Т.А. Бобровский. К вопросу о типологии и датировке древнерусских подземных монастырей // РА, 1993, No 4. С.121-129.
Т. Бобровський. Пiдземнi споруди Киева вiд найдавнiших часiв до середини XIX ст. (спелео-археологiчний нарис). Київ: Науково-дослiдний iнститут пам’ятко-охоронних дослiдженнь; видавництво «АртЕк», 2007. 175 с., 58 рис.
В.Г. Василевский. Житие Иоанна Готского // Тр. В.Г. Василевского, СПб., 1912. Т. II, вып.2.
Е.В. Веймарн. «Пещерные города» Крыма в свете археологических исследований 1954-1955 гг. // СА. № 1. 1958. С.71-79.
Е.В. Веймарн. "Пещерные города" Крыма // Проблемы истории "пещерных городов" в Крыму. Симферополь, 1992. С. 163–169.
Е.В. Веймарн, Н.И. Репников. Сюйренское укрепление // ИГАИМК. Вып.117: Материалы Эски-Керменской экспедиции. М.;Л., 1935. С.115-124.
Е.В. Веймарн, М.Я. Чореф. Пещерный ансамбль Чильтер в Крыму // Пещеры Грузии. Тбилиси, 1978. С.114-144.
[И. Верюжский]. Исторические сказания о жизни святых подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда: Типограф. В.А. Гудкова-Белякова, 1880. 694+V стр.
А.Ю. Виноградов, Н.Е. Гайдуков, М.С. Желтов. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // РА, № 1. С.72-80.
И.С. Винокур. Новые языческие памятники на Среднем Днестре // Древние славяне и их соседи. М., 1970. C.38-40.
А.В. Гудкова. Оседлое население Северо-Западного Причерноморья в первой половине I тыс.н.э.// Автореф.дисс…. д-ра ист.наук. Киев, 1987. 51 с.
А.В. Гудкова. О классификации памятников III – IV вв. н.э. в Днепро – Дунайской степи // Археологические памятники степей Поднестровья и Подунавья. Киев, 1989.
В.Н. Даниленко. Монастырь Чильтер-Коба: архитектурный аспект // История и археология Юго-Западного Крыма. Симферополь, 1993. С.349-367.
[Дидахе, 1996]: Учение Двенадцати Апостолов. Введение В.С. Соловьева (к изд. 1886г.). Перевод с греческого, вводная статья и комментарии игумена Иннокентия (Павлова). New York: Gnosis Press, 1996
Димитрiй, Патрiарх. Печернi монастирi, скити та келii у свiтi й Украiнi // Основа. Киiв, 1995. No 28 (6). С.118-134.
Д.И. Димитров. Некрополът при гора Разделъна // Известия народного музея Варны. – Кн. ХIV. Варна (б/г изд.).
А.Н. Ефимов, свящ. Елецкие пещеры при монастыре того же имени // Тр. XIV АС в Чернигове 1908 г.. М., 1911, T.II. C.73-80.
Ю.А. Кулаковский. Прошлое Тавриды. Краткий исторический очерк. 2-е изд. Киев, 1914.
Ю.М. Могаричев. Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997. 383 с.
В.О. Петрашенко. До проблеми археологiчноi iнтерпретацii лiтописних полян // Старожитностi Украiни–Русi. К.– С.181–187.
Б.Т. Ридуш. Подземные ходы на территории Подолья, Галиции и Буковины // Спелестологические Ежегодник РОСИ 1999. М., 1999. С.149-163.
И.П. Русанова, Б.А. Тимощук. Языческие святилища древних славян. М., 1993.
В.В. Седов. Происхождение и ранняя история славян. М.: «Наука», 1979. 158 с., илл.
В.В. Седов. Славяне в раннем средневековье. М. 1995.
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. / Сер.: «Археология СССР» / Отв.ред.тома И.П.Русанова, Э.А.Сымонович. М., 1993.
В.В. Степкин. Пещера «Ухо» у села Селявного // Вести Воронежского отдела РГО. Т.2, вып.2. Воронеж, 2001.
В.В. Степкин. Культовые пещеры Среднего Дона и Оскола (цикл статей) // Культовые пещеры Среднего Дона / Сер.: «Спелестологические исследования» (Спелестологический Ежегодник РОСИ). Вып.4. М., 2004.
В.В. Степкин. Пещера у с. Селявное в Воронежской области (к вопросу о первоначальном этапе пещерного строительства в Донском регионе) // Христианство в регионах мира. Вып.2 / Отв.ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: МАЭ РАН, 2008, с.207-213
Д. Струков. О древне-христианских памятниках в Крыму. Опыт археологических изысканий. М., 1872. 14 с.
Д. Струков. Древние памятники христианства в Тавриде. М., 1876. 51 с., с илл.
Д.М. Струков. О доисторических памятниках Тавриды. М., 1879. 20 с.
Д.М. Струков. Жития святых Таврических (Крымских) чудотворцев. Изд.2-е. М., 1882. 72 с.
Л.Н. Суховей. Культовые пещеры Одесской области // СЕ РОСИ 1999. М., 1999. С.140-144.
Л.Н. Суховей. К истории исследования древних пещер Пензенской области // СЕ РОСИ 2000. М., 2001. С.268-271.
Р.В. Терпиловський. Праслов’янскi старожитностi Схiдної Европи // Старожитності України-Русі. Збірник наукових праць (до 70-річчя Михайла Юліановича Брайчевського). Київ, 1994, с.73-79.
Г.Б. Федоров. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетиии н.э. // МИА No 89. М., 1960. 379 с. +71 таб.
Г.Б. Федоров, Г.Ф. Чеботаренко. Памятники древних славян (VI-VIII вв.) // Археологическая карта Молдавской ССР / Отв.ред. Н.А.Кетрару. Кишинев, 1974. 134 с.
Ю.Ю. Шевченко. Пещерные христианские монастыри Подонья: начало традиции // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиция. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 1 – 4 декабря 2004 г. СПб., 2004. С.196-201.
Ю.Ю. Шевченко. Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве // Археология, этнография и антропологии Евразии. No 1 (25) 2006, с. 89 - 109.
Ю.Ю. Шевченко Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства юга Восточной Европы // Христианство в регионах мира. Вып. 2 / Отв.ред. Т.А. Бернштам, А.И. Терюков. СПб.: МАЭ РАН, 2008, с.151-207.
Ю.Ю. Шевченко О египетских элементах в христианском храмовом престоле // Проблемы истории Центральной и Восточной Европы / Под ред. С.И. Михальченко, В.Н. Гурьянова. Брянск: Изд-во Брянского ГУ, 2009 (194 с.). С.162-169 (иллюстрации: http://www.rusarch.ru/shevc...).
Ю.Ю. Шевченко О времени возможного возникновения пещерного храма на Ай-Тодоре (Чилтер-коба) в Крыму // Полевые исследования МАЭ РАН 2009 года. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С.94-117.
Протопресвитер Александр (Шмеман). Исторический путь Православия. Нью-Йорк, 1954.
М.Б. Щукин. Керамика киевского типа с поселения Лепесовка // СА, 1988, No 3.
М.Б. Щукин. О первом появлении готов в Дунайско-Причерноморском регионе и начале Черняховской культуры. Памяти Иохима Вернера // Европа – Азия: Проблемы этнокультурных контактов / Отв.ред. Г.С. Лебедев; под науч.ред. А.С. Мыльникова, М.Б. Щукина. СПб., 2002, с.194-214.
М.Б. Щукин. Готский путь (Готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. 576 с., библиогр., илл.
Eugen Bazgu. 1997. Manastrile rupestre din bazinul fluviulyi Nistru – artere de raspindire a crestinismului // Sud-Est. 1997.4.30 Revista apare din anul 1990 / Red.-sef: Valentina Tazlauanu.. Chisinau, 1997. P.10-19.
Shimon Gibson. 2005. The Cave of John the Baptist: The First Archaeological Evidence of the Historical Reality of the Gospel Story (Paperback). ISBN-10: 0385503482; ISBN-13: 978-0385503488. London, 2005. 416 p.
A. Kirkor. Zabitki Balwochwalcze w Galicyi // Klosy. Warszawa, 1879. S.107-134.
I. Wagilewicz. Berda w Uryczu // Lwow, 1843. No VI.
Владимир Синкевич,
27-01-2011 18:50
(ссылка)
Как читали псалтырь в 16 веке.3 мин. Можно послушать
Слайд фильм : покаянная стихира Ангелу 3 минуты,
с абсолютно мягким звуком. Вторая половина ХУ! Века.
Малая иконография безплотных сил небесных,= 44 иконы ангелов
Стихира царя Иоанна Грозного. ( …..1564-1572 г ….).
Слайд-фильм с мягким восприятием звука = речи, ( громкость восприятия естественной речи.).
[ читать дальше → ]
с абсолютно мягким звуком. Вторая половина ХУ! Века.
Малая иконография безплотных сил небесных,= 44 иконы ангелов
Стихира царя Иоанна Грозного. ( …..1564-1572 г ….).
Слайд-фильм с мягким восприятием звука = речи, ( громкость восприятия естественной речи.).
[ читать дальше → ]
Юрий Шевченко,
16-09-2010 12:42
(ссылка)
Зубаирова-Валеева А.С. Религиозное врачевание как феномен культу
Зубаирова-Валеева А.С.
Религиозное врачевание как феномен культуры: Монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. - 132 с.
В данном исследовании впервые осуществлена попытка раскрытия сущности феномена религиозного врачевания, предложено его определение, рассмотрены его мировоззренческие основания и принципы, универсальные черты и особенности в различных религиях.
Значительная часть исследования выполнена в рамках когнитивного подхода к изучению религии. В этой части работы автор опирается на методологические принципы, сформулированные в учениях И.М.Сеченова и И.П.Павлова о физиологии высшей нервной деятельности и положения этологической теории К.Лоренца, применяя их в религиоведческой практике; а также на методологические подходы, разработанные в рамках психологии религии, а именно: методы юнгианского психоанализа и трансперсональной психологии (К.Г.Юнг, М.Элиаде, С.Гроф, Е.А.Торчинов). Когнитивное религиоведение (Cognitive Science of Religion) опирается на методологические принципы и данные научных дисциплин, изучающих мозг и человеческое сознание: биологии, нейрофизиологии, психологии, психоанализа, лингвистики, эпистемологии, кибернетики, эволюционной теории и антропологии. Оно связывает вопросы происхождения религии, языка и сознания, занимается поисками биологических оснований религиозных ритуалов, изучает ментальные процессы, участвующие в формировании религиозных идей, а также влияние этих идей на сознание и поведение человека, для чего широко применяет различные теоретико-информационные модели.
Применение когнитивного подхода в изучении религиозного врачевания обусловлено, в первую очередь, спецификой самого объекта исследования: не смотря на то, что религиозное врачевание представляет собой чрезвычайно многогранный феномен, оно в значительной степени ориентировано на психофизическую составляющую человека, обычно остающуюся за рамками внимания гуманитарных дисциплин. Использование когнитивного подхода позволяет компенсировать подобную односторонность в рассмотрении этого феномена и сопоставить результаты, полученные при его анализе на основе применения различных методологических парадигм.
Книга будет интересна всем, кто интересуется религией, физиологией, психологией и когнитивными науками.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………..……………………………………….………..……….. 4
Глава 1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ВРАЧЕВАНИЯ................ 6
1.1. Мировоззренческие основания религиозного врачевания.......... 6
1.2. Религиозное врачевание и его место в структуре религии…...... 14
1.3. Место религиозного врачевания в структуре медицины ….…... 20
Глава 2. ПРИНЦИПЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВРАЧЕВАНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМАХ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ............................................................. 29
2.1. Религиозное врачевание в Древнем Египте................................... 30
2.2. Религиозное врачевание в Древней Месопотамии........................ 31
2.3. Религиозное врачевание в Древней Греции................................... 33
2.4. Религиозное врачевание в даосизме................................................ 39
2.5. Религиозное врачевание в буддизме............................................... 44
2.6. Религиозное врачевание в христианстве........................................ 49
2.7. Универсальные черты религиозного врачевания.......................... 52
Глава 3. РЕЛИГИОЗНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ................................. 55
3.1. Психологические и физиологические основания религиозного
врачевания.......................................................................................... 56
3.2. Нейрофизиологические механизмы религиозного врачевания.... 76
3.3. Эволюционно-психологические аспекты религиозного
врачевания......................................................................................... 93
3.4. Перспективы религиозного врачевания........................................ 113
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................... 119
ЛИТЕРАТУРА................................................................................................. 121
Религиозное врачевание как феномен культуры: Монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. - 132 с.
В данном исследовании впервые осуществлена попытка раскрытия сущности феномена религиозного врачевания, предложено его определение, рассмотрены его мировоззренческие основания и принципы, универсальные черты и особенности в различных религиях.
Значительная часть исследования выполнена в рамках когнитивного подхода к изучению религии. В этой части работы автор опирается на методологические принципы, сформулированные в учениях И.М.Сеченова и И.П.Павлова о физиологии высшей нервной деятельности и положения этологической теории К.Лоренца, применяя их в религиоведческой практике; а также на методологические подходы, разработанные в рамках психологии религии, а именно: методы юнгианского психоанализа и трансперсональной психологии (К.Г.Юнг, М.Элиаде, С.Гроф, Е.А.Торчинов). Когнитивное религиоведение (Cognitive Science of Religion) опирается на методологические принципы и данные научных дисциплин, изучающих мозг и человеческое сознание: биологии, нейрофизиологии, психологии, психоанализа, лингвистики, эпистемологии, кибернетики, эволюционной теории и антропологии. Оно связывает вопросы происхождения религии, языка и сознания, занимается поисками биологических оснований религиозных ритуалов, изучает ментальные процессы, участвующие в формировании религиозных идей, а также влияние этих идей на сознание и поведение человека, для чего широко применяет различные теоретико-информационные модели.
Применение когнитивного подхода в изучении религиозного врачевания обусловлено, в первую очередь, спецификой самого объекта исследования: не смотря на то, что религиозное врачевание представляет собой чрезвычайно многогранный феномен, оно в значительной степени ориентировано на психофизическую составляющую человека, обычно остающуюся за рамками внимания гуманитарных дисциплин. Использование когнитивного подхода позволяет компенсировать подобную односторонность в рассмотрении этого феномена и сопоставить результаты, полученные при его анализе на основе применения различных методологических парадигм.
Книга будет интересна всем, кто интересуется религией, физиологией, психологией и когнитивными науками.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………..……………………………………….………..……….. 4
Глава 1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ВРАЧЕВАНИЯ................ 6
1.1. Мировоззренческие основания религиозного врачевания.......... 6
1.2. Религиозное врачевание и его место в структуре религии…...... 14
1.3. Место религиозного врачевания в структуре медицины ….…... 20
Глава 2. ПРИНЦИПЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВРАЧЕВАНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМАХ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ............................................................. 29
2.1. Религиозное врачевание в Древнем Египте................................... 30
2.2. Религиозное врачевание в Древней Месопотамии........................ 31
2.3. Религиозное врачевание в Древней Греции................................... 33
2.4. Религиозное врачевание в даосизме................................................ 39
2.5. Религиозное врачевание в буддизме............................................... 44
2.6. Религиозное врачевание в христианстве........................................ 49
2.7. Универсальные черты религиозного врачевания.......................... 52
Глава 3. РЕЛИГИОЗНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ................................. 55
3.1. Психологические и физиологические основания религиозного
врачевания.......................................................................................... 56
3.2. Нейрофизиологические механизмы религиозного врачевания.... 76
3.3. Эволюционно-психологические аспекты религиозного
врачевания......................................................................................... 93
3.4. Перспективы религиозного врачевания........................................ 113
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................... 119
ЛИТЕРАТУРА................................................................................................. 121
2-ое Вдохновение Кораном
СУРА 68 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(1) Нун-буква. И записью и тем, что пишут клятва!
(2) Не ты охвачен бесом по милости Господней (необъятной)!
(3) И не иссякнет для тебя награда (и как она приятна)!
(4) Великим нравом обладаешь ты.
(5) Ты увидишь и они, (и станет понятно),
(6) В ком из вас безумие (было вероятно).
(7) Истинно Господь твой знает сбившихся, и знает идущих по Его пути.
(8) И тем, кто не поверил, не поддавайся ты.
(9) Они бы хотели, чтоб ты не противился, и они бы отнеслись халатно.
(10) И не поддавайся ничтожному, чьи клятвы пусты,
(11) Клеветнику, разносящему сплетни (для вражды),
(12) Препятствующему Добру, беззаконнику, тому, чьи поступки дурны,
(13) Тому, чьи действия грубы, а после этого низки,
(14) Хоть у него сторонники, а карманы деньгами полны.
(15) Когда ему читают знаки Наши, он говорит: «Благодаря сказаниям древних они сочинены»
(16)Мы поставим ему клеймо на рыло его (за слова, адекватно).
(17)Мы испытали их, подобно испытанию владельцев сада, когда те поклялись, что утром соберут плоды,
(18) Не захотев воздать хвалу, (что было б благодатно).
(19) Когда же спали - налетел на сад от Господа тайфун (внезапно).
(20) Наутро сад стал землею пустоты.
(21) И утром звали, (не зная постигшей беды):
(22) «Ступайте на участок, если хотите собрать плоды»
(23) Они отправились, шепча между собой (отвратно):
(24) «Пускай сегодня не входит к вам туда достигший бедноты».
(25) И стали сердиться они.
(26) Когда ж увидели свой сад, сказали: «Ведь, что мы сбились - (нам понятно).
(27) Напротив! Мы лишены плодов - (невероятно)!»
(28) Лучший средь них промолвил: "Что Бога восхвалить должны - не я ли говорил вам внятно?"
(29) Они сказали: "Господу хвала! Деяния наши злом омрачены".
(30) И стали упрек бросать друг другу (безрезультатно).
(31) Они сказали: "Горе нам! Произвол вершили мы.
(32) Возможно, Господь наш заменит сад лучшим, чем он. Ведь с просьбой к Господу мы возвращаемся обратно".
(33) Таково страдание. Страдание ж Последнего мира больше, если б знали они (знатно)!
Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.
Обсуждение здесь:
http://blogs.mail.ru/mail/timjum/369691C599B070A7.html
(1) Нун-буква. И записью и тем, что пишут клятва!
(2) Не ты охвачен бесом по милости Господней (необъятной)!
(3) И не иссякнет для тебя награда (и как она приятна)!
(4) Великим нравом обладаешь ты.
(5) Ты увидишь и они, (и станет понятно),
(6) В ком из вас безумие (было вероятно).
(7) Истинно Господь твой знает сбившихся, и знает идущих по Его пути.
(8) И тем, кто не поверил, не поддавайся ты.
(9) Они бы хотели, чтоб ты не противился, и они бы отнеслись халатно.
(10) И не поддавайся ничтожному, чьи клятвы пусты,
(11) Клеветнику, разносящему сплетни (для вражды),
(12) Препятствующему Добру, беззаконнику, тому, чьи поступки дурны,
(13) Тому, чьи действия грубы, а после этого низки,
(14) Хоть у него сторонники, а карманы деньгами полны.
(15) Когда ему читают знаки Наши, он говорит: «Благодаря сказаниям древних они сочинены»
(16)Мы поставим ему клеймо на рыло его (за слова, адекватно).
(17)Мы испытали их, подобно испытанию владельцев сада, когда те поклялись, что утром соберут плоды,
(18) Не захотев воздать хвалу, (что было б благодатно).
(19) Когда же спали - налетел на сад от Господа тайфун (внезапно).
(20) Наутро сад стал землею пустоты.
(21) И утром звали, (не зная постигшей беды):
(22) «Ступайте на участок, если хотите собрать плоды»
(23) Они отправились, шепча между собой (отвратно):
(24) «Пускай сегодня не входит к вам туда достигший бедноты».
(25) И стали сердиться они.
(26) Когда ж увидели свой сад, сказали: «Ведь, что мы сбились - (нам понятно).
(27) Напротив! Мы лишены плодов - (невероятно)!»
(28) Лучший средь них промолвил: "Что Бога восхвалить должны - не я ли говорил вам внятно?"
(29) Они сказали: "Господу хвала! Деяния наши злом омрачены".
(30) И стали упрек бросать друг другу (безрезультатно).
(31) Они сказали: "Горе нам! Произвол вершили мы.
(32) Возможно, Господь наш заменит сад лучшим, чем он. Ведь с просьбой к Господу мы возвращаемся обратно".
(33) Таково страдание. Страдание ж Последнего мира больше, если б знали они (знатно)!
Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.
Обсуждение здесь:
http://blogs.mail.ru/mail/timjum/369691C599B070A7.html
Владимир Синкевич,
15-12-2010 00:54
(ссылка)
Иконографии Молчания (64 ик. ), Рая и Мира (81 ик.),
Иконографии Молчания (64 ик. ), Рая и Мира (81 ик.), Пресвятая Богородица и солнце. ( 94 ик.),
[ читать дальше → ]
Юрий Шевченко,
12-02-2008 13:50
(ссылка)
Богородица и Горгона: Литература
Примечания и литература.
[1] ПереводсостарогреческогоА.Г.Дунаева // This document is from the Christian Classics Ethereal Library
at Calvin College, 2000.
АйналовД.В.1941. Искусство Киевского периода // История русской литературы. М.; Л., 1941. Т.I.
Алпатов М.В.1955. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII в. // Всеобщая история искусств. М., 1955. Т. III.
Ангелов Анастас.2004. Музеят на мозайките в Девеня // «LiterNet», 2004 (06.04.2004), No4 (53).
Антонович В.Б.О скальных пещерах на берегу Днестра в Подольской губернии // Тр. VI АС в Одессе. Одесса, 1883. Т.I. С.86-103.
Атанасов Георги.За един старобългарски скален манастир от X-XI век в Централна Молдова // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. Том втори. Велико Търново, 1993. С.61-73.
Банк А.В. 1969. Византийский складень с перегородчатыми эмалями из Сайданайского монастыря // Палестинский сборник. 1969. Вып.19. С.177-182.
Бантыш-Каменский Д.Н.История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. Киïв; «Час», 1993. 604 с.+27 илл.
Бенчев Иван.1996. Икона Богоматери Троеручицы в Хиландарском монастыре на Афоне // Византия и византийские традиции. Сб.научн.трудов посвященный XIX Международному конгрессу византинистов. СПб.: изд. Гос.Эрмитажа, 1996. С. 175-183.
Болгарская живопись(1976) IX-XIX веков. Каталог выставки. М., 1976.
Бусева-Давыдова И.Л. 2006. К иконографии Богородицы Владимирской в XVII в. // Х научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой: Сб.статей. Ярославль: Аверс Пресс, 2006.
Васильев Р. 1981. Рисунки-графити от двухетажната църква-гробница в средневековен Пёрник // Археология, 1981 (София, БАН), кн.1-2. С.96-109.
Византийские легенды1972 / Сер.: Литературные памятники / Изд.подготовила С.В.Полякова. Л., 1972.
Гнутова С.В., Зотова Е.Я.2000. Кресты, иконы, складни. Русское медное литье. М., 2000, 136 с.+илл.
Голосовкер Я.Э.2001. Мифы Древней Греции. Сказания о титанах.Изд.: Кристалл; Серия: Библиотека мировой литературы. М., 2001. 352 с.
Голубинский Е.1880. История Русской Церкви. М., 1880. Т.1 (Т.1-2, М. 1900-1904).
Даль Л.В.1874. Заметки о медных гривнах XII в. Древности // Труды Московского археологического общества / Под ред. В. Е. Румянцева. Т. IV. Вып. I. М., 1874.
Даль В.И. 1912. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III, IV, М., 1912.
Димитрий Ростовский.Руно орошенное. Чернигов, 1683 / Фонды Черниговского исторического музея им. В.В.Тарновского. № Ал-1939. 168 л.
Дестунис Г.С.1881. Разбор спорной греческой надписи, изображенной на осьми памятниках // ИРАО. Т. X. Вып. 1. СПб., 1881. Стб. 1-26.
Дестунис Г.С. 1889. Еще о «змеевиках»: Взгляд на Крузево объяснение греческой надписи, начинающейся со слова Ύστέρα // ЗРАО. СПб., 1889. Нов. сер. Т. IV, вып. 2.
Добротолюбие. М., 1889. Т.5.
Жаров Г.В., Жарова Т.Н.2002. Исследования на Черниговском предгородье в 2000г. // Восточноевропейский археологический журнал. Киев: Институт археологии Национальной Академии наук Украины. 5(18). Сентябрь-октябрь, 2002. С.127. - Сайт «Археология Чернигова» (http://archaeology.narod.ru).
Жизнь, деяния и предивное сказание освятом отце нашем Макарии Римском (1972), поселившимся у крайних пределов земли, никем не обитаемых, благослови, Господь // Византийские легенды / Сер.: Литературные памятники / Изд.подготовила С.В.Полякова. Л., 1972. 303 с.
Замалеев А.Ф., Зоц В.А.1987. Мыслители Киевской Руси. Изд. 2-е. Киев, 1987Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. Изд. 2-е. Киев, 1987.
Златарски В.1940. История на Българската държава през средните векове. София, 1940. Т.3.
Иларион(Алфеев), игумен. 2001. Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание. СПб., 2001. 674 с.
Костомаров Н.И.1994. Славянская мифология // Костомаров М.I. Слов’янська мiфологiя. Вибранiпрацiз фольклористики й лiтературознавства. Київ: «Либiдь», 1994. С.201-256.
Костомаров Н.И. 1994. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народной поэзией // Костомаров М.I. Слов’янська мiфологiя. Вибранiпрацiз фольклористики й лiтературознавства. Київ: «Либiдь», 1994. С.257-279.
Куза А.В. 1966. Золотая гривна Мономаха // Наука и религия. 1966. № 8.
Лазарев В.Н.1986. История византийской живописи. Таблицы. М.: «Искусство», 1986.14 с.+597 илл.
Лидов А.М.1989. Образ «Христа-архиерея» в иконографической программе Софии Охридской // Византия и Русь / Отв. ред. Г. Е. Вагнер. М., 1989. С. 65-90.
Лихачева В.Д.1986. Искусство Византии IV-XV вв. Л.: «Искусство», 1986.
Лихачева Л.Д., Плешанова З.И.1985. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л., 1985.
Лосев А.Ф.1992. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития // История античной эстетики. Т.VIII, кн. I, ч. III. М.: «Искусство», 1992.
Мазалова Н.Е.2001. «Состав человеческий»: Человек в традиционных соматических представлениях русских / Отв.ред.В.К. Чистов. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2001. 192 с. (Ethnographica Petropolitana, VIII)
Максимов С.В.1994. Нечистая, неведомая и крестная ла. СПб.: ТОО «ПОЛИСЕТ», 1994. 448 с.
Маргос А.,1981. Средновековни скални монастири по Провадийското дефиле. Известия на Народния музей във Варна. Варна (ИНМВ), 17 (32), Варна, 1981. С.109-123.
Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян (Киев, 1860) // Українцi: народнi вiрування, повiр’я, демонологiя. Київ: «Либiдь», 1991. С.52-169, 578-590.
Милорадович В.П.1991. Житье-бытье лубенского крестьянина // Українцi: народнi вiрування, повiр’я, демонологiя. Київ: «Либiдь», 1991. С.170-341,591-596.
Мильковик-Пепек П. 1975. Иконографскиот тип на Богородица Милостива (Елеоуса) на фреските во Водоча и неговите рани примери на средновековното сликарство на териториjата на Македониjа // Зборник на Штипскиот народен музеj. Штип, 1975. Кн.IV-V. С.119-121. Сл.2.
Нечаев С. 1826. Замечание о старинном медном образе // Труды и записки ОИДР. М., 1826. Ч. III, кн. 1.
Нешева В.1985. Славовото деспотство и Търнов // Културата на средновековния Търнов. Научна сессия, посветена на 800-годишнината от възстановяването на българската държава Велико Търново / Ред. Атанас Попов, Велизар Велков. София: БАН, 1985. С.175-182.
Николаева Т.В.1960. Произведения мелкой пластики XIII-XVIIвеков в собрании Загорского музея. Каталог. Загорск: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник, 1960. 338 с., илл.
Николаева Т.В., Чернецов А.В.1991. Древнерусские амулеты-змеевеки. М.: «Наука», 1991. 48 с., библ., илл.
Орлов А.С.1926. Амулеты-«змеевики» Исторического музея // Отчет государственного исторического музея за 1916-1926 гг. Приложение V. М., 1926. С. 1-58.
Паттерсон-Шевченко Нэнси. 1994. Иконы в литургии // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / Ред.-сосав. А.М. Лидов. Спб.: Дмитрий Буланин, 1994. С.36-64.
Переседов И.Г. 2004. Об амулетах-змеевиках и их связи с нательными крестами и иными предметами церковной культуры // Византия в контексте мировой истории. Материалы научной конференции, посвященной памяти А.В. Банк. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004, с. 108-121.
Прохоров Г.М.1974. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры с XIVпо XVIIв. // ТОДРЛ. Т.28. Л., 1974. С.317-324.
Покровский Н.В.2000. Очерки памятников христианского искусства. Изд. 2-е. СПб., 2000. 412 с. с илл.
Пуцко В.Г.1994. Бiлгородська гривна // Старожитностi Русi-Украни. Збiрник наукових праць. Киïв, 1994. С.193-198.
Пуцко В.Г.2006. Об иконографии ранних Новгородских амулетов-змеевиков // Новгород и Новгородская земля. История и археология. 2006, 15/01.
Пыпин А.1862. Для объяснения статьи о ложных книгах // ЛЗАК за 1861 г. Вып.1. СПб., 1862.
Пыпин А.Н.1862. Ложные и отреченные книги русской старины // Памятники старинной русской литературы / Изд. Г. Кушелев-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 3.
РiгельманОлександр Iванович. Лiтописна оповiдь про Малу Росiю та ïï народ i козакiв узагалi. Киïв: «Либiдь», 1994. 768 с.+илл.
Рындина А. В.1972. Суздальский змеевик // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 217-234.
Сабинин Михаил.2001. Полные жизнеописания Святых Грузинской Церкви / Ред. Бесики Сисаури / Copyright, 2001: http://sisauri.tripod.com/r...
Салмина М.А.1987. Мучение Феодора Тирона // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып.1: XI – первая половина XIVв. / Отв.ред. Д.С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. С.272-273.
Селиванов Ф.М.1995. Русские народные духовные стихи. М., 1995.
Серова М.Ю.2005. Культ Agathos Daimon в Александрии Египетской // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. Проф. Э.Д. Фролова. Вып.4. СПб., 2005. С.219-224.
Соболев В.Ю.1995. Привески с христианской символикой в погребальных памятниках Северо-Запада Новгородской земли // Церковная Археология. Материалы I Всероссийской конференции. Ч. 2. СПб.-Псков, 1995. С. 74-76.
Соколов М.И.1889. Апокрифический материал для объяснения амулетов, называемых змеевиками // ЖМНП. СПб., 1889. № 6. С.339-368.
Спаський I.Г. 1972. Дукати та дукачi Украïни. Киïв: Наукова думка, 1972. 182 с+илл.
Спасский И.Г. 1976. Три змеевика с Украины // Средневековая Русь. М., 1976.
Спицын А.А. 1915. Археологический альбом // ЗОРСА. Пг., 1915. Т. XI.
Срезневский И.И.,1882. Древние памятники русского письма и языка, Х—XIV вв. СПб., 1882. 2-е изд.
Райт, Дж.К.1988. Географические представления в эпоху крестовых походов. Исследование средневековой науки и традиции в Западной Европе / Отв.ред и авт.предисл.А.Я.Гуревич. М.: «Наука», 1988. 478 с.
Тахо-Тоди А.А.1991. Асклепий // Мифы народоа мира. Энциклопедия, т. I: А – К / Гл.ред. С.А. Токарев. М.: Советская Энциклопедия, 1991.672 с.
Творогов О.М.1987. Мучение Феодора Стратилата // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып.1: XI – первая половина XIVв. / Отв.ред. Д.С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. С.268-271.
Толстой И.И. 1888. О русских амулетах, называемых змеевиками // ЗРАО. СПб., 1888. Т. III.
Топоров В.Н. 1995. Святость и святые в русской духовной культуре.М.: «Гнозис», 1995.
[Уваров А.С. 1908] Каталог собрания древностей графа Алексеевича Уварова. Отд.VIII-XI. М.: Типограф.общ-ва распространения полезных книг, арендованная В.И. Вороновым; Моховая, против Манежа, дом кн. Гагарина, 1908.
[Шведов О., 2001] Книга «Преподобный Давид Гареджийский и Его Святая Лавра». Составлено по публикациям прежних лет Олегом Шведовым и приносится Храмом Во имя Преображения Господня (Москва-Тушино) в дар Святой Лавре Давида как знак благодарности / Ред. БесикиСисаури// «History of Monastery and life of Saint David of Garedja» in Russian language. Copyright, 2001
Шевченко Ю.Ю.2006. К вопросу о пряжках пилигримов раннего средневековья // Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии. Материалы XIII Санкт-Петербургских религиоведческих чтений / Науч.ред.-сост. Т.Н. Дмитриева, И.Х. Черняк. СПб.: Федеральное агентство по культуре и кинемотографии Российской Федерации, Государственный музей истории религии. 2006. С.69-71.
ШевченкоЮ.Ю., Богомазова Т.Г.2006. Шиферные иконки Руси – амулеты от гробов предков (мысли о возможной интерпретации) // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной. ТД. Санкт-Петербург, 10-15 апреля 2006 г. Совместно с семинаром Государственного Эрмитажа «Ювелирное искусство и материальная культура». СПб.: Изд. СПбИИ РАН «Нестор-История», 2006. С.157-161.
Шевченко Ю.Ю.2007. Пути распространения образа: Богородица Спилеотисса (Пещерная) и Медуза Горгона // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. СПб.: МАЭ РАН, 2007. C.158-167.
Щепкина М.В. 1963. Болгарская миниатюра XIV века. М., 1963.
Щепкина М.В. 1972. О происхождении Успенского сборника // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1972. С. 74—80.
Щепкина М.1977. Миниатюры Хлудовской псалтыри. М., 1977.
Barber Robin. 2002. City Guide: Athens, London: A&C Black, 2002, pp. 146-47.
Hetherington Paul,1995. Byzantine and Medieval Greece. London / John Murray, 1991.
Laurent V. 1936. Amulettes byzantines et formulaires magiques // Byzantinische Zeitschrin. Leipzig, 1936. Bd 36, Ht. 2.
Mee Christopher & Antony Spawforth. 2001. Greece: An Oxford Archaeological Guide. Oxford, OUP, 2001.
Molinier E.1896.Histoire generale des arts appliques a l'industrie. Paris, 1896. Vol. I.
Spier J.1993. Medieval Byzantine magical amulets and their tradition // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. LVI, 1993, p. 27-48.
Змеевик из Окни (фотография находки): http://nskslovar.narod.ru/raznoe/zmeevik.htm.
Проект «Подкрепись!» — удобная онлайн Библия
http://allbible.info — «Подкрепись!» (Библия онлайн) — сайт для ежедневного чтения и изучения Библии. Заходите и подкрепляйтесь! :)
Метки: библия, Библия онлайн, подкрепись, новый завет, Бог, Христос, переводы Библии, изучение Библии
3-е Вдохновение Кораном.
СУРА 68 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(34) Истинно, набожным у Господа блаженные сады.
(35) Поступим ли Мы с Подчиненными как с теми, что грешны?
(36) Что с вами и каково суждение?
(37) Или у вас писание, а в нём учение
(38) Что вам, поистине, любое предпочтение?
(39) Или у вас Наши клятвы вплоть до Дня Предстояния о том, что вам – плод вашего суждения?
(40) Спроси их, кем будут клятвы подтверждены?
(41) Или у них – святые? Пускай же приведут своих святых, если правдивы они.
(42) В тот день, когда откроются все тайны, и призовут земной поклон вершить, они не смогут сделать преклонение –
(43) Опущены их взоры и их постиг позор, а ведь могли они пасть ниц, (когда спустилось повеление).
(44) Оставь Меня с теми, кто ложью считает этот рассказ – когда они не будут знать, их жизнь постигнет завершение –
(45) Я дам отсрочку им, ведь замыслы Мои прочны.
(46) Или ты просишь награды и у них от платы отягощение?
(47) Или, быть может, пишут они тайное откровение?
(48) Ты дотерпи! Господь решит! Не будь подобен спутнику кита. Вот он воззвал, когда его постигло заточение.
(49) И если б не Господня милость, то был бы выброшен он на пустырь, его постигло б унижение.
(50) Избрал его Господь и сделал человеком правоты.
(51) А те, кто отвергает, своими взорами тебя готовы опрокинуть, и, слушая Упоминание, говорят: «Его коснулось бесов проникновение»
(52) Но это - не что иное, как Упоминание для народов, (ниспосланное с Божьей высоты).
Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.
Источник: http://blogs.mail.ru/mail/timjum/62F437EA42AA03A5.html
(34) Истинно, набожным у Господа блаженные сады.
(35) Поступим ли Мы с Подчиненными как с теми, что грешны?
(36) Что с вами и каково суждение?
(37) Или у вас писание, а в нём учение
(38) Что вам, поистине, любое предпочтение?
(39) Или у вас Наши клятвы вплоть до Дня Предстояния о том, что вам – плод вашего суждения?
(40) Спроси их, кем будут клятвы подтверждены?
(41) Или у них – святые? Пускай же приведут своих святых, если правдивы они.
(42) В тот день, когда откроются все тайны, и призовут земной поклон вершить, они не смогут сделать преклонение –
(43) Опущены их взоры и их постиг позор, а ведь могли они пасть ниц, (когда спустилось повеление).
(44) Оставь Меня с теми, кто ложью считает этот рассказ – когда они не будут знать, их жизнь постигнет завершение –
(45) Я дам отсрочку им, ведь замыслы Мои прочны.
(46) Или ты просишь награды и у них от платы отягощение?
(47) Или, быть может, пишут они тайное откровение?
(48) Ты дотерпи! Господь решит! Не будь подобен спутнику кита. Вот он воззвал, когда его постигло заточение.
(49) И если б не Господня милость, то был бы выброшен он на пустырь, его постигло б унижение.
(50) Избрал его Господь и сделал человеком правоты.
(51) А те, кто отвергает, своими взорами тебя готовы опрокинуть, и, слушая Упоминание, говорят: «Его коснулось бесов проникновение»
(52) Но это - не что иное, как Упоминание для народов, (ниспосланное с Божьей высоты).
Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.
Источник: http://blogs.mail.ru/mail/timjum/62F437EA42AA03A5.html
Юрий Шевченко,
11-03-2011 13:45
(ссылка)
Выписки: Антропол.выставка 1879 г.
Все приведенные книги имеют обозначение: Императорское Общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, Т.XXXI (6), или т.XXXV (1-3).
Антропологическая высавка 1879 года. Том III, Часть I. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880.
Богданов А.П. Реферат по черепам, присланным Д.Я. Самоквасовым и Т.В. Кибальчичем // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С. 263-278.
1. Краниологические таблицы краниологических («черепных») параметров из Переяславских курганов, присланных Д.Я. Самоквасовым (на с.266)
2. Из курганов у с. Липовое Роменского уезда Полтавской губ., присланных Д.Я. Самоквасовым и Т.В. Кибальчичем (табл. на с.267).
3. Из курганов Роменского уезда Полтавской губ, присланных Д.Я. Самоквасовым и Т.В. Кибальчичем. (табл. на с.268)
4. Из Медведевских курганов (Д.Я. Самоквасова) – табл.на стр. 269
5. Из курганов Роменского уезда, присланных В.Б. Антоновичем, Д.Я. Самоквасовым, Т.В. Кибальчичем, - табл. на стр.270
Богданов А.П. Древние киевляне по их черепам // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.305-314.
С.313. Черепа от Т.В. Кибальчича с Трехсвятительской ул. Киева. Погребение «сидя», с погребальным горшками-урнами, серьгой Киевского облика из золота, вторая – серебро.
Черепа из Десятинной церкви от В.Б. Антоновича.
С.314. «Кирилловские черепа» от В.Б. Антоновича из сложенных в яме более 2000 покойников (мужчины, женщины, дети); в инвентаре «варяжские» мечи, стеклянные браслеты, нательные кресты из металла (бронза, серебро), мрамора, янтаря, стекла…
Массово убитые в 1169 или 1204 г.
Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879.
[Самоквасов Д.Я.] Коллекция предметов каменного века из Дании и России и курганов Киевской, Черниговской, Полтавской, Курской и других губерний Европейской России, выставленных проф. Д.Я. Самоквасовым // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879. С.9-14.
№№ 30-34 Кремн.орудия с Десны Нов-Сев.уезда
СС.9-12 – колл.Самоквасова по Киевской и Чернигов. Губ.
№№ 45-49 – посуда и металл с Юхновского городища.
№№ 59-70 – Чернигов.
№ 59- рукоять меча из Гульбища.
№ 62 – Черная могила, семь наконечников копий и серпы
№ 69 Турьи рога из Черной могилы.
№ 71 – материалы (урны, бляшки) из Седневских курганов
№ 72 – из кург. Безымянный
№ 73 – Из Троицкой группы курганов Чернигова
№ 74 – Из Гущинских курганов.
№ 76 с. Левинка (у с. Хворостовичи) Нов.-Сев. Уезда: из двух курганов
Самоквасов Д.Я. Об археологических и антропологических материалах эпохи язычества в пределах царства Польского // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879. С. 175-179.
Самоквасов Д.Я. О средствах определения древности городищ // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879. С.180-182.
Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. А.П. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880.
Бернштам В.Л. Дневник раскопок в июне 1878 года на острове Хортица Екатеринославской губ. // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.23-31.
Похоже, ран.бронза и скифы…
Переписка В.Ф. Миллера с проф.университета в Галле, Конст. Шлотманом о находках на Кавказе в Стефан-Цминда (нашел Филимонов). Бляшки и чаша с надписью, арамейским письмом, разработанным на базе финикийского алфавита, типа надписей Понтийского царства в Персии VI-IV вв. до Р.Х.: «кабир» - «могущественный».
Саблин М.А. Пояснения к карте курганов Московской губ // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.185-188.
Перечень всех раскопанных (и найденных) курганах.
Богданов А.П. О могилах Скифо-сарматской эпохи в Полтавской губ. И краниологии скифов // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.263-278.
По мнению Т.В. Кибальчича в Липовом – славянские курганы (раскопано ок 1000)..
Богданов А.П. Древние киевляне по их черепам и могилам // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С. 305-319.
С.309 – табл.краниологии по черепам от Д.Я. Самоквасова
С. 310 – табл.краниологии по черепам от Т.В. Кибальчича и В.Б. Антоновича.
С.312 - табл.краниологии по черепам от Т.В. Кибальчича и В.Б. Антоновича.
Самоквасов Д.Я. Вещественные памятники древности в пределах Малороссии // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.338-361.
Со с.247 – пам.слав.эпохи
С.348 – Курганное кладбище у Форостовичей Нов.-Сев.уезда. Погребения на горизонте, без гробов. С сережками, ушными кольцами (височными), бронзовыми, стеклянными позолоченными, янтарными и глиняными бусами, ручными кольцами (перстни или браслеты?).
С.349 – В Седневе раскопано ок.150 курганов. Из них 14 с кострищами под насыпью (в Чернигове – 4; в Стародубском и Нов.-Сев. Уездах – 4).
С.350 - «Общие селитьбы или городища» (название раздела)
С.352 - «Кошарский череп доставленный Т.В. Кибальчичем из Очеретяной могилы – кургана у с. Кошары Конотоп.уезда Черниг.губ, в ½ версты от села по дороге в местечко Красный Колядин»
С.352. - Д.Я. Самоквасов раскопал на Троицкой горке 58 курганов. Ямы от 2/4 до трех аршин в глубину. Почти везде тлен от гробов из досток и заржавленные гвозди. Вещи в 16 курганах. У головы костяков – 16 ушных (височных) колец бронзовых, серебряных и одно – золотое. На некоторых кольцах – напускные привески – серебряные и стеклянные.. В 10-ти курганах: в 6-ти по три и в 4-х – по одному. В одной могиле – кусочек зеленого сукна; в другой – шитого золотом шелка.
Всего в Чернигове (включая Гущин) раскопано 120 курганов с покойниками.
С.353 – «Древнекладбищенские черепа от Самоквасова и Кибальчича». Черепа (6) доставлены Т.В. Кибальчичем с усадьбы Долгова над Стрижнем, где в обрушении видны были фундаменты киеворусского храма. Черепа – из склепов этого храма. Склепы располагались под алтарями (средним и левым). В центре главного (центр.) алтаря в полуистлевшем гробу остатки парчи и череп (буй-Тур Всеволода). К югу от храма – яма-кимитирий с беспорядочно сваленными человеческими останками. Под левым приделом в склепе без гроба ориентированный по В-З со смещением к С.
С.353 – «Т.В. Кибальчич доставил черепа из пещер при Свято-Троицком монастыре. По народному преданию человеческие кости, находящиеся в пещерах, принадлежали инокам, защищавшимся от Татар а 1240 г. Всего могло быть измерено 21 мужской череп и 7 женских». Измерения проведены А.А. Тихомировым».
С.355 – табл.краниологии А.А. Тихомирова.
Антропологическая высавка 1879 года. Том III, Часть I. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880.
Богданов А.П. Реферат по черепам, присланным Д.Я. Самоквасовым и Т.В. Кибальчичем // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С. 263-278.
1. Краниологические таблицы краниологических («черепных») параметров из Переяславских курганов, присланных Д.Я. Самоквасовым (на с.266)
2. Из курганов у с. Липовое Роменского уезда Полтавской губ., присланных Д.Я. Самоквасовым и Т.В. Кибальчичем (табл. на с.267).
3. Из курганов Роменского уезда Полтавской губ, присланных Д.Я. Самоквасовым и Т.В. Кибальчичем. (табл. на с.268)
4. Из Медведевских курганов (Д.Я. Самоквасова) – табл.на стр. 269
5. Из курганов Роменского уезда, присланных В.Б. Антоновичем, Д.Я. Самоквасовым, Т.В. Кибальчичем, - табл. на стр.270
Богданов А.П. Древние киевляне по их черепам // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.305-314.
С.313. Черепа от Т.В. Кибальчича с Трехсвятительской ул. Киева. Погребение «сидя», с погребальным горшками-урнами, серьгой Киевского облика из золота, вторая – серебро.
Черепа из Десятинной церкви от В.Б. Антоновича.
С.314. «Кирилловские черепа» от В.Б. Антоновича из сложенных в яме более 2000 покойников (мужчины, женщины, дети); в инвентаре «варяжские» мечи, стеклянные браслеты, нательные кресты из металла (бронза, серебро), мрамора, янтаря, стекла…
Массово убитые в 1169 или 1204 г.
Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879.
[Самоквасов Д.Я.] Коллекция предметов каменного века из Дании и России и курганов Киевской, Черниговской, Полтавской, Курской и других губерний Европейской России, выставленных проф. Д.Я. Самоквасовым // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879. С.9-14.
№№ 30-34 Кремн.орудия с Десны Нов-Сев.уезда
СС.9-12 – колл.Самоквасова по Киевской и Чернигов. Губ.
№№ 45-49 – посуда и металл с Юхновского городища.
№№ 59-70 – Чернигов.
№ 59- рукоять меча из Гульбища.
№ 62 – Черная могила, семь наконечников копий и серпы
№ 69 Турьи рога из Черной могилы.
№ 71 – материалы (урны, бляшки) из Седневских курганов
№ 72 – из кург. Безымянный
№ 73 – Из Троицкой группы курганов Чернигова
№ 74 – Из Гущинских курганов.
№ 76 с. Левинка (у с. Хворостовичи) Нов.-Сев. Уезда: из двух курганов
Самоквасов Д.Я. Об археологических и антропологических материалах эпохи язычества в пределах царства Польского // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879. С. 175-179.
Самоквасов Д.Я. О средствах определения древности городищ // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть II. Вып. II. Отдел доисторический, составленный Д.Н. Анучиным. М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1879. С.180-182.
Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. А.П. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880.
Бернштам В.Л. Дневник раскопок в июне 1878 года на острове Хортица Екатеринославской губ. // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.23-31.
Похоже, ран.бронза и скифы…
Переписка В.Ф. Миллера с проф.университета в Галле, Конст. Шлотманом о находках на Кавказе в Стефан-Цминда (нашел Филимонов). Бляшки и чаша с надписью, арамейским письмом, разработанным на базе финикийского алфавита, типа надписей Понтийского царства в Персии VI-IV вв. до Р.Х.: «кабир» - «могущественный».
Саблин М.А. Пояснения к карте курганов Московской губ // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.185-188.
Перечень всех раскопанных (и найденных) курганах.
Богданов А.П. О могилах Скифо-сарматской эпохи в Полтавской губ. И краниологии скифов // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.263-278.
По мнению Т.В. Кибальчича в Липовом – славянские курганы (раскопано ок 1000)..
Богданов А.П. Древние киевляне по их черепам и могилам // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С. 305-319.
С.309 – табл.краниологии по черепам от Д.Я. Самоквасова
С. 310 – табл.краниологии по черепам от Т.В. Кибальчича и В.Б. Антоновича.
С.312 - табл.краниологии по черепам от Т.В. Кибальчича и В.Б. Антоновича.
Самоквасов Д.Я. Вещественные памятники древности в пределах Малороссии // Антропологическая выставка 1879 года. Том III, Часть I. Вып. I-III. Под ред. АюП. Богданова / Императорское общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Том XXXI (6). М.: Типография М.П. Лаврова и К0, Леонтьевск.пер., дом № 14, 1880. С.338-361.
Со с.247 – пам.слав.эпохи
С.348 – Курганное кладбище у Форостовичей Нов.-Сев.уезда. Погребения на горизонте, без гробов. С сережками, ушными кольцами (височными), бронзовыми, стеклянными позолоченными, янтарными и глиняными бусами, ручными кольцами (перстни или браслеты?).
С.349 – В Седневе раскопано ок.150 курганов. Из них 14 с кострищами под насыпью (в Чернигове – 4; в Стародубском и Нов.-Сев. Уездах – 4).
С.350 - «Общие селитьбы или городища» (название раздела)
С.352 - «Кошарский череп доставленный Т.В. Кибальчичем из Очеретяной могилы – кургана у с. Кошары Конотоп.уезда Черниг.губ, в ½ версты от села по дороге в местечко Красный Колядин»
С.352. - Д.Я. Самоквасов раскопал на Троицкой горке 58 курганов. Ямы от 2/4 до трех аршин в глубину. Почти везде тлен от гробов из досток и заржавленные гвозди. Вещи в 16 курганах. У головы костяков – 16 ушных (височных) колец бронзовых, серебряных и одно – золотое. На некоторых кольцах – напускные привески – серебряные и стеклянные.. В 10-ти курганах: в 6-ти по три и в 4-х – по одному. В одной могиле – кусочек зеленого сукна; в другой – шитого золотом шелка.
Всего в Чернигове (включая Гущин) раскопано 120 курганов с покойниками.
С.353 – «Древнекладбищенские черепа от Самоквасова и Кибальчича». Черепа (6) доставлены Т.В. Кибальчичем с усадьбы Долгова над Стрижнем, где в обрушении видны были фундаменты киеворусского храма. Черепа – из склепов этого храма. Склепы располагались под алтарями (средним и левым). В центре главного (центр.) алтаря в полуистлевшем гробу остатки парчи и череп (буй-Тур Всеволода). К югу от храма – яма-кимитирий с беспорядочно сваленными человеческими останками. Под левым приделом в склепе без гроба ориентированный по В-З со смещением к С.
С.353 – «Т.В. Кибальчич доставил черепа из пещер при Свято-Троицком монастыре. По народному преданию человеческие кости, находящиеся в пещерах, принадлежали инокам, защищавшимся от Татар а 1240 г. Всего могло быть измерено 21 мужской череп и 7 женских». Измерения проведены А.А. Тихомировым».
С.355 – табл.краниологии А.А. Тихомирова.
15 июля - 1150 лет от начала христианизации Руси при кн.Оскольде
15 июля, в день Положения Ризы Божией Матери во Влахерне, по старой дореволюционной традиции, православные отмечают память первого Оскольдового Крещения Руси. В 2010 г. испоняется 1150 лет с момента похода князя Оскольда на Константинополь и принятия им после этого святой православной веры. Призываем православних 15 июля молитвенно почтить память первого киевского православного князя-мученика Оскольда-Николая.
Братство памяти князя-мученика Оскольда-Николая Киевского
http://my.mail.ru/community...
Братство памяти князя-мученика Оскольда-Николая Киевского
http://my.mail.ru/community...
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу


