Владимир Лазуткин,
03-05-2010 00:10
(ссылка)
помоему до сих пор современно
 Федор Алексеевич Кони
Федор Алексеевич Кони Не жди, чтобы цвела страна,
Где царство власти, не рассудка
И где зависит всё от сна
И от сварения желудка!
Где есть закон, чтоб понимать,
Как он изменчив и непрочен;
И где звезд_а_ми лечат знать
От заслужённых ей пощечин!
Где много есть свободных мест
Для угнетенья и позора;
Где вешают на вора крест,
А не на крест вздевают вора!
Где низость доставляет чин,
А чин дает на подлость право:
Кто низко ползал - исполин,
Кто честно жил - упал без славы!
Где надо знать маршировать,
Чтоб выслужиться перед троном;
Где можно родину продать
И ей же вновь служить шпионом!
Где с детства учат фрунтовой,
Из школ поделали казармы;
Где управляет всей страной
Фельдфебель с палкой да жандармы!
Где всё правительство живет
Растленьем нравственным народа;
На откуп пьянство отдает
Для умножения дохода!
Где за словечко - цензоров
Пугают пытками тиранства,
А грабить можно мужиков
И драть - по вольности дворянства!
Где недостатка нет в попах,
А веры не видать от века;
Где бог в одних лишь образах,
Не в убежденьи человека!
Где нет управы для людей;
Где мысль их гонят; изуверство
Где есть закон; для лошадей
Особое есть министерство!
Где все цари едят и пьют
Или в солдатики играют,
Из мертвых мощи создают,
Живых же в землю отправляют!
Где <в прихоть> барства и чинов
Даны на жертву поколенья,
Где для затмения умов
Есть министерство просвещенья.
<1855>
Где царство власти, не рассудка
И где зависит всё от сна
И от сварения желудка!
Где есть закон, чтоб понимать,
Как он изменчив и непрочен;
И где звезд_а_ми лечат знать
От заслужённых ей пощечин!
Где много есть свободных мест
Для угнетенья и позора;
Где вешают на вора крест,
А не на крест вздевают вора!
Где низость доставляет чин,
А чин дает на подлость право:
Кто низко ползал - исполин,
Кто честно жил - упал без славы!
Где надо знать маршировать,
Чтоб выслужиться перед троном;
Где можно родину продать
И ей же вновь служить шпионом!
Где с детства учат фрунтовой,
Из школ поделали казармы;
Где управляет всей страной
Фельдфебель с палкой да жандармы!
Где всё правительство живет
Растленьем нравственным народа;
На откуп пьянство отдает
Для умножения дохода!
Где за словечко - цензоров
Пугают пытками тиранства,
А грабить можно мужиков
И драть - по вольности дворянства!
Где недостатка нет в попах,
А веры не видать от века;
Где бог в одних лишь образах,
Не в убежденьи человека!
Где нет управы для людей;
Где мысль их гонят; изуверство
Где есть закон; для лошадей
Особое есть министерство!
Где все цари едят и пьют
Или в солдатики играют,
Из мертвых мощи создают,
Живых же в землю отправляют!
Где <в прихоть> барства и чинов
Даны на жертву поколенья,
Где для затмения умов
Есть министерство просвещенья.
<1855>
От постиндустриализма к неоиндустриализму
Выход из постиндустриализма к неоиндустриализму III-го тысячелетия на базе идей Щедровицкий Г.П. Ильенков Э.В. Кузнецов П.Г.
Признание предмета философии как метанауки, обладающей собственными социальными и идеологическими функциями, позволит поставить вопрос об исторической оценке философских мыслительных орудий - философских абстракций - как правильных или неправильных. Первые могут быть поняты как исторически детерминированные категории, выбранные теоретиками для решения исторических проблем. В категориях резюмируется весь опыт теоретического и практического освоения мира человеком.
Г.Делла Вольпе фиксировал историческую обусловленность философских категорий и их включенность в социальную практику следующим образом: [ Читать далее... → ]
Признание предмета философии как метанауки, обладающей собственными социальными и идеологическими функциями, позволит поставить вопрос об исторической оценке философских мыслительных орудий - философских абстракций - как правильных или неправильных. Первые могут быть поняты как исторически детерминированные категории, выбранные теоретиками для решения исторических проблем. В категориях резюмируется весь опыт теоретического и практического освоения мира человеком.
Г.Делла Вольпе фиксировал историческую обусловленность философских категорий и их включенность в социальную практику следующим образом: [ Читать далее... → ]
Метки: Неоиндустриализм
Владимир Лазуткин,
07-03-2010 18:06
(ссылка)
Стихи прислал Саша Суворов
Скандалят - с наслаждением,
Злословят - с упоением,
Дерутся - с облегчением:
Уф-ф! - наконец-то можно
Избавиться от лишнего,
Культурного и книжного,
Того, что в нас Всевышнего,
Но с чем прожить - так сложно...
Хвастливые да шумные,
Драчливые, безумные,
Да подло хитроумные...
Кто любит - но не лупит?
О господи! - не веруя,
Вздохну, не лицемеря, я:
Неужто век доверия
И век любви наступит?
25 августа 1993
Злословят - с упоением,
Дерутся - с облегчением:
Уф-ф! - наконец-то можно
Избавиться от лишнего,
Культурного и книжного,
Того, что в нас Всевышнего,
Но с чем прожить - так сложно...
Хвастливые да шумные,
Драчливые, безумные,
Да подло хитроумные...
Кто любит - но не лупит?
О господи! - не веруя,
Вздохну, не лицемеря, я:
Неужто век доверия
И век любви наступит?
25 августа 1993
Владимир Лазуткин,
09-03-2009 00:23
(ссылка)
По страницам "Ильенковских чтений" - 1998 - Побиск
Короткий, к сожалению, ролик с Побиском Георгиевичем Кузнецовым
Владимир Кудрявцев,
19-03-2009 02:49
(ссылка)
Лобастый Гений
Доктор философских наук Геннадий Васильевич Лобастов, профессор кафедры теории и истории психологии Института психологии им. Л.С.Выготского РГГУ отмечает сегодня свой День Рождения. Что не может оставить безучастным, ибо речь идет не только о моем коллеге, но и единомышленнике, сподвижнике, ближайшем друге, которым, к моему счастью, является этот блистательный мыслитель и замечательный человек. Кстати - до сих пор еше не наш сообщник, хотя возглавляет общественную организацию с таким же названием. Непрорядок-с, товарищи!


Дорогой Гена,
Прими самые теплые поздравления с Днем твоего Рождения! Сова Минервы - капризная птица - уживается далеко не с каждым двуногим без перьев. С тобой она не просто ужилась, без тебя она не может. Как и мы, твои друзья, что, кстати, делает нас конгениальными Мудрости.

Пусть же эта ночная покорительница вершин мысли и духовных далей всегда будет для тебя Птицей Счастья, неиссякающим источником вдохновения, полноты каждодневного бытия, приносящего радость, новые силы и уверенность в них. К этому непременно нужно добавить запас здоровья, чтобы смело ступить на тот большой и добрый Путь, который еще впреди и который ждет именно тебя, спобного его осилить.
Анатолий Овсейцев,
21-11-2010 11:29
(ссылка)
ДИАЛЕКТИКА И КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ
О рефлекторном и о функциональном мышлениях
Обычно рефлекторное дискретное мышление оперирует категориальными парами: хорошо–плохо, горячо–холодно, личное–общественное, капитализм–коммунизм, потребление–производство, сознание–бытие, добро–зло и т. п. в поисках относительно стационарного равновесия, равновесия, лежащего в «вилке» параметров индивидуальных представлений в диапазоне собственного [ Читать далее... → ]
Обычно рефлекторное дискретное мышление оперирует категориальными парами: хорошо–плохо, горячо–холодно, личное–общественное, капитализм–коммунизм, потребление–производство, сознание–бытие, добро–зло и т. п. в поисках относительно стационарного равновесия, равновесия, лежащего в «вилке» параметров индивидуальных представлений в диапазоне собственного [ Читать далее... → ]
настроение: Сосредоточенное
хочется: Взаимопонимания
Метки: Функциональное мышление
СОЦИАЛЬНАЯ НАУКОЕМКОСТЬ – ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ СОЦИУМА
СОЦИАЛЬНАЯ НАУКОЕМКОСТЬ – ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ СОЦИУМА В ИСТОРИКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Функция производства теоретического знания (наука) имеет свой исторически ограниченный этап развития человечества, за пределами которого теоретическое знание не принимает форму особой общественной системы, общественного института, профессиональной области деятельности. Однако наука нашего времени – это феномен со своими характеристиками, которые сложились исторически и выработали особую форму мышления и форму знания о вещах и о человеческом бытии.
В виде мнемо-схемы «историкологики» это можно представить следующим образом [ Читать далее... → ]
Функция производства теоретического знания (наука) имеет свой исторически ограниченный этап развития человечества, за пределами которого теоретическое знание не принимает форму особой общественной системы, общественного института, профессиональной области деятельности. Однако наука нашего времени – это феномен со своими характеристиками, которые сложились исторически и выработали особую форму мышления и форму знания о вещах и о человеческом бытии.
В виде мнемо-схемы «историкологики» это можно представить следующим образом [ Читать далее... → ]
настроение: Творческое
Метки: Антиномия Теория-Практика
Лобастов Г.В. История философии в МИЭТе (Зеленоград) приобретает
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ и СОЦИОЛОГИИ МИЭТа (Зеленоград)
Заведующий кафедрой Философии и социологии МИЭТ:
Доктор философских наук, профессор
Лобастов Геннадий Васильевич.
Тел.: 8 (499) 720-87-18, e-mail: mieephil@rambler.ru,
сайт кафедры: philosophy.develweb.ru
Кафедра была основана в 1969 году в составе физико-технического факультета МИЭТ. В настоящее время кафедра философии и социологии занимается общей и специальной подготовкой студентов, магистрантов и аспирантов института.
Учебный процесс, осуществляемый преподавателями кафедры, нацелен на формирование теоретического мышления и его философской рефлексии, мировоззренческих основ науки и техники, гуманитарного знания, на формирование личностных способностей и социальной ответственности.
Научное и педагогическое становление кафедры связано с именем ее основателя: доктора философских наук, профессора З.М.Оруджева - видного отечественного ученого, [ Читать далее... → ]
Заведующий кафедрой Философии и социологии МИЭТ:
Доктор философских наук, профессор
Лобастов Геннадий Васильевич.
Тел.: 8 (499) 720-87-18, e-mail: mieephil@rambler.ru,
сайт кафедры: philosophy.develweb.ru
Кафедра была основана в 1969 году в составе физико-технического факультета МИЭТ. В настоящее время кафедра философии и социологии занимается общей и специальной подготовкой студентов, магистрантов и аспирантов института.
Учебный процесс, осуществляемый преподавателями кафедры, нацелен на формирование теоретического мышления и его философской рефлексии, мировоззренческих основ науки и техники, гуманитарного знания, на формирование личностных способностей и социальной ответственности.
Научное и педагогическое становление кафедры связано с именем ее основателя: доктора философских наук, профессора З.М.Оруджева - видного отечественного ученого, [ Читать далее... → ]
настроение: Оптимистическое
Владимир Лазуткин,
21-12-2009 22:03
(ссылка)
Публикация в "МК" за 20 ноября 2009 года
НА РАВНЫХ
ПЕСНЯ ИЗ СКЛЕПА
Кто стал музой слепоглухого поэта
Он – самый известный в мире слепоглухой – академик, доктор психологических наук, лауреат многих наград. А еще – педагог, писатель и поэт.
Можно сказать, что он имеет прямое отношение к своему полному тезке – генералиссимусу Суворову. Ведь также каждый день переходит свои Альпы, и по мнению многих, куда более высокие, чем у полководца. А иначе – нельзя, иначе – могильная тишина и жизнь растения.
"МК" решил навестить Александра Васильевича Суворова и узнать, как и ради кого сейчас живет слепоглухой ученый, педагог и поэт?
Я снова чувствую себя студенткой. Сижу на спецкурсе профессора Суворова - единственного слепоглухого, который не только закончил МГУ и защитил диссертации – кандидатскую и докторскую, но еще ведет активную научную и творческую жизнь.
Александр Васильевич сидит перед группой вместе с переводчиком Олегом, которого просто держит за руку. Иногда тот пишет дактилирует в ладонь Александра Васильевича (то есть говорит специальным пальцевым - дактильным – алфавитом)вопросы аудитории. Но в основном парень "работает" камертоном - по малейшим, только одному ему заметным движениям, Суворов чувствует, насколько интересно слушателям то, о чем он говорит.
Первые несколько минут с трудом разбираю слова Александра Васильевича - как все глухие люди, он говорит немного механическим голосом, без интонирования. Речь правильная и чуть-чуть литературная, кажется, так говорили в светских салонах XIX века.
Оглядываюсь на группу: студенты сидят тихо - кто просто слушает, кто что-то записывает в тетрадку. Но вскоре привыкаю к особенностям речи и забываю обо всем на свете - настолько интересна лекция. Говоря о суицидальных комплексах инвалидов, Суворов приводит себя в пример:
- Я живу с суицидальный комплексом тридцать шестой год - это началось в марте 1974. В юности я ужасно тосковал по музыке, по живописи, архитектуре, простому человеческому разговору - тому, чего волею слепой, вернее, слепоглухой судьбы был лишен. Не мог смириться с тем, что оказался словно заживо погребенным в склепе. Безмерное одиночество окружало меня. Тяготила постоянная зависимостьот внешней помощи, вечный страх потерять мать, вообще человека, который за тобой ухаживает. У многих инвалидов-колясочников те же проблемы… А временами наваливается самоедство: может, сам виноват в своих проблемах.
- Что же помогло вам справится с этими тяжелыми мыслями? - сочувственно спрашивает темноволосая девушка с первой парты. Олег быстро водит перебирает пальцами под рукой Суворова.
- Мама. Она - главный человек в моей жизни, и я не мог наплевать ей в душу и уйти раньше ее. Жил только ради нее, - профессор на минутку замолчал, потом с грустью продолжил. - 4 февраля 1997 она ушла. Кажется, я свободен… Но есть еще любовь к себе, к своему творчеству. Понял, пока я жив, - будет жить и моя мама - во мне. Я нашел для себя отдушину, выход: в творчество, в любовь к маме, учителям, друзьям. Я решил, что не могу уйти, пока не написал главную книгу своей жизни… А в 2002 у меня появился Олег, мой названный сын. Ему я посвятил около 70 стихотворений. Теперь я буду жить, пока нужен ему, пока он не станет на ноги.
Мы все заинтересованно уставились на Олега. Худощавый паренек от такого пристального разглядывания немного смутился, но продолжал переводить вопросы студентов.
- Как помочь таким людям, как вы, лучше адаптироваться в нашем обществе? - интересуется девушка с пирсингом.
- Да перестаньте отделять нас! - неожиданно сердится Суворов. - Это искусственное деление людей на здоровых и инвалидов. Конечно, инвалидность надо учитывать, как данность, но главное-то, что мы все из себя представляем, как люди, как личности! Знаете, я как-то переделал крылатые строчки Некрасоватак: "Инвалидом можешь ты не быть, но человеком быть обязан".
Александр Васильевич продолжает лекцию дальше, рассказывая о творческой реабилитации инвалидов. И снова пример из собственной жизни:
- С детства любил фантазировать - только этим и спасался от безмерного одиночества, что стремилось поглотить меня. Даже статью на эту тему написал написал "Большая сказка"… Вообще, книги помогают общаться на равных с выдающимися людьми, такими, как Моцарт, Пушкин, Лермонтов - беседовать, а иногда и спорить с ними. А что такого? - видимо, через руку Олега профессор почувствовал какое-то сомнение, пробежавшее по аудитории. - Они люди, и мы люди.
Суворов помолчал, и вдруг кто-то из студентов попросил: «Сыграйте нам, пожалуйста». Олег дактильно сказалэто профессору. Александр Васильевич улыбнулся, аккуратно достал из футляра губную гармошку и заиграл грустную похоронную мелодию.
- Сегодня 35 лет, как умер мой учитель и друг Александр Иванович Мещяреков, благодаря ему и его коллегам из Академии педагогических наук СССР я и еще трое слепоглухих ребят смогли учиться в МГУ, а не прозябать "полурастениями-полуживотными", какими до этого становились почти все слепоглухие, - объяснил он.
Слушая Александра Васильевича, вспоминаю, что в детстве уже слепому мальчику пророчили славу второго Чайковского, - таким музыкальным ребенком он был. Уже купили баян, на котором Саша только начал учиться играть, как некая женщина - Вечная Тишина запечатала его уши серым воском.
- Я почти не помню никаких зрительных образов, слишком рано (на четвёртом году жизни) потерял зрение, - говорит Суворов. - Зато хорошо помню мелодии, которые слышал в детстве. Слуха я лишился уже в более сознательном возрасте, в девять лет. Чаще всего мимо нашего дома с оркестром несли людей на кладбище, вот я эти мелодии и играю.
***
Вскоре лекция заканчивается, и некоторые девушки подходят попрощаться с Суворовым. По очереди садятся на стул рядом с учителем, и говорят что-то в его большую теплую ладонь. Одна из девушек, Катя, рассказывает мне, что у них был курс дактилологии , поэтому они все могут общаться со слепоглухими. Профессор о чем-то подолгу говорит с каждой, на прощание шутит, просит, чтобы к следующей встрече студенты приготовили вопросы и для него.
- Интересно вам работать со студентами? - спрашиваю у Суворова.
- Очень. Меня интересуют молодые люди. Причем поштучно - их мысли, характеры, судьбы. Регулярно стал преподавать в вузе достаточно давно – с 1996 года, после того, как защитил докторскую диссертацию. До этого и наряду с этим всегда работал с подростками, которых очень люблю.
- В следующем месяце у ваших студентов будет зачет, вы строгий преподаватель? Двойки будете ставить?
- Двойку учитель ставит прежде всего себе. Так что их у меня не будет, - улыбается Суворов. - Я эгоист, мне себя жалко. Ведь пересдача - это трата моего времени, а я его лучше на творчество, на общение с интересными ребятами потрачу.
Олег выходит, чтобы принести Александру Васильевичу воды, и я сама медленно пишу на большой открытой ладони профессора вопрос. "Буквы, пожалуйста, пусть будут побольше", - просит он.
- Вы, академик, лауреат многих наград любите говорить, что главная ваша должность – Детская Вешалка", а в своих стихах называете себя игрушкой детской, обучающей". Часто ли сейчас общаетесь с ребятами? - вывожу на ладони тезки великого полководца огромные печатные буквы.
- К сожалению, из-за проблем со здоровье редко удается выезжать в лагеря, школы, детские дома. Хотя я обожаю общаться с детьми - их искренность, оригинальность мышления, доброта порой поражает. Только тут важно отличать детскость от инфантильности, которой страдают и многие взрослые.
- Свое детство вспоминаете?
- Школу слепых, куда я попал сначала, не люблю вспоминать - я там был изгоем. А по Загорскому детскому дому меня часто охватывает ностальгия. Знаете, кстати, что его новые корпуса были построены и благодаря мне. Я тогда поднял скандал в прессе, что этот уникальный детодомдавно стал тесен, а новые здания никак не строили, заложенный фундамент зарос сорняками - получился один из советских долгостроев. И меня услышали. Наверное, это была последняя крупная всесоюзнаякомсомольская стройка…
- Скучаете по тому времени?
- Кто же не вспоминает то время, когда был моложе и здоровее? - вопросом на вопрос отвечает Суворов, потом становится серьезнее. - Я в свое время принял всю эту коммунистическую идеологию за чистую монету, даже вступил в партию. Правда, думаю, идеи в ее основе лежали действительно высокие, правильные, просто потом это было выхолощено. Потому я сам продолжаю реализовывать эти идеи в своей жизни. Для меня коммунизм - это общество всеобщей талантливости. И я в своей жизни эту идею продолжаю воплощать.
Жизнь Александра Васильевича сложилась так, как она сложилась, только благодаря социальным экспериментам, через которые прошла наша страна. Да, они так или иначе повлияли на всех нас, но… Из-за коллективизации и раскулачивания от крепкой и дружной семьи Суворовых остались только несколько малышей. Троюродныебрат Вася и сестра Маша попали в разные детдома, и долго даже не подозревали о существовании друг друга. Выросли, случайно встретились, полюбили друг друга, женились. И только, когда в семье случилась трагедия: старший сын неожиданно ослеп, а затем и оглох, а младшие сын и дочь родились с психическими заболеваниями, родители выяснили, что они близкие родственники.
- Всем хорошим в жизни, всем, чего добился, я обязан маме, - говорит Александр Васильевич. - Когда я потерял зрение, она, простая женщина, всю жизнь проработавшая на железной дороге, с утроенной энергией принялась меня развивать. Благодаря ее заботам я попал в Загорский детдом, а после она даже поменяла большую квартиру на меньшую, и переехала с двумя младшими детьми поближе ко мне.
О маме профессор может рассказывать бесконечно, о том, как поддерживала она его все годы учебы, как уже из больницы следила за написанием кандидатской сына. Последние годы жизни, когда Мария Тихоновна уже тяжело болела, именно ее слепоглухой сын ухаживал за нею, как за малым ребенком: носил на руках, мыл, кормил.
- Когда действительно любишь, то все, что связано с любимым - свято, - говорит Суворов. - Тогда даже каждодневный уход за человеком приносит радость.
- А другие значимые женщины были в вашей жизни?
- Нет, - с горечью вздыхает Александр Васильевич. - Женщин-друзей - сколько угодно, а так, чтобы разделить судьбу - нет, никогда не было.
***
С бутылкой воды заходит в опустевшую аудиторию Олег, и я пишу на теплой ладони профессора:
- Как появился в вашей жизни Олег?
- Еще в 1992 году узнал от своего друга, замечательного педагога Юрия Устинова, что есть программы усыновления, и признался ему, что давно мечтаю о сыне. Но понимал, что для слепоглухого это нереально. Юрий Михайлович обещал что-нибудь придумать. Потом жизнь надолго нас развела, - слишком далеко мы живем друг от друга. Хорошо, что теперь появилась электронная почта. Когда в 2001 мы списались с ним по интернету, у Юрия Михайловича была группа учеников, которым он и предложил написать мне.
Так у нас завязалась переписка с Олегом, его письма были интереснее всего. Ему тогда было 13 лет. Юрий Михайлович рассказывал о нем, как о хлопотливом таком, заботливом подростке. О том, что он даже по ночам вскакивал, чтобы посмотреть, нет ли писем от меня. Однажды они с учителем были проездом в Москве. Я рвался на вокзал, чтобы встретиться, но из-за проблем со здоровьем не получалось. И вдруг они сами заходят ко мне. Меня поразила ласковость, какая-то повышенная деликатность Олега. Именно он предложил следующим летом поехать мне с ними в горную экологическую экспедицию по прокладыванию троп для спасателей и туристов в Туапсинском районе Краснодарского края.
- Представляете, слепоглухом у, да ещё полупарализованному, с опорными проблемами, ипо горам? – пожимает плечами Александр Васильевич, потом с гордостью продолжает. - Но мне очень хотелось, а Олег так провел меня по маршруту, что никаких травмм не было. Хотя было очень трудно. Но Олег ещё в переписке выкинул "лозунг": "А слабо провести по горам без травм!" И сам же реализовал – мы спустились с гор целыми и невредимыми.Раз только ногу немногоподвернул, но это и в Москве, на ровном месте, случается. Про тот наш поход даже фильм сняли "Ежик -Зоркое сердце". Ёжик - моё лесное имя, а "Зоркое сердце" добавил Устинов за лучшее, чем у других, понимание некоторых психологических проблем. А мы с Олегом подружились еще больше. Уже осенью того года я его впервые в письме назвал "Дорогой сынок, Олежка". Это мамин стереотип обращения. Свои письма ко мне она всегда начинала именно так: "Здравствуй, дорогой сынок Саша". Я тем более позволил себе применить к Олегу этот стереотип, что мама вообще практически всех моложе себя называла - сынок, доча. А сейчас уж иначе его и не воспринимаю.
Спрашиваю у Суворова разрешение на разговор с Олегом.
- Пусть, пусть Олег расскажет вам свою историю, - кивает Александр Васильевич и открывает толстую белую книжку, набранную шрифтом Брайля - петербургский литературно-художественный журнал с современной прозой.
- Олег, вы из детского дома? - не очень тактично поворачиваюсь к парню.
- Нет, у меня есть родители, они живут в Самаре, - спокойно объясняет Олег. - Мама одобряет мою дружбу с Александром Васильевичом. Я познакомил его со своими родными, мама даже приезжала сюда, в Москву.
- Как вы из Самары попали в школу под Туапсе?
- Еще дома, в 10 лет я поступил в школу-лицей социальных спасателей Юрия Михайловича Устинова. Мы помогали сверстникам из неблагополучных семей, беспризорникам. Когда Устинов уехал из Самары в Туапсе, я не захотел расставаться и увязался за ним. Мама одобрила мое решение и отпустила в другой город.
И вот однажды Юрий Михайлович говорит нам: "У меня есть друг, он слеп и глух, но у него нестандартная судьба, интересные мысли. Хотите ему написать?". Я долго колебался, потом все же решился написать. В его ответе я сразу почувствовал что-то родное, мы быстро подружились. Александр Васильевич тогда очень страдал от одиночества, ему не очень уютно жилось с сестрой, которая его не понимала, третировала.
- На каком языке вы общаетесь?
- Дактильной речи Александр Васильевич научил меня за 40 минут. Она состоит из букв, как и обычное письмо. А вот жестовый язык мы не освоили, хотя знаю, что за границей некоторые слепоглухие разговаривают и на этом языке.
Александр Васильевич, который оставил чтение и попросил Олега переводить наш разговор, поясняет:
- В любой стране, и в России тоже, свой жестовый - точнее, знаковый - язык. Просто я, позднооглохший, знаками не владею, используя в общении пальцевый - дактильный - алфавит.
- Разница в возрасте не мешает вашей дружбе?
- Что вы, с Александром Васильевичем всегда интересно! Мы много разговариваем на разные темы, обсуждаем прочитанные книги, посещаем его друзей, он меня культурно просвещает, например, проводит экскурсии по Москве.
- Как?!
- Мы приезжаем в какое-нибудь интересное место - например, в Новодевичий или Донской монастырь, и Александр Васильевич рассказывает то, что читал, что знает об этих местах.
Услышав об экскурсиях добавляет:
- Хорошо знаю эти места еще и потому, что на Новодевичьем кладбище похоронен мой духовный отец, философ Эвальд Васильевич Ильенков, а на Донском - мама и сестра. Я выкупил там рядом с ними ниши и для себя с младшим братом.
- Вы так серьезно разбираетесь в данной теме…
- Я учусь на 4 курсе психолого-педагогического университета, буду социальным педагогом.
- Кстати, Олег является моим официальным опекуном, - вступает в разговор Александр Васильевич. - К сожалению, здоровье держится на сопливом честном слове, - возможности выходить, ездить сейчас меньше, чем раньше.
- Вы даже к этой ситуации подходите с юмором.
- А как иначе? - удивляется Суворов. - Какие бы диагнозы нисвалились, надо реалистично смотреть на жизнь: чего бояться, ведь все там будем. Просто важно те дни, которые отмерены на этом свете, прожить достойно, как Личность, - может быть, это звучит несколько высокопарно, но именно это и помогает мне жить, несмотря ни на что. Точнее, это мой выбор смолоду: жить, ни в коем случае не прозябать.
Светлана ПЛЕШАКОВА.
Владимир Лазуткин,
20-03-2010 19:35
(ссылка)
Внимание! Просьба присылать заявки и тезисы.
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО «ДИАЛЕКТИКА И КУЛЬТУРА»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ
«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2010
«НЕТ НИЧЕГО ПРАКТИЧНЕЕ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ»
Приглашаем Вас к участию в ХII Международной научной конференции
ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2010,
которая состоится в г. Киеве
13-14 мая 2010 года
Эвальд Васильевич Ильенков — выдающийся советский философ-марксист, сумевший на высочайшем теоретическом выразить фундаментальные противоречия эпохи. Его работы прочно вошли в сокровищницу мировой философской мысли и знаменуют собой один из самых выдающихся этапов развития диалектической традиции.
Направления работы конференции:
- Философия и культура
- Диалектика идеального
- Об идолах и идеалах
- Диалектика и мировоззрение
- Учитесь мыслить смолоду
- Школа должна учить мыслить
- Проблема человеческих способностей
- Ленинская диалектика и метафизика позитивизма
- Восхождение от абстрактного к конкретному в научно-теоретическом мышлении
- О единстве исторического и логического
- О роли классического наследства в развитии категорий материалистической диалектики
- Гуманизм и наука
- Об эстетической природе фантазии
- К вопросу о противоречии в мышлении
- Адское пламя и огонь мысли: атеистический гуманизм сегодня
- Маркс и западный мир
- Гегель и отчуждение. Проблема отчуждения в философии Э.В. Ильенкова
- Биологическое и социальное в человеке
- Что же такое личность?
Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2010 года подать в оргкомитет следующие материалы:
- Заявку на участие
- Материалы доклада
Заявка на участие в конференции оформляется по следующему образцу:
- Фамилия, имя, отчество
- Место работы: организация, подразделение (ВУЗ, факультет, кафедра, отдел и т.п.)
- Должность, ученая степень, научное звание
- Контактный телефон, электронный и почтовый адрес
- Название доклада
- Потребность в поселении
- Потребность в техническом обеспечении
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения текстов, не оформленных надлежащим образом или не соответствующих тематике Ильенковских чтений. Также будут отклонены тезисы, написанные в соавторстве.
За содержание материалов ответственность несут авторы.
Требования к оформлению материалов доклада:
Тезисы доклада: печатаются на листах формата А4 с полями 2 см с каждой стороны. Шрифт Arial, кегль 14, интервал – 1.5. Материалы принимаются исключительно в электронном варианте в формате файлов MS WORD (высылаются на e-mail конференции вложенным файлом). Имя файла должно соответствовать фамилии автора. Объем тезисов должен составлять 2 полных страницы.
Расположение на странице: фамилия, инициалы автора, город должны быть напечатаны в правом верхнем углу курсивом без указания степени и звания; на следующей строке по центру печатается контактный e-mail автора; на следующей строке печатается название статьи посредине строки прописными буквами, полужирный шрифт; со следующей строки печатается текст тезисов.
Ссылки по тексту – в квадратных скобках, с указанием фамилии цитируемого автора, названия труда, года издания труда, номера страницы.
Пример:
Иваненко И.И. (г. Киев)
НЕТ НИЧЕГО ПРАКТИЧНЕЕ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ
Текст тезисов
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет способствует поселению участников в том случае, если потребность в поселении была отмечена в заявке (количество суток). Ориентировочная стоимость проживания – 100 грн в сутки. О программе проведения конференции оргкомитет проинформирует дополнительно.
Оргвзнос: размер оргвзноса для участия в конференции составляет 100 грн (без учета стоимости пересылки). Оргвзнос оплачивается после получения приглашения на реквизиты, указанные в нем.
Оргвзнос включает стоимость программных материалов, сборника тезисов конференции и не включает затраты на культурную программу для участников конференции, а также не включает стоимость почтовой пересылки материалов.
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
Место проведения конференции: Украина, г. Киев, НТУУ «КПИ», пр. Победы, 37.
Контактная информация:
- Г. Киев, пр. Победы 37, корпус 7, КАБ. 015
- E-mail: CONF.UA@GMAIL.COM
- Веб: www.ilyenkov.org
- Контактный телефон: 8 063 410 11 70
- Контактное лицо: Деревянко Анна Владимировна
С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ.
«Возможна ли нравственность, независимая от религии?»
Конкурс философских сочинений (трактатов)
В конце XIX века профессор Берлинского университета Г. Гижицкий от имени журнала «За этическую культуру» обратился к Льву Николаевичу Толстому с просьбой ответить на вопросы «Что такое религия?» и «Возможна ли нравственность, независимая от религии?». Эти вопросы Толстой нашел очень точными и важными и откликнулся на них трактатом «Религия и нравственность» (1893 г.). Они сохраняют[ Читать далее... → ]
В конце XIX века профессор Берлинского университета Г. Гижицкий от имени журнала «За этическую культуру» обратился к Льву Николаевичу Толстому с просьбой ответить на вопросы «Что такое религия?» и «Возможна ли нравственность, независимая от религии?». Эти вопросы Толстой нашел очень точными и важными и откликнулся на них трактатом «Религия и нравственность» (1893 г.). Они сохраняют[ Читать далее... → ]
настроение: Сосредоточенное
Анатолий Овсейцев,
06-03-2011 20:36
(ссылка)
Международной конференции памяти Э.В. Ильенкова - 2011
Регламент конференции.
Доклады – 20 мин.
Выступления – 10 мин.
10 МАРТА.
10-00. Открытие конференции.
Вступительное слово проректора по науке СГА,
доктора военных наук, профессора Письменского Г.И.
10-15. Доклады.
1. Межуев В. Э. Ильенков и М. Мамардашвили о сознании.
2. Мареев С. О конкретном и абстрактном понимании деятельности.
3. Лобастов Г. Мышление и деятельность.
4. Левант А. Эвальд Ильенков и Вальтер Беньямин о значении материального объекта (Канада)
5. Сорокин А. Идеальное и предметный мир человека.
6. Рыбин В. Победить позитивизм…
7. Титов В.Ф. Г. Плеханов – мыслитель и просветитель.
13.00-14.00. Перерыв на обед.[ Читать далее... → ]
Доклады – 20 мин.
Выступления – 10 мин.
10 МАРТА.
10-00. Открытие конференции.
Вступительное слово проректора по науке СГА,
доктора военных наук, профессора Письменского Г.И.
10-15. Доклады.
1. Межуев В. Э. Ильенков и М. Мамардашвили о сознании.
2. Мареев С. О конкретном и абстрактном понимании деятельности.
3. Лобастов Г. Мышление и деятельность.
4. Левант А. Эвальд Ильенков и Вальтер Беньямин о значении материального объекта (Канада)
5. Сорокин А. Идеальное и предметный мир человека.
6. Рыбин В. Победить позитивизм…
7. Титов В.Ф. Г. Плеханов – мыслитель и просветитель.
13.00-14.00. Перерыв на обед.[ Читать далее... → ]
настроение: Сосредоточенное
Ильенковские чтения в Зеленограде через 10 лет.
«Ильенковские чтения-1999» (Зеленоград – МИДА) – 75 лет Ильенкову Э.В.
Предполагается рассмотреть весь круг вопросов, связанных с творчеством Э.В. Ильенкова:
- диалектика и логика;
- категории мышления;
- проблема идеального;
- история философии;
- философские проблемы истории;
- проблемы этики и эстетики;
- теоретические проблемы психологии и педагогики;
- методология социально-экономического знания
Ильенковские Чтения. Международная научная конференция 18-20 февраля 1999
Москва–Зеленоград: МИДА, 1999 258 kb
www.caute.net.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ильенковские чтения–2009» (Зеленоград – МИЭТ) – 85 лет Ильенкову Э.В.
13-15 мая 2009 года
Центральная задача конференции состоит в том, чтобы обсудить основные направления развития теоретических идей Э.В.Ильенкова. В качестве таких направлений Программный комитет конференции предлагает следующие:
1. Ильенков и мировая гуманистическая философия
2. Человек в мире технической цивилизации
3. Мировая культура и личность
4. Диалектика: вчера, сегодня, завтра
5. Ильенков и культурно-деятельностная психология
6. Ильенков и современные проблемы общественной жизни
Предполагается рассмотреть весь круг вопросов, связанных с творчеством Э.В. Ильенкова:
- диалектика и логика;
- категории мышления;
- проблема идеального;
- история философии;
- философские проблемы истории;
- проблемы этики и эстетики;
- теоретические проблемы психологии и педагогики;
- методология социально-экономического знания
Ильенковские Чтения. Международная научная конференция 18-20 февраля 1999
Москва–Зеленоград: МИДА, 1999 258 kb
www.caute.net.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ильенковские чтения–2009» (Зеленоград – МИЭТ) – 85 лет Ильенкову Э.В.
13-15 мая 2009 года
Центральная задача конференции состоит в том, чтобы обсудить основные направления развития теоретических идей Э.В.Ильенкова. В качестве таких направлений Программный комитет конференции предлагает следующие:
1. Ильенков и мировая гуманистическая философия
2. Человек в мире технической цивилизации
3. Мировая культура и личность
4. Диалектика: вчера, сегодня, завтра
5. Ильенков и культурно-деятельностная психология
6. Ильенков и современные проблемы общественной жизни
Анатолий Овсейцев,
13-11-2014 18:00
(ссылка)
О неразвитости современного Коллективного Разума
(На пути к становлению справедливого Коллективного Разума Социума)
Структура социума современного человечества демонстрирует пример связи Коллективный Разум - научно-технический прогресс, в котором производство материальных благ может превышать необходимый уровень жизнеобеспечения социума Земли. Однако уровень Мировоззрения остаётся первобытным: греби под себя, плюй на других.
Мировоззренческий первобытность (атавизм) проецируется на все структуры современного социума, разделяя его на враждующие формирования.
Базисное противоречие связано с тем, что в основе миропонимания лежит не Созидание, а Потребление. В угоду Потребления насилуется Мать-Земля. [ Читать далее... → ] Из её недр извлекаются источники энергии и полезные ископаемые. На их базе создаются технологии, отходы которых и продукты разложения конечных изделий влекут нас к экологическим катастрофам.
Сон Разума социума общества Потребления рождает чудовищные противоречия: между трудом и капиталом, между бедными и богатыми, между этническими, государственными, политическими и религиозными группировками.
Такая ситуация выгодна только паразитам, присваивающим результаты чужого труда. Такая ситуация возможна, если паразиты вошли во власть. Такая власть будет жонглировать реформами, разжигать противоречия, инициировать стихийное сопротивление и бороться с терроризмом. Это мы сегодня как раз и проходим.
Социум ХХ века, национализировав частную собственность, создав Содружество Социалистических Государств, развив научно-технический прогресс, победив капитализм в открытых сражениях, был, в конечном счете, предан своей же партийно- государственной номенклатурой .
Глубинными причинами предательства явились:
- отрицание духовной компоненты Единого Космоса;
- обман по поводу того, что на месте капитализма строится социализм.
Национализировав частную собственность своих стран в государственную собственность, партийно-государственная номенклатура социалистических функционеров взяла распределение прибавочной стоимости в свои руки.
Возникла ситуация, при которой множество капиталистов в стране заменил один. Этим одним стало Государство. По существу многополярный капитализм трансформировался в монополярный.
В условиях монополярного, государственного капитализма, скрывающего свою хищную сущность под словесной чадрой социализма, на первое место выдвигалась система распределения прибавочной стоимости.
Эта система порождала тоталитаризм, грызню последователей, исключительность партийно-государственной номенклатуры, беспаспортное бесправие колхозного крестьянства, убогость властного уровня диктатуры пролетариата, от имени которого совершалось всё.
Грызня в верхних эшелонах власти привела к развалу КПСС и коммунистических партий социалистических государств . За партиями стали разваливаться государства. Кровь вновь окропила народы. Торжествовала Бездуховность. Воцарилась "демократия".
Как бы мы не ругали социализм, но по сравнению с сегодняшней демократией он имеет неоспоримые преимущества: конституционно гарантированные и реально обеспеченные права на труд и отдых, и их своевременную оплату; предоставление бесплатного медицинского обслуживания, образования (включая высшее), жилья и так далее. Произвол с увольнениями блокировался коллективами.
Капиталистические идеи на базе частной собственности теряли свою привлекательность. Это не устраивало ни мировую закулису, ни партийно-государственную коммунистическую номенклатуру. Они понимали: дальнейшая эволюция в этом направлении сметет их с лица Земли, как Земля периодически стряхивает мелкие жизни (Книга Дзиан. Теогенезис).
Горбачёвская перестройка связана, прежде всего, с организацией дефицита, разжиганием межнациональных конфликтов, болтовней о демократии.
Под трескотню о свободе разрушались партийные и государственные структуры; готовилась криминальная контрреволюция против народов стран Социалистического Содружества.
Произошло то, что произошло. Произошло потому, что партийно-государственной "коммунистической " номенклатуре переход от социализма (государственного капитализма) к капитализму был выгоден: каждый номенклатурщик из "слуг народа" становился господином.
Однако, "господа приходят и уходят, а народы остаются". Поэтому народам нельзя забывать ни о Беловежской Пуще, ни о предшествующей ей истории создания Коллективного Разума, носителем которого номенклатура провозглашала советский народ как якобы новую общность людей. Народ поверил. Расслабился. Получил. Однако надо учиться дальше, ибо путь к Коллективному Разуму ещё не пройден.
Стремление к достижению справедливого Коллективного Разума социума пронизывает всю историю человечества. Актуальность этого стремления неугасима.
Пути к формированию божественно - справедливого Коллективного Разума социума на Земле, описывают древнейшие Книги - источник современной литературы религиозных конфессий и язычества.
Поскольку вопрос о связи религиозной и мифологической древнейшей литературы освещен в работе Единый Космос Крикорова В.С. (нашего Зеленоградца), то остановимся на событиях ХХ века.
Эпохальными моментами начала ХХ века были:
- свержение в феврале 1917 года Монархии буржуазией Российской Империи, и запрет временным правительством иммиграции царской семьи;
- создание противоестественной коалиции Ленин - Троцкий , объединившей необъединимое: борьбу пролетариата за свои права и стремление сионизма к мировому господству.
Примечательно то, что и Ленин и Троцкий внедрялись в русскую февральскую буржуазную революцию 1917 года из - за рубежа.
Ленин с группой товарищей прибыл в Россию в опломбированном вагоне из Германии; Троцкий - с двумя сотнями боевиков на двух пароходах из Америки. Мировую закулису, обеспечившую этот приезд, не смущало, что Германия и Америка находились в состоянии войны между собой. Не смущало потому, что ставкой было обеспечение победы сионизма силами пролетариата сначала России, а потом и всего мира.
Оседлав интернациональную борьбу пролетариата, сионизм рассчитывал въехать в мировое господство, как всегда, на чужом горбу.
Для победы на фронтах всегда нужны крепкие тылы.
Формирование таких тылов проводилось за счет еврейского этноса, в котором сионизм находил благоприятную почву.
Координация действий фронта и тыла требовала единоначалия: экономического и политического, то есть государственного. Поэтому закулиса допустила перерастание буржуазной революции в социалистическую и обеспечила ею победу.
В результате частнособственнический капитализм трансформировался в государственный капитализм.
Дело было сделано. Государственно - партийные структуры стали заполнять носители сионизма, то есть еврейский этнос.
Сегодня точно подсчитано и публикуется в открытой печати сколько евреев было во властных, фискальных, карательных структурах советской власти первых лет. Достаточно сказать, что в первом правительстве Ленина из 22 наркомов только Сталин и Протвян были не евреями. Результаты сказались сразу. Ленин со своим марксизмом и пролетарской революцией оказался не вождём, а попутчиком сионисткой компоненты октябрьской революции. Попутчиком, тем не менее, опасным. Поэтому на него было совершено покушение, в результате которого он был выведен из строя.
Человек предполагает - Бог располагает; и сионизм в лице Сталина получил более умного, решительного и коварного врага, уничтожившего и Троцкого, и соратников Ленина.
Пролетарско- коммунистическая компонента в государственно - капиталистическом социализме стала преобладающей. Это тревожило закулису, как тревожил её и германский нацизм, сменивший в сионизме еврея на арийца.
Произошло то, что произошло: прогремела вторая мировая война, Ассамблея ООН приняла Резолюцию, осуждающую расизм, нацизм и сионизм. Результат мы знаем: Израиль воюет с Палестиной, а состав министров в России подобен Ленинскому Совнаркому.
Вместе с тем, деление Российской Империи по национальному признаку и создание Советского Союза (мина замедленного действия) сделали свое дело. Мина взорвалась в Беловежской Пуще в нужный для закулисы момент. Советский Союз рассыпался. Роль мирового жандарма взяла на себя Америка . Но вопреки этому марш-бросок к Коллективному Разуму продолжается .
Связь - Личность в Социуме.
Признаками справедливого Коллективного Разума являются: высочайший уровень духовного развития, научно- технического прогресса Социума и Гармония отношений между Личностью и Социумом.
При всей своей индивидуальности любая Личность связана с Социумом, в котором она живет.
Вместе с тем, не всему социуму сразу пришла мысль применить дубину на охоте. Так сделал индивидуум, а социум перенял. В этом проявилась связь Социума и Личности в социуме .
Усложнение поставленных Жизнью задач требует отношения между Личностью и Социумом подобного отношению между почвой и семенем: соки социума должны питать творчество Личности.
Это значит, что базис социума должен насыщаться теми Знаниями, которые необходимы для формирования полноценной Личности. Например, в области Просвещения, Образования, Искусства, Науки или их комбинаций (рис.1).
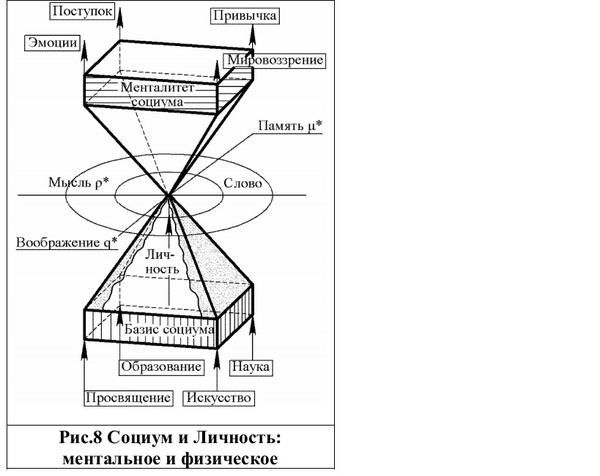
В этом случае просвещенная Личность, впитывая Знания Социума, перерабатывает их Мыслью, Памятью, Воображением и возвращает их Социуму словом, музыкой, живописью, изделием и так далее, то есть результатом своего творчества.
Результаты творчества Личности воздействуют как на саму Личность, так и на Социум. "Привыкание" идет по схеме: сначала эмоции, затем поступок, переходящий в привычку, и, наконец, привычка, формирующая мировоззрение (рис.1).
Эволюция мировоззрения приведет к переходу просто от Мыслителя к Человеку Разума и Воли.
Нет выше Религии, чем Истина!
Земля, наша Мать, как яйцеклетка Космоса, извечно рождала живое, вершиной которого был Носитель Разума.
Как любой сгусток энергии, Земля пульсировала, периодически выходя из резонанса сред Земли, и вновь входила в антирезонанс: становилась то планетой, то звездой.
В звездный период живое гибло; в планетарный - сверкало бесконечностью Форм Жизни.
Продолжительность между соседними геокатаклизмами, названную Кальпа, живое расходовало на Эволюцию.
Вершиной Эволюции был Носитель Разума.
Квинтэссенцией Разума было и остается Воображение: Тонкая Энергия вне- Формы - достояние Единого Космоса. Инструмент Космического Созидания.
Цивилизации Носителей Разума, рождённые Землёй, в течение Кальпы достигали разного уровня Знаний и научно- технического прогресса.
Мелкие Жизни Земля стряхивала со Своего Лица, хотя порой они были Атлантами.
Другие (великие) готовились к геокатаклизмам , и расселялись в Космических пространствах.
Предки Великих оставили им свои Знания. Великие оставили нам Свои Знания и Знания отцов Своих. Знания о Космогенезисе, Антропогенезисе, Теогенезисе. Их детальная расшифровка проведена в работах Крикорова В.С.
http://vkrikorov.narod.ru/w...
Том 1.Единый Космос - Введение в теорию.
Том 2. Единый Космос - Введение в Высокую Науку Великой Цивилизации. Космогенезис. Антропогенезис. Теогенезис. Книга Перемен. Книга Мертвых.
Заявки на открытие.
Том 3. Единый Космос - Основы Науки Великой Цивилизации.
Крикоров Вадим Сергеевич (23.02.1933 - 04.01.2008), доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных Премий СССР, выпускник инженерного физико-химического факультета Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, специалист в области атомной энергетики, микроэлектроники, пьезотехники.
Структура социума современного человечества демонстрирует пример связи Коллективный Разум - научно-технический прогресс, в котором производство материальных благ может превышать необходимый уровень жизнеобеспечения социума Земли. Однако уровень Мировоззрения остаётся первобытным: греби под себя, плюй на других.
Мировоззренческий первобытность (атавизм) проецируется на все структуры современного социума, разделяя его на враждующие формирования.
Базисное противоречие связано с тем, что в основе миропонимания лежит не Созидание, а Потребление. В угоду Потребления насилуется Мать-Земля. [ Читать далее... → ] Из её недр извлекаются источники энергии и полезные ископаемые. На их базе создаются технологии, отходы которых и продукты разложения конечных изделий влекут нас к экологическим катастрофам.
Сон Разума социума общества Потребления рождает чудовищные противоречия: между трудом и капиталом, между бедными и богатыми, между этническими, государственными, политическими и религиозными группировками.
Такая ситуация выгодна только паразитам, присваивающим результаты чужого труда. Такая ситуация возможна, если паразиты вошли во власть. Такая власть будет жонглировать реформами, разжигать противоречия, инициировать стихийное сопротивление и бороться с терроризмом. Это мы сегодня как раз и проходим.
Социум ХХ века, национализировав частную собственность, создав Содружество Социалистических Государств, развив научно-технический прогресс, победив капитализм в открытых сражениях, был, в конечном счете, предан своей же партийно- государственной номенклатурой .
Глубинными причинами предательства явились:
- отрицание духовной компоненты Единого Космоса;
- обман по поводу того, что на месте капитализма строится социализм.
Национализировав частную собственность своих стран в государственную собственность, партийно-государственная номенклатура социалистических функционеров взяла распределение прибавочной стоимости в свои руки.
Возникла ситуация, при которой множество капиталистов в стране заменил один. Этим одним стало Государство. По существу многополярный капитализм трансформировался в монополярный.
В условиях монополярного, государственного капитализма, скрывающего свою хищную сущность под словесной чадрой социализма, на первое место выдвигалась система распределения прибавочной стоимости.
Эта система порождала тоталитаризм, грызню последователей, исключительность партийно-государственной номенклатуры, беспаспортное бесправие колхозного крестьянства, убогость властного уровня диктатуры пролетариата, от имени которого совершалось всё.
Грызня в верхних эшелонах власти привела к развалу КПСС и коммунистических партий социалистических государств . За партиями стали разваливаться государства. Кровь вновь окропила народы. Торжествовала Бездуховность. Воцарилась "демократия".
Как бы мы не ругали социализм, но по сравнению с сегодняшней демократией он имеет неоспоримые преимущества: конституционно гарантированные и реально обеспеченные права на труд и отдых, и их своевременную оплату; предоставление бесплатного медицинского обслуживания, образования (включая высшее), жилья и так далее. Произвол с увольнениями блокировался коллективами.
Капиталистические идеи на базе частной собственности теряли свою привлекательность. Это не устраивало ни мировую закулису, ни партийно-государственную коммунистическую номенклатуру. Они понимали: дальнейшая эволюция в этом направлении сметет их с лица Земли, как Земля периодически стряхивает мелкие жизни (Книга Дзиан. Теогенезис).
Горбачёвская перестройка связана, прежде всего, с организацией дефицита, разжиганием межнациональных конфликтов, болтовней о демократии.
Под трескотню о свободе разрушались партийные и государственные структуры; готовилась криминальная контрреволюция против народов стран Социалистического Содружества.
Произошло то, что произошло. Произошло потому, что партийно-государственной "коммунистической " номенклатуре переход от социализма (государственного капитализма) к капитализму был выгоден: каждый номенклатурщик из "слуг народа" становился господином.
Однако, "господа приходят и уходят, а народы остаются". Поэтому народам нельзя забывать ни о Беловежской Пуще, ни о предшествующей ей истории создания Коллективного Разума, носителем которого номенклатура провозглашала советский народ как якобы новую общность людей. Народ поверил. Расслабился. Получил. Однако надо учиться дальше, ибо путь к Коллективному Разуму ещё не пройден.
Стремление к достижению справедливого Коллективного Разума социума пронизывает всю историю человечества. Актуальность этого стремления неугасима.
Пути к формированию божественно - справедливого Коллективного Разума социума на Земле, описывают древнейшие Книги - источник современной литературы религиозных конфессий и язычества.
Поскольку вопрос о связи религиозной и мифологической древнейшей литературы освещен в работе Единый Космос Крикорова В.С. (нашего Зеленоградца), то остановимся на событиях ХХ века.
Эпохальными моментами начала ХХ века были:
- свержение в феврале 1917 года Монархии буржуазией Российской Империи, и запрет временным правительством иммиграции царской семьи;
- создание противоестественной коалиции Ленин - Троцкий , объединившей необъединимое: борьбу пролетариата за свои права и стремление сионизма к мировому господству.
Примечательно то, что и Ленин и Троцкий внедрялись в русскую февральскую буржуазную революцию 1917 года из - за рубежа.
Ленин с группой товарищей прибыл в Россию в опломбированном вагоне из Германии; Троцкий - с двумя сотнями боевиков на двух пароходах из Америки. Мировую закулису, обеспечившую этот приезд, не смущало, что Германия и Америка находились в состоянии войны между собой. Не смущало потому, что ставкой было обеспечение победы сионизма силами пролетариата сначала России, а потом и всего мира.
Оседлав интернациональную борьбу пролетариата, сионизм рассчитывал въехать в мировое господство, как всегда, на чужом горбу.
Для победы на фронтах всегда нужны крепкие тылы.
Формирование таких тылов проводилось за счет еврейского этноса, в котором сионизм находил благоприятную почву.
Координация действий фронта и тыла требовала единоначалия: экономического и политического, то есть государственного. Поэтому закулиса допустила перерастание буржуазной революции в социалистическую и обеспечила ею победу.
В результате частнособственнический капитализм трансформировался в государственный капитализм.
Дело было сделано. Государственно - партийные структуры стали заполнять носители сионизма, то есть еврейский этнос.
Сегодня точно подсчитано и публикуется в открытой печати сколько евреев было во властных, фискальных, карательных структурах советской власти первых лет. Достаточно сказать, что в первом правительстве Ленина из 22 наркомов только Сталин и Протвян были не евреями. Результаты сказались сразу. Ленин со своим марксизмом и пролетарской революцией оказался не вождём, а попутчиком сионисткой компоненты октябрьской революции. Попутчиком, тем не менее, опасным. Поэтому на него было совершено покушение, в результате которого он был выведен из строя.
Человек предполагает - Бог располагает; и сионизм в лице Сталина получил более умного, решительного и коварного врага, уничтожившего и Троцкого, и соратников Ленина.
Пролетарско- коммунистическая компонента в государственно - капиталистическом социализме стала преобладающей. Это тревожило закулису, как тревожил её и германский нацизм, сменивший в сионизме еврея на арийца.
Произошло то, что произошло: прогремела вторая мировая война, Ассамблея ООН приняла Резолюцию, осуждающую расизм, нацизм и сионизм. Результат мы знаем: Израиль воюет с Палестиной, а состав министров в России подобен Ленинскому Совнаркому.
Вместе с тем, деление Российской Империи по национальному признаку и создание Советского Союза (мина замедленного действия) сделали свое дело. Мина взорвалась в Беловежской Пуще в нужный для закулисы момент. Советский Союз рассыпался. Роль мирового жандарма взяла на себя Америка . Но вопреки этому марш-бросок к Коллективному Разуму продолжается .
Связь - Личность в Социуме.
Признаками справедливого Коллективного Разума являются: высочайший уровень духовного развития, научно- технического прогресса Социума и Гармония отношений между Личностью и Социумом.
При всей своей индивидуальности любая Личность связана с Социумом, в котором она живет.
Вместе с тем, не всему социуму сразу пришла мысль применить дубину на охоте. Так сделал индивидуум, а социум перенял. В этом проявилась связь Социума и Личности в социуме .
Усложнение поставленных Жизнью задач требует отношения между Личностью и Социумом подобного отношению между почвой и семенем: соки социума должны питать творчество Личности.
Это значит, что базис социума должен насыщаться теми Знаниями, которые необходимы для формирования полноценной Личности. Например, в области Просвещения, Образования, Искусства, Науки или их комбинаций (рис.1).
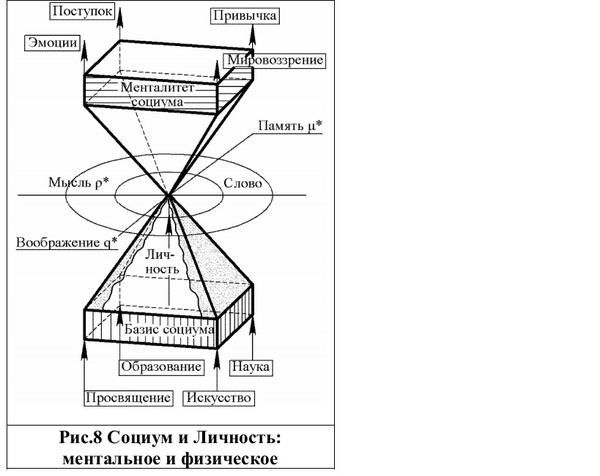
В этом случае просвещенная Личность, впитывая Знания Социума, перерабатывает их Мыслью, Памятью, Воображением и возвращает их Социуму словом, музыкой, живописью, изделием и так далее, то есть результатом своего творчества.
Результаты творчества Личности воздействуют как на саму Личность, так и на Социум. "Привыкание" идет по схеме: сначала эмоции, затем поступок, переходящий в привычку, и, наконец, привычка, формирующая мировоззрение (рис.1).
Эволюция мировоззрения приведет к переходу просто от Мыслителя к Человеку Разума и Воли.
Нет выше Религии, чем Истина!
Земля, наша Мать, как яйцеклетка Космоса, извечно рождала живое, вершиной которого был Носитель Разума.
Как любой сгусток энергии, Земля пульсировала, периодически выходя из резонанса сред Земли, и вновь входила в антирезонанс: становилась то планетой, то звездой.
В звездный период живое гибло; в планетарный - сверкало бесконечностью Форм Жизни.
Продолжительность между соседними геокатаклизмами, названную Кальпа, живое расходовало на Эволюцию.
Вершиной Эволюции был Носитель Разума.
Квинтэссенцией Разума было и остается Воображение: Тонкая Энергия вне- Формы - достояние Единого Космоса. Инструмент Космического Созидания.
Цивилизации Носителей Разума, рождённые Землёй, в течение Кальпы достигали разного уровня Знаний и научно- технического прогресса.
Мелкие Жизни Земля стряхивала со Своего Лица, хотя порой они были Атлантами.
Другие (великие) готовились к геокатаклизмам , и расселялись в Космических пространствах.
Предки Великих оставили им свои Знания. Великие оставили нам Свои Знания и Знания отцов Своих. Знания о Космогенезисе, Антропогенезисе, Теогенезисе. Их детальная расшифровка проведена в работах Крикорова В.С.
http://vkrikorov.narod.ru/w...
Том 1.Единый Космос - Введение в теорию.
Том 2. Единый Космос - Введение в Высокую Науку Великой Цивилизации. Космогенезис. Антропогенезис. Теогенезис. Книга Перемен. Книга Мертвых.
Заявки на открытие.
Том 3. Единый Космос - Основы Науки Великой Цивилизации.
Крикоров Вадим Сергеевич (23.02.1933 - 04.01.2008), доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных Премий СССР, выпускник инженерного физико-химического факультета Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, специалист в области атомной энергетики, микроэлектроники, пьезотехники.
настроение: Оптимистическое
слушаю: Последние новости на нашей Планете
Метки: Единый Космос
Владимир Лазуткин,
23-11-2009 16:28
(ссылка)
семинар 26 ноября
26 ноября (четверг) в 18 часов состоится очередной философский семинар «Архива Мих. Лифшица».
Доклад профессора Б. Ф. Славина «Лифшиц и Сталин (проблема тоталитаризма».
Адрес: Метро Студенческая, Можайский переулок, 27 (сто метров от метро по левой стороне красное кирпичное здание школы. Университет российской академии образования, 4-й этаж, ауд. 41.
Секретарь Б. Е. Поплетаев
Доклад профессора Б. Ф. Славина «Лифшиц и Сталин (проблема тоталитаризма».
Адрес: Метро Студенческая, Можайский переулок, 27 (сто метров от метро по левой стороне красное кирпичное здание школы. Университет российской академии образования, 4-й этаж, ауд. 41.
Секретарь Б. Е. Поплетаев
Владимир Лазуткин,
07-02-2010 20:56
(ссылка)
моя диссертация, параграфы 2.1-2.2
Глава вторая. От абстракции ideell и ideale к конкретности идеала
2.1. Идеальное в природе
«Формы и отношения материальных вещей, которые человек берет за основу своей трудовой деятельности, сами по себе не вещество, а некоторые пределы того, что дают нам наши чувственные восприятия в опыте. Но эти пределы реальны, принадлежат объективной реальности… Такими пределами является идеальный газ, идеальный кристалл – реальные абстракции, к которым можно приближаться так же, как приближается к окружности многоугольник с бесконечным числом сторон. Вся структура вселенной… опирается на нормы и образцы, достигнуть которые можно только через бесконечное приближение» [53; 123]. Речь у Лифшица здесь идет о тех самых чистых формах самой действительности, к которым как к некой относительной завершенности и совершенности, как к некой потенциальной целостности, тотальности, стремиться природное бытие в процессе своего становления и развития, причем независимо от стадии этого развития, независимо от того развивается дочеловеческая или человеческая природа.
М. А. Лифшиц считает, что, чем более элементарным является уровень природного бытия, выступающего объектом научного исследования, тем более эти «чистые формы» способны казаться простыми конструкциями нашего интеллекта [53; 123]. Нам представляется, что именно поэтому в физике в условиях оторванности ее от других наук, прежде всего гуманитарных, всего труднее быть диалектиком и, соответственно, последовательным материалистом.
В последнее время большой интерес во всем мире вызывают результаты такого научного направления, как нелинейная динамика, исследующая неравновесные процессы в физических средах, иначе именуемая синергетикой. Было открыто, что процессы в физическом мире имеют тенденцию к самоорганизации. Путем физико-математических исследований удалось выявить наличие в неравновесных процессах относительно устойчивых траекторий формообразования, особых центров притяжения, генезиса некоторой целостности, системы. Такие «центры притяжения» (асимптоты, пределы) получили в синергетике названия «аттракторов», от латинского attrahere и английского attract, что буквально означает привлекать, притягивать.
Можно ли это новое открытие физики осмыслить с философской точки зрения, с точки зрения науки, специально занимающейся логикой мышления, логикой познания и преобразования мира? Безусловно, не только можно, но и необходимо. В том числе и для того, чтобы противостоять вненаучным стремлениям к синтезу очередной общей теории бытия, под предлогом необходимости единой научной картины мира. Такая картина, безусловно, должна быть целью всей совокупности научных исследований, но она не нуждается ни в каких формально абстрактных, беспредметных теориях, в том числе и разного рода общих теориях бытия.
К сожалению, большинство публикуемых в настоящее время работ по философскому осмыслению синергетики в действительности являются работами по синергетическому осмыслению философии, истории, экономики. Нам представляется, что синергетика, как действительная наука, стала очередной жертвой, после кибернетики, тех самых «мародеров науки», которых, по выражению М. А. Лифшица, может привлечь «легкое удовлетворение от всеобщей применимости одной и той же формулы» [47; 201].
Единственное вразумительное объяснение философского смысла синергетики нам удалось обнаружить в статье А. В. Панкратова «Телеологическое понимание синергетики» [92]. На вопрос о том, какая физическая реальность скрывается за синергетикой, автор дает следующий ответ: телеологическое взаимодействие. «Аттрактор в синергетике есть математический образ физически действующей цели. И вообще вся синергетическая картина – описание поведения системы, находящейся в потоке телеологической силы. И то, что дает синергетика, следует понимать как описание этой силы, ее поведения, ее законов и свойств» [92; 50].
Поскольку для нас, в отличие от Панкратова, не безразлично различение материализма и идеализма и поскольку мы не являемся стыдливыми материалистами и не считаем необходимым дополнять научные исследования религиозной верой, мы должны внести в приведенное высказывание следующую поправку. Целоустремленность есть неотъемлемое свойство, атрибут материи, в том числе и материи физической, а аттрактор есть математический образ (математическое фиксирование) целосообразности процессов в физическом мире. В отличие от Панкратова, мы не считаем, что физическая материя находится в некоем потоке телеологической силы, наоборот, мы полагаем, что «целесообразность» имманентна, а не трансцендентна физической материи, как и материи вообще.[1]
Те же выводы можно выразить другими словами: «То, что будущее определяет настоящее, это в синергетике факт… Это действительно факт, он тривиален для биологии. Он непременно присутствует во всех технических задачах. Да и в нашей жизни будущее влияет на настоящее. Но есть ли такое в неживой природе? Синергетика, пользуясь своим математическим аппаратом, утверждает: да» [92; 48]. Здесь мы с А. В. Панкратовым полностью согласны.
Говоря о смысле «странных аттракторов», А. В. Панкратов отмечает, что у системы есть возможность не подчиниться телеологической силе и тогда возникают траектории, ведущие к странным аттракторам, т. е. «система как бы обладает некоторой свободой» [92; 50]. Как представляется нам, аттракторы – действительно «символы свободы». Но свобода эта заключается не в сопротивлении внешней по отношению к системе силе, а в том, что всякая целостность, всякая завершенность, относительна. Целосообразность и, соответственно, целоустремленность не есть нечто застывшее, раз и навсегда заданное, она также развивается, и странные аттракторы в физическом мире играют ключевую роль в снятии заданной целостности.
Что же получается? Физики в рамках собственной науки пришли к пониманию восхождения от абстрактного к конкретному, от частного к общему, понимаемому как конкретность, как целостность. В начале ХХ века Ленин писал: «Современная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм. Роды болезненны. Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот» [37; 306]. К таким отбросам относится и «синергетика в широком смысле»[2], претендующая на роль нового общего метода, новой логики и теории познания, вместо якобы устаревшей диалектики.
Всеобщее, понимаемое как конкретное, как целое, как тотальность (у Гегеля), существующее до поры до времени только потенциально, только ideell, первоначально проявляется именно как единичное, а в дочеловеческой природе такое проявление нового всеобщего – всегда случайность, хотя и необходимая, детерминированная, поскольку этой новой формой беременно само содержание природного процесса развития. Применительно к такой случайности М. А. Лифшиц любил повторять слова аббата Галиани о том, что все в мире подтасовано, и слова Бальзака о том, что случай – лучший романист мира; он замечал, что «в самой жизни, как и в искусстве, факты смыкаются не безразлично друг к другу. В их непрерывном потоке возникают замкнутые движения, фабулы» [48; 94-95].
Достаточно развернуто и подробно о взаимосвязи «истины», «идеального» и «развития» у Гегеля пишет А. Г. Новохатько: «Истина – одна. В истории философии мы имеем дело с самой философией, постигающей эту истину посредством мысли. Еще более глубокий взгляд заключается в том, что эта единая истина – источник, отражающийся в законах природы, во всех явлениях жизни и сознания. Ничего более эти законы и явления в себе не несут, ничего более они не «отражают». Поэтому философия (мыслящее познание) есть, по сути дела, постижение того, как эти законы и явления проистекают (дедуцируются) из Истины как ее образы, ее «лики», отображения». В подстрочной ремарке к этому тексту А. Г. Новохатько отмечает: вопрос о природе истины и вопрос о природе идей суть разные формулировки одной и той же проблемы [90; 135].
Раскрывая далее понимание Гегелем данной проблемы, А. Новохатько отмечает: «Существенная характеристика идеи заключается в том, что она развивается, и лишь через развитие постигает себя… суть идеи в том, что она становится тем, что она есть». И здесь важно различать в-себе-бытие и для-себя бытие (potentiaи actus), способность и действительность [90; 135]. Как нам представляется, в самой «способности» (потенциальности) необходимо различить два момента: объективную возможность той или иной всеобщей формы (те самые «объективные пределы» или «чистые формы» самой природы) и условия (пути) ее реализации.
Справедливо отмечая, что, если материя имеет не только актуализированное, но и неактуализированое существование, определяющее возможность ее будущих изменений, то ставится под сомнение сам факт разделения бытия на пассивную материю и активную форму, В. В. Василькова в своей книги по синергетике утверждает, что изменяемость материального бытия заложена в свойстве ее (материи. – В. Л.) потенциальности [7; 149]. Из этого видно, что синергетика при содержательном философском осмыслении позволяет некоторым гуманитариям заново открыть для себя некоторые всеобщие законы развития давно уже известные философской диалектике. Так, Василькова в той же книге утверждает, что «и применительно к обществу работает принцип, высказанный И. Пригожиным: «Мы считаем, что бытие и становление должны рассматриваться не как противоположности, противоречащие друг другу, а как два соотнесенных аспекта реальности». Можно подумать, будто диалектика с самого своего возникновения не рассматривала бытие как становление, бытие в его единстве с небытием – его собственной противоположностью.
Однако применение формальной аналогии ведет к тому, что вместо диалектического различения (distinguo) производится эклектическое смешение специфически, существенно различных процессов развития в дочеловеческой природе и в человеческой истории. Материя, безусловно, имеет не только актуальную, но и потенциальную форму своего существования (ideell). Но любая потенциальная форма может стать актуальной лишь в случае наличия способности к актуализации, ибо одной абстрактной возможности не достаточно. В качестве способа актуализации может выступать либо «счастливый» («подтасованный») случай (один среди множества других – несчастливых), либо субъективная способность. Это принципиально разные, прямо противоположные способы актуализации: метод «тыка», детерминированный рамками ситуации[3], и сознательная деятельность по преобразованию объекта в соответствии с его собственной логикой.
Может возникнуть вопрос, что же страшного в том, что физики, после того как они наконец-таки открыли в своем предмете диалектику, пытаются применить ее и в других областях и в частности к общественному, а тем более к культурно-историческому развитию, диалектика ведь – универсальный метод? Но дело то в том, что окрыли они диалектику своего предмета. Предмет этот – физический мир – самый низкий уровень развития материи, поэтому и понятие развития здесь самое бедное, самое абстрактное[4].
Именно потому, что в физическом мире человек имеет дело с самой бедной диалектикой, ее в нем трудней всего обнаружить. Это, так сказать, – объективная причина. Имеется еще и причина субъективная. Человек познает свой мир лишь постольку, поскольку он стал для него своим, поскольку он прямо или косвенно является предметом его практической деятельности, а самая простая форма человеческой деятельности (также имеющей свою историю) – механическая, то есть форма чисто внешнего силового преобразования предмета. Предмет здесь берется лишь «в форме объекта» «не субъективно», лишь как субстрат, как чисто пассивная природа, внутреннюю форму которой конечно нужно знать, но лишь для того, чтобы с успехом «месить ее как глину». Попробуйте такое проделать с организмом, человеческим индивидом, общественной системой… Но природа в ее физическом аспекте меньше всего сопротивляется такому подходу, поскольку до поры до времени человек имеет дело по преимуществу с такими образованиями физической природы, в которых момент развития снят, погашен. Снят именно потому, что человеческая практика изъяла эти предметы из естественных процессов развития в природе, абстрагировала их от развивающегося целого. Он исчезающе мал и еще и потому, что пространственно-временные параметры развития физического мира до поры до времени несоизмеримы с пространственно-временными параметрами человеческой деятельности. И лишь когда человек начинает иметь дело с космогенезом, с таянием громадных ледников, с молекулярным и атомным миром, с миром элементарных частиц, только тогда он упирается в границы механического подхода к физической материи, которая, как оказывается, тоже имеет свою историю и представляет собой некоторую связную целостность, имеет свое развитие.
Но, если бы мы смогли наглядно представить себе это развитие, впечатление наше было бы несравнимо с эффектами, производимыми американскими фильмами ужасов. Вот это – сущий ад, ибо это – развитие от катастрофы к катастрофе и через катастрофы. Физическая материя развивается только через катастрофы, ее развитие носит буквально катастрофический характер. Легче такой характер развития узреть в органической природе:
«…Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее»[5].
Конечно, и в развитии физического мира и в развитии мира биологического есть не только катастрофические моменты, в нем есть и моменты расцвета, моменты прекрасного, положительного утверждения истины, но все-таки, по преимуществу истина в них утверждается негативно – через отрицание ложного, их развитие носит всецело стихийный характер. Наоборот, развитие культурно-историческое носит всецело свободный, сознательный характер, культурные формы не могут быть порождены стихийно, ибо они всегда есть позитивный момент истины, если конечно их не пытаются умертвить, но тогда они перестают по истине быть культурными формами.
Необходимо заметить, что культурно-исторический процесс нельзя непосредственно отождествлять с процессом общественно-историческим. Первый есть истина последнего, но последний вовсе не имеет изначально истинной формы, она лишь становится в нем, и чем менее зрелым является общественно-исторический процесс, тем сильнее в нем момент стихийности, тем более стихийный характер он носит, тем менее совпадают «изменение обстоятельств и человеческая деятельность». Культурно-исторический процесс – это процесс осмысленного действия, действия со знанием дела, процесс человеческого творчества. У этого процесса самая богатая, самая конкретная, самая всеобщая, самая универсальная диалектика и подходить к нему «синергетически», т. е. с точки зрения самой бедной и абстрактной диалектики, крайне опасно. Это значит выдавать ложь человеческой истории за ее истину – диалектику свободной, сознательной и творческой деятельности за диалектику абсолютной необходимости и игры случая – за диалектику абсолютной несвободы.
Рассмотрим теперь специфику процессов развития в живой природе. То, что в эволюции живой природы происходит ее восхождение на более высокий уровень развития, воплощающийся в более совершенных формах жизни, это абсолютно верно. Активную роль в этом процессе стихийного развития играют проявления чистых форм самой биологической природы, но проявляются они по преимуществу через свою собственную противоположность: «Лев хочет мяса, такова его природа. Но в этой потребности он, сам того не зная, предвосхищает Ideell экологическое равновесие саванны... Так в аппетите хищника более определенно выступает «всеобщее», чем в идиллическом благополучии стада антилоп. Но это, – отмечает Лифшиц, – не устраняет разницу между этой бойней природы и полнотой развития жизни, преобладанием положительных начал, которые на этой ступени существуют только в реальной абстракции (только как относительный предел развития, как объективная потенция. – В. Л.)...» [53,132].
Э. В. Ильенков писал свою «Диалектику идеального» в рамках полемики с Д. И. Дубровским и И. С. Нарским, поэтому и речь в ней идет по преимуществу об идеальных образах, идеальных значениях и смыслах, об идеальности деятельных способностей человека, в отличие от психических образов, значений и деятельных способностей животных. Поэтому он и не акцентирует специально внимание на том, что в основе всех выше перечисленных форм идеальности лежат чистые формы самой реальной действительности, ее объективные пределы. Для него здесь важно подчеркнуть, что эти формы – «чистые формы внешнего (вне индивидуального тела существующего) мира, которые он (родившийся человек. – В. Л.) только еще должен превратить в формы своей индивидуальной жизнедеятельности, в схемы и способы своей жизнедеятельности, чтобы стать человеком» [22; 263].
Но эти формы не могут быть даны становящемуся человеческому индивиду как реальные абстракции дочеловеческой природы, они могут быть даны ему только как чистые формы самой реальной действительности, опредмеченные для него другим человеком, трудом другого человека, здесь идеальное для становящегося человека непосредственно предметно. Ильенков здесь для того чтобы отличить свою позицию от гегелевской специально все же подчеркивает: «У Маркса, разумеется, была совсем иная концепция, согласно которой все без исключения логические категории суть только идеализированные (т. е. превратившиеся в формы человеческой жизнедеятельности, прежде всего внешней, чувственно-предметной, а затем и «духовной») всеобщие формы существования объективной реальности, внешнего мира» [22; 262].
Когда М. А. Лифшиц говорит о существовании идеального в дочеловеческой природе как реальной абстракции чистых форм и объективных пределов вещей он прекрасно понимает разницу между предметностью идеального, его выражением, в игре случая – «этой бойне природы» и в целенаправленной и сознательной человеческой деятельности.
Идеальный смысл событий, в том числе событий «чисто природных», схватываемых сознанием человека в связи с его деятельностью, имеет реальную, объективную опору в природе, в том числе и в природе до человека, в объективной всеобщей связи вещей, в ее целостности. «Сам по себе факт не имеет никакого смысла. – Отмечал М. А. Лифшиц. – Если разобщить жизненные факты (взяв их вне их всеобщей взаимосвязи, вне их целостности. – В. Л.), они превращаются в бессмысленность, абсурд. То, что имеет смысл и потому более дорого человеку, который сам является выражением смысла природы, есть факт, означающий не только себя, но и что-то другое. И чем больше другого отражается в данном факте, тем больше в нем смысла. Маленькое облачко на небе имело смысл для ямщика, который вез Гринева в Белогорскую крепость: оно предвещало буран, то есть близость события более широкого и важного. (Оно имело смысл, поскольку выражало всеобщую взаимосвязь вещей в природе, знаемую ямщиком, было верно схваченной им «идеальностью» – ideell– бурана. – В. Л.)
Когда материальная субстанция факта становится ничтожной по сравнению со всеобщей нагрузкой, которую он несет, перед нами начало языка и мышления» [41; 102-103].
Язык и мышление находят свою опору в таких моментах природного процесса, которые способны нести всеобщее содержание, отражать, представлять собой, через себя всеобщую связь вещей, и, таким образом, быть идеальным смыслом, идеальностью этой всеобщей связи. Но сама эта идеальность предмета может быть схвачена как таковая только в человеческой деятельности, или хотя бы, как в вышеприведенном примере с облачком, в связи с ней.
Идеальный момент развития в процессе человеческой деятельности как специфической формы развития природы это как раз есть момент тождества в-себе и для-себя бытия всеобщего, где опосредствующей стороной выступает бытие через иное. Это и есть момент перехода объективной потенции, чистой относительно завершенной формы, существующей первоначально лишь в реальной абстракции, в субъективную способность человека, в форму (способ) человеческой деятельности, в свое инобытие, и через него в предметную действительность (которая таким образом становится действительной предметностью идеального). Осваивая эту специфическую предметность, человек и обретает идеальные формы психического отражения, сознание и волю. Но эти сознание и воля, равным образом как и эта специфическая предметность, не есть нечто трансцендентное, потустороннее для природы. Это собственно есть сознание и воля самой природы: в человеке природа становится для-себя-субъектом, меж тем как до появления человека она обладала лишь в-себе-субъективностью.
«Дело человека является развитием дела природы, – утверждал М. А. Лифшиц, – и оно формирует нашу субъективность, определяя ее своим содержанием, ибо субъекту приходится наступать под огнем объекта, обламывая себе бока в этом взаимодействии с ним» [47; 155]. Это означает, что субъкт-объектное отношение обратимо, что активность в нем может быть не только со стороны субъекта, но и – хотя и отраженная (реактивная, ответная) – со стороны объекта. Объект сопротивляется нашей активности, если ее форма не соответствует собственной истинной форме его, и, наоборот, он идет навстречу разумной форме нашей активности, сам при этом обретая предикаты субъективности. Природа, таким образом, со-субъектна человеку.
«Wer die Natur mit Vernunft ansieht, den sieht sie auch vernuftig an». «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно; то и другое взаимно обусловливают друг друга» [10; 65]. Великий русский писатель-гегельянец А. В. Сухово-Кобылин, лишь отчасти шутя, переводил это знаменитое изречение Гегеля таким образом: как аукнется, так и откликнется [103; 57]. Действительно, если мир может смотреть на тебя разумно, если это обусловливает саму человеческую разумность, то и идеальное есть в этом мире безотносительно к чему бы то ни было.
«Что такое, в конце концов, сам субъект, с его умом и всепокоряющей страстью? Что он такое, если не высшее развитие материального мира природы и общества, самораскрытие его, активная реакция этого мира, имеющая свойство существовать не только для другого, но и для себя, как личность?» [47; 263]. Идеальное, по Лифшицу, объективно также и на Луне, где нет никакого человека, потому что идеальное не есть чисто психическая форма, а отражение не есть только психический процесс. Но, с другой стороны, идеальное – ideale объективно также и на Луне именно потому, что и в процессах развития, происходящих на Луне, человек все же присутствует, хотя только ideell, только по идее. Это означает, что развитие субъективности мира, природы, их идеальности с необходимостью ведет к появлению человека, который внутренне необходим для развития мира. Таким образом, если бы идеальное – ideale не существовало бы реально, объективно, независимо от человека, т. е. как объективный полюс идеального, то человек никогда бы не возник в мире, а его сознание было бы не зеркалом мира, а только случайной плесенью на его поверхности.
«Если сознание есть сознанное бытие, то своим существованием оно доказывает, что в материальном мире есть то, что мы на нашем человеческом языке называем истиной, есть связь внутренняя, извлеченная нами из этого мира и представленная в более чистом виде как логика. Мы не можем выйти из этой логосферы, даже рассуждая о «странных мирах», как не можем поднять самих себя за волосы. Фактическое не лишено объективного смысла, хотя оно реально, как этот камень или движение танковой дивизии. Осмысленное, почувствованное и понятое нами не лишено действительного существования, хотя оно и идеально» [47; 270].
2.2. Идеальное в экономике и праве
Это же идеальное дочеловеческой природы, вернее процесса ее стихийного развития, действительное как реальная абстракция всеобщей формы, характерно и для процесса стихийного общественного развития. Если пожирание львом менее совершенной в своем виде особи антилопы есть идеальность биологической эволюции, то почему нельзя сказать, что деньги, всеобщая форма стоимости – идеальность рынка. Деньги есть отражение общественного характера труда в своей противоположности – частной форме присвоения. Соответственно универсальность развития деятельной способности человека в отчужденной форме общественных производительных сил также отражается в кривом зеркале профессионального кретинизма индивидов как абстрактная деятельная способность вообще, как рабочая сила.
В данном случае термин «ideelle» означает еще не соответствующее своему понятию идеальное. Маркс обозначает им идеальность формы стоимости, как реальной абстракции, как превращенной формы представления всеобщего, универсального характера субъективной человеческой деятельности.
Стоимость непосредственно не выступает ни как продукт, ни как предмет этой деятельности, ни как деятельная способность человека. Она представляется лишь как внешнее условие такой деятельности, как трансцендентная ей фантастическая субъективность (субъективность вещи), и именно потому, что она – отчужденная форма человеческой субъективности. Так, человеческая способность производить универсально («меновая стоимость есть не что иное, как соотношение производительной деятельности лиц между собой» [80; 103]) превращается в способность денег обмениваться на любой продукт общественно полезной деятельности и таким образом опосредствовать обмен такими продуктами, который в свою очередь сам лишь опосредствует обмен частными деятельностями частных участников общественного процесса производства.
«Отношение между зеркалом и тем, что оно отражает, «другим», может быть абстрактным, разорванным, экстремальным, словом, еще не соответствующим подлинному отношению зеркальности. В таком случае, – пишет Лифшиц, – отчуждение посредствующего звена подобно отчуждению денег от плебейской массы других товаров неизбежно» [53, 142]. То, что стоимость есть абстрактное отражение универсальности деятельных способностей человека, говорит о том, что сами эти способности в реальности общественной жизни, принадлежа индивидам как частичным (и потому частным) производителям, абстрагированы и отчуждены друг от друга (как и их владельцы), что их универсальность разорвана, а в случае отношения труда и капитала субъективная сторона деятельной способности отчуждена от ее объективной стороны. Маркс так характеризовал отношение стоимости: «Нелепо понимать эту всего лишь вещную связь как естественную, неотделимую от природы индивидуальности… и имманентную ей. Эта связь – продукт индивидов. Она – исторический продукт. Она принадлежит определенной фазе развития индивидов. Отчужденность и самостоятельность, в которых эта связь еще существует по отношению к индивидам, доказывает лишь то, что люди еще находятся в процессе создания условий своей социальной жизни, а не живут социальной жизнью, отправляясь от этих условий» [80; 105].
Что такое денежная форма? Это – абстрактно-всеобщая форма деятельности человека, как товарного производителя, который в своей деятельности из нее исходит и к ней возвращается, а деньги, как мера стоимости, есть лишь вещественная фиксация, объективное выражение этой всеобщности в ее чистой форме, в форме самой всеобщности, т. е. идеальная «всеобщая» товарная форма, идеальный товар. Маркс по этому поводу замечает: «В деньгах доля рабочего времени, представляемая товаром, не только признана, но и содержится в ее всеобщей, соответствующей понятию (идеальной – ideale. – В. Л.), способной к обмену форме. Деньги – это та всеобщая среда, погружаясь в которую меновые стоимости принимают форму, отвечающую их всеобщему определению» [80; 111].
Деньги – идеальный товар потому, что их потребительная стоимость (способность к обмену) универсальна – представлена в каждом представителе всего товарного мира, меж тем как стоимость последних всеобщим (общественно необходимым) образом представлена в деньгах. Не даром Маркс называет денежную форму «законченной формой товарного мира», по сути, его объективным пределом.
Стоимость – общественно необходимое количество труда для воспроизводства продукта на обмен, т. е. невещественная форма. Но и потребительная стоимость это, прежде всего, форма, в которой результат общественно-полезного труда может быть потреблен, т. е. форма, в которую должен воплотиться труд, чтобы он мог предстать как меновая стоимость. Процесс товарообмена представляет собой противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью, а деньги – товарную форму, которая является средством разрешения этого противоречия, – формой непосредственного тождества указанных противоположностей. Такой формой деньги являются именно потому, что они не представляют собой какой-либо особой потребительной стоимости (полезной для человека формы вещества), напротив, их бесформенность, их голая вещественность как таковая, их чисто количественная определенность есть их потребительная стоимость (их польза состоит в универсальной способности представлять стоимость, товарную форму как таковую). Вместе с тем, как человеческий труд в капиталистическом производстве полностью утрачивает качественную определенность, превращаясь в абстрактное расходование рабочей силы, становится совершенно безразличной к своему непосредственному предмету и результату – беспредметной – абстрактной деятельностью, погоней за чистым количеством, так и золото как деньги, будучи раз произведено, становится трансцендентным процессу производства, превращаясь, таким образом, в бездеятельную предметность. Именно эта их бездеятельность и определяет их функцию всеобщего товарного эквивалента – функцию зеркала, потому что в товарном производстве зеркальность (отражение) носит чисто механический характер, совершается за пределами человеческой субъективности. Именно в силу этих оснований М. А. Лифшиц и отказывался относить зеркало товарного мира к категории идеального (ideale).
В стоимостном отношении эквивалент (а деньги это всеобщий эквивалент), то есть форма представления стоимости, имеет всегда только форму простого количества известной вещи, форму простого абстрактного количества. Маркс в «Капитале» отмечает, что меновая стоимость прежде всего представляется в виде количественного соотношения, в виде пропорции, в которой потребительная стоимость одного рода обменивается на потребительную стоимость другого рода. Именно поэтому меновая стоимость вообще может быть лишь способом выражения, лишь «формой проявления» какого-то отличного от нее содержания. Меновая стоимость характеризуется как раз отвлечением от потребительной стоимости, от качественной стороны товарного тела. «Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нем (товаре. – В. Л.), – характеризует Маркс стоимостную форму товара. – Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и полезный характер представленных в нем видов труда (их качественная определенность. – В. Л.)… последние не различаются более между собой, а сводятся все… к абстрактному человеческому труду». Соответственно и товары «представляют собой лишь выражения того, что в их производстве затрачена рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости – товарные стоимости… То общее, что выражается в меновом отношении, или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость» [75; 44-47]. И далее: «Если по отношению к потребительной стоимости имеет значение лишь качество, содержащегося в нем труда, то по отношению к величине стоимости имеет значение лишь количество труда, уже сведенного к человеческому труду без всякого дальнейшего качества» [75; 54].
Э. Ильенков справедливо утверждает, что денежная форма – один из примеров идеальной формы, идеальности. Но это идеальность такой всеобщей формы, которая не является абсолютно-всеобщей формой общественного производства. Эта форма имеет всеобщий характер лишь на вполне определенном, относительно автономном этапе исторического развития, на этапе стихийного (вынужденного) развития общества. Только в этот исторический период производство становится общественным в той мере, в какой оно из его натуральной формы переходит в его товарную форму.
Товарная форма – это форма такого производства, общественный характер которого остается еще всецело абстрактным (поэтому он и получает превращенную форму выражения). Господство денежной формы над производством есть реальное выражение этой абстрактности его общественного характера, разорванности интересов индивида и общества. Именно в силу этой разорванности общественные силы индивидов предстают перед последними в грубовещественной, механической форме, и, прежде всего, в форме денег, в превращенной общественной форме или, по выражению М. А. Лифшица, в гипертрофированной общественной форме.
Поэтому для человека буржуазного общества деньги и являются фетишем. Для него они не символ или знак общественного могущества, наоборот, именно в их грубой вещественности, в их массе он видит самое это могущество. Такая видимость не есть просто субъективное заблуждение, она объективная иллюзия буржуазного мира, в котором человек низводится до уровня вещи, абстрактного средства, а голая вещественность обретает предикаты субъективности, становится общественной силой. Только в этом мире человеческая способность осуществлять любой труд отражается как способность продукта труда, принявшего всеобщую, т. е. денежную, форму стоимости, непосредственно обмениваться на продукты любого другого труда, и именно потому, что способность к универсальной деятельности отчуждена от каждого индивида в силу общественного разделения труда. Эта иллюзия носит объективный характер именно потому, что в буржуазном мире само существование человека не только не соответствует его общественной сущности, но, напротив, находится с ней в существенном противоречии. «Это извращение, – цитирует Ильенков Маркса, – в силу которого чувственно-конкретное получает значение всего лишь формы проявления абстрактно-всеобщего, вместо того чтобы абстрактно-всеобщему быть свойством конкретного, характеризует выражение стоимости» [22; 159].
Говоря о том, что люди путаются, принимая то, что с вещами делают они сами, за собственные формы вещей, Ильенков приводит в качестве примера обывателя, втянутого в орбиту товарно-денежных отношений, для которого «деньги есть самая что ни на есть материальная вещь, а стоимость на самом-то деле находящая в них свое внешнее выражение – лишь абстракция, существующая только в головах теоретиков» [22; 252-253]. Но ведь в известном смысле объективно так оно и есть. Деньги – действительная самая что ни на есть материя, ее простое количество.
Форма стоимости не имеет своего тела, в отличие от формы потребительной стоимости, по той простой причине, что она представляет собой абстрактное количество абстрактного же труда. Труд, не имеющий никакой качественной определенности, ни в какой качественно определенной форме и не может опредмечиваться, он опредмечивается в чистой бесформенности количества материи денег, в количестве золота. В количестве материи денег он опредмечивается реально, в относительной форме стоимости – особом продукте товарного производства – только «идеально», только в абстрактной возможности.
И здесь нам думается, что в случае с кантовскими представляемыми талерами прав все-таки Ильенков, а не Лифшиц. Ильенков, цитируя молодого Маркса, утверждает, что талер в кармане, так же как и талер в уме, есть всего лишь представление, правда в первом случае все же социально санкционированное [22; 245]. Лифшиц же утверждает, что талер есть талер, и ни пфеннига больше, поскольку социальная санкция этого представления опирается на объективное количественное отношение материального производства, что денежная купюра – не указ короля. Ведь, что такое эти представляемые талеры (талеры в уме) в товарном обращении? Это ведь вовсе не пустая фантазия товаровладельца. Это цена его товара, как представленная денежная форма его стоимости, как денежная форма стоимости, существующая так сказать «в голове товара» (ideell). «Товар реально есть потребительная стоимость: его стоимостное бытие лишь идеально проявляется в цене, выражающей его отношение к золоту, которое противостоит ему как реальный образ его стоимости». Точно также как и любой особый товар противостоит золоту как реальный образ, реальная абстракция его потребительной стоимости [75; 115].
Маркс называет форму стоимости «идеальной» (ideell), поскольку она, существуя вне самих товаров, выражается лишь в голове товаров [75; 105], или лишь через их голову, лишь через их приравнивание к золоту, поскольку она есть чистое, абстрактное представление, абстрактная потенция, есть лишь их способность к обмену, которая реальна только и непосредственно в самом акте обмена, поскольку только в нем она превращается в эквивалентную форму стоимости реально. С другой стороны, такое превращение только и показывает, что сам товар обладал реальной, действительной стоимостью, а не стоимостью, существующей только в «голове», а товаровладелец – действительными талерами, а не талерами – только «в уме». Обмен закончен, эквивалентная форма стоимости погасла, снялась в потребительной стоимости предмета потребления. Со своей стороны потребительная стоимость будучи потреблена вновь превращается в стоимость: в стоимость вещи, если она относилась к объективным условиям производства, или же в стоимость рабочей силы.
Лифшиц утверждает, что «по отношению к талеру точка зрения Канта не лишена основания. Талер есть талер, и не пфеннига больше» [53; 135]. Рубль есть рубль и не копейки больше или меньше, однако либеральные реформы в России наглядно показали, как рубль почти в одночасье способен превращаться в копейку, если его своевременно не удается реализовать в потребительной стоимости.
Поэтому Маркс и называет цену, денежную форму товаров, как и вообще их стоимостную форму, существующей лишь в представлении (лишь ideell), поскольку стоимость в этой форме существует только потенциально, реально же она осуществляется и тут же снимается в эквивалентной форме стоимости в акте товарного обмена, реально она существует как мимолетный момент товарного обмена. Именно поэтому всякая сколь угодно устойчивая, длительная вещественная фиксация стоимости иллюзорна. «Деньги есть материальное отношение, независимое от общественного сознания, как индивидуального, так и коллективного», - отмечает М. А. Лифшиц [53; 137]. В действительности, деньги есть не материальное отношение, а его фиксация в натуральном материале, символ этих отношений. В них представлена лишь возможность связи между товаровладельцами (они – лишь мысленная связь), реализация которой зависит от множества условий. И именно в силу того, что деньги (если они не выступают как предпосылка или продукт капитала) в простом товарном обращении – всего лишь фиксация существующей лишь отдельно от товара (т. е. существующей только в качестве абстракции) всеобщей формы последнего, любой товаровладелец обладает в лице своих товаров только представляемыми талерами, поскольку товар только в момент обмена приобретает форму всеобщего (общественного) продукта. Иметь реальный товар и означает иметь талеры лишь в представлении. Любой товаропроизводитель и любой товаровладелец поэтому и действуют всегда, исходя только из этого представления, из своей «фантазии», что ими произведен общественный продукт, всеобщий продукт, которая может так и остаться только фантазией, если на товарном рынке сложится неблагоприятная конъюнктура. «Деньгам как всеобщей форме богатства противостоит весь мир действительных богатств. Они – чистая абстракция последних; поэтому если их удерживают в такой форме, они всего лишь фантазия. Там, где богатство кажется существующим в совершенно материальной, осязательной форме как таковой, оно имеет свое существование лишь в моей голове, оно – чистая химера… Если я хочу удержать их у себя, то они незаметно превращаются лишь в призрак действительного богатства» [80; 179-180].
Насколько продукт товарного производства обладает способностью к превращению в другие продукты товарного производства, насколько он обладает способностью к обмену, настолько же он обладает и стоимостью. Таким образом, это «ideell» означает у Маркса «представленную способность», способность к обмену лишь предполагаемую товаровладельцем, в отличие от способности, актуально выразившейся, реализовавшейся в акте товарного обмена. А поскольку этот обмен осуществляется людьми, с участием их сознания и воли, постольку он и опосредствует их сознание и волю, постольку форма стоимости становится объективной мыслительной формой данных общественных отношений, является их объективной вещественной фиксацией. «…Выражено в ней, «представлено» ею, определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношений между вещами» [22; 255-256].
Точно также и право, правовые нормы, – есть идеальность частного бытия общественных субъектов, идеальность их бытия как частных лиц. Правовые рамки – это границы «свободы», воли субъекта, определяемые тем, что ей противостоит воля другого частного субъекта, а в пределе всех таких субъектов. Сущность права ясно понял уже Кант: «Право – это совокупность условий, при которых произвол одного совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы» [28; 285]. Между прочим, М. Лифшиц отмечает, что слово «закон» первоначально означало некоторое выделенное место – пастбище или стоянку и затем «раздел», разграничение [47; 215]. Но поэтому, если указ короля представляет не его произвольную фантазию, а опирается на объективную силу общественных отношений, то аналогия его с денежной купюрой представляется не такой уж неоправданной. И не даром в переходный период между феодализмом и капитализмом звонкая монета очень часто обменивалась на личное право. Да и в буржуазном обществе именно субъективное право служит предметом купли-продажи: «Действительное обращение товаров в пространстве и времени осуществляется не деньгами. Деньги лишь реализуют их цену и тем самым передают право на товар покупателю… Деньги приводят в обращение не товары, а право собственности на последние, и то, что в этом обращении реализуется в обмене на деньги… это опять-таки не товары, а их цены» [80; 139].
Субъективное право данного лица, означает монополию его воли в определенных рамках, в рамках определенных юридических фактов, – означает безволие всех других лиц в рамках этих, установленных законом фактов. Недаром многие юристы-цивилисты, считают существенным в совокупности правомочий собственника (а право собственности – конституирующая основа любой правовой системы) вовсе не правомочия владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Основным, можно сказать субстанциальным, правомочием здесь является опирающаяся на закон возможность устранять всех других лиц от владения, пользования, распоряжения соответствующим объектом (виндикационные иски), а также правомочность требовать от других лиц не препятствовать своими действиями или бездействиями осуществлению собственником владения, пользования и распоряжения объектом собственности (негаторные иски).
Право собственности есть не что иное, как узаконенная исключительная способность определять режим присвоения объекта собственности, режим его использования, будь этим объектом вещь или же деятельная способность человека – способ производства вещи, зафиксированный в формуле изобретения, в полезной модели или промышленном образце.
Таким образом, правовая форма – идеальная (мысленная, мыслительная) форма межсубъектных отношений, но отношений особого рода, – отношений частных лиц. Право, в особенности право собственности, выступает как необходимая предпосылка товарного производства, а, следовательно, и появления денег. Первоначально деньги и выступают как двигатель субъективного права (границ имения, имущества, владения), обеспечивая его переход от одного лица к другому, но с развитием рынка, право, как предпосылка товарно-денежного обращения, само становится лишь моментом, постоянно воспроизводящимся этим обращением.
Есть такое выражение «спящий закон». Норма права, получившая свою позитивацию – зафиксированная в источнике права, становится актуальной для некоторого частного лица только в тот момент его деятельности, когда его воля находит в качестве своей границы проявление воли другого лица. Только в столкновении – тождестве – этих воль (вовсе необязательно носящем антагонистический характер) правовая норма, как граница проявления воли субъекта права, обретает для последнего действительную предметность (предметную действительность), отражаясь в проявлении воли другого субъекта права.
Правовая норма, взятая как правовое установление, таким образом, определяет социально узаконенное – общезначимое тождество границ проявления воли субъектов права. В источнике права она существует так сказать «в голове» общества. В момент столкновения воль отдельных лиц, в реальном тождестве границ их волепроявлений, через это тождество она только и реализуется, равным образом, как и существующее лишь в объективной абстракции тождество товаров, реально лишь в момент их обмена.
И все же, говоря об идеальном в экономике и праве, что мы имеем ввиду, то, что в немецком языке обозначается термином ideelle (ideell) или, - ideale (ideal)? Является ли правовая норма только объективной мыслительной формой или же она есть и индивидуальная полнота выражения всеобщего? И здесь нам необходимо диалектическое distinguo. Если существенным в правовой норме является то, что она санкционирована государством и опирается на внешнюю для индивидов силу, то она – скорее ideelle, чем ideale. Правовая норма только ideelle, если социальные ценности только относительны, если к ним подходят с чисто прагматической, утилитарной точки зрения, если добро абстрактно противопоставляется истине, если гносеология не есть вместе с тем и аксилогия, а нуждается во внешнем дополнении таковой. Так рассматривает право позитивизм, и поскольку право есть отчужденная форма нравственности, точка зрения позитивизма не лишена момента истины. И все же, пусть и в отчужденной форме, в праве нашли свое выражение абсолютные ценности, такие как человеческая жизнь, свобода, образование, достоинство и т. д. Эти ценности способны идеально причинять, быть внутренним побудительным мотивом, поэтому правовые нормы, хотя и условно, можно относить и к категории ideale.
Это же характерно и для экономики. В процессе ее движения и развития имеют место как объективные мыслительные формы, так и идеальное причинение. Маркс пишет в Капитале: «Цена, или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма (а денежная форма – это именно всеобщая стоимостная форма, т. е. форма стоимости вообще. – В. Л.) есть нечто отличное от чувственно воспринимаемой телесной формы, следовательно форма лишь идеальная (alsonurideelle [115; 122]. – В. Л.)» [75; 105]. И далее: «…Цены, или количества золота, в которые идеально (ideell [115; 130] – В. Л.) превращаются стоимости товаров» [75; 110]. Здесь представляется необходимым дать некоторое уточнение к § 1.3. Если термин ideell (идеально) необходимо переводить как «в голове», «по идее», «в мысли», то термин ideelle (идеальное) необходимо переводить как «мысленная форма» или «мыслительная форма». Поскольку в товаре меновая стоимость положена лишь идеально (ideell), лишь как реальная возможность, товар в цене положен лишь как мысленные (ideelle) деньги. Форма стоимости, как объективная мыслительная форма, в экономическом процессе навязывается индивиду извне, не являясь его подлинно внутренним мотивом, побуждением, но последние в экономическом процессе все же есть, иначе было бы невозможно его развитие. Если абстрагироваться от исторически условной формы капиталистического производства, то для производства на всех этапах его развития справедливо, как замечает Маркс, что потребление продукта производства создает потребность в новом производстве… «идеальный (idealen[116; 28] – В. Л.), внутренне побуждающий мотив производства», что «потребление полагает предмет производства идеально (ideal [116; 28] – В. Л.)» [80; 28].
Когда Э. В. Ильенков пишет: «Идеальность по Марксу, и есть не что иное, как представленная в вещи форма общественно-человеческой деятельности. Или, наоборот, форма человеческой деятельности, представленная как вещь, как предмет» [22; 256], то речь у него идет именно об объективной мыслительной форме, в которой снята форма мысли, об идеальном плане деятельности, о мире человеческих идей, его (человека), по выражению Маркса, идеальных (а может быть, правильнее идейных) (ideellen [116; 440]) отношений [80; 322]. Безусловно, что эти мыслительные формы есть всецело продукт человеческой деятельности и вне человеческого мира не существуют. Но вне этого мира существуют формы абстрактного в-себе-бытия вещей, еще не получившие реальности потенциальные формы бытия, именно поэтому в предыдущем абзаце мы сочли необходимым провести четкое различие между значениями ideell и ideelle. Но сам Э. В. Ильенков, вместе с тем, определяет идеальное как субъективный образ объективной реальности, т. е. как отражение внешнего мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли [24; 165]. Таким образом, под идеальным он понимает, не объективные мыслительные формы сами по себе, не ideelle само по себе, но отражение в этих формах независимого от человека с его сознанием и деятельностью мира. Именно поэтому, мы и не можем, как замечал М. А. Лифшиц, без дальнейшего различения относить все без исключения формы ideelle к категории идеального, без анализа того, что и как в этих формах отражается – образы объективного мира (они же формы его мышления) или их субъективное искажение, ибо как сказал еще герой А. С. Грибоедова: «Чины людьми даются, а люди могут обмануться».
Э. В. Ильенков применительно к проблеме идеального ограничивается в рассмотрении марксова анализа формы стоимости простым товарным обращением. Но простое обращение само есть лишь абстрактная поверхность процесса обращения капитала. В простом товарном обращении положенные идеально (ideell) на стороне товара определения меновой стоимости реализуются абстрактно от товара на стороне денег лишь мимолетно, лишь в акте обмена. Как только этот акт свершился и товар и деньги теряют свои экономические определения: то, что было товаром превращается просто в предмет потребления, деньги же, опосредствовав обмен товарами, выпадают, по словам Маркса, в неорганический осадок завершившегося процесса.
В процессе обращения капитала простое товарное обращение само становится лишь мимолетным моментом. Маркс замечает, что при простом товарном обращении в деньгах меновая стоимость принимает самостоятельную форму по отношению к обращению, но «только форму негативную, исчезающую – или иллюзорную, если она закрепляется… В той форме, в которой осязательно существует самостоятельность меновой стоимости, деньги представляют собой чисто иллюзорное осуществление, являютсячисто идеальными» [80; 208]. Поэтому накопление денег в простом товарном обращении – это овладение всеобщей формой богатства, взятой абстрактно от самого богатства, в противоположность реальному богатству [80; 193]. «Когда деньги выступают как такая меновая стоимость, которая не только приобретает самостоятельность по отношению к обращению, но и сохраняет себя в нем, то это уже не деньги… - а капитал» [80; 208].
«Капитал… не только idealiter(т. е. в тождестве с самим собой – В. Л.) является в любой момент каждым из обоих моментов, заключающихся в простом обращении (деньги и товар. – В. Л.), но и принимает поочередно форму то одного, то другого; однако он делает это уже не так, как при простом обращении, т. е. уже не только переходит из одной формы в другую (внешним образом. – В. Л.), но в каждом из этих определений является вместе с тем отношением к противоположному определению, т. е. идеально (ideell [116; 185]. – В. Л.) содержит его в себе (является одновременно предпосылкой и результатом его. – В. Л.)» [80; 210].
«Та тождественность, та форма всеобщности, которую принимает капитал, состоит в том, что он есть меновая стоимость и как таковая – деньги». Но, замечает далее Маркс, при этом – так, что капитал должен утратить в обращении «не всеобщность, как при простом обращении, а – ее основанное на противоположности определение (товара лишь как особенности. – В. Л.), или он принимает это основанное на противоположности определение (определение фиксированных денег. – В. Л.) лишь мимолетно, т. е. снова обменивается на товар, но на такой товар, который даже в своей особенности выражает всеобщность меновой стоимости, а потому постоянно меняет свою определенную форму» [80; 210-211].
Капитал как отношение-процесс не терпит фиксированности, покоя своих моментов. В каждом таком моменте он уже идеально положен как другой момент, положен как способность превращения в собственную противоположность. Закон его существования – непрерывное движение, самовозрастание, расширенное самовоспроизводство, посредством самоотрицания, самооталкивания себя от самого себя. «Деньги… в качестве капитала утратили свою окостенелость и из осязаемой вещи превратились в процесс» [80; 212].
И вот здесь мы можем видеть значение идеальной (ideale) формы (т. е. всеобщей формы процесса, существующей не только в реальной абстракции, не только мимолетно, но ставшей реальностью в самом процессе) для процесса научного исследования. «Есть порог реальности, который должно перешагнуть всякое определенное бытие, поскольку оно не является чистой абстракцией, то есть небытием. Этого оно достигает в процессе повторения, воспроизводства, равенства самому себе, создающего норму данного качества или рода, или, если хотите, «таксономической категории». До этого порога нечто физически существует, но оно еще не имеет конкретности истинного бытия, имеющего «добро» объективного мира на реализацию, адекватную своей норме. Как таковая она и воспринимается нашим сознанием, познается умом, который может с доверием примкнуть к действительности там, где она идет ему навстречу. Что-нибудь должно стать настолько выпуклым, настолько классическим в своем роде (подобно капитализму в Англии XIX в.), чтобы оно могло само по себе, без насилия над материалом, запечатлеть свою адекватную форму в соответствующем ей сознании», - писал М. А. Лифшиц [53; 129].
То же самое мы видим и у Маркса в исследовании меновой стоимости: «Только в капитале меновая стоимость положена как меновая стоимость… т. е. она, с одной стороны, не оказывается лишенной субстанции (определенного овеществленного труда. – В. Л.), а осуществляется все в новых субстанциях, в совокупности таковых; с другой стороны, меновая стоимость не теряет здесь своего определения формы, а сохраняет в каждой из различных субстанций свою тождественность с самой собой. (Т. е., выражаясь гегелевским языком капитал есть меновая стоимость, соответствующая своему понятию. – В. Л.). Она стало быть все время остается деньгами (т. е. всегда выступает в определении своей всеобщей формы и последняя всегда реальна в капитале, а капитал, таким образом есть идеальная (ideale) меновая стоимость. – В. Л.) и все время товаром… В действительности простое обращение является обращением лишь с точки зрения наблюдателя, или ansich(только в себе. – В. Л.), но не положено как таковое… Обращение, кругооборот состоит там лишь в простом повторении или чередовании определения товара и определения денег (т. е. положенных абстрактно, оторванно друг от друга особенной и всеобщей формы меновой стоимости. – В. Л.), а не в том, что действительный исходный пункт является также и пунктом возвращения» [80; 209]. И поскольку в капиталистическом производстве-обращении всякий его продукт является одновременно и его предпосылкой, принимает всеобщую форму стоимости не мимолетно (как в акте простого товарообмена), но сохраняет в своей особенности всеобщее, т. е. денежное, определение, это последнее определение, эта всеобщность и становится видной невооруженным глазом, «бьет в глаза». Капиталистический процесс производит объективное обобщение меновой стоимости, делает ее предпосылкой и результатом, средством и целью всего процесса, а для того, чтобы выделить форму меновой стоимости как всеобщность процесса простого товарного производства, «наблюдателю» необходимо обладать в высшей мере субъективной способностью обобщения, обладать гениальностью Адама Смита.
[1] Рассматривая вопрос с материалистической точки зрения, Гете, в частности, говорил: «Не будут утверждать, что быку даны рога, чтобы он бодался, а будут исследовать, как мог он получить рога для бодания... Животное формируется обстоятельствами для обстоятельств; отсюда его внутреннее совершенство и его целесообразность в отношении внешнего мира» (Гете И. В. Избр. соч. по естествознанию. М., 1957. С. 159-160).
[2] Так, В. В. Василькова отмечает: «Методологическая неоднозначность позволила ряду исследователей высказать мнение о необходимости разделения синергетики (в узком смысле) как научной, прежде всего, математической дисциплины, в которой исследуются решения обширной группы нелинейных уравнений определенными аналитическими методами, и теории (концепции) самоорганизации (в широком смысле) как научного движения, объединяющего различные научные школы и направления и связанного с применением новых методов на материале самых разных дисциплин…» [7; 16].
[3] «Тык» ни в коем случае не есть формальный перебор вариантов, «перетряхивание наборной кассы», его развитие направляется обратным действием обстоятельств самой ситуации; это «игра меченными костями», apipesfigees, как говорил Дидро [41; 115].
[4] Физическая материя как таковая для познающего и преобразующего ее человека сама объективно есть абстракция от мира органического (биологического) и мира культурно-исторического – человеческого.
[5] Н. А. Заболоцкий (Из поэмы Лодейников).
2.1. Идеальное в природе
«Формы и отношения материальных вещей, которые человек берет за основу своей трудовой деятельности, сами по себе не вещество, а некоторые пределы того, что дают нам наши чувственные восприятия в опыте. Но эти пределы реальны, принадлежат объективной реальности… Такими пределами является идеальный газ, идеальный кристалл – реальные абстракции, к которым можно приближаться так же, как приближается к окружности многоугольник с бесконечным числом сторон. Вся структура вселенной… опирается на нормы и образцы, достигнуть которые можно только через бесконечное приближение» [53; 123]. Речь у Лифшица здесь идет о тех самых чистых формах самой действительности, к которым как к некой относительной завершенности и совершенности, как к некой потенциальной целостности, тотальности, стремиться природное бытие в процессе своего становления и развития, причем независимо от стадии этого развития, независимо от того развивается дочеловеческая или человеческая природа.
М. А. Лифшиц считает, что, чем более элементарным является уровень природного бытия, выступающего объектом научного исследования, тем более эти «чистые формы» способны казаться простыми конструкциями нашего интеллекта [53; 123]. Нам представляется, что именно поэтому в физике в условиях оторванности ее от других наук, прежде всего гуманитарных, всего труднее быть диалектиком и, соответственно, последовательным материалистом.
В последнее время большой интерес во всем мире вызывают результаты такого научного направления, как нелинейная динамика, исследующая неравновесные процессы в физических средах, иначе именуемая синергетикой. Было открыто, что процессы в физическом мире имеют тенденцию к самоорганизации. Путем физико-математических исследований удалось выявить наличие в неравновесных процессах относительно устойчивых траекторий формообразования, особых центров притяжения, генезиса некоторой целостности, системы. Такие «центры притяжения» (асимптоты, пределы) получили в синергетике названия «аттракторов», от латинского attrahere и английского attract, что буквально означает привлекать, притягивать.
Можно ли это новое открытие физики осмыслить с философской точки зрения, с точки зрения науки, специально занимающейся логикой мышления, логикой познания и преобразования мира? Безусловно, не только можно, но и необходимо. В том числе и для того, чтобы противостоять вненаучным стремлениям к синтезу очередной общей теории бытия, под предлогом необходимости единой научной картины мира. Такая картина, безусловно, должна быть целью всей совокупности научных исследований, но она не нуждается ни в каких формально абстрактных, беспредметных теориях, в том числе и разного рода общих теориях бытия.
К сожалению, большинство публикуемых в настоящее время работ по философскому осмыслению синергетики в действительности являются работами по синергетическому осмыслению философии, истории, экономики. Нам представляется, что синергетика, как действительная наука, стала очередной жертвой, после кибернетики, тех самых «мародеров науки», которых, по выражению М. А. Лифшица, может привлечь «легкое удовлетворение от всеобщей применимости одной и той же формулы» [47; 201].
Единственное вразумительное объяснение философского смысла синергетики нам удалось обнаружить в статье А. В. Панкратова «Телеологическое понимание синергетики» [92]. На вопрос о том, какая физическая реальность скрывается за синергетикой, автор дает следующий ответ: телеологическое взаимодействие. «Аттрактор в синергетике есть математический образ физически действующей цели. И вообще вся синергетическая картина – описание поведения системы, находящейся в потоке телеологической силы. И то, что дает синергетика, следует понимать как описание этой силы, ее поведения, ее законов и свойств» [92; 50].
Поскольку для нас, в отличие от Панкратова, не безразлично различение материализма и идеализма и поскольку мы не являемся стыдливыми материалистами и не считаем необходимым дополнять научные исследования религиозной верой, мы должны внести в приведенное высказывание следующую поправку. Целоустремленность есть неотъемлемое свойство, атрибут материи, в том числе и материи физической, а аттрактор есть математический образ (математическое фиксирование) целосообразности процессов в физическом мире. В отличие от Панкратова, мы не считаем, что физическая материя находится в некоем потоке телеологической силы, наоборот, мы полагаем, что «целесообразность» имманентна, а не трансцендентна физической материи, как и материи вообще.[1]
Те же выводы можно выразить другими словами: «То, что будущее определяет настоящее, это в синергетике факт… Это действительно факт, он тривиален для биологии. Он непременно присутствует во всех технических задачах. Да и в нашей жизни будущее влияет на настоящее. Но есть ли такое в неживой природе? Синергетика, пользуясь своим математическим аппаратом, утверждает: да» [92; 48]. Здесь мы с А. В. Панкратовым полностью согласны.
Говоря о смысле «странных аттракторов», А. В. Панкратов отмечает, что у системы есть возможность не подчиниться телеологической силе и тогда возникают траектории, ведущие к странным аттракторам, т. е. «система как бы обладает некоторой свободой» [92; 50]. Как представляется нам, аттракторы – действительно «символы свободы». Но свобода эта заключается не в сопротивлении внешней по отношению к системе силе, а в том, что всякая целостность, всякая завершенность, относительна. Целосообразность и, соответственно, целоустремленность не есть нечто застывшее, раз и навсегда заданное, она также развивается, и странные аттракторы в физическом мире играют ключевую роль в снятии заданной целостности.
Что же получается? Физики в рамках собственной науки пришли к пониманию восхождения от абстрактного к конкретному, от частного к общему, понимаемому как конкретность, как целостность. В начале ХХ века Ленин писал: «Современная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм. Роды болезненны. Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот» [37; 306]. К таким отбросам относится и «синергетика в широком смысле»[2], претендующая на роль нового общего метода, новой логики и теории познания, вместо якобы устаревшей диалектики.
Всеобщее, понимаемое как конкретное, как целое, как тотальность (у Гегеля), существующее до поры до времени только потенциально, только ideell, первоначально проявляется именно как единичное, а в дочеловеческой природе такое проявление нового всеобщего – всегда случайность, хотя и необходимая, детерминированная, поскольку этой новой формой беременно само содержание природного процесса развития. Применительно к такой случайности М. А. Лифшиц любил повторять слова аббата Галиани о том, что все в мире подтасовано, и слова Бальзака о том, что случай – лучший романист мира; он замечал, что «в самой жизни, как и в искусстве, факты смыкаются не безразлично друг к другу. В их непрерывном потоке возникают замкнутые движения, фабулы» [48; 94-95].
Достаточно развернуто и подробно о взаимосвязи «истины», «идеального» и «развития» у Гегеля пишет А. Г. Новохатько: «Истина – одна. В истории философии мы имеем дело с самой философией, постигающей эту истину посредством мысли. Еще более глубокий взгляд заключается в том, что эта единая истина – источник, отражающийся в законах природы, во всех явлениях жизни и сознания. Ничего более эти законы и явления в себе не несут, ничего более они не «отражают». Поэтому философия (мыслящее познание) есть, по сути дела, постижение того, как эти законы и явления проистекают (дедуцируются) из Истины как ее образы, ее «лики», отображения». В подстрочной ремарке к этому тексту А. Г. Новохатько отмечает: вопрос о природе истины и вопрос о природе идей суть разные формулировки одной и той же проблемы [90; 135].
Раскрывая далее понимание Гегелем данной проблемы, А. Новохатько отмечает: «Существенная характеристика идеи заключается в том, что она развивается, и лишь через развитие постигает себя… суть идеи в том, что она становится тем, что она есть». И здесь важно различать в-себе-бытие и для-себя бытие (potentiaи actus), способность и действительность [90; 135]. Как нам представляется, в самой «способности» (потенциальности) необходимо различить два момента: объективную возможность той или иной всеобщей формы (те самые «объективные пределы» или «чистые формы» самой природы) и условия (пути) ее реализации.
Справедливо отмечая, что, если материя имеет не только актуализированное, но и неактуализированое существование, определяющее возможность ее будущих изменений, то ставится под сомнение сам факт разделения бытия на пассивную материю и активную форму, В. В. Василькова в своей книги по синергетике утверждает, что изменяемость материального бытия заложена в свойстве ее (материи. – В. Л.) потенциальности [7; 149]. Из этого видно, что синергетика при содержательном философском осмыслении позволяет некоторым гуманитариям заново открыть для себя некоторые всеобщие законы развития давно уже известные философской диалектике. Так, Василькова в той же книге утверждает, что «и применительно к обществу работает принцип, высказанный И. Пригожиным: «Мы считаем, что бытие и становление должны рассматриваться не как противоположности, противоречащие друг другу, а как два соотнесенных аспекта реальности». Можно подумать, будто диалектика с самого своего возникновения не рассматривала бытие как становление, бытие в его единстве с небытием – его собственной противоположностью.
Однако применение формальной аналогии ведет к тому, что вместо диалектического различения (distinguo) производится эклектическое смешение специфически, существенно различных процессов развития в дочеловеческой природе и в человеческой истории. Материя, безусловно, имеет не только актуальную, но и потенциальную форму своего существования (ideell). Но любая потенциальная форма может стать актуальной лишь в случае наличия способности к актуализации, ибо одной абстрактной возможности не достаточно. В качестве способа актуализации может выступать либо «счастливый» («подтасованный») случай (один среди множества других – несчастливых), либо субъективная способность. Это принципиально разные, прямо противоположные способы актуализации: метод «тыка», детерминированный рамками ситуации[3], и сознательная деятельность по преобразованию объекта в соответствии с его собственной логикой.
Может возникнуть вопрос, что же страшного в том, что физики, после того как они наконец-таки открыли в своем предмете диалектику, пытаются применить ее и в других областях и в частности к общественному, а тем более к культурно-историческому развитию, диалектика ведь – универсальный метод? Но дело то в том, что окрыли они диалектику своего предмета. Предмет этот – физический мир – самый низкий уровень развития материи, поэтому и понятие развития здесь самое бедное, самое абстрактное[4].
Именно потому, что в физическом мире человек имеет дело с самой бедной диалектикой, ее в нем трудней всего обнаружить. Это, так сказать, – объективная причина. Имеется еще и причина субъективная. Человек познает свой мир лишь постольку, поскольку он стал для него своим, поскольку он прямо или косвенно является предметом его практической деятельности, а самая простая форма человеческой деятельности (также имеющей свою историю) – механическая, то есть форма чисто внешнего силового преобразования предмета. Предмет здесь берется лишь «в форме объекта» «не субъективно», лишь как субстрат, как чисто пассивная природа, внутреннюю форму которой конечно нужно знать, но лишь для того, чтобы с успехом «месить ее как глину». Попробуйте такое проделать с организмом, человеческим индивидом, общественной системой… Но природа в ее физическом аспекте меньше всего сопротивляется такому подходу, поскольку до поры до времени человек имеет дело по преимуществу с такими образованиями физической природы, в которых момент развития снят, погашен. Снят именно потому, что человеческая практика изъяла эти предметы из естественных процессов развития в природе, абстрагировала их от развивающегося целого. Он исчезающе мал и еще и потому, что пространственно-временные параметры развития физического мира до поры до времени несоизмеримы с пространственно-временными параметрами человеческой деятельности. И лишь когда человек начинает иметь дело с космогенезом, с таянием громадных ледников, с молекулярным и атомным миром, с миром элементарных частиц, только тогда он упирается в границы механического подхода к физической материи, которая, как оказывается, тоже имеет свою историю и представляет собой некоторую связную целостность, имеет свое развитие.
Но, если бы мы смогли наглядно представить себе это развитие, впечатление наше было бы несравнимо с эффектами, производимыми американскими фильмами ужасов. Вот это – сущий ад, ибо это – развитие от катастрофы к катастрофе и через катастрофы. Физическая материя развивается только через катастрофы, ее развитие носит буквально катастрофический характер. Легче такой характер развития узреть в органической природе:
«…Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее»[5].
Конечно, и в развитии физического мира и в развитии мира биологического есть не только катастрофические моменты, в нем есть и моменты расцвета, моменты прекрасного, положительного утверждения истины, но все-таки, по преимуществу истина в них утверждается негативно – через отрицание ложного, их развитие носит всецело стихийный характер. Наоборот, развитие культурно-историческое носит всецело свободный, сознательный характер, культурные формы не могут быть порождены стихийно, ибо они всегда есть позитивный момент истины, если конечно их не пытаются умертвить, но тогда они перестают по истине быть культурными формами.
Необходимо заметить, что культурно-исторический процесс нельзя непосредственно отождествлять с процессом общественно-историческим. Первый есть истина последнего, но последний вовсе не имеет изначально истинной формы, она лишь становится в нем, и чем менее зрелым является общественно-исторический процесс, тем сильнее в нем момент стихийности, тем более стихийный характер он носит, тем менее совпадают «изменение обстоятельств и человеческая деятельность». Культурно-исторический процесс – это процесс осмысленного действия, действия со знанием дела, процесс человеческого творчества. У этого процесса самая богатая, самая конкретная, самая всеобщая, самая универсальная диалектика и подходить к нему «синергетически», т. е. с точки зрения самой бедной и абстрактной диалектики, крайне опасно. Это значит выдавать ложь человеческой истории за ее истину – диалектику свободной, сознательной и творческой деятельности за диалектику абсолютной необходимости и игры случая – за диалектику абсолютной несвободы.
Рассмотрим теперь специфику процессов развития в живой природе. То, что в эволюции живой природы происходит ее восхождение на более высокий уровень развития, воплощающийся в более совершенных формах жизни, это абсолютно верно. Активную роль в этом процессе стихийного развития играют проявления чистых форм самой биологической природы, но проявляются они по преимуществу через свою собственную противоположность: «Лев хочет мяса, такова его природа. Но в этой потребности он, сам того не зная, предвосхищает Ideell экологическое равновесие саванны... Так в аппетите хищника более определенно выступает «всеобщее», чем в идиллическом благополучии стада антилоп. Но это, – отмечает Лифшиц, – не устраняет разницу между этой бойней природы и полнотой развития жизни, преобладанием положительных начал, которые на этой ступени существуют только в реальной абстракции (только как относительный предел развития, как объективная потенция. – В. Л.)...» [53,132].
Э. В. Ильенков писал свою «Диалектику идеального» в рамках полемики с Д. И. Дубровским и И. С. Нарским, поэтому и речь в ней идет по преимуществу об идеальных образах, идеальных значениях и смыслах, об идеальности деятельных способностей человека, в отличие от психических образов, значений и деятельных способностей животных. Поэтому он и не акцентирует специально внимание на том, что в основе всех выше перечисленных форм идеальности лежат чистые формы самой реальной действительности, ее объективные пределы. Для него здесь важно подчеркнуть, что эти формы – «чистые формы внешнего (вне индивидуального тела существующего) мира, которые он (родившийся человек. – В. Л.) только еще должен превратить в формы своей индивидуальной жизнедеятельности, в схемы и способы своей жизнедеятельности, чтобы стать человеком» [22; 263].
Но эти формы не могут быть даны становящемуся человеческому индивиду как реальные абстракции дочеловеческой природы, они могут быть даны ему только как чистые формы самой реальной действительности, опредмеченные для него другим человеком, трудом другого человека, здесь идеальное для становящегося человека непосредственно предметно. Ильенков здесь для того чтобы отличить свою позицию от гегелевской специально все же подчеркивает: «У Маркса, разумеется, была совсем иная концепция, согласно которой все без исключения логические категории суть только идеализированные (т. е. превратившиеся в формы человеческой жизнедеятельности, прежде всего внешней, чувственно-предметной, а затем и «духовной») всеобщие формы существования объективной реальности, внешнего мира» [22; 262].
Когда М. А. Лифшиц говорит о существовании идеального в дочеловеческой природе как реальной абстракции чистых форм и объективных пределов вещей он прекрасно понимает разницу между предметностью идеального, его выражением, в игре случая – «этой бойне природы» и в целенаправленной и сознательной человеческой деятельности.
Идеальный смысл событий, в том числе событий «чисто природных», схватываемых сознанием человека в связи с его деятельностью, имеет реальную, объективную опору в природе, в том числе и в природе до человека, в объективной всеобщей связи вещей, в ее целостности. «Сам по себе факт не имеет никакого смысла. – Отмечал М. А. Лифшиц. – Если разобщить жизненные факты (взяв их вне их всеобщей взаимосвязи, вне их целостности. – В. Л.), они превращаются в бессмысленность, абсурд. То, что имеет смысл и потому более дорого человеку, который сам является выражением смысла природы, есть факт, означающий не только себя, но и что-то другое. И чем больше другого отражается в данном факте, тем больше в нем смысла. Маленькое облачко на небе имело смысл для ямщика, который вез Гринева в Белогорскую крепость: оно предвещало буран, то есть близость события более широкого и важного. (Оно имело смысл, поскольку выражало всеобщую взаимосвязь вещей в природе, знаемую ямщиком, было верно схваченной им «идеальностью» – ideell– бурана. – В. Л.)
Когда материальная субстанция факта становится ничтожной по сравнению со всеобщей нагрузкой, которую он несет, перед нами начало языка и мышления» [41; 102-103].
Язык и мышление находят свою опору в таких моментах природного процесса, которые способны нести всеобщее содержание, отражать, представлять собой, через себя всеобщую связь вещей, и, таким образом, быть идеальным смыслом, идеальностью этой всеобщей связи. Но сама эта идеальность предмета может быть схвачена как таковая только в человеческой деятельности, или хотя бы, как в вышеприведенном примере с облачком, в связи с ней.
Идеальный момент развития в процессе человеческой деятельности как специфической формы развития природы это как раз есть момент тождества в-себе и для-себя бытия всеобщего, где опосредствующей стороной выступает бытие через иное. Это и есть момент перехода объективной потенции, чистой относительно завершенной формы, существующей первоначально лишь в реальной абстракции, в субъективную способность человека, в форму (способ) человеческой деятельности, в свое инобытие, и через него в предметную действительность (которая таким образом становится действительной предметностью идеального). Осваивая эту специфическую предметность, человек и обретает идеальные формы психического отражения, сознание и волю. Но эти сознание и воля, равным образом как и эта специфическая предметность, не есть нечто трансцендентное, потустороннее для природы. Это собственно есть сознание и воля самой природы: в человеке природа становится для-себя-субъектом, меж тем как до появления человека она обладала лишь в-себе-субъективностью.
«Дело человека является развитием дела природы, – утверждал М. А. Лифшиц, – и оно формирует нашу субъективность, определяя ее своим содержанием, ибо субъекту приходится наступать под огнем объекта, обламывая себе бока в этом взаимодействии с ним» [47; 155]. Это означает, что субъкт-объектное отношение обратимо, что активность в нем может быть не только со стороны субъекта, но и – хотя и отраженная (реактивная, ответная) – со стороны объекта. Объект сопротивляется нашей активности, если ее форма не соответствует собственной истинной форме его, и, наоборот, он идет навстречу разумной форме нашей активности, сам при этом обретая предикаты субъективности. Природа, таким образом, со-субъектна человеку.
«Wer die Natur mit Vernunft ansieht, den sieht sie auch vernuftig an». «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно; то и другое взаимно обусловливают друг друга» [10; 65]. Великий русский писатель-гегельянец А. В. Сухово-Кобылин, лишь отчасти шутя, переводил это знаменитое изречение Гегеля таким образом: как аукнется, так и откликнется [103; 57]. Действительно, если мир может смотреть на тебя разумно, если это обусловливает саму человеческую разумность, то и идеальное есть в этом мире безотносительно к чему бы то ни было.
«Что такое, в конце концов, сам субъект, с его умом и всепокоряющей страстью? Что он такое, если не высшее развитие материального мира природы и общества, самораскрытие его, активная реакция этого мира, имеющая свойство существовать не только для другого, но и для себя, как личность?» [47; 263]. Идеальное, по Лифшицу, объективно также и на Луне, где нет никакого человека, потому что идеальное не есть чисто психическая форма, а отражение не есть только психический процесс. Но, с другой стороны, идеальное – ideale объективно также и на Луне именно потому, что и в процессах развития, происходящих на Луне, человек все же присутствует, хотя только ideell, только по идее. Это означает, что развитие субъективности мира, природы, их идеальности с необходимостью ведет к появлению человека, который внутренне необходим для развития мира. Таким образом, если бы идеальное – ideale не существовало бы реально, объективно, независимо от человека, т. е. как объективный полюс идеального, то человек никогда бы не возник в мире, а его сознание было бы не зеркалом мира, а только случайной плесенью на его поверхности.
«Если сознание есть сознанное бытие, то своим существованием оно доказывает, что в материальном мире есть то, что мы на нашем человеческом языке называем истиной, есть связь внутренняя, извлеченная нами из этого мира и представленная в более чистом виде как логика. Мы не можем выйти из этой логосферы, даже рассуждая о «странных мирах», как не можем поднять самих себя за волосы. Фактическое не лишено объективного смысла, хотя оно реально, как этот камень или движение танковой дивизии. Осмысленное, почувствованное и понятое нами не лишено действительного существования, хотя оно и идеально» [47; 270].
2.2. Идеальное в экономике и праве
Это же идеальное дочеловеческой природы, вернее процесса ее стихийного развития, действительное как реальная абстракция всеобщей формы, характерно и для процесса стихийного общественного развития. Если пожирание львом менее совершенной в своем виде особи антилопы есть идеальность биологической эволюции, то почему нельзя сказать, что деньги, всеобщая форма стоимости – идеальность рынка. Деньги есть отражение общественного характера труда в своей противоположности – частной форме присвоения. Соответственно универсальность развития деятельной способности человека в отчужденной форме общественных производительных сил также отражается в кривом зеркале профессионального кретинизма индивидов как абстрактная деятельная способность вообще, как рабочая сила.
В данном случае термин «ideelle» означает еще не соответствующее своему понятию идеальное. Маркс обозначает им идеальность формы стоимости, как реальной абстракции, как превращенной формы представления всеобщего, универсального характера субъективной человеческой деятельности.
Стоимость непосредственно не выступает ни как продукт, ни как предмет этой деятельности, ни как деятельная способность человека. Она представляется лишь как внешнее условие такой деятельности, как трансцендентная ей фантастическая субъективность (субъективность вещи), и именно потому, что она – отчужденная форма человеческой субъективности. Так, человеческая способность производить универсально («меновая стоимость есть не что иное, как соотношение производительной деятельности лиц между собой» [80; 103]) превращается в способность денег обмениваться на любой продукт общественно полезной деятельности и таким образом опосредствовать обмен такими продуктами, который в свою очередь сам лишь опосредствует обмен частными деятельностями частных участников общественного процесса производства.
«Отношение между зеркалом и тем, что оно отражает, «другим», может быть абстрактным, разорванным, экстремальным, словом, еще не соответствующим подлинному отношению зеркальности. В таком случае, – пишет Лифшиц, – отчуждение посредствующего звена подобно отчуждению денег от плебейской массы других товаров неизбежно» [53, 142]. То, что стоимость есть абстрактное отражение универсальности деятельных способностей человека, говорит о том, что сами эти способности в реальности общественной жизни, принадлежа индивидам как частичным (и потому частным) производителям, абстрагированы и отчуждены друг от друга (как и их владельцы), что их универсальность разорвана, а в случае отношения труда и капитала субъективная сторона деятельной способности отчуждена от ее объективной стороны. Маркс так характеризовал отношение стоимости: «Нелепо понимать эту всего лишь вещную связь как естественную, неотделимую от природы индивидуальности… и имманентную ей. Эта связь – продукт индивидов. Она – исторический продукт. Она принадлежит определенной фазе развития индивидов. Отчужденность и самостоятельность, в которых эта связь еще существует по отношению к индивидам, доказывает лишь то, что люди еще находятся в процессе создания условий своей социальной жизни, а не живут социальной жизнью, отправляясь от этих условий» [80; 105].
Что такое денежная форма? Это – абстрактно-всеобщая форма деятельности человека, как товарного производителя, который в своей деятельности из нее исходит и к ней возвращается, а деньги, как мера стоимости, есть лишь вещественная фиксация, объективное выражение этой всеобщности в ее чистой форме, в форме самой всеобщности, т. е. идеальная «всеобщая» товарная форма, идеальный товар. Маркс по этому поводу замечает: «В деньгах доля рабочего времени, представляемая товаром, не только признана, но и содержится в ее всеобщей, соответствующей понятию (идеальной – ideale. – В. Л.), способной к обмену форме. Деньги – это та всеобщая среда, погружаясь в которую меновые стоимости принимают форму, отвечающую их всеобщему определению» [80; 111].
Деньги – идеальный товар потому, что их потребительная стоимость (способность к обмену) универсальна – представлена в каждом представителе всего товарного мира, меж тем как стоимость последних всеобщим (общественно необходимым) образом представлена в деньгах. Не даром Маркс называет денежную форму «законченной формой товарного мира», по сути, его объективным пределом.
Стоимость – общественно необходимое количество труда для воспроизводства продукта на обмен, т. е. невещественная форма. Но и потребительная стоимость это, прежде всего, форма, в которой результат общественно-полезного труда может быть потреблен, т. е. форма, в которую должен воплотиться труд, чтобы он мог предстать как меновая стоимость. Процесс товарообмена представляет собой противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью, а деньги – товарную форму, которая является средством разрешения этого противоречия, – формой непосредственного тождества указанных противоположностей. Такой формой деньги являются именно потому, что они не представляют собой какой-либо особой потребительной стоимости (полезной для человека формы вещества), напротив, их бесформенность, их голая вещественность как таковая, их чисто количественная определенность есть их потребительная стоимость (их польза состоит в универсальной способности представлять стоимость, товарную форму как таковую). Вместе с тем, как человеческий труд в капиталистическом производстве полностью утрачивает качественную определенность, превращаясь в абстрактное расходование рабочей силы, становится совершенно безразличной к своему непосредственному предмету и результату – беспредметной – абстрактной деятельностью, погоней за чистым количеством, так и золото как деньги, будучи раз произведено, становится трансцендентным процессу производства, превращаясь, таким образом, в бездеятельную предметность. Именно эта их бездеятельность и определяет их функцию всеобщего товарного эквивалента – функцию зеркала, потому что в товарном производстве зеркальность (отражение) носит чисто механический характер, совершается за пределами человеческой субъективности. Именно в силу этих оснований М. А. Лифшиц и отказывался относить зеркало товарного мира к категории идеального (ideale).
В стоимостном отношении эквивалент (а деньги это всеобщий эквивалент), то есть форма представления стоимости, имеет всегда только форму простого количества известной вещи, форму простого абстрактного количества. Маркс в «Капитале» отмечает, что меновая стоимость прежде всего представляется в виде количественного соотношения, в виде пропорции, в которой потребительная стоимость одного рода обменивается на потребительную стоимость другого рода. Именно поэтому меновая стоимость вообще может быть лишь способом выражения, лишь «формой проявления» какого-то отличного от нее содержания. Меновая стоимость характеризуется как раз отвлечением от потребительной стоимости, от качественной стороны товарного тела. «Все чувственно воспринимаемые свойства погасли в нем (товаре. – В. Л.), – характеризует Маркс стоимостную форму товара. – Вместе с полезным характером продукта труда исчезает и полезный характер представленных в нем видов труда (их качественная определенность. – В. Л.)… последние не различаются более между собой, а сводятся все… к абстрактному человеческому труду». Соответственно и товары «представляют собой лишь выражения того, что в их производстве затрачена рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости – товарные стоимости… То общее, что выражается в меновом отношении, или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость» [75; 44-47]. И далее: «Если по отношению к потребительной стоимости имеет значение лишь качество, содержащегося в нем труда, то по отношению к величине стоимости имеет значение лишь количество труда, уже сведенного к человеческому труду без всякого дальнейшего качества» [75; 54].
Э. Ильенков справедливо утверждает, что денежная форма – один из примеров идеальной формы, идеальности. Но это идеальность такой всеобщей формы, которая не является абсолютно-всеобщей формой общественного производства. Эта форма имеет всеобщий характер лишь на вполне определенном, относительно автономном этапе исторического развития, на этапе стихийного (вынужденного) развития общества. Только в этот исторический период производство становится общественным в той мере, в какой оно из его натуральной формы переходит в его товарную форму.
Товарная форма – это форма такого производства, общественный характер которого остается еще всецело абстрактным (поэтому он и получает превращенную форму выражения). Господство денежной формы над производством есть реальное выражение этой абстрактности его общественного характера, разорванности интересов индивида и общества. Именно в силу этой разорванности общественные силы индивидов предстают перед последними в грубовещественной, механической форме, и, прежде всего, в форме денег, в превращенной общественной форме или, по выражению М. А. Лифшица, в гипертрофированной общественной форме.
Поэтому для человека буржуазного общества деньги и являются фетишем. Для него они не символ или знак общественного могущества, наоборот, именно в их грубой вещественности, в их массе он видит самое это могущество. Такая видимость не есть просто субъективное заблуждение, она объективная иллюзия буржуазного мира, в котором человек низводится до уровня вещи, абстрактного средства, а голая вещественность обретает предикаты субъективности, становится общественной силой. Только в этом мире человеческая способность осуществлять любой труд отражается как способность продукта труда, принявшего всеобщую, т. е. денежную, форму стоимости, непосредственно обмениваться на продукты любого другого труда, и именно потому, что способность к универсальной деятельности отчуждена от каждого индивида в силу общественного разделения труда. Эта иллюзия носит объективный характер именно потому, что в буржуазном мире само существование человека не только не соответствует его общественной сущности, но, напротив, находится с ней в существенном противоречии. «Это извращение, – цитирует Ильенков Маркса, – в силу которого чувственно-конкретное получает значение всего лишь формы проявления абстрактно-всеобщего, вместо того чтобы абстрактно-всеобщему быть свойством конкретного, характеризует выражение стоимости» [22; 159].
Говоря о том, что люди путаются, принимая то, что с вещами делают они сами, за собственные формы вещей, Ильенков приводит в качестве примера обывателя, втянутого в орбиту товарно-денежных отношений, для которого «деньги есть самая что ни на есть материальная вещь, а стоимость на самом-то деле находящая в них свое внешнее выражение – лишь абстракция, существующая только в головах теоретиков» [22; 252-253]. Но ведь в известном смысле объективно так оно и есть. Деньги – действительная самая что ни на есть материя, ее простое количество.
Форма стоимости не имеет своего тела, в отличие от формы потребительной стоимости, по той простой причине, что она представляет собой абстрактное количество абстрактного же труда. Труд, не имеющий никакой качественной определенности, ни в какой качественно определенной форме и не может опредмечиваться, он опредмечивается в чистой бесформенности количества материи денег, в количестве золота. В количестве материи денег он опредмечивается реально, в относительной форме стоимости – особом продукте товарного производства – только «идеально», только в абстрактной возможности.
И здесь нам думается, что в случае с кантовскими представляемыми талерами прав все-таки Ильенков, а не Лифшиц. Ильенков, цитируя молодого Маркса, утверждает, что талер в кармане, так же как и талер в уме, есть всего лишь представление, правда в первом случае все же социально санкционированное [22; 245]. Лифшиц же утверждает, что талер есть талер, и ни пфеннига больше, поскольку социальная санкция этого представления опирается на объективное количественное отношение материального производства, что денежная купюра – не указ короля. Ведь, что такое эти представляемые талеры (талеры в уме) в товарном обращении? Это ведь вовсе не пустая фантазия товаровладельца. Это цена его товара, как представленная денежная форма его стоимости, как денежная форма стоимости, существующая так сказать «в голове товара» (ideell). «Товар реально есть потребительная стоимость: его стоимостное бытие лишь идеально проявляется в цене, выражающей его отношение к золоту, которое противостоит ему как реальный образ его стоимости». Точно также как и любой особый товар противостоит золоту как реальный образ, реальная абстракция его потребительной стоимости [75; 115].
Маркс называет форму стоимости «идеальной» (ideell), поскольку она, существуя вне самих товаров, выражается лишь в голове товаров [75; 105], или лишь через их голову, лишь через их приравнивание к золоту, поскольку она есть чистое, абстрактное представление, абстрактная потенция, есть лишь их способность к обмену, которая реальна только и непосредственно в самом акте обмена, поскольку только в нем она превращается в эквивалентную форму стоимости реально. С другой стороны, такое превращение только и показывает, что сам товар обладал реальной, действительной стоимостью, а не стоимостью, существующей только в «голове», а товаровладелец – действительными талерами, а не талерами – только «в уме». Обмен закончен, эквивалентная форма стоимости погасла, снялась в потребительной стоимости предмета потребления. Со своей стороны потребительная стоимость будучи потреблена вновь превращается в стоимость: в стоимость вещи, если она относилась к объективным условиям производства, или же в стоимость рабочей силы.
Лифшиц утверждает, что «по отношению к талеру точка зрения Канта не лишена основания. Талер есть талер, и не пфеннига больше» [53; 135]. Рубль есть рубль и не копейки больше или меньше, однако либеральные реформы в России наглядно показали, как рубль почти в одночасье способен превращаться в копейку, если его своевременно не удается реализовать в потребительной стоимости.
Поэтому Маркс и называет цену, денежную форму товаров, как и вообще их стоимостную форму, существующей лишь в представлении (лишь ideell), поскольку стоимость в этой форме существует только потенциально, реально же она осуществляется и тут же снимается в эквивалентной форме стоимости в акте товарного обмена, реально она существует как мимолетный момент товарного обмена. Именно поэтому всякая сколь угодно устойчивая, длительная вещественная фиксация стоимости иллюзорна. «Деньги есть материальное отношение, независимое от общественного сознания, как индивидуального, так и коллективного», - отмечает М. А. Лифшиц [53; 137]. В действительности, деньги есть не материальное отношение, а его фиксация в натуральном материале, символ этих отношений. В них представлена лишь возможность связи между товаровладельцами (они – лишь мысленная связь), реализация которой зависит от множества условий. И именно в силу того, что деньги (если они не выступают как предпосылка или продукт капитала) в простом товарном обращении – всего лишь фиксация существующей лишь отдельно от товара (т. е. существующей только в качестве абстракции) всеобщей формы последнего, любой товаровладелец обладает в лице своих товаров только представляемыми талерами, поскольку товар только в момент обмена приобретает форму всеобщего (общественного) продукта. Иметь реальный товар и означает иметь талеры лишь в представлении. Любой товаропроизводитель и любой товаровладелец поэтому и действуют всегда, исходя только из этого представления, из своей «фантазии», что ими произведен общественный продукт, всеобщий продукт, которая может так и остаться только фантазией, если на товарном рынке сложится неблагоприятная конъюнктура. «Деньгам как всеобщей форме богатства противостоит весь мир действительных богатств. Они – чистая абстракция последних; поэтому если их удерживают в такой форме, они всего лишь фантазия. Там, где богатство кажется существующим в совершенно материальной, осязательной форме как таковой, оно имеет свое существование лишь в моей голове, оно – чистая химера… Если я хочу удержать их у себя, то они незаметно превращаются лишь в призрак действительного богатства» [80; 179-180].
Насколько продукт товарного производства обладает способностью к превращению в другие продукты товарного производства, насколько он обладает способностью к обмену, настолько же он обладает и стоимостью. Таким образом, это «ideell» означает у Маркса «представленную способность», способность к обмену лишь предполагаемую товаровладельцем, в отличие от способности, актуально выразившейся, реализовавшейся в акте товарного обмена. А поскольку этот обмен осуществляется людьми, с участием их сознания и воли, постольку он и опосредствует их сознание и волю, постольку форма стоимости становится объективной мыслительной формой данных общественных отношений, является их объективной вещественной фиксацией. «…Выражено в ней, «представлено» ею, определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношений между вещами» [22; 255-256].
Точно также и право, правовые нормы, – есть идеальность частного бытия общественных субъектов, идеальность их бытия как частных лиц. Правовые рамки – это границы «свободы», воли субъекта, определяемые тем, что ей противостоит воля другого частного субъекта, а в пределе всех таких субъектов. Сущность права ясно понял уже Кант: «Право – это совокупность условий, при которых произвол одного совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы» [28; 285]. Между прочим, М. Лифшиц отмечает, что слово «закон» первоначально означало некоторое выделенное место – пастбище или стоянку и затем «раздел», разграничение [47; 215]. Но поэтому, если указ короля представляет не его произвольную фантазию, а опирается на объективную силу общественных отношений, то аналогия его с денежной купюрой представляется не такой уж неоправданной. И не даром в переходный период между феодализмом и капитализмом звонкая монета очень часто обменивалась на личное право. Да и в буржуазном обществе именно субъективное право служит предметом купли-продажи: «Действительное обращение товаров в пространстве и времени осуществляется не деньгами. Деньги лишь реализуют их цену и тем самым передают право на товар покупателю… Деньги приводят в обращение не товары, а право собственности на последние, и то, что в этом обращении реализуется в обмене на деньги… это опять-таки не товары, а их цены» [80; 139].
Субъективное право данного лица, означает монополию его воли в определенных рамках, в рамках определенных юридических фактов, – означает безволие всех других лиц в рамках этих, установленных законом фактов. Недаром многие юристы-цивилисты, считают существенным в совокупности правомочий собственника (а право собственности – конституирующая основа любой правовой системы) вовсе не правомочия владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Основным, можно сказать субстанциальным, правомочием здесь является опирающаяся на закон возможность устранять всех других лиц от владения, пользования, распоряжения соответствующим объектом (виндикационные иски), а также правомочность требовать от других лиц не препятствовать своими действиями или бездействиями осуществлению собственником владения, пользования и распоряжения объектом собственности (негаторные иски).
Право собственности есть не что иное, как узаконенная исключительная способность определять режим присвоения объекта собственности, режим его использования, будь этим объектом вещь или же деятельная способность человека – способ производства вещи, зафиксированный в формуле изобретения, в полезной модели или промышленном образце.
Таким образом, правовая форма – идеальная (мысленная, мыслительная) форма межсубъектных отношений, но отношений особого рода, – отношений частных лиц. Право, в особенности право собственности, выступает как необходимая предпосылка товарного производства, а, следовательно, и появления денег. Первоначально деньги и выступают как двигатель субъективного права (границ имения, имущества, владения), обеспечивая его переход от одного лица к другому, но с развитием рынка, право, как предпосылка товарно-денежного обращения, само становится лишь моментом, постоянно воспроизводящимся этим обращением.
Есть такое выражение «спящий закон». Норма права, получившая свою позитивацию – зафиксированная в источнике права, становится актуальной для некоторого частного лица только в тот момент его деятельности, когда его воля находит в качестве своей границы проявление воли другого лица. Только в столкновении – тождестве – этих воль (вовсе необязательно носящем антагонистический характер) правовая норма, как граница проявления воли субъекта права, обретает для последнего действительную предметность (предметную действительность), отражаясь в проявлении воли другого субъекта права.
Правовая норма, взятая как правовое установление, таким образом, определяет социально узаконенное – общезначимое тождество границ проявления воли субъектов права. В источнике права она существует так сказать «в голове» общества. В момент столкновения воль отдельных лиц, в реальном тождестве границ их волепроявлений, через это тождество она только и реализуется, равным образом, как и существующее лишь в объективной абстракции тождество товаров, реально лишь в момент их обмена.
И все же, говоря об идеальном в экономике и праве, что мы имеем ввиду, то, что в немецком языке обозначается термином ideelle (ideell) или, - ideale (ideal)? Является ли правовая норма только объективной мыслительной формой или же она есть и индивидуальная полнота выражения всеобщего? И здесь нам необходимо диалектическое distinguo. Если существенным в правовой норме является то, что она санкционирована государством и опирается на внешнюю для индивидов силу, то она – скорее ideelle, чем ideale. Правовая норма только ideelle, если социальные ценности только относительны, если к ним подходят с чисто прагматической, утилитарной точки зрения, если добро абстрактно противопоставляется истине, если гносеология не есть вместе с тем и аксилогия, а нуждается во внешнем дополнении таковой. Так рассматривает право позитивизм, и поскольку право есть отчужденная форма нравственности, точка зрения позитивизма не лишена момента истины. И все же, пусть и в отчужденной форме, в праве нашли свое выражение абсолютные ценности, такие как человеческая жизнь, свобода, образование, достоинство и т. д. Эти ценности способны идеально причинять, быть внутренним побудительным мотивом, поэтому правовые нормы, хотя и условно, можно относить и к категории ideale.
Это же характерно и для экономики. В процессе ее движения и развития имеют место как объективные мыслительные формы, так и идеальное причинение. Маркс пишет в Капитале: «Цена, или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма (а денежная форма – это именно всеобщая стоимостная форма, т. е. форма стоимости вообще. – В. Л.) есть нечто отличное от чувственно воспринимаемой телесной формы, следовательно форма лишь идеальная (alsonurideelle [115; 122]. – В. Л.)» [75; 105]. И далее: «…Цены, или количества золота, в которые идеально (ideell [115; 130] – В. Л.) превращаются стоимости товаров» [75; 110]. Здесь представляется необходимым дать некоторое уточнение к § 1.3. Если термин ideell (идеально) необходимо переводить как «в голове», «по идее», «в мысли», то термин ideelle (идеальное) необходимо переводить как «мысленная форма» или «мыслительная форма». Поскольку в товаре меновая стоимость положена лишь идеально (ideell), лишь как реальная возможность, товар в цене положен лишь как мысленные (ideelle) деньги. Форма стоимости, как объективная мыслительная форма, в экономическом процессе навязывается индивиду извне, не являясь его подлинно внутренним мотивом, побуждением, но последние в экономическом процессе все же есть, иначе было бы невозможно его развитие. Если абстрагироваться от исторически условной формы капиталистического производства, то для производства на всех этапах его развития справедливо, как замечает Маркс, что потребление продукта производства создает потребность в новом производстве… «идеальный (idealen[116; 28] – В. Л.), внутренне побуждающий мотив производства», что «потребление полагает предмет производства идеально (ideal [116; 28] – В. Л.)» [80; 28].
Когда Э. В. Ильенков пишет: «Идеальность по Марксу, и есть не что иное, как представленная в вещи форма общественно-человеческой деятельности. Или, наоборот, форма человеческой деятельности, представленная как вещь, как предмет» [22; 256], то речь у него идет именно об объективной мыслительной форме, в которой снята форма мысли, об идеальном плане деятельности, о мире человеческих идей, его (человека), по выражению Маркса, идеальных (а может быть, правильнее идейных) (ideellen [116; 440]) отношений [80; 322]. Безусловно, что эти мыслительные формы есть всецело продукт человеческой деятельности и вне человеческого мира не существуют. Но вне этого мира существуют формы абстрактного в-себе-бытия вещей, еще не получившие реальности потенциальные формы бытия, именно поэтому в предыдущем абзаце мы сочли необходимым провести четкое различие между значениями ideell и ideelle. Но сам Э. В. Ильенков, вместе с тем, определяет идеальное как субъективный образ объективной реальности, т. е. как отражение внешнего мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли [24; 165]. Таким образом, под идеальным он понимает, не объективные мыслительные формы сами по себе, не ideelle само по себе, но отражение в этих формах независимого от человека с его сознанием и деятельностью мира. Именно поэтому, мы и не можем, как замечал М. А. Лифшиц, без дальнейшего различения относить все без исключения формы ideelle к категории идеального, без анализа того, что и как в этих формах отражается – образы объективного мира (они же формы его мышления) или их субъективное искажение, ибо как сказал еще герой А. С. Грибоедова: «Чины людьми даются, а люди могут обмануться».
Э. В. Ильенков применительно к проблеме идеального ограничивается в рассмотрении марксова анализа формы стоимости простым товарным обращением. Но простое обращение само есть лишь абстрактная поверхность процесса обращения капитала. В простом товарном обращении положенные идеально (ideell) на стороне товара определения меновой стоимости реализуются абстрактно от товара на стороне денег лишь мимолетно, лишь в акте обмена. Как только этот акт свершился и товар и деньги теряют свои экономические определения: то, что было товаром превращается просто в предмет потребления, деньги же, опосредствовав обмен товарами, выпадают, по словам Маркса, в неорганический осадок завершившегося процесса.
В процессе обращения капитала простое товарное обращение само становится лишь мимолетным моментом. Маркс замечает, что при простом товарном обращении в деньгах меновая стоимость принимает самостоятельную форму по отношению к обращению, но «только форму негативную, исчезающую – или иллюзорную, если она закрепляется… В той форме, в которой осязательно существует самостоятельность меновой стоимости, деньги представляют собой чисто иллюзорное осуществление, являютсячисто идеальными» [80; 208]. Поэтому накопление денег в простом товарном обращении – это овладение всеобщей формой богатства, взятой абстрактно от самого богатства, в противоположность реальному богатству [80; 193]. «Когда деньги выступают как такая меновая стоимость, которая не только приобретает самостоятельность по отношению к обращению, но и сохраняет себя в нем, то это уже не деньги… - а капитал» [80; 208].
«Капитал… не только idealiter(т. е. в тождестве с самим собой – В. Л.) является в любой момент каждым из обоих моментов, заключающихся в простом обращении (деньги и товар. – В. Л.), но и принимает поочередно форму то одного, то другого; однако он делает это уже не так, как при простом обращении, т. е. уже не только переходит из одной формы в другую (внешним образом. – В. Л.), но в каждом из этих определений является вместе с тем отношением к противоположному определению, т. е. идеально (ideell [116; 185]. – В. Л.) содержит его в себе (является одновременно предпосылкой и результатом его. – В. Л.)» [80; 210].
«Та тождественность, та форма всеобщности, которую принимает капитал, состоит в том, что он есть меновая стоимость и как таковая – деньги». Но, замечает далее Маркс, при этом – так, что капитал должен утратить в обращении «не всеобщность, как при простом обращении, а – ее основанное на противоположности определение (товара лишь как особенности. – В. Л.), или он принимает это основанное на противоположности определение (определение фиксированных денег. – В. Л.) лишь мимолетно, т. е. снова обменивается на товар, но на такой товар, который даже в своей особенности выражает всеобщность меновой стоимости, а потому постоянно меняет свою определенную форму» [80; 210-211].
Капитал как отношение-процесс не терпит фиксированности, покоя своих моментов. В каждом таком моменте он уже идеально положен как другой момент, положен как способность превращения в собственную противоположность. Закон его существования – непрерывное движение, самовозрастание, расширенное самовоспроизводство, посредством самоотрицания, самооталкивания себя от самого себя. «Деньги… в качестве капитала утратили свою окостенелость и из осязаемой вещи превратились в процесс» [80; 212].
И вот здесь мы можем видеть значение идеальной (ideale) формы (т. е. всеобщей формы процесса, существующей не только в реальной абстракции, не только мимолетно, но ставшей реальностью в самом процессе) для процесса научного исследования. «Есть порог реальности, который должно перешагнуть всякое определенное бытие, поскольку оно не является чистой абстракцией, то есть небытием. Этого оно достигает в процессе повторения, воспроизводства, равенства самому себе, создающего норму данного качества или рода, или, если хотите, «таксономической категории». До этого порога нечто физически существует, но оно еще не имеет конкретности истинного бытия, имеющего «добро» объективного мира на реализацию, адекватную своей норме. Как таковая она и воспринимается нашим сознанием, познается умом, который может с доверием примкнуть к действительности там, где она идет ему навстречу. Что-нибудь должно стать настолько выпуклым, настолько классическим в своем роде (подобно капитализму в Англии XIX в.), чтобы оно могло само по себе, без насилия над материалом, запечатлеть свою адекватную форму в соответствующем ей сознании», - писал М. А. Лифшиц [53; 129].
То же самое мы видим и у Маркса в исследовании меновой стоимости: «Только в капитале меновая стоимость положена как меновая стоимость… т. е. она, с одной стороны, не оказывается лишенной субстанции (определенного овеществленного труда. – В. Л.), а осуществляется все в новых субстанциях, в совокупности таковых; с другой стороны, меновая стоимость не теряет здесь своего определения формы, а сохраняет в каждой из различных субстанций свою тождественность с самой собой. (Т. е., выражаясь гегелевским языком капитал есть меновая стоимость, соответствующая своему понятию. – В. Л.). Она стало быть все время остается деньгами (т. е. всегда выступает в определении своей всеобщей формы и последняя всегда реальна в капитале, а капитал, таким образом есть идеальная (ideale) меновая стоимость. – В. Л.) и все время товаром… В действительности простое обращение является обращением лишь с точки зрения наблюдателя, или ansich(только в себе. – В. Л.), но не положено как таковое… Обращение, кругооборот состоит там лишь в простом повторении или чередовании определения товара и определения денег (т. е. положенных абстрактно, оторванно друг от друга особенной и всеобщей формы меновой стоимости. – В. Л.), а не в том, что действительный исходный пункт является также и пунктом возвращения» [80; 209]. И поскольку в капиталистическом производстве-обращении всякий его продукт является одновременно и его предпосылкой, принимает всеобщую форму стоимости не мимолетно (как в акте простого товарообмена), но сохраняет в своей особенности всеобщее, т. е. денежное, определение, это последнее определение, эта всеобщность и становится видной невооруженным глазом, «бьет в глаза». Капиталистический процесс производит объективное обобщение меновой стоимости, делает ее предпосылкой и результатом, средством и целью всего процесса, а для того, чтобы выделить форму меновой стоимости как всеобщность процесса простого товарного производства, «наблюдателю» необходимо обладать в высшей мере субъективной способностью обобщения, обладать гениальностью Адама Смита.
[1] Рассматривая вопрос с материалистической точки зрения, Гете, в частности, говорил: «Не будут утверждать, что быку даны рога, чтобы он бодался, а будут исследовать, как мог он получить рога для бодания... Животное формируется обстоятельствами для обстоятельств; отсюда его внутреннее совершенство и его целесообразность в отношении внешнего мира» (Гете И. В. Избр. соч. по естествознанию. М., 1957. С. 159-160).
[2] Так, В. В. Василькова отмечает: «Методологическая неоднозначность позволила ряду исследователей высказать мнение о необходимости разделения синергетики (в узком смысле) как научной, прежде всего, математической дисциплины, в которой исследуются решения обширной группы нелинейных уравнений определенными аналитическими методами, и теории (концепции) самоорганизации (в широком смысле) как научного движения, объединяющего различные научные школы и направления и связанного с применением новых методов на материале самых разных дисциплин…» [7; 16].
[3] «Тык» ни в коем случае не есть формальный перебор вариантов, «перетряхивание наборной кассы», его развитие направляется обратным действием обстоятельств самой ситуации; это «игра меченными костями», apipesfigees, как говорил Дидро [41; 115].
[4] Физическая материя как таковая для познающего и преобразующего ее человека сама объективно есть абстракция от мира органического (биологического) и мира культурно-исторического – человеческого.
[5] Н. А. Заболоцкий (Из поэмы Лодейников).
Владимир Лазуткин,
26-04-2011 21:47
(ссылка)
Конференция "Философия и культура русского серебряного века"
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
“ДУХ – ДУША – ТЕЛО КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ РУССКОГО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА”,
Предполагается обсуждение следующего круга вопросов:
Современное состояние проблемы.Редукционистские стратегии современности. Неприятие секулярной мыслью позиций развоплощения и спиритуализации. Акцентуированность современной мысли тематикой телесности. Проблематичность дискурса тела и телесности: человек есть тело или человек имеет тело? Необходимость возврата проблемы в многомерность истории философии.
Первичная смысловая экспликация понятий. Библейские и эллинские истоки проблемы. Линии платонизма и аристотелизма в понимании соотношения души и тела. Исключение классического греческого и картезианского дуализма – дуализма души и ее темницы-тела и дуализма двух субстанций. Семантическая многомерность различных номинаций – плоть и тело (σάρξ и σωμα): непроницаемое для света “седалище греха”или нечто реальное, не докетическое, целое? Церковное и философское учение о целостности. Философская психология С. Л. Франка (“Душа человека”).
Религиозно-онтологическое измерение проблемы. Спасение не как освобождение от плоти, но как освобождение плоти: путь тела – не отсечение, но преобразование, претворение. “Тело вместе с душой проходит духовное поприще” (св. Григорий Палама).Философия Серебряного века и феномен “нового религиозного сознания”: proetcontra. В какой мере можно говорить, что историческое христианство не вместило всей правды о мире и плоти? “Новоерелигиозноесознание”и неоязычество. Проблема одухотворения и одушевления плоти и пола и воплощения духа и души. Д. С. Мережковский о Святом Духе как Святой Плоти. В. В. Розанов.
Сфера искусства как пространство одухотворенной телесности. Чем отличается тайноведение плоти от тайноведения духа? В каком смысле Д. С. Мережковский говорил о Льве Толстом как тайновидце плоти, а о Ф. М. Достоевском как тайновидце духа? Особый характер символизма взаимоотношений духа-души-тела в поэзии: как то, что “держит вместе, соединяет, содержит” (Вл. Лосский).
Заявкина участие в конференции подавать до 20 апреля 2011г. по адресу:82100, Украина, Львовская обл., г. Дрогобыч, ул. Ивана Франко, 24, Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Учебно-методический центр кафедры философии. Оргкомитет конференции; E-mail: volim_s@mail.ru. (Возняк В.С., - моб. 0501864863). Контактные телефоны: (0324) 41-02-91 – Возняк Владимир Степанович, Лимонченко Вера Владимировна; (03244) 3-39-24 –Мовчан Вера Серафимовна.
Необходимо указать: 1) фамилию, имя, отчество; 2) место работы (учёбы); 3) учёное звание, научную степень; 4) тему выступления; 5) контактные координаты (телефон, е-mail, домашний адрес с индексом). Оргвзнос – 50 грн., для студентов и аспирантов – 25 грн. (при регистрации). Оргвзнос включает: программа конференции и перерывы на кофе каждые два часа работы.
Предполагается издание материалов конференции с привлечением средств авторов (12 грн. за 1 стр. в интервале 1.5 – при курсе гривны на декабрь 2010г.). Текст (от 0,3 до 1,5 п.л.) подаётся на конференции (или через 1 месяц после) в виде файла, созданного в программе “Microsoft Word” 7.0 для WINDOWS (95,98) (в формате RTF, doc, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, интервал 1.5).
Ссылки на цитированные издания приводятся в квадратных скобках (порядковый номер издания в списке литературы и, после запятой, номер страницы [1, с. 177]); Список использованной литературы – в алфавитном порядке – размещается в конце текста статьи.
Деньги за публикацию (10 грн. за 1 стр. в интервале 1.5 – при курсе гривны на декабрь 2009 г. + 20 грн. за пересылку по Украине или же + 50 грн. за пересылку из стран СНГ) высылать по адресу: Бачко Наталия Леонидовна Учебно-методический центр кафедры философии, педуниверситет, ул. Ивана Франко, 24, г. Дрогобыч Львовская обл., Украина, 82100.
К сведению авторов: сборник по материалам конференции, как и предыдущие, неявляется ВАК-овским.
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, кафедра философии совместно с Обществом русской философии при Украинском Философском фонде, сектором истории русской философии Института философии Российской академии наук,Российским центром науки и культуры в Киеве при поддержке Посольства Российской федерации в Украине
проводят Международную научную конференцию на тему:
“ДУХ – ДУША – ТЕЛО КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ РУССКОГО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА”,
которая состоится 5-7 мая 2011 года в г. Дрогобыч (Украина, Львовская область).
Предполагается обсуждение следующего круга вопросов:
Современное состояние проблемы.Редукционистские стратегии современности. Неприятие секулярной мыслью позиций развоплощения и спиритуализации. Акцентуированность современной мысли тематикой телесности. Проблематичность дискурса тела и телесности: человек есть тело или человек имеет тело? Необходимость возврата проблемы в многомерность истории философии.
Первичная смысловая экспликация понятий. Библейские и эллинские истоки проблемы. Линии платонизма и аристотелизма в понимании соотношения души и тела. Исключение классического греческого и картезианского дуализма – дуализма души и ее темницы-тела и дуализма двух субстанций. Семантическая многомерность различных номинаций – плоть и тело (σάρξ и σωμα): непроницаемое для света “седалище греха”или нечто реальное, не докетическое, целое? Церковное и философское учение о целостности. Философская психология С. Л. Франка (“Душа человека”).
Религиозно-онтологическое измерение проблемы. Спасение не как освобождение от плоти, но как освобождение плоти: путь тела – не отсечение, но преобразование, претворение. “Тело вместе с душой проходит духовное поприще” (св. Григорий Палама).Философия Серебряного века и феномен “нового религиозного сознания”: proetcontra. В какой мере можно говорить, что историческое христианство не вместило всей правды о мире и плоти? “Новоерелигиозноесознание”и неоязычество. Проблема одухотворения и одушевления плоти и пола и воплощения духа и души. Д. С. Мережковский о Святом Духе как Святой Плоти. В. В. Розанов.
Сфера искусства как пространство одухотворенной телесности. Чем отличается тайноведение плоти от тайноведения духа? В каком смысле Д. С. Мережковский говорил о Льве Толстом как тайновидце плоти, а о Ф. М. Достоевском как тайновидце духа? Особый характер символизма взаимоотношений духа-души-тела в поэзии: как то, что “держит вместе, соединяет, содержит” (Вл. Лосский).
Заявкина участие в конференции подавать до 20 апреля 2011г. по адресу:82100, Украина, Львовская обл., г. Дрогобыч, ул. Ивана Франко, 24, Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Учебно-методический центр кафедры философии. Оргкомитет конференции; E-mail: volim_s@mail.ru. (Возняк В.С., - моб. 0501864863). Контактные телефоны: (0324) 41-02-91 – Возняк Владимир Степанович, Лимонченко Вера Владимировна; (03244) 3-39-24 –Мовчан Вера Серафимовна.
Необходимо указать: 1) фамилию, имя, отчество; 2) место работы (учёбы); 3) учёное звание, научную степень; 4) тему выступления; 5) контактные координаты (телефон, е-mail, домашний адрес с индексом). Оргвзнос – 50 грн., для студентов и аспирантов – 25 грн. (при регистрации). Оргвзнос включает: программа конференции и перерывы на кофе каждые два часа работы.
Предполагается издание материалов конференции с привлечением средств авторов (12 грн. за 1 стр. в интервале 1.5 – при курсе гривны на декабрь 2010г.). Текст (от 0,3 до 1,5 п.л.) подаётся на конференции (или через 1 месяц после) в виде файла, созданного в программе “Microsoft Word” 7.0 для WINDOWS (95,98) (в формате RTF, doc, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, интервал 1.5).
Ссылки на цитированные издания приводятся в квадратных скобках (порядковый номер издания в списке литературы и, после запятой, номер страницы [1, с. 177]); Список использованной литературы – в алфавитном порядке – размещается в конце текста статьи.
Деньги за публикацию (10 грн. за 1 стр. в интервале 1.5 – при курсе гривны на декабрь 2009 г. + 20 грн. за пересылку по Украине или же + 50 грн. за пересылку из стран СНГ) высылать по адресу: Бачко Наталия Леонидовна Учебно-методический центр кафедры философии, педуниверситет, ул. Ивана Франко, 24, г. Дрогобыч Львовская обл., Украина, 82100.
К сведению авторов: сборник по материалам конференции, как и предыдущие, неявляется ВАК-овским.
Оргкомитет
Ильенков и Побиск Кузнецов
Последняя встреча в Зеленограде с Побиском Кузнецовым на «Ильенковских чтениях-1999»
Выступление П.Кузнецова на тему: «Тождество и противоположность грамматических и логических форм».
Работы Канта привели к ясному осознанию АНТИНОМИЙ. Кант пытался построить "аксиоматическую теорию Вселенной", частными случаями которой были бы все известные и будущие научные дисциплины. Но замысел потерпел неудачу, так как в аксиомах теории такого типа "предикаты", т.е. КАТЕГОРИИ, встречаются противоположными ПАРАМИ. Так, например, можно принять аксиому: "Мир конечен в пространстве". Но нет оснований отказываться от аксиомы: "Мир бесконечен в пространстве". Здесь и кончилась старая формальная логика и здесь же расположено "величавое открытие Гегеля". После принятия одной из двух противоположных аксиом мы оказываемся не в состоянии доказать ИСТИННОСТЬ нашего выбора. ЭТОТ ЖЕ САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НЫНЕ ИЗВЕСТЕН В МАТЕМАТИКЕ КАК ТЕОРЕМА ГЁДЕЛЯ.
Нашему выбору аксиомы ПРОТИВОСТОИТ аксиома [ Читать далее... → ]
Выступление П.Кузнецова на тему: «Тождество и противоположность грамматических и логических форм».
Работы Канта привели к ясному осознанию АНТИНОМИЙ. Кант пытался построить "аксиоматическую теорию Вселенной", частными случаями которой были бы все известные и будущие научные дисциплины. Но замысел потерпел неудачу, так как в аксиомах теории такого типа "предикаты", т.е. КАТЕГОРИИ, встречаются противоположными ПАРАМИ. Так, например, можно принять аксиому: "Мир конечен в пространстве". Но нет оснований отказываться от аксиомы: "Мир бесконечен в пространстве". Здесь и кончилась старая формальная логика и здесь же расположено "величавое открытие Гегеля". После принятия одной из двух противоположных аксиом мы оказываемся не в состоянии доказать ИСТИННОСТЬ нашего выбора. ЭТОТ ЖЕ САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НЫНЕ ИЗВЕСТЕН В МАТЕМАТИКЕ КАК ТЕОРЕМА ГЁДЕЛЯ.
Нашему выбору аксиомы ПРОТИВОСТОИТ аксиома [ Читать далее... → ]
Метки: Дуэт Эвальд - Побиск
Наталья Королёва,
14-11-2009 17:50
(ссылка)
Теория деятельности
Удивительная неаккуратность в обращении с культурными реалиями и
историческими традициями просвечивается в составлении почти всех
"деклараций" нынешнего президента . Сложно рассуждать о преимуществах
современной системы образования (так называемых "адекватных
мировоззренческих установок") - перед той системой - неоспоримо и
заслуженно получившей признание всех мировых держав, - которую нынче
презрительно называют "совковой" (после полёта Гагарина американский
президент сказал, что "русские победили за партами"). Именно в период
"официально насаждавшегося марксизма-ленинизма" развивалась та научная
и педагогическая методология, которая удачна совмещала в себе различные
концепции - как религиозного, так и философского характера - примером
чему и является "Теория деятельности" Леонтьева. К сожалению, практика
использования совмещения многих этих идей безвозвратно потеряна.
историческими традициями просвечивается в составлении почти всех
"деклараций" нынешнего президента . Сложно рассуждать о преимуществах
современной системы образования (так называемых "адекватных
мировоззренческих установок") - перед той системой - неоспоримо и
заслуженно получившей признание всех мировых держав, - которую нынче
презрительно называют "совковой" (после полёта Гагарина американский
президент сказал, что "русские победили за партами"). Именно в период
"официально насаждавшегося марксизма-ленинизма" развивалась та научная
и педагогическая методология, которая удачна совмещала в себе различные
концепции - как религиозного, так и философского характера - примером
чему и является "Теория деятельности" Леонтьева. К сожалению, практика
использования совмещения многих этих идей безвозвратно потеряна.
Диалектика и практика
«Ильенковские чтения – 1997»
Из выступления Побиска Кузнецова «ИЛЬЕНКОВ И ЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ»
"Труд – процесс изменения природы действием
общественного человека – и есть "субъект", которому
принадлежит "мышление" в качестве "предиката"
Э.Ильенков
Известно, что со времен схоластической философии [ Читать далее... → ]
Из выступления Побиска Кузнецова «ИЛЬЕНКОВ И ЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ»
"Труд – процесс изменения природы действием
общественного человека – и есть "субъект", которому
принадлежит "мышление" в качестве "предиката"
Э.Ильенков
Известно, что со времен схоластической философии [ Читать далее... → ]
Метки: Деятельностная философия
Владимир Кудрявцев,
04-05-2009 09:45
(ссылка)
Настоящая бесконечность – это то, что умещается в руках
Существует два вида бесконечности – дурная и истинная. Во всяком случае, так считал Гегель, и у меня нет никаких оснований оспаривать позицию старика, хотя это и считается уже почти 2 века хорошим тоном среди людей, именующих себя философами.
«Дурная бесконечность» в значительной степени соответствует обыденному представлению о бесконечном. Вернемся к рукам и представим себе, что охватываем ими определенное количество воздуха. Затем расставляем их и пытаемся охватить еще больше. Можно вообразить, что наши руки бесконечно длинны и, соответственно, способны охватить в пределе бесконечное количество воздуха. Прибавит ли нам это знания о воздухе по сравнению с первой попыткой? Ведь тут нет даже роста познания «вширь», какой бы безграничной она ни была бы. Каждый раз «отрицая конечное» в наших «воздушных объятиях», мы лишь умножаем свое поверхностное представление об однородном объекте. И само это умножение тяготеет к дурной бесконечности. По этому поводу Гегель замечает: «Имеется некое абстрактное выхождение, которое остается неполным, так как не выходят за само это выхождение. Имеется бесконечное; за бесконечное, правда, выходят, ибо полагают некоторую новую границу, но тем самым, как раз наоборот, лишь возвращаются к конечному» (Там же. С 207).
По Гегелю, образ дурной бесконечности является прямая линия. Она бесконечна лишь там, где никогда нет в наличном бытии – на своих границах. Иное дело круг – он всецело бесконечен именно в своем наличном бытии, будучи замкнутым на себя, «не имея ни начального пункта, ни какого-либо конца» (Там же. С. 215). С точки зрения Гегеля, круг в отличие от прямой – образ истинной бесконечности. С опорой на Платона добавим: еще более точный и полный образ – шар. И не просто образ, а реальное завершенное воплощение, явление настоящей бесконечности.
Дурную бесконечность охватить невозможно. Ее можно лишь изобразить как некую всеохватность распятыми до хрустящего залома за спину руками. Истинная бесконечность – это, напротив, то, что без всякого залома или надлома умещается в руках и сообщает им своей формой ощущение особой, органичной приятности. И только в этом «приятно ощущаемом» виде становится открытым для понимания и доступным для разумения.
Подлинная бесконечность – «нетрудное бремя» А. Ахматовой:
Я помню все в одно и то же время
Вселенную перед собой как бремя
Нетрудное в протянутой руке,
Как свет на дальнем маяке,
Несу, а в недрах тайно зреет семя Грядущего...
Из неразличения того и другого вырастает старый предрассудок о возможности схватывания бесконечности лишь в умозрении. На этой путанице построены, например, рассуждения Г. Рейхенбаха о бесконечности евклидова пространства. Мы, полагает он, можем теоретически допустить существование этого пространства как целого (равно как и то, что оно - трехмерно). Но вот наглядно такое целое себе представить нельзя, нельзя его охватить одним взглядом, как сферу или земной шар (Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М., 1985. С. 65). В своем анализе Рейхенбах благополучно обошелся без Гегеля, упомянув его лишь раз – дежурно и совсем по другому поводу (Там же. С. 239). И в итоге столь же благополучно «завяз» в специальных физических и геометрических представлениях о пространстве, которые не позволяют объяснить такой его атрибут, как бесконечность. А внутри этих представлений счел возможным сопоставить несопоставимое. Теоретическую абстракцию бесконечного пространства в форме понятия евклидова пространства и реальное претворение его бесконечности в образе сферы.
Приведу еще одну формулировку Гегеля, где противопоставление дурной и истинной бесконечности не нуждается в дополнительных комментариях:
«Среди астрономов были такие, которые очень охотно похвалялись возвышенностью своей науки, поскольку астрономия имеет дело с неизмеримым множеством звезд, с неизмеримыми пространствами и временами, в которых расстояния и периоды, уже сами по себе столь огромные, служат единицами и которые, сколь бы многократно их ни брали, все же снова оказываются ничтожно малыми. Пустое удивление, которому они при этом предаются, вздорные надежды, что в загробной жизни они будут перекочевывать с одной звезды на другую и, странствуя так по неизмеримому пространству, будут приобретать все новые и новые сведения того же рода, - эти свои пустое удивление и вздорные надежды они выдавали за один из главных моментов превосходства своей науки. А между тем она достойна изумления не из-за такой количественной бесконечности, а, напротив, в силу тех отношений меры и законов, которые разум познает в этих предметах и которые составляют разумное бесконечное в противоположность той неразумной бесконечности» (Там же. С. 308-309).Ну, а о дурной бесконечности есть анекдот, которым и завершу свой ночной философский экскурс:
Сидят двое "новых русских" за бутылкой. Один говорит:
- Слышь, братан, я тут на Волгу ездил, на рыбалке был - так осетра на восемь метров вытащил!- Не гони, в натуре, я читал, осетры не больше трех метров бывают. Урежь осетра-то!- Говорю тебе, восемь метров!- Да ну, братан, не гони! Урежь осетра.- Восемь, гадом буду!- Ну ладно, это еще фигня. А вот я тут на охоту ездил... Иду в натуре по лесу, слышу хруст, шмаляю туда - лось! Лосяру завалил! Только к нему подхожу, как слышу шаги сзади - мля, лесник! А у меня ж лицензии ни фига нету! Ну я вскинул пушку, завалил лесника, что делать... Стою так над лосем и лесником и слышу в кустах возня какая-то, раздвигаю - блин, парочка друг другом занимается. Ну, мне, ясен пень, свидетели ни к чему - пришлось и их обоих порешить. Потом думаю: откуда они взялись-то? Иду через кусты, выхожу на поляну - е-мое! Туристы гребаные, палаток десять, человек пятнадцать их! Ну, выхода нет - полил их из калаша, чтоб свидетелей за спиной не оставлять. Только вздохнул спокойно - блин, выезжает на поляну автобус, "Икарус", в нем народу человек сто... Братан, я тебя как брата прошу, урежь осетра, а то я их всех перестреляю!!!
Владимир Лазуткин,
17-03-2009 21:55
(ссылка)
Письмо Сергея Шеховцова относительно философии Аристотеля.
Надеюсь, будет не безинтересно для сообщества.
Здравствуй, Игорь, дорогой!
Сообщаю по памяти, позже проверю. О неточностях сообщу отдельно.
"Физика" происходит от греческого "фюзис", что означает природу. Заметь,
не окружающий мир, а происхождение. Познание природы всего сущего -
основное направление для всей греческой культуры. По этой причине в
"Физике" Аристотеля биологии больше, чем физики в современном понимании
этого имени. Поэтому главным понятием его теории была "энтелехия".
"Эн-" - приставка, означающая то же, что in-. "Телос" - цель. Получается
- внутренне присущее целеполагание. В современной физике, как ты знаешь,
нет вопроса "ЗАЧЕМ?", есть лишь "КАК?" и "ИЗ-ЗА ЧЕГО?". Некоторые
склонны считать, что с открытием хранилища генетической информации
биология подошла вплотную к теории Аристотеля. В его же физике целью
всех тел было занятие их "естественного места". Как- то возник
беспорядок (первичный хаос) - все тела оказались не на своих местах.
Стремясь их занять, они мешают друг другу и образуют движущиеся
конгломераты. Отсюда - постоянное движение. Легко заметить параллель:
каждое тело, предоставленное самому себе" сохраняет состояние покоя или
равномерного прямолинейного движения. Чем не "естественное" состояние.
Можно было б добавить: ...и равномерного вращения относительно
неизменной по направлению оси. Считается, что последнее легко выводится
из предыдущего. По-моему - не очень легко.
Вторым по важности понятием у Аристотеля была "энергейя". Схема та же,
только корень "эрг" указывает на работу, деятельность. Получается -
внутренне присущая работоспособность, например, жажда деятельности -
качество сугубо психическое - плюс здоровье, наличие сил. Пользуясь
аристотелевым языком, Тосканелли в самом начале 15-го века рассуждает о
фокусировке лучистой энергии с помощью изогнутых зеркал на абсолютно
современном уровне, который сложился в западной науке только в 19 веке.
Не смешно ль? Отвергнутый "умными" европейцами Стагирит через четыре
века начал своё возрождение. Похоже, что подбираемся потихоньку к
истинному ренессансу. Кое-что прояснилось и с Евклидом. В свете всего
этого европейцы смотрятся не слишком привлекательно - бандерлоги, но с
самомнением.
"Механика" восходит к греческому "махана", что означает машину. Стало
быть изначально механика - наука о машинах. Они тебе известны: рычаг,
клин, винт (штопор, например) и что-то ещё - по-моему было пять античных
машин. Архимеду, как ты знаешь, удалось построить статику практически в
современном виде (без законов Ньютона). Забавно...
Ну, будь здоров.
* Igor Molodtsov <molodtsov_i@mail.ru> [Tue, 17 Mar 2009 12:21:37
Здравствуй, Игорь, дорогой!
Сообщаю по памяти, позже проверю. О неточностях сообщу отдельно.
"Физика" происходит от греческого "фюзис", что означает природу. Заметь,
не окружающий мир, а происхождение. Познание природы всего сущего -
основное направление для всей греческой культуры. По этой причине в
"Физике" Аристотеля биологии больше, чем физики в современном понимании
этого имени. Поэтому главным понятием его теории была "энтелехия".
"Эн-" - приставка, означающая то же, что in-. "Телос" - цель. Получается
- внутренне присущее целеполагание. В современной физике, как ты знаешь,
нет вопроса "ЗАЧЕМ?", есть лишь "КАК?" и "ИЗ-ЗА ЧЕГО?". Некоторые
склонны считать, что с открытием хранилища генетической информации
биология подошла вплотную к теории Аристотеля. В его же физике целью
всех тел было занятие их "естественного места". Как- то возник
беспорядок (первичный хаос) - все тела оказались не на своих местах.
Стремясь их занять, они мешают друг другу и образуют движущиеся
конгломераты. Отсюда - постоянное движение. Легко заметить параллель:
каждое тело, предоставленное самому себе" сохраняет состояние покоя или
равномерного прямолинейного движения. Чем не "естественное" состояние.
Можно было б добавить: ...и равномерного вращения относительно
неизменной по направлению оси. Считается, что последнее легко выводится
из предыдущего. По-моему - не очень легко.
Вторым по важности понятием у Аристотеля была "энергейя". Схема та же,
только корень "эрг" указывает на работу, деятельность. Получается -
внутренне присущая работоспособность, например, жажда деятельности -
качество сугубо психическое - плюс здоровье, наличие сил. Пользуясь
аристотелевым языком, Тосканелли в самом начале 15-го века рассуждает о
фокусировке лучистой энергии с помощью изогнутых зеркал на абсолютно
современном уровне, который сложился в западной науке только в 19 веке.
Не смешно ль? Отвергнутый "умными" европейцами Стагирит через четыре
века начал своё возрождение. Похоже, что подбираемся потихоньку к
истинному ренессансу. Кое-что прояснилось и с Евклидом. В свете всего
этого европейцы смотрятся не слишком привлекательно - бандерлоги, но с
самомнением.
"Механика" восходит к греческому "махана", что означает машину. Стало
быть изначально механика - наука о машинах. Они тебе известны: рычаг,
клин, винт (штопор, например) и что-то ещё - по-моему было пять античных
машин. Архимеду, как ты знаешь, удалось построить статику практически в
современном виде (без законов Ньютона). Забавно...
Ну, будь здоров.
* Igor Molodtsov <molodtsov_i@mail.ru> [Tue, 17 Mar 2009 12:21:37
Диалектика и Практика
В плане подготовки к «Ильенковским чтениям – 2009»
Что значит ЗАДУМАТЬСЯ над чем-то?
Фрагмент из Ильенкова Э.В. о МЫШЛЕНИИ.
«Под мышлением понимается особого рода ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, направленная, в отличие от практики, на изменение представлений, на перестройку тех ОБРАЗОВ, которые имеются в СОЗНАНИИ индивида, и непосредственно на словесно-речевое оформление этих представлений; последние, будучи выражены в речи (в слове, термине), называются понятиями. Когда человек изменяет не представления, а реальные вещи вне головы, это уже не считается мышлением, а, в лучшем случае, лишь действиями в СОГЛАСИИ С МЫШЛЕНИЕМ, по законам и правилам, им диктуемым.
Мышление, таким образом, отождествляется с РАЗМЫШЛЕНИЕМ, [ Читать далее... → ]
Что значит ЗАДУМАТЬСЯ над чем-то?
Фрагмент из Ильенкова Э.В. о МЫШЛЕНИИ.
«Под мышлением понимается особого рода ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, направленная, в отличие от практики, на изменение представлений, на перестройку тех ОБРАЗОВ, которые имеются в СОЗНАНИИ индивида, и непосредственно на словесно-речевое оформление этих представлений; последние, будучи выражены в речи (в слове, термине), называются понятиями. Когда человек изменяет не представления, а реальные вещи вне головы, это уже не считается мышлением, а, в лучшем случае, лишь действиями в СОГЛАСИИ С МЫШЛЕНИЕМ, по законам и правилам, им диктуемым.
Мышление, таким образом, отождествляется с РАЗМЫШЛЕНИЕМ, [ Читать далее... → ]
Метки: Диалектика и Практика
Анатолий Овсейцев,
02-02-2011 13:38
(ссылка)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЫТИЕ ВЕЩИ (СФК-СИМВОЛА)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЫТИЕ ВЕЩИ (СФК) В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (по Ильенкову)
Существование любой ВЕЩИ (например, СФК-мнемо-схемы) и ее функционирование в качестве СИМВОЛА принадлежит не ей как таковой, а лишь той системе, внутри которой она приобретает свои свойства. Принадлежащие ей естественные свойства к ее бытию в качестве СИМВОЛА не имеет, поэтому никакого отношения. Телесная, чувственно воспринимаемая оболочка, "тело" СИМВОЛА (например, в форме карты для ориентации в пространстве и времени) для ее бытия в качестве СИМВОЛА (мнемо-схемы) обычно несущественно. "ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЫТИЕ" такой вещи (карты на листе бумаги) полностью [ Читать далее... → ]
Существование любой ВЕЩИ (например, СФК-мнемо-схемы) и ее функционирование в качестве СИМВОЛА принадлежит не ей как таковой, а лишь той системе, внутри которой она приобретает свои свойства. Принадлежащие ей естественные свойства к ее бытию в качестве СИМВОЛА не имеет, поэтому никакого отношения. Телесная, чувственно воспринимаемая оболочка, "тело" СИМВОЛА (например, в форме карты для ориентации в пространстве и времени) для ее бытия в качестве СИМВОЛА (мнемо-схемы) обычно несущественно. "ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЫТИЕ" такой вещи (карты на листе бумаги) полностью [ Читать далее... → ]
настроение: Готовлюсь к Ильенковским чтениям
Владимир Лазуткин,
07-02-2010 21:02
(ссылка)
моя диссертация, параграфы 1.3-1.4
1.3. «Идеальное» – категория социальная или универсальная?
В советской философии проблема «идеального» была наиболее полно разработана именно в трудах Э. Ильенкова и М. Лифшица. До сих пор продолжаются дискуссии о единстве и различии в понимании «идеального» этими философами. Среди философов, в том числе относящих себя к ученикам М. Лифшица и Э. Ильенкова, бытует представление о некоем существенном различии в понимании категории «идеального» у этих двух выдающихся мыслителей.
С. Н. Мареев в своей книге про Ильенкова [71] следующим образом полемизирует с пониманием идеального у А. Ф. Лосева и М. А. Лифшица: «Если идеальное – нетелесно, то отсюда не следует, что все нетелесное идеально. Ведь не телесны всякие физические поля, нетелесен свет. Вообще тело – это, строго говоря, только механическая реальность» [71; 150]. Речь здесь идет об идеальности или не идеальности законов природы, ведь эти законы невещественны. Критикуя лосевское понимание закона природы как идеи, как идеального, С. Н. Мареев почему-то счел необходимым покинуть область философии и перенести дискуссию в рамки предмета физики. В этой науке, между прочим, бытует представление о существовании двух видов материи – вещества и поля. Представление это – ложно, поскольку некритически, формально, переносит деление науки физики на деление ее объекта – физической материи. В действительности вещество и поле существуют не наряду друг с другом, а в нераздельном единстве, или, повторяя формулу Спинозы, - как два атрибута одной и той же субстанции, в данном случае – физической материи. У С. Н. Мареева получается, что закон природы невещественен также как и такие ее явления, как поле, свет, волна. Но закон природы это все-таки не явление. Кроме того, наряду с волновой теорией света существует, как это известно, еще и корпускулярная теория; помимо механики тела, существует еще и так называемая механика сплошных сред, т. е. полевых структур, и если бы эта механика не рассматривала газ, жидкость, кристаллические образования как нечто сплошное (полевое, «невещественное»), то человек никогда бы не поднялся ни в воздух, ни в космос, не смог опуститься бы в морские глубины, ни в теории (без газо- и гидродинамики), ни на практике (без такой науки как «сопротивление материалов»). Непрерывность и дискретность – не свойства разных рядоположенных объектов, а два аспекта рассмотрения одного и того же объекта.
«Если идеальное – нетелесно, то отсюда не следует, что все нетелесное идеально», - пишет С. Н. Мареев [71; 150]. Однако в философии это именно так, и М. А. Лифшиц замечал по этому поводу, что идеальное в философии диалектического материализма противостоит не материальному, ибо с точки зрения этой философии ничего нематериального нет (что также подчеркивал и Э. В. Ильенков [22; 235]), но реальному. Это материальное не всегда реально, но не наоборот. Действительно, Гегель замечает по этому поводу: «…Часто говорят о реальности еще и в другом смысле (первый смысл есть наличное, предметное, бытие. – В.Л.) и понимают под ней то, что нечто ведет себя соответственно своему существенному определению или своему понятию. Так, например, говорят: это – реальное занятие или: это реальный человек. Здесь речь идет не о непосредственном, внешнем наличном бытии, а, скорее, о соответствии некоего налично существующего своему понятию. Но так понимаемая реальность уже более не отличается от идеальности (deridealität), с которой мы ближайшим образом познакомимся как с для-себя-бытием» [11; 230].
Что же касается «идеальности света», то необходимо заметить, что в философии категория «света» также имеет свою специфику, как и категория «вещественности», «телесности». В Книге Бытия Библии свет определяется как основа всякого божественного творения, и хотя Господь творил по слову, первым его творением был именно свет. Почему? По той простой причине, что все остальное может быть сотворено только в свете, во тьме что-либо определенное сотворить невозможно, а если и возможно, то нельзя сказать хорошо ли творение. Любой предмет может быть нам дан только в свете, не только в первоначальном смысле зрительного восприятия; отталкиваясь от этого первоначального значения, свет становится символическим выражением всеобщей способности различения объективных определенностей, которые в потенции суть определенности мышления. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме», - эти слова из Экклезиаста Э. В. Ильенков приводит в письме к своему слепоглухому воспитаннику А. В. Суворову [22; 447].
Мы согласны с С. Н. Мареевым, что любой закон идеален только как деятельная форма (деятельная способность), что «идеальна идея закона», но это не значит, что мы считаем, что деятельная форма всегда обладает статусом субъекта, что онатолько нашадеятельная форма. «Отождествлять закон с идеей нельзя», - утверждает С. Н. Мареев [71;150], мы же добавим одно только слово: нельзя отождествлять непосредственно. Непосредственно никакой закон не действителен, он действителентолько как деятельная форма, он и есть лишь как деятельная форма, всякое иное понимание закона не имеет никакого смысла. И здесь позиция С. Н. Мареева отличается от позиции А. Ф. Лосева и М. А. Лифшица, а заодно и от позиции Платона, лишь тем, что последние признают, по выражению П. Д. Юркевича, «объективного деятеля» [112; 11, 21]. П. Д. Юркевич по этому вопросу замечает: «В действительном познании природыи в деятельности творчества и изобретениячеловек с жизненною необходимостью полагает и обнаруживает мышление как силу или деятельность предметную, имеющую значимость не для нас, но для объективной натуры вещей, и ежедневные успехи науки и искусства достаточно оправдывают это поведение познающего и изобретающего человека» [112; 17-18]. Он также отмечает, что всякая наука основывается на предположении спинозовского тождества порядка и связи вещей с порядком и связью идей («Этика», часть 2, положение VII [96; 59]) [там же]. Поэтому «нелегко перевести в мысль бытие, чуждое мысли… понять явление, которое сложилось несообразно с понятием» [112; 24]. Поэтому «другой субстанциальности, кроме духовной, мы не можем сделать предметом нашего знания и мышления» [112; 41].
Интересно, что сам С. Н. Мареев замечает, что главный интерес Платона: как мышление поднимается кистинному, идеальному бытию. Т. е. он фактически утверждает, что, по Платону, идеальное есть истина бытия, истинное бытие. Далее, «идеальное в мышлении проявляется прежде всего как момент отрицательности, как чистая негация» [71; 147]. Это верно, но в диалектике более важна не непосредственная (первая) отрицательность, но отрицательность опосредованная – отрицание отрицания, в противном случае мышление срывается в дурную бесконечность отрицания, абсолютного скепсиса. Если С. Н. Мареев разделяет ту позицию Платона и Гегеля, что мышление снимает ложное бытие, представляя его в светебытия истинного, то возникает вопрос, откуда в человеческом мышлении берется этот свет истины? Нести в себе свет истины это что, атрибутивное свойство мозга homo sapience или человеческой культуры? А откуда тогда берется человек с его мозгом и культурой? Тогда он – либо творение Божие, либо сам есть аристотелевский ум-перводвигатель, не нуждающийся в собственном движении, в собственном развитии. Человек общественный, культурный – результат своего собственного развития, но это развитие имеет свои предпосылки – биологический вид homo sapience. Из биологии и антропологии известно, что этот вид есть продукт биологической эволюции и антропогенеза (подробное философское осмысление проблем антропогенеза можно найти в замечательной книге М. Б. Туровского «Предыстория интеллекта» [104]). Рискнем предположить, что если бы ложное бытие не представало в свете истины (отрицание), и если бы истинное бытие не утверждало себя положительно (отрицание отрицания) и до возникновения предпосылок человеческого развития, то эти самые предпосылки так никогда бы и не возникли. Одно из двух: либо мышление и деятельность укоренены в бытии, либо человек – случайность механических взаимодействий.
Формы культуры есть не что иное как стилизованные человеком формы природы, хотя бы и существующие в последней до появления человека лишь потенциально (в реальной возможности). Сама по себе человеческая голова никакой культурной формы создать не может, и если она в самом бытии не может открыть света истины, если она не способна открыть истину самого бытия, хотя бы и существующую как тенденция его развития, то прав субъективный идеализм: истина есть только правильность, только субъективность и т. д. Далее, сам С. Н. Мареев утверждает, чтоидеальное – всегда «момент» какого-либо развития, но не полагает же он, что развитие возможно только в форме человеческойдеятельности. Между прочим, в форме человеческой деятельности развитие возможно только как совпадение человеческой деятельности и изменения обстоятельств, в противном случае мы имеем стихийное развитие, хотя и включающее в себя человеческую деятельность, но не как форму своего процесса, а как подчиненный ему момент. Если идеальное, как это утверждает С. Н. Мареев, есть лишь форма всеобщего, сущности для-нас [71; 151], то и действительными это всеобщее, сущность, закон могут бытьтолько для-нас.
Мы же полагаем, что как для Лифшица, так и для Ильенкова идеальное это все-таки всеобщее для себя, в той форме, в которой форма для другого (для нас в том числе)снята, присутствует как снятый абстрактный момент. Гегель в Малой Логике пишет, что «мы вообще должны понимать для себя бытие как идеальность... Идеальность не есть нечто, имеющееся вне и наряду с реальностью, а понятие идеальности, несомненно, состоит в том, что она есть истина реальности, т.е. что реальность, положенная как то, что она есть в себе, сама оказывается идеальностью… Идеальность, стоящая рядом с реальностью или даже над ней, была бы на самом деле лишь пустым названием. Идеальность обладает содержанием, лишь будучи идеальностью чего-то… основным определением идеальности должна быть реальность, а основным определением реальности – идеальность» [11; 237]. Выше мы уже отмечали, что так думал и М. А. Лифшиц.
Основаниями для высказываний о различии в понимании идеального, как представляется, служит абстрактное противопоставление таких работ, как «Проблема идеального» Э. Ильенкова (ВФ, 1979, №№ 6, 7) и «Об идеальном и реальном» М. Лифшица (ВФ, 1984, № 10). В первой принципиально различение «человека», как субъекта специфически человеческой деятельности, и «вещи вне человека», как лишь объекта этой деятельности (включая объективированные формы сознания). В ней утверждается абсолютная социальность природы символьно-знаковых свойств вещей, вне зависимости от того, что ими символизируется (означивается): формы общественного сознания (язык, икона и т.п.) или формы общественного бытия (монеты, орудия труда и т.п.). В последнем случае важно различать также, какие общественные отношения опосредствуются вещественно фиксируемыми представлениями: субъект-субъектные (монета) или же субъект-объектные (орудие труда)[1].
Полемическая направленность этой работы Ильенкова связана с противодействием фетишизму двоякого рода: натуралистическому пониманию символьно-знаковых свойств вещей, с одной стороны, и пониманию природных форм всего лишь как воплощенных идей, как творений, с другой стороны.
М. Лифшиц не без оснований опасался, что односторонняя интерпретация этой принципиальной позиции Ильенкова может привести к уступкам субъективному идеализму в его социологической версии, и поэтому в своей работе «Об идеальном и реальном» основной упор делал на то, что идеальное существует в объективном мире в качестве его естественных пределов, то есть как проявление собственной меры вещей, как ее действительное подтверждение, без чего вообще невозможно никакое развитие, никакое восхождение от низших форм к высшим. Развитие у Гегеля, как верно заметил С. Чернышев, - форма существования Идеального [106; 24]. Последнее положение есть, конечно, идеализм, но, поставив ее с головы на ноги, получаем: идеальное есть атрибутивный момент развития, внутренне необходимая форма опосредствования процесса развития, в том числе и в его высшей форме – в форме практического преобразования мира общественным человеком. Но здесь важно отметить, что развивается и само идеальное (вернее форма выражения всеобщего)[2], и есть большая разница между идеальным в процессе стихийного развития и идеальным, как моментом разумной субъективной деятельности человека. Различие идеального в природе и культуре будет подробно рассмотрено в главе второй настоящей работы.
М. Лифшиц утверждает, что категория истины, есть форма характеризующая не только мышление, но и бытие, что есть истина самих вещей [53; 124], [47]. Для материалистического понимания идеального необходимо материалистически прочесть высказывание Гегеля о том, что идеал есть действительное в его высшей истине, то есть необходимо понять идеальное как действительность истины, как условие истинного, как один из полюсов истины. «Можно сказать, что идеальное является признаком истинного бытия материального» [53; 124-125].
М. Лифшиц утверждает, что недопущение Ильенковым идеального в природе представляет собой определенную непоследовательность его мысли: «Ведь признает же он «всеобщее» объективной категорией, присущей и природе и обществу, а идеальное есть только определенная форма выражения всеобщего» [53; 126].
«Сказать, что в природе есть идеальное в виде «естественных пределов» или сказать, что в ней каждая вещь имеет свою собственную «форму и меру», – считает Лифшиц, – одно и то же. Мысль о том, что процесс исторической чувственно-предметной практики людей раскрывает в природе ее «чистые», не замутненные всякой случайностью объективные формы, есть мысль верная, но она совершенно не вяжется с другой мыслью, согласно которому идеальное присуще только человеческому миру» [53; 128].
Действительно с точки зрения объективной истины все равно объявлять ли идеальное продуктом индивидуального или же общественного сознания. С точки зрения материализма идеальное – всегда продукт развития материального мира. Но само развитие бывает разное и Лифшиц прекрасно понимает это: «Всякий идеализм состоит в насильственном сближении реальности с тем разумным смыслом, который присутствует в ней, но присутствует лишь потенциально как возможность развития в природе сознательного существа, способного извлечь эту возможность из природы и сделать ее чем-то действительным в процессе своей материальной жизнедеятельности. Без этого посредствующего звена тождество идеального и реального становится апологией мира сего, защитой того, что есть» [44; 63].
Что опосредствует развитие: игра случая[3] или целенаправленная деятельность человека, которая вовсе не где-то вне материальной природы обретается, а есть форма развития этой природы? Есть ведь такие «классические формы», которые никаким стихийным процессом, никакой игрой случая не могут быть опосредствованы, для этого необходим целенаправленно, сознательно действующий человек. Другое дело, что и формы сознания, и формы цели, не есть нечто внешнее природе – это ее собственные формы, предвосхищенные в человеческой деятельной способности. В деятельности человека действительно часто идеальное в форме деятельной способности первично по отношению к идеальному в форме наличного бытия предмета, но отсюда вовсе не следует, что это идеальное производно от воли и сознания, все обстоит как раз наоборот: только с обретением определенной деятельной способности, мало того, только с ее реализацией в предмете деятельности, человек обретает соответствующие формы сознания и воли. Деятельная способность сама по себе еще не есть идеальное, идеальным она выступает в форме для-себя-бытия, т. е. в форме самосознания, в форме сознательности.
М. Лифшиц опасался, что односторонняя интерпретация текстов Ильенкова может привести к непосредственному отождествлению форм сознания с идеальными формами, то есть к впадению в грех субъективного идеализма, против которого постоянно боролся сам Э. В. Ильенков. Такой грех порождается, как замечает М. Лифшиц, неизбежным преобладанием в классовом обществе «отвлеченной культуры духа, оторванной от физического труда» и противостоящей идеалу «высокой, очищенной от грубой вещественности, но все же реальной жизни» [44;138].
Э. В. Ильенков по существу утверждает, что форма представления только тогда становится в собственном смысле идеальным образом, когда она становится предметом субъективной деятельности человека, и последний может отнестись к ней критически, изменить ее в соответствии с самой действительностью. Поэтому идеальное в своей высшей, в своей собственной форме и существует только как момент такой деятельности. По меткому замечанию С. Чернышева [106; 25], форма деятельности первоначально пребывает вне человека и лишь затем втягивает его в себя, ибо, по Ильенкову, впрочем, как и по Гегелю и Марксу, «субъективная деятельность и есть постоянно длящееся отрицание наличных, чувственно воспринимаемых форм вещей, их изменение, их снятие в новых формах, протекающее по всеобщим закономерностям, выраженным в идеальных формах» [22;136].
Идеальные формы для человека это, прежде всего, формы субъективной человеческой деятельности и только вследствие этого – формы сознания, но формами субъективной человеческой деятельности они являются только потому, что они суть выражение всеобщих форм самой действительности и как таковые только и могут быть формами субъективной человеческой деятельности. Спиноза в доказательстве положения LII части IV «Этики» говорит, что «истинная способность к деятельности у человека… есть сам разум, который человек созерцает ясно и отчетливо» [101; 262]. Субъективная человеческая деятельность есть высшая форма развития объективного мира, сама она есть продукт его развития, просыпающийся в нем дух. Человеческое сознание, как не раз подчеркивал М. Лифшиц, есть не что иное, как сознанное бытие, причем сознанное бытие человека, ибо никаким иным бытием последний не обладает. Но человеческое бытие в его истине состоит в том, что он всю природу превращает в свое неорганическое тело, вследствие чего ее (природы) собственные чистые, всеобщие формы обретаютпредикаты субъективности, т.е.для себя действительности. Человеческая природа – это природа в ее истинности, конечно при истинном понимании самого «человеческого». Но человеческое бытие действительно, прежде всего, как субъективная человеческая деятельность, она и является первичным зеркалом, отражающимся в зеркале вторичном, в зеркале сознания. И если Ильенков называет идеальное «аспектом культуры», то при этом под «культурой» он понимает не что иное, как «всеобщее в человеке» [22; 333]. «Всеобщая «сущность человека» поэтому реальна только как культура, как исторически складывающаяся и эволюционирующая совокупность всех специфически человеческих форм жизнедеятельности, как их полный ансамбль» [22; 333].
Односторонняя интерпретация тезиса М. Лифшица о существовании идеального в природе в качестве ее естественных пределов, в свою очередь, способна привести к другой крайности, бывает ведь и объективный идеализм. Сам М. Лифшиц замечал: «Исходной аксиомой марксизма является убеждение в том, что идеальное есть лишь переведенное на язык человеческой головы материальное» [46; 179]. Этот перевод на язык человеческой головы осуществляется не в голове, а в самой действительности; последняя, только будучи переведена на язык человеческой головы может быть «пересажана» в эту голову и преобразована в ней. Другое дело, как понимать «человеческую голову», мышление. Критикуя точку зрения абстрактного созерцания, то положение К. Грюна и прочих «истинных социалистов», которое требует от индивида осознания своего единства с миром как способа снятия его действительной разорванности, М. Лифшиц замечает: «Маркс все же хорошо понимал, что этот мир становится для человека «своим» не в силу простого акта нашей созерцательной способности, а в результате длительной практической борьбы. Распредмечивание действительности, лишение ее грубо-вещественной формы само по себе есть материальный процесс, — процесс опредмечивания субъективных сил и способностей человека» [44; 166].
Рассматриваемая проблема впрямую связана с вопросом о предмете философии, а таким предметом и для Ильенкова, и для Лифшица непосредственно выступает как раз мышление, идеальное. Когда С. Н. Мареев пишет, что для спасения понимания «идеального» Ильенковым от обвинений в субъективизме, Лифшиц считал необходимым сделать займы у Гегеля, у которого идеальное существует объективно, он странным образом не замечает того, что весь критический пафос статьи Лифшица «Об идеальном и реальном» направлен как раз против той позиции Гегеля, согласно которой «всеобщее есть мысль и только мысль» [24; 275]. Как отмечает Ильенков: «У Гегеля лишь всеобщее имеет привилегию «отчуждаться» в формах особенного и единичного, а единичное оказывается тут лишь продуктом, лишь частным, а потому бедным по составу «модусом» всеобщности» [22; 338].
Критикуя такое понимание всеобщего, Ильенков отмечает, что в истории и не только человечества с его культурой – всегда происходит так, что явление, которое впоследствии становится всеобщим, вначале то возникает именно как единичное исключение «из правила» (но такое единичное, которое есть продукт не личного произвола, «не личной изобретательности, а личного умения чутко схватывать всеобщую необходимость») «...История имела бы весьма мистический вид, если бы все новое в ней возникало разом... как «общее» для всех без исключения, как внезапно воплощающаяся «идея»...» [22; 338].
Выше уже отмечалось, что идеальное, понимаемое как выражение всеобщего, есть момент любого развития. Гегель же, согласно и Лифшицу, и Ильенкову, признает «подлинное развитие» только за мышлением, а мир реально телесных вещей рассматривает как мир сосуществующих, рядоположенных образований [22; 342].
Предрассудок идеализма, что всеобщее есть только мысль, содержит в себе то рациональное зерно, что для человека всеобщее выявляется и фиксируется ближайшим образом именно в мысли. Именно посредством мысли (субъективной деятельности) всеобщее дается человеку в его чистом виде, в форме идеального. «Всеобщие формы, закономерности природного материала действительно проступают, а потому и осознаются именно в той мере, в какой этот материал уже превращен в строительный материал «неорганического тела человека»... и потому всеобщие формы «вещей в себе» выступают для человека непосредственно как активные формы функционирования его «неорганического тела»... Та же самая деятельность, которая преобразует (изменяет, а иногда и искажает) «подлинный образ» природы, только и может показать, каков он до и без субъективных искажений» [24;168-169].
Именно потому, что специфичность форм и законов мышления составляет их универсальность, «разумная онтология» возможна только как онтогносеология, как диалектическая логика. «Там, где объективный мир, не теряя своей материально-чувственной природы, обретает субъективные предикаты, наша собственная внутренняя субъективность, увлеченная его могучим влиянием, сама обретает черты объективности» [53; 121].
Платон в пятой книге «Государства» замечает, что «вполне существующеевполне познаваемо, асовсем не существующеесовсем и не познаваемо» [95; 257]. Т. е. познаваемо лишь бытие. «Знание по своей природе направлено на бытие с целью постичь, каково оно?..» [95; 257]. Знание же Платон понимает именно как деятельную способность, причем самую мощную. Способности не есть нечто вещественное и различить их можно только потому, «на что она направлена и каково ее воздействие». «Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства». Причем, по Платону, это именно совершенное («чистое») бытие, бытие же становящееся, отягощенное небытием, есть предмет не знания, но мнения. Поэтому знание – это созерцание вечно тождественного самому себе, существующего самого по себе [95; 261].
Отсюда следует, что не правы те, кто утверждают, что идеализм Платона заключается в отождествлении всеобщего и идеального – всеобщее у Платона идеально как одно, единое, индивидуальное, как эйдос, как образец. Идеализм здесь заключается в другом, а именно в утверждении, что так понимаемое идеальное невозможно усмотреть в окружающем человека мире реальных вещей, что оно составляет другой трансцендентный нашему миру вещей мир – мир подлинного бытия, истины бытия. Поэтому и познание Платон понимает как воспоминание[4], ибо, только освободившись от тела, человеческая душа становится причастной миру эйдосов, и только так она способна их познать. Первый мир есть лишь объект наших чувств, второй мы можем только мыслить: «Мы говорим, что те вещи можно видеть, но не мыслить, эти же, напротив, можно мыслить, но не видеть» [95; 289]. Вот в этом абстрактном, абсолютном противопоставлении чувства и мысли, чувственного и мыслимого, в конечном счете, и заключается идеализм во всех его разновидностях, но вовсе не в признании объективного полюса идеального, объективности идеального.
Идеальное, понимаемое как деятельная способность, как деятельная форма, и возможно только в единстве его объективного и субъективного полюсов. Интересно, что при обосновании этого единства Платон использует аналогию со светом, о которой уже шла речь в начале данного параграфа: «Немаловажным началом связуются друг с другомзрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься; их связь ценнее всякой другой» [95; 290]. Речь идет о единстве субъективной способности воспринимать и объективной способности восприниматься, только такое единство суть деятельная способность. Такая связь в данном примере есть свет. И только потому, что благо, по Платону, - единство мыслящего и мыслимого, способности мыслить и способности быть мыслимым, здесь возникает аналогия со светом. «Чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно воспринимаемым вещам» [95; 290]. Свет, таким образом, рассматривается как подобие (образ) идеального в чисто философском, но не в физическом смысле.
Видеть предмет в сиянии дневного света или же в ночи – большая разница. «Считай, что так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, что показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума… Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага – причиной знания и познаваемости истины» [95; 290-291].
Таким образом, идеальное есть то, что опосредует способность познавать и способность быть познанным, способность мыслить и способность быть мыслимым, это их тождество – тождество бытия и мышления, бытия и знания. Идеальное – то, в чем (в свете чего) светится истина или полнота (подлинность, совершенство) бытия. Платон говорит далее: «Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться лишь благодаря благу, но оно дает им и бытие, и существование, хотя само оно не есть существование, оно – за пределами существования, превышая его достоинством и силой» [95; 291]. Идеализм здесь лишь в «за пределами существования», если же сказать, что идеальное – предел существования – актуальная бесконечность, то здесь никакого идеализма не будет. «В том, что познаваемо, идея блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она – сама владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни» [95; 298].
Схватить в становлении бытие, в конечном – бесконечное; в этом, как представляется, и заключается суть диалектической способности, мышления, делающего своим предметом собственные предпосылки, себя самого. Поэтому, именно абстрактное (чисто рассудочное) противопоставление бытия и становления, мыслимого и чувственного приводит к тому, что любой идеализм в конечном счете всегда изменяет диалектике. «Как глазу невозможно повернуться от мрака к свету иначе, чем в месте со всем телом, так же нужно отвратиться всей душой от всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо» [95; 299]. Идеализм не желает различить в становлении бытие, он их абстрактно противопоставляет, раздувает относительное преимущество бытия в абсолют, тем самым выступая как противостоящий развитию консервативный фактор, не понимая, что бытие нуждается в относительном небытии и что, не будь последнего, не было бы и примата бытия. Он отказывает в понимании бытия как становления, как единства с небытием.
О значении объективного полюса идеального говорит и Гегель: «Мышление в сознании абсолютного своего права быть свободным упорно полагает, что оно примирится хотя бы и с превосходным содержанием лишь постольку, поскольку последнее сумеет сообщить себе форму, которая вместе с тем наиболее достойна и самого этого содержания, - форму понятия, необходимости, которая связывает все и вся, связывает как содержание, так и мысли и именно этим делает их свободными» [11; 71-72].И далее. «Сказать, что в мире есть рассудок, разум, равнозначно выражению: объективная мысль. Но это выражение неудобно именно потому, что слово мысль слишком часто употребляется в значении того, что принадлежит лишь духу, сознанию, а слово объективное употребляется обычно в значении недуховного… Во избежание недоразумений лучше не употреблять выражения мысль, а говорить: определение мышления» [11; 121].
Возвращаясь к определению идеального как для себя всеобщего, необходимо заметить, что именно отсюда следует, что идеальное в своей высшей форме возможно только в мире человека. Так, у Гегеля только человек есть для себя всеобщее: «Человек есть мыслящее существо и есть всеобщее; но он есть мыслящее существо лишь постольку, поскольку для него существует всеобщее. Животное есть также в себе всеобщее, но всеобщего как такового для животного не существует, для него всегда есть лишь единичное. Животное видит лишь единичное… Чувственное ощущение также имеет дело лишь с единичным (эта боль, этот приятный вкус и т.д.). Природа не доходит до осознания (нус); только человек удваивает себя таким образом, чтоон есть всеобщее для всеобщего[11; 122]».
И далее: «…Духовная жизнь отличается от природной и, более определенно, от животной жизни тем, что она не остается в своем в-себе-бытии, а есть для себя» [11; 129].
Лифшиц замечает, что необходимо различать два термина, используемые Марксом: «ideelle» и «ideale». Первый означает нечто, существующее лишь в «голове», второй – «материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Когда Ильенков говорит об «идеальности» формы стоимости у Маркса, то речь у него везде идет об «идеальности» в первом значении. «Под IdeelleГегель имеет в виду то, что существует так сказать в плане развития, но еще не определилось, не является самобытием, но существует для ума… речь здесь идет о предвосхищении будущего развития определенной реальности. Это предвосхищение, по идее уже налицо, но реально не существует» [53; 130]. Можно сказать, что «ideelle» – это такой момент развития, когда нечто существует только через свое инобытие и не достигло еще момента себетождественности бытия.
Действительно Гегель четко различает указанные категории. Так, в § 95 Малой Логики он замечает: «ImFürsichseinistdieBestimmungderIdealitäteingetreten. Das Dasein Zunnächstnur nach seinem Sein oder seiner Affirmation aufgefasst, hat realität (§ 91), somit ist anch die Endlichreit Zunachst in der Bestimmung der Realität. Aber Wahrheit des Endlichen ist vielmehr seineIdealität. Ebensoserh ist anch das Verstandes – Unendliche, welches, neben das Endliche gestellt, selbst nur eins der beiden Endlichen ist, imunwarhres, ein ideelles [113; 115]. («В для-себя-бытии выступает определениеидеальности. Наличное бытие, взятое ближайшим образом лишь со стороны его бытия или его утвердительности, обладает реальностью (§ 91) и, следовательно, конечность также ближайшим образом выступает в определении реальности. Но истину конечного составляет, наоборот, егоидеальность. И точно так же бесконечное рассудка, которое ставится им рядом с конечным, само есть одно из двух конечных, есть неистинное, идеальное[11; 236].).
Ideelle есть нечто существующее лишь «по идее» («в-себе, т. е. согласно понятию» [11; 354]) , лишь в плане возможного развития, лишь как потенция, или, наоборот, как уже идеализованная, ассимилированная конкретностью абстрактная определенность. Ideelle – такое идеальное, которое не есть реальное, но абстрактно противостоит последнему. Это – лишь в-себе-бытие, нечто, не достигшее еще своей истины или для-себя-бытия, такое бытие, которое, скорее, есть небытие, т. е. не есть еще истинное бытие. Это не значит, что ideelle есть нечто плохое, но значит, что оно весьма противоречиво. Движущим принципом всякого развития является влечение из в-себе-бытия в для-себя-бытие. Ничто не может стать реальным, не пройдя стадии идеальности (ideelle) и не достигнув порога реальности (ideale).
«Движение понятия есть, напротив, развитие, посредством которого полагается лишь то, что уже имеется в себе. В природе ступени понятия соответствует органическая жизнь.Так, например, растение развивается из своего зародыша. Последний содержит в самом себе уже все растение, но идеальным образом, и мы не должны понимать его развитие так, будто различные части растения… уже существуют в зародыше реально, но только в очень малом виде. Недостаток этой так называемой гипотезы включения состоит, следовательно, в том, что то, что пока имеется лишь идеально, рассматривается как уже существующее», - т. е. как сущая определенность – реальность [11; 343]. Зародыш, как растение по идее, имеет свои особенности только в себе. Это особенное «полагается лишь тогда, когда зародыш раскрывается, что должно рассматривать как суждение о растении. Этот пример… может сделать для нас ясным, что ни понятие, ни суждениене находится только в нашей головеи не образуются лишь нами. Понятиеесть то, что живет в самих вещах, то, благодаря чему они суть то, что они суть, и понять предмет означает, следовательно, осознать его понятие» [11; 352]. Здесь опять-таки понятие – переведенное на язык человеческой головы материальное, предметное бытие, но «язык человеческой головы» – язык самой объективной реальности. Поэтому противоположностью объективного является вовсе не вообще субъективное, понятие, но лишь субъективное, нечто сущее лишь для субъекта, лишь по идее (ideelle), так, например, растению противостоит зародыш, как растение, объективная (собственная всеобщая и необходимая) определенность которого еще не существует реально; точно также конкретная полнота определений мысли о предмете противостоит еще не развитой совокупности определений мысли, еще не истиннымабстракциям.
Все, что живет, есть в какой-то степени ideelle, причем в двух смыслах: оно находится в развитии, в бесконечном движении становления и, во-первых, есть нечто, что еще только возможно будет, а, во-вторых, в нем самом в снятом виде живет нечто, ранее достигшее известной степени самобытия. Так, в современных классических литературе и изобразительном искусстве живут древнегреческий эпос и пластика, и только поэтому они до сих пор живы и сами по себе, т. е. они остались для нас ideal, потому что ideelle присутствуют в художественной мысли, в духовно-практической деятельности современного человека. И наоборот, они присутствуют там ideelle, только потому, что сами по себе они – ideal. Когда говорят, что знаки духовной культуры, взятые сами по себе, - только ideelle, то здесь для них слишком много чести: взятые в отрыве от культуры, от ideale, они уже даже и не ideelle, но лишь мертвая предметность.
Таким образом, не только лишь то может стать для-себя, что первоначально было в-себе, но и всякое для-себя может быть сохранено только в снятии самого себя, только в дальнейшем развитии. Для того, чтобы Ideale не превратилось «в покинутую духом» мертвую форму культуры, оно должно принять определение ideelle.
Мы видим, таким образом, что ideelle выступает также в значении чего-то несамостоятельного, снятого в том, что более конкретно, в некоей целостности, тотальности,полноте того, что есть лишь момент. Так, Гегель замечает, что в единстве лейбницевской монады «всякое различие существует лишь как идеальное, несамостоятельное. Ничто не проникает в монаду извне, она есть в себе целиком все понятие, отличающееся большей или меньшей степенью собственного развития [11; 383]». То же самое относится и к живому организму: «Ничто не проявляется в нем как самостоятельное, каждая определенность есть в то же время и идеальное… в животном организме внеположенность его частей обнаруживается во всей своей неистинности» [12; 17]. Идеальностью (в смысле ideelle) Гегель называет снятие внешности, принадлежащее понятию духа: только через это возвращение в себя, «через эту идеализацию, или ассимиляцию, внешнего дух становится духом и есть дух» [12; 19].
В Малой Логике есть место, в котором Гегель употребляет термин ideelle одновременно в обоих его значениях – в значении «потенции» и в значении «снятого». Он говорит об абсолютной идее, что «она есть свое собственное содержание, поскольку она есть идеальное различение самой себя от себя» [11; 419-420]. И все развитие, по Гегелю, заключается в том, что абсолютная идея полагает то, что она есть в-себе, - свое собственное саморазличение, а затем снимает его, в результате чего она теперь знает себя как саму себя, знает свое собственное содержание.
Мы уже говорили выше, что для Гегеля идеальное (ideale) или идеальность (idealität) означают истину реального, а эта истина, как идея есть «единство идеального и реального» [11; 402] («IdeellenundReellen» [113; 183]. Это означает также, что реальность в своем развитии стремится к своей высшей – идеальной (ideale) форме, а идеальное (ideelle), в развитии должно стать реальным, обрести реальность.
Помимо идеального как еще нераскрывшегося или уже снятого момента некоторой целостности, полноты, некоторого самобытия, Гегель употребляет термин «ideelle» и для характеристики природы того, что содержит в себе свои моменты, как и моменты своего становления в снятом (несамостоятельном, положенном) виде. Так, в частности, он характеризует чувствующую душу при переходе ко второй части антропологии в «Философии духа» своей «Энциклопедии философских наук»: «…Хотя душа не имеет еще никакого сознания об этой своей идеальной природе, она тем не менее представляет собой идеальность, или отрицательность, всех многообразных видов ощущений, которые,по-видимому, существуют в ней каждое для себяи безразличны по отношению друг к другу» [12; 128].
Для Гегеля быть снятым означает прежде всего быть переведенным в форму мысли, вернее, вмысленную форму, в ideelle, а поскольку всякая действительная философия имеет непосредственным предметом своего исследования именно такие формы, формы мысли как таковые (формы мысли в виде мысленных форм), то, по Гегелю, всякая действительная философия есть идеализм: «Положение о том, что конечное идеально (ideelle - В. Л.), составляет идеализм. Философский идеализм состоит только в том, что конечное не признается истинно сущим… Первоначала (Prinzipien) древних или новых философских учений – вода или материя или атомы – суть мысли, всеобщее, идеальное (ideelle. – В. Л.) а не вещи… в их чувственной единичности… Назвав только что принцип, всеобщее, идеальным, еще с большим правом должно назватьидеальным(ideelle) понятие, идею, дух» [13; 221-222]. Но так понимаемые понятие, идея, дух есть то, чему противостоят единичное и особенное, единичные чувственные вещи, как самостоятельно сущие. «Когда говорят об идеальном, имеют в виду прежде всего форму представления, и идеальным называют то, что вообще имеется в моем представление или в понятии, в идее, в воображении и т. д., так что идеальное вообще признается и фантазиями – представлениями, которые как предполагают, не только отличаются от реального, но по своему существу не реальны… В простоте «Я» такого рода внешнее бытие лишь снято, оно для меня, оно идеально во мне» [13; 221-222].
«Идеальное (ideelle) есть конечное, как оно есть в истинно бесконечном… не есть нечто самостоятельно сущее, а дано как момент». Поэтому «ideale», имеющему, как это замечает Гегель, более определенное значение (прекрасного и того, что к нему относится), а относится к нему, как это мы представляем, истина и благо, здесь еще и не место [13; 214-215]. А где место ideale? «Телеология вообще обладает более высоким принципом – понятием в своем существовании, каковое понятие в себе и для себя есть бесконечное и абсолютное, - принцип свободы», абсолютно лишенный внешней определенности [14; 188-189].
Выше уже говорилось, что идеальное есть определенное выражение всеобщего, однако, есть всеобщее и всеобщее: «Такое всеобщее, под которое только подводится [единичное], есть нечто абстрактное, становящееся конкретным лишь в чем-то ином, в особенном. Напротив, цель есть конкретное всеобщее, имеющее в самом себе момент особенности и внешней проявленности; оно поэтому деятельнои есть побуждение отталкивать себя от самого себя» [14; 191]. «Конкретное понятие – равное самому себе всеобщее» [14; 193].
Почему именно с рассмотрением телеологического процесса возникает необходимость в использования понятия ideale – идеальное, в противоположность ideelle как лишь «идеализованному» (лишь мысленной определенности), хотя Гегель нигде в «Учении о понятии», в «Субъективной логике» не использует термин ideale, предпочитая говорить не об «идеальном», но об «идее»? Да потому, что понятие здесь становится для-себя-бытием; потому, что отрицательное отношение целесообразной деятельности к объекту есть«переход объективности в самой в себе в цель», или, что то же самое «перевод понятия, существующего отчетливо как понятие, в объективность» – слияние «понятия с самим собой через самого себя»; потому, что «содержание цели и есть это тождество, существующее в форме тождественного»; потому, что «объективная цель не только в себе остается равной себе, но и существует как то, что остается равным себе»; потому, что телеология есть «становление уже ставшего… в ней обретает существование уже существующее» [14; 198-201]. Гегель, правда, называет такое понятие, которое как для-себя-сущее тождество отличное от своей в-себе-сущей объективности, тем не менее в этой внешней целокупности есть самоопределяющее ее тождество, не идеальным – ideale, а идеей, но мы можем сказать, что идея здесь есть не что иное как идеальное(ideale) понятие, поскольку это все-таки «Наука логики», а в логике идеальное является предметом исследования именно как идея, причем как идея в абстрактной стихии мышления [11; 107], или как «изображение бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа» [13; 103]; «идея, в себе и для себя истинное, есть по существу своему предмет логики» [14; 217]. «Идея есть адекватное понятие, объективно истинное или истинное, как таковое. Если что-либо истинно, оно истинно через свою идею, иначе говоря, нечто истинно лишь поскольку оно идея» [14; 209].
Э. В. Ильенков, критикуя определение Д. И. Дубровским «идеального» как любого психического состояния отдельной личности, как любого состояния ее сознания вне зависимости от его объективности, от его отношения к истине, писал: «…Философия, как особая наука, разрабатывала и разработала категорию «идеального» именно в связи с проблемой истинности… Проблема идеальности всегда была аспектом проблемы объективности («истинности») знания» [22; 231-232]. Но истина имеет не только гносеологический, но и онтологический статус: «…Все действительное есть лишь постольку, поскольку оно имеет внутри себя идею и выражает ее (таким образом идеальность есть не что иное как мера действительности. – В. Л.)… Реальность, не соответствующая понятию, есть просто явление, нечто… случайное, произвольное, что не есть истина» [14; 211]. «Вот эта-то своеобразная категория явлений, обладающих особого рода объективностью, т. е. совершенно очевидной независимостью от индивида с его телом и «душой», принципиально отличающейся от объективности чувственно воспринимаемых индивидом единичных вещей, и была когда-то «обозначена» философией как идеальность этих явлений, как идеальное вообще» [22; 232]. Поэтому непосредственноотождествлять ideale с ideelle, с тем, что существует не на самом деле, а только в воображении, можно только в рамках, по словам Э. В. Ильенкова, однобокого эмпиризма Локка, Беркли, Юма и т. д., теснейшим образом связанного со средневековым номинализмом, утверждающим «будто «на самом деле» существуют лишь отдельные, единичные, чувственно воспринимаемые «вещи», а всякое всеобщее есть лишь фантом воображения, лишь психический феномен…» [22; 233]. А отсюда уже недалеко до субъективной абстракции мыслимой формы и бесформенной материи [14; 211].
«Бытие достигло значения истины, поскольку идея есть единство понятия и реальности; бытием обладает теперь, следовательно лишь то, что есть идея… В том, что действительные вещи не совпадают с идеей, выражается их конечность, неистинность, в соответствии с чем объекты определяются механически, химически или внешней целью» [14; 212].
Итак, идеальное есть совершенная объективность, всеобщая единичность или индивидуальная всеобщность. Гегель называет действительной индивидуальностью соотносящееся с собой для-себя-бытие [14; 226]. «Род… всеобщность имеет действительность в образе единичности; это – понятие, реальность которого имеет форму непосредственной объективности» [14; 230].
«Мышление, дух, самосознание суть определения идеи, поскольку она имеет своим предметом самое себя и поскольку ее наличное бытие, т. е. определенность ее бытия, есть ее собственное отличие от самой себя» [14; 233]. Идеальное отражается как идеальное.Да и вообще отражается только отражаемое, т. е. идеальное в предмете, если, конечно, не понимать отражение механистически. В доказательстве положения II части III «Этики» Спиноза утверждает, что «все состояния (модусы) мышления имеют причиной Бога, поскольку он есть вещь мыслящая, а не поскольку он выражается другим атрибутом» [101; 125].
В-себе-сущее (ideelle. – В. Л.) выступаетлишь как нечто субъективное, иначе говоря, онолишь положено в определении понятия, но в силу этого еще не таково в себе и для себя… Идея есть для себя сущее понятие и бесконечное всецело внутри себя…» [14; 244-245]. Несколько упрощая, можно сказать, что ideelle есть действительность как идея, как только мыслимая действительность, как лишь ее абстрактная определенность, а ideale – идея как действительностьили действительная идея. Или еще, необходимо различать ideale как форму мышления и ideelle как лишь мысленную форму. «Предмет, каков он без мышления и без понятия, есть некоторое представление или дажетолько название; лишь в определениях мышления и понятия он есть то, что он есть» [14; 298].
Гегель начинал свою Логику с абстрактного непосредственного бытия и в итоге пришел к абсолютной идее, которая единственно лишь есть бытие [14; 288]. Движение вперед было бы чем-то лишним, «если бы то, с чего начинают, уже было по истине абсолютным; движение вперед состоит скорее в том, что всеобщее определяет само себя и есть всеобщее для себя, т. е. точно также есть единичное и субъект. Лишь в своем завершении оно абсолютное» [14; 294]. Таким образом, Логика Гегеля есть историческая теория или теоретическая история развития идеального, как идеи. «Метод есть чистое понятие, относящееся лишь к самому себе; поэтому онпростое соотношение с собой, которое естьбытие» [14; 309].
Э. В. Ильенков замечает: «Несомненно, что «идеальное», понимаемое… как всеобщая форма и закон существования и изменения многообразных, эмпирически-чувственно данных человеку явлений… в своем «чистом виде» выявляется и фиксируется только в исторически сложившихся формах духовной культуры, в социально значимых формах своего выражения…» [22; 235]. Эта мысль Э. В. Ильенкова не означает, во-первых, что всякая социально-значимая или культурная форма – идеальная форма, и, во-вторых, что идеальное это только аспект культуры, что оно существует только в обществе. Всякий подлинный аспект культуры, - замечал М. А. Лифшиц, - идеален [53; 139], но обратная мысль отнюдь не верна.
Нельзя согласиться с Э. В. Ильенковым, что идеальность – это «своеобразная печать, наложенная на вещество природы общественно-человеческой жизнедеятельностью» [22; 256]. Любую вещь можно преобразовать только в соответствии с ее собственной внутренней логикой, логикой ее развития. Природа не воск, ее нельзя месить как тесто. И здесь не имеет значения, идет ли речь об общественном или индивидуальном: как сказал однажды Маркс, воля народа так же мало может выйти за пределы законов разума, как и воля отдельного человека [77; 285], а, по словам того же Маркса, разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме [77; 380].
Представляется правомерным говорить об идеальности вещей как об их символьно-знаковой функции. Но символическая функция вещи, в противоположность ее знаковой функции, для которой объективная форма вещи более безразлична, всегда опирается на объективную идеальность вещи, не зависящую от человека с его деятельностью, с его сознанием и волей. «Когда материальная субстанция факта становится ничтожной по сравнению со всеобщей нагрузкой, которую он несет, перед нами начало языка и мышления… Дальнейший вопрос – каким образом осуществляется уравнение того и другого (факта и его всеобщего смысла. –В. Л.). Есть разница между простым внешним знаком всеобщего содержания и более жизненным подобием, определяющим своеобразие всей художественной сферы» [41; 103]. В художественном произведении, - пишет М. А. Лифшиц, - отражается то, что само имеет свойство отражаемости. «Для диалектической теории отражения роль зеркала начинается в самом объективном мире. Истина не только мера соответствия нашей идеи предмету (veritascognitiva), она также прежде всего мера соответствия предмета самому себе, его идентичности (veritasobjectiva). Чтобы узнать что-нибудь, нужно определить, то ли это на самом деле, что нам представляется… равно ли истинное государство своим существенным признакам или оно еще не достигло равенства себе? Только то, что определилось в развитии на своей собственной основе, что, возвращаясь к себе, подтверждает свое бытие, только это объективное содержание обладает достаточной зеркальностью и может сказаться, видеться, слышаться в образах искусства [41; 114-115].
Почему, как выразился С. Н. Мареев, Лифшиц считал необходимым сделать займы у объективного идеализма, у Гегеля, Шеллинга, Платона и Аристотеля. Вот как об этом говорил сам М. А. Лифшиц: «Идеализм является реакционным мировоззрением (в последнем счете), но в истории философии до Маркса и Энгельса идеалисты развивалисубъективную, деятельную сторону, иначе – диалектический метод, а старый материализм неизбежно носил ограниченный, метафизический характер» [45; 229]. Одно из двух, либо деятельная форма существует только в общественном развитии, а, следовательно, диалектика применима только к общественным процессам, и мыслить можно только общественные формы, либо диалектика, деятельная форма универсальны, а стало быть универсальна необходимая (атрибутивная) категория диалектики – категория идеального. Мистика не в том, чтобы вне человека существовали деятельные формы, а в том, что деятельные формы присущи исключительно человеку, ибо в последнем случае только мистически можно объяснить их рождение.
Э. В. Ильенков, как известно, сам считал себя спинозистом. Но, по Спинозе, любую вещь, а не только вещь мыслящую, можно рассматривать как под атрибутом протяжения, так и под атрибутом мышления, т. е. под атрибутом закона ее порождения, развития, формы полноты ее бытия. Таким образом, любую вещь можно рассматривать как деятельную способность. В противном случае, либо немыслящие вещи не субстанциальны, либо мышление не есть атрибут субстанции, иного не дано. И здесь не помогут заверения в том, что социальная материя это тоже материя [71; 114].
С. Н. Мареев пишет, что идеальное в мышлении проявляется прежде всего как момент отрицательности, как чистая негация; без этого нет идеального, нет мышления и нет диалектики [71; 147]. Но о какой отрицательности идет речь? Если эта отрицательность носит абстрактный характер, то мы имеем здесь то, что молодой М. А. Лифшиц в несколько экспрессивной форме назвал «диалектикой дураков» [44; 234]. «Между тем «отрицательное» и есть элемент движения, а «положительное» воспроизводит… исходное положение на высшей ступени». Здесь имеет место кругообразный ритм поступательного движения [44; 234]. Истинное, конкретное положительное утверждает себя в отрицании отрицания, и нет большей разницы между пределом полноты и конкретности отрицания отрицания и пределом абстрактного выравнивания всех потерь в бесконечном развитии. В реализации отрицания отрицания в данных конкретных масштабах, а не в отдаленной перспективе, М. А. Лифшиц видит основание такого понятия как «классика» [44; 227].
Вот что пишет по данному вопросу Гегель: «Только что рассмотренная отрицательность составляет поворотный пункт в движении понятия. Она простой момент отрицательного соотношения с собой, глубочайший источник всякой деятельности, живого и духовного самодвижения, диалектическая душа, которая все истинное имеет в самом себе и через которую оно только и есть истина; ведь единственно лишь на этой субъективности основываетсяснятие противоположности между понятием и реальностью и [их] единство, которое есть истина. –Второе отрицательное, отрицательное отрицательного, к которому мы пришли, есть указанное снятие противоречия, но оно, точно так же как противоречие, не есть действие некоторой внешней рефлексии; оно сокровеннейший, объективнейший момент жизни и духа, благодаря которому имеет бытие субъект, лицо, свободное» [14; 301]. Это второе отрицательное Гегель называет также «абсолютной отрицательностью» [14; 302]. В этом смысле идеальное можно характеризовать как абсолютно положительное.
Но вернемся к диалектике идеального у Ильенкова. Лифшиц заметил, что говоря о деятельности общественного человека, Ильенков опускает различение между ideelle и ideale. Об этом различии забывать нельзя, без него нет конкретного понимания идеального. Но в том то и дело, что только в деятельности общественного человека (для уточнения добавим, именно в такой деятельности, которая совпадает с развитием, которая есть развитие) идеальное и выступает во всей своей конкретной полноте, в единстве ideale и ideelle. Такого единства действительно нет в дочеловеческой природе, оно возможно только в культурно-исторической практике, однако – не в любой человеческой деятельности и не в любом социальном процессе, но только в сознательной и свободной.
В своей книге про Э. В. Ильенкова С. Н. Мареев, между прочим, отмечает, что способность воображения невозможно понять, оставаясь на точке зрения механического материализма. Он пишет, что «воображение есть отрицание отражения» [71; 42]. Это так, но какого отражения? Механически понимаемого! Но механически понимаемое отражение – это как раз такое отражение, когда материальное отражается как материальное, самый яркий пример из криминалистики – дактилоскопия, здесь надо идентифицировать абстрактную единичность, ту самую песчинку, которая абсолютно неповторима. Воображение – введение (вхождение) во образ никогда не стало бы способностью человеческого мышления, если бы оно не было универсальной формой развития, самоутверждения вещей. Поэтому воображение есть определенность не человеческого отражения, но отражения вообще, если оно, конечно, понимается не механически, и, если, конечно, не считать дочеловеческое развитие мира механическим процессом. И совершенно справедливо, что отражение, как и воображение, есть деятельность. Отсюда и субстанциальность различения материального и духовного, которое «не зависит от человека и человечества. В качестве важной теоретической грани оно имеет всеобщее, «допотопное» существование» [47; 129].
1.4. Попытка синтеза
В философской литературе последних лет имеет место попытка синтезировать деятельностный и информационный подходы к проблеме идеального. Так, К. Любутин и Д. Пивоваров полагают, что концепции «идеального» у «идеалиста» Гегеля и «материалистов» Дубровского, Ильенкова и Лифшица вышли из некогда единой точки зрения [69; 22], т. е. получается, что каждый из указанных исследователей развивал абстрактно одну сторону проблемы, а К. Любутин и Д. Пивоваров претендуют на то, чтобы из этих абстрактно односторонних подходов синтезировать конкретный, истинный подход к проблеме идеального.
К. Любутин и Д. Пивоваров пытаются интерпретировать «теорию рефлексии Гегеля» на геометрический лад [69; 23-42]. «Способность вещи как объекта оказывать сопротивление внешнему для нее субъекту именуется философски «материальностью»: взятая со стороны своих внешних пространственных границ, вещь обладает свойством материальности» [69; 24]. Однако, если «Науку логики» Гегеля интерпретировать как «теорию рефлексии», то надо заметить, что в ней речь идет не о взаимоотражении и взаимопереходе друг в друга вещей, не о «рефлексии» вещей, но о «рефлексии» категорий. Так инобытием «качества» выступает «количество», а единство обоих противоположных моментов в их взаимопереходе дает становление «меры» и т.д. Если же мы обозначим «А» единичную вещь, а «В» – существующую наряду с ней и даже находящуюся с ней во взаимодействии другую единичную вещь, то «А» никогда не сможет перейти в «В», никогда не сможет стать «В». «А» в своем развитии может получить систему определений «В» и таким образом стать равной «В», но она никогда не сможет стать «В» в ее единичности. Если «А» и «В» – единичные вещи, то как таковые они не могут выступать как инобытие друг друга, не могут по той причине, что они абсолютно тождественны в своей единичности (один равен одному) и не могут являться противоположностями. Любутин и Пивоваров, как это видно из текста, понимают, конечно, что у Гегеля речь идет о всеобщих определениях вещей, но не о самих вещах, но в то же время говорят о каких-то «изменяющихся внутри А и В копиях друг друга» [69; 36].
«Отсутствие у рефлексии, как количественной определенности, твердых границ служит теоретическим объяснением невозможности ее фиксации органами чувств. Происходя на уровне сущности почти на всем своем протяжении и преимущественно выступая как сущность какого-либо отдельног
В советской философии проблема «идеального» была наиболее полно разработана именно в трудах Э. Ильенкова и М. Лифшица. До сих пор продолжаются дискуссии о единстве и различии в понимании «идеального» этими философами. Среди философов, в том числе относящих себя к ученикам М. Лифшица и Э. Ильенкова, бытует представление о некоем существенном различии в понимании категории «идеального» у этих двух выдающихся мыслителей.
С. Н. Мареев в своей книге про Ильенкова [71] следующим образом полемизирует с пониманием идеального у А. Ф. Лосева и М. А. Лифшица: «Если идеальное – нетелесно, то отсюда не следует, что все нетелесное идеально. Ведь не телесны всякие физические поля, нетелесен свет. Вообще тело – это, строго говоря, только механическая реальность» [71; 150]. Речь здесь идет об идеальности или не идеальности законов природы, ведь эти законы невещественны. Критикуя лосевское понимание закона природы как идеи, как идеального, С. Н. Мареев почему-то счел необходимым покинуть область философии и перенести дискуссию в рамки предмета физики. В этой науке, между прочим, бытует представление о существовании двух видов материи – вещества и поля. Представление это – ложно, поскольку некритически, формально, переносит деление науки физики на деление ее объекта – физической материи. В действительности вещество и поле существуют не наряду друг с другом, а в нераздельном единстве, или, повторяя формулу Спинозы, - как два атрибута одной и той же субстанции, в данном случае – физической материи. У С. Н. Мареева получается, что закон природы невещественен также как и такие ее явления, как поле, свет, волна. Но закон природы это все-таки не явление. Кроме того, наряду с волновой теорией света существует, как это известно, еще и корпускулярная теория; помимо механики тела, существует еще и так называемая механика сплошных сред, т. е. полевых структур, и если бы эта механика не рассматривала газ, жидкость, кристаллические образования как нечто сплошное (полевое, «невещественное»), то человек никогда бы не поднялся ни в воздух, ни в космос, не смог опуститься бы в морские глубины, ни в теории (без газо- и гидродинамики), ни на практике (без такой науки как «сопротивление материалов»). Непрерывность и дискретность – не свойства разных рядоположенных объектов, а два аспекта рассмотрения одного и того же объекта.
«Если идеальное – нетелесно, то отсюда не следует, что все нетелесное идеально», - пишет С. Н. Мареев [71; 150]. Однако в философии это именно так, и М. А. Лифшиц замечал по этому поводу, что идеальное в философии диалектического материализма противостоит не материальному, ибо с точки зрения этой философии ничего нематериального нет (что также подчеркивал и Э. В. Ильенков [22; 235]), но реальному. Это материальное не всегда реально, но не наоборот. Действительно, Гегель замечает по этому поводу: «…Часто говорят о реальности еще и в другом смысле (первый смысл есть наличное, предметное, бытие. – В.Л.) и понимают под ней то, что нечто ведет себя соответственно своему существенному определению или своему понятию. Так, например, говорят: это – реальное занятие или: это реальный человек. Здесь речь идет не о непосредственном, внешнем наличном бытии, а, скорее, о соответствии некоего налично существующего своему понятию. Но так понимаемая реальность уже более не отличается от идеальности (deridealität), с которой мы ближайшим образом познакомимся как с для-себя-бытием» [11; 230].
Что же касается «идеальности света», то необходимо заметить, что в философии категория «света» также имеет свою специфику, как и категория «вещественности», «телесности». В Книге Бытия Библии свет определяется как основа всякого божественного творения, и хотя Господь творил по слову, первым его творением был именно свет. Почему? По той простой причине, что все остальное может быть сотворено только в свете, во тьме что-либо определенное сотворить невозможно, а если и возможно, то нельзя сказать хорошо ли творение. Любой предмет может быть нам дан только в свете, не только в первоначальном смысле зрительного восприятия; отталкиваясь от этого первоначального значения, свет становится символическим выражением всеобщей способности различения объективных определенностей, которые в потенции суть определенности мышления. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме», - эти слова из Экклезиаста Э. В. Ильенков приводит в письме к своему слепоглухому воспитаннику А. В. Суворову [22; 447].
Мы согласны с С. Н. Мареевым, что любой закон идеален только как деятельная форма (деятельная способность), что «идеальна идея закона», но это не значит, что мы считаем, что деятельная форма всегда обладает статусом субъекта, что онатолько нашадеятельная форма. «Отождествлять закон с идеей нельзя», - утверждает С. Н. Мареев [71;150], мы же добавим одно только слово: нельзя отождествлять непосредственно. Непосредственно никакой закон не действителен, он действителентолько как деятельная форма, он и есть лишь как деятельная форма, всякое иное понимание закона не имеет никакого смысла. И здесь позиция С. Н. Мареева отличается от позиции А. Ф. Лосева и М. А. Лифшица, а заодно и от позиции Платона, лишь тем, что последние признают, по выражению П. Д. Юркевича, «объективного деятеля» [112; 11, 21]. П. Д. Юркевич по этому вопросу замечает: «В действительном познании природыи в деятельности творчества и изобретениячеловек с жизненною необходимостью полагает и обнаруживает мышление как силу или деятельность предметную, имеющую значимость не для нас, но для объективной натуры вещей, и ежедневные успехи науки и искусства достаточно оправдывают это поведение познающего и изобретающего человека» [112; 17-18]. Он также отмечает, что всякая наука основывается на предположении спинозовского тождества порядка и связи вещей с порядком и связью идей («Этика», часть 2, положение VII [96; 59]) [там же]. Поэтому «нелегко перевести в мысль бытие, чуждое мысли… понять явление, которое сложилось несообразно с понятием» [112; 24]. Поэтому «другой субстанциальности, кроме духовной, мы не можем сделать предметом нашего знания и мышления» [112; 41].
Интересно, что сам С. Н. Мареев замечает, что главный интерес Платона: как мышление поднимается кистинному, идеальному бытию. Т. е. он фактически утверждает, что, по Платону, идеальное есть истина бытия, истинное бытие. Далее, «идеальное в мышлении проявляется прежде всего как момент отрицательности, как чистая негация» [71; 147]. Это верно, но в диалектике более важна не непосредственная (первая) отрицательность, но отрицательность опосредованная – отрицание отрицания, в противном случае мышление срывается в дурную бесконечность отрицания, абсолютного скепсиса. Если С. Н. Мареев разделяет ту позицию Платона и Гегеля, что мышление снимает ложное бытие, представляя его в светебытия истинного, то возникает вопрос, откуда в человеческом мышлении берется этот свет истины? Нести в себе свет истины это что, атрибутивное свойство мозга homo sapience или человеческой культуры? А откуда тогда берется человек с его мозгом и культурой? Тогда он – либо творение Божие, либо сам есть аристотелевский ум-перводвигатель, не нуждающийся в собственном движении, в собственном развитии. Человек общественный, культурный – результат своего собственного развития, но это развитие имеет свои предпосылки – биологический вид homo sapience. Из биологии и антропологии известно, что этот вид есть продукт биологической эволюции и антропогенеза (подробное философское осмысление проблем антропогенеза можно найти в замечательной книге М. Б. Туровского «Предыстория интеллекта» [104]). Рискнем предположить, что если бы ложное бытие не представало в свете истины (отрицание), и если бы истинное бытие не утверждало себя положительно (отрицание отрицания) и до возникновения предпосылок человеческого развития, то эти самые предпосылки так никогда бы и не возникли. Одно из двух: либо мышление и деятельность укоренены в бытии, либо человек – случайность механических взаимодействий.
Формы культуры есть не что иное как стилизованные человеком формы природы, хотя бы и существующие в последней до появления человека лишь потенциально (в реальной возможности). Сама по себе человеческая голова никакой культурной формы создать не может, и если она в самом бытии не может открыть света истины, если она не способна открыть истину самого бытия, хотя бы и существующую как тенденция его развития, то прав субъективный идеализм: истина есть только правильность, только субъективность и т. д. Далее, сам С. Н. Мареев утверждает, чтоидеальное – всегда «момент» какого-либо развития, но не полагает же он, что развитие возможно только в форме человеческойдеятельности. Между прочим, в форме человеческой деятельности развитие возможно только как совпадение человеческой деятельности и изменения обстоятельств, в противном случае мы имеем стихийное развитие, хотя и включающее в себя человеческую деятельность, но не как форму своего процесса, а как подчиненный ему момент. Если идеальное, как это утверждает С. Н. Мареев, есть лишь форма всеобщего, сущности для-нас [71; 151], то и действительными это всеобщее, сущность, закон могут бытьтолько для-нас.
Мы же полагаем, что как для Лифшица, так и для Ильенкова идеальное это все-таки всеобщее для себя, в той форме, в которой форма для другого (для нас в том числе)снята, присутствует как снятый абстрактный момент. Гегель в Малой Логике пишет, что «мы вообще должны понимать для себя бытие как идеальность... Идеальность не есть нечто, имеющееся вне и наряду с реальностью, а понятие идеальности, несомненно, состоит в том, что она есть истина реальности, т.е. что реальность, положенная как то, что она есть в себе, сама оказывается идеальностью… Идеальность, стоящая рядом с реальностью или даже над ней, была бы на самом деле лишь пустым названием. Идеальность обладает содержанием, лишь будучи идеальностью чего-то… основным определением идеальности должна быть реальность, а основным определением реальности – идеальность» [11; 237]. Выше мы уже отмечали, что так думал и М. А. Лифшиц.
Основаниями для высказываний о различии в понимании идеального, как представляется, служит абстрактное противопоставление таких работ, как «Проблема идеального» Э. Ильенкова (ВФ, 1979, №№ 6, 7) и «Об идеальном и реальном» М. Лифшица (ВФ, 1984, № 10). В первой принципиально различение «человека», как субъекта специфически человеческой деятельности, и «вещи вне человека», как лишь объекта этой деятельности (включая объективированные формы сознания). В ней утверждается абсолютная социальность природы символьно-знаковых свойств вещей, вне зависимости от того, что ими символизируется (означивается): формы общественного сознания (язык, икона и т.п.) или формы общественного бытия (монеты, орудия труда и т.п.). В последнем случае важно различать также, какие общественные отношения опосредствуются вещественно фиксируемыми представлениями: субъект-субъектные (монета) или же субъект-объектные (орудие труда)[1].
Полемическая направленность этой работы Ильенкова связана с противодействием фетишизму двоякого рода: натуралистическому пониманию символьно-знаковых свойств вещей, с одной стороны, и пониманию природных форм всего лишь как воплощенных идей, как творений, с другой стороны.
М. Лифшиц не без оснований опасался, что односторонняя интерпретация этой принципиальной позиции Ильенкова может привести к уступкам субъективному идеализму в его социологической версии, и поэтому в своей работе «Об идеальном и реальном» основной упор делал на то, что идеальное существует в объективном мире в качестве его естественных пределов, то есть как проявление собственной меры вещей, как ее действительное подтверждение, без чего вообще невозможно никакое развитие, никакое восхождение от низших форм к высшим. Развитие у Гегеля, как верно заметил С. Чернышев, - форма существования Идеального [106; 24]. Последнее положение есть, конечно, идеализм, но, поставив ее с головы на ноги, получаем: идеальное есть атрибутивный момент развития, внутренне необходимая форма опосредствования процесса развития, в том числе и в его высшей форме – в форме практического преобразования мира общественным человеком. Но здесь важно отметить, что развивается и само идеальное (вернее форма выражения всеобщего)[2], и есть большая разница между идеальным в процессе стихийного развития и идеальным, как моментом разумной субъективной деятельности человека. Различие идеального в природе и культуре будет подробно рассмотрено в главе второй настоящей работы.
М. Лифшиц утверждает, что категория истины, есть форма характеризующая не только мышление, но и бытие, что есть истина самих вещей [53; 124], [47]. Для материалистического понимания идеального необходимо материалистически прочесть высказывание Гегеля о том, что идеал есть действительное в его высшей истине, то есть необходимо понять идеальное как действительность истины, как условие истинного, как один из полюсов истины. «Можно сказать, что идеальное является признаком истинного бытия материального» [53; 124-125].
М. Лифшиц утверждает, что недопущение Ильенковым идеального в природе представляет собой определенную непоследовательность его мысли: «Ведь признает же он «всеобщее» объективной категорией, присущей и природе и обществу, а идеальное есть только определенная форма выражения всеобщего» [53; 126].
«Сказать, что в природе есть идеальное в виде «естественных пределов» или сказать, что в ней каждая вещь имеет свою собственную «форму и меру», – считает Лифшиц, – одно и то же. Мысль о том, что процесс исторической чувственно-предметной практики людей раскрывает в природе ее «чистые», не замутненные всякой случайностью объективные формы, есть мысль верная, но она совершенно не вяжется с другой мыслью, согласно которому идеальное присуще только человеческому миру» [53; 128].
Действительно с точки зрения объективной истины все равно объявлять ли идеальное продуктом индивидуального или же общественного сознания. С точки зрения материализма идеальное – всегда продукт развития материального мира. Но само развитие бывает разное и Лифшиц прекрасно понимает это: «Всякий идеализм состоит в насильственном сближении реальности с тем разумным смыслом, который присутствует в ней, но присутствует лишь потенциально как возможность развития в природе сознательного существа, способного извлечь эту возможность из природы и сделать ее чем-то действительным в процессе своей материальной жизнедеятельности. Без этого посредствующего звена тождество идеального и реального становится апологией мира сего, защитой того, что есть» [44; 63].
Что опосредствует развитие: игра случая[3] или целенаправленная деятельность человека, которая вовсе не где-то вне материальной природы обретается, а есть форма развития этой природы? Есть ведь такие «классические формы», которые никаким стихийным процессом, никакой игрой случая не могут быть опосредствованы, для этого необходим целенаправленно, сознательно действующий человек. Другое дело, что и формы сознания, и формы цели, не есть нечто внешнее природе – это ее собственные формы, предвосхищенные в человеческой деятельной способности. В деятельности человека действительно часто идеальное в форме деятельной способности первично по отношению к идеальному в форме наличного бытия предмета, но отсюда вовсе не следует, что это идеальное производно от воли и сознания, все обстоит как раз наоборот: только с обретением определенной деятельной способности, мало того, только с ее реализацией в предмете деятельности, человек обретает соответствующие формы сознания и воли. Деятельная способность сама по себе еще не есть идеальное, идеальным она выступает в форме для-себя-бытия, т. е. в форме самосознания, в форме сознательности.
М. Лифшиц опасался, что односторонняя интерпретация текстов Ильенкова может привести к непосредственному отождествлению форм сознания с идеальными формами, то есть к впадению в грех субъективного идеализма, против которого постоянно боролся сам Э. В. Ильенков. Такой грех порождается, как замечает М. Лифшиц, неизбежным преобладанием в классовом обществе «отвлеченной культуры духа, оторванной от физического труда» и противостоящей идеалу «высокой, очищенной от грубой вещественности, но все же реальной жизни» [44;138].
Э. В. Ильенков по существу утверждает, что форма представления только тогда становится в собственном смысле идеальным образом, когда она становится предметом субъективной деятельности человека, и последний может отнестись к ней критически, изменить ее в соответствии с самой действительностью. Поэтому идеальное в своей высшей, в своей собственной форме и существует только как момент такой деятельности. По меткому замечанию С. Чернышева [106; 25], форма деятельности первоначально пребывает вне человека и лишь затем втягивает его в себя, ибо, по Ильенкову, впрочем, как и по Гегелю и Марксу, «субъективная деятельность и есть постоянно длящееся отрицание наличных, чувственно воспринимаемых форм вещей, их изменение, их снятие в новых формах, протекающее по всеобщим закономерностям, выраженным в идеальных формах» [22;136].
Идеальные формы для человека это, прежде всего, формы субъективной человеческой деятельности и только вследствие этого – формы сознания, но формами субъективной человеческой деятельности они являются только потому, что они суть выражение всеобщих форм самой действительности и как таковые только и могут быть формами субъективной человеческой деятельности. Спиноза в доказательстве положения LII части IV «Этики» говорит, что «истинная способность к деятельности у человека… есть сам разум, который человек созерцает ясно и отчетливо» [101; 262]. Субъективная человеческая деятельность есть высшая форма развития объективного мира, сама она есть продукт его развития, просыпающийся в нем дух. Человеческое сознание, как не раз подчеркивал М. Лифшиц, есть не что иное, как сознанное бытие, причем сознанное бытие человека, ибо никаким иным бытием последний не обладает. Но человеческое бытие в его истине состоит в том, что он всю природу превращает в свое неорганическое тело, вследствие чего ее (природы) собственные чистые, всеобщие формы обретаютпредикаты субъективности, т.е.для себя действительности. Человеческая природа – это природа в ее истинности, конечно при истинном понимании самого «человеческого». Но человеческое бытие действительно, прежде всего, как субъективная человеческая деятельность, она и является первичным зеркалом, отражающимся в зеркале вторичном, в зеркале сознания. И если Ильенков называет идеальное «аспектом культуры», то при этом под «культурой» он понимает не что иное, как «всеобщее в человеке» [22; 333]. «Всеобщая «сущность человека» поэтому реальна только как культура, как исторически складывающаяся и эволюционирующая совокупность всех специфически человеческих форм жизнедеятельности, как их полный ансамбль» [22; 333].
Односторонняя интерпретация тезиса М. Лифшица о существовании идеального в природе в качестве ее естественных пределов, в свою очередь, способна привести к другой крайности, бывает ведь и объективный идеализм. Сам М. Лифшиц замечал: «Исходной аксиомой марксизма является убеждение в том, что идеальное есть лишь переведенное на язык человеческой головы материальное» [46; 179]. Этот перевод на язык человеческой головы осуществляется не в голове, а в самой действительности; последняя, только будучи переведена на язык человеческой головы может быть «пересажана» в эту голову и преобразована в ней. Другое дело, как понимать «человеческую голову», мышление. Критикуя точку зрения абстрактного созерцания, то положение К. Грюна и прочих «истинных социалистов», которое требует от индивида осознания своего единства с миром как способа снятия его действительной разорванности, М. Лифшиц замечает: «Маркс все же хорошо понимал, что этот мир становится для человека «своим» не в силу простого акта нашей созерцательной способности, а в результате длительной практической борьбы. Распредмечивание действительности, лишение ее грубо-вещественной формы само по себе есть материальный процесс, — процесс опредмечивания субъективных сил и способностей человека» [44; 166].
Рассматриваемая проблема впрямую связана с вопросом о предмете философии, а таким предметом и для Ильенкова, и для Лифшица непосредственно выступает как раз мышление, идеальное. Когда С. Н. Мареев пишет, что для спасения понимания «идеального» Ильенковым от обвинений в субъективизме, Лифшиц считал необходимым сделать займы у Гегеля, у которого идеальное существует объективно, он странным образом не замечает того, что весь критический пафос статьи Лифшица «Об идеальном и реальном» направлен как раз против той позиции Гегеля, согласно которой «всеобщее есть мысль и только мысль» [24; 275]. Как отмечает Ильенков: «У Гегеля лишь всеобщее имеет привилегию «отчуждаться» в формах особенного и единичного, а единичное оказывается тут лишь продуктом, лишь частным, а потому бедным по составу «модусом» всеобщности» [22; 338].
Критикуя такое понимание всеобщего, Ильенков отмечает, что в истории и не только человечества с его культурой – всегда происходит так, что явление, которое впоследствии становится всеобщим, вначале то возникает именно как единичное исключение «из правила» (но такое единичное, которое есть продукт не личного произвола, «не личной изобретательности, а личного умения чутко схватывать всеобщую необходимость») «...История имела бы весьма мистический вид, если бы все новое в ней возникало разом... как «общее» для всех без исключения, как внезапно воплощающаяся «идея»...» [22; 338].
Выше уже отмечалось, что идеальное, понимаемое как выражение всеобщего, есть момент любого развития. Гегель же, согласно и Лифшицу, и Ильенкову, признает «подлинное развитие» только за мышлением, а мир реально телесных вещей рассматривает как мир сосуществующих, рядоположенных образований [22; 342].
Предрассудок идеализма, что всеобщее есть только мысль, содержит в себе то рациональное зерно, что для человека всеобщее выявляется и фиксируется ближайшим образом именно в мысли. Именно посредством мысли (субъективной деятельности) всеобщее дается человеку в его чистом виде, в форме идеального. «Всеобщие формы, закономерности природного материала действительно проступают, а потому и осознаются именно в той мере, в какой этот материал уже превращен в строительный материал «неорганического тела человека»... и потому всеобщие формы «вещей в себе» выступают для человека непосредственно как активные формы функционирования его «неорганического тела»... Та же самая деятельность, которая преобразует (изменяет, а иногда и искажает) «подлинный образ» природы, только и может показать, каков он до и без субъективных искажений» [24;168-169].
Именно потому, что специфичность форм и законов мышления составляет их универсальность, «разумная онтология» возможна только как онтогносеология, как диалектическая логика. «Там, где объективный мир, не теряя своей материально-чувственной природы, обретает субъективные предикаты, наша собственная внутренняя субъективность, увлеченная его могучим влиянием, сама обретает черты объективности» [53; 121].
Платон в пятой книге «Государства» замечает, что «вполне существующеевполне познаваемо, асовсем не существующеесовсем и не познаваемо» [95; 257]. Т. е. познаваемо лишь бытие. «Знание по своей природе направлено на бытие с целью постичь, каково оно?..» [95; 257]. Знание же Платон понимает именно как деятельную способность, причем самую мощную. Способности не есть нечто вещественное и различить их можно только потому, «на что она направлена и каково ее воздействие». «Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства». Причем, по Платону, это именно совершенное («чистое») бытие, бытие же становящееся, отягощенное небытием, есть предмет не знания, но мнения. Поэтому знание – это созерцание вечно тождественного самому себе, существующего самого по себе [95; 261].
Отсюда следует, что не правы те, кто утверждают, что идеализм Платона заключается в отождествлении всеобщего и идеального – всеобщее у Платона идеально как одно, единое, индивидуальное, как эйдос, как образец. Идеализм здесь заключается в другом, а именно в утверждении, что так понимаемое идеальное невозможно усмотреть в окружающем человека мире реальных вещей, что оно составляет другой трансцендентный нашему миру вещей мир – мир подлинного бытия, истины бытия. Поэтому и познание Платон понимает как воспоминание[4], ибо, только освободившись от тела, человеческая душа становится причастной миру эйдосов, и только так она способна их познать. Первый мир есть лишь объект наших чувств, второй мы можем только мыслить: «Мы говорим, что те вещи можно видеть, но не мыслить, эти же, напротив, можно мыслить, но не видеть» [95; 289]. Вот в этом абстрактном, абсолютном противопоставлении чувства и мысли, чувственного и мыслимого, в конечном счете, и заключается идеализм во всех его разновидностях, но вовсе не в признании объективного полюса идеального, объективности идеального.
Идеальное, понимаемое как деятельная способность, как деятельная форма, и возможно только в единстве его объективного и субъективного полюсов. Интересно, что при обосновании этого единства Платон использует аналогию со светом, о которой уже шла речь в начале данного параграфа: «Немаловажным началом связуются друг с другомзрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься; их связь ценнее всякой другой» [95; 290]. Речь идет о единстве субъективной способности воспринимать и объективной способности восприниматься, только такое единство суть деятельная способность. Такая связь в данном примере есть свет. И только потому, что благо, по Платону, - единство мыслящего и мыслимого, способности мыслить и способности быть мыслимым, здесь возникает аналогия со светом. «Чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно воспринимаемым вещам» [95; 290]. Свет, таким образом, рассматривается как подобие (образ) идеального в чисто философском, но не в физическом смысле.
Видеть предмет в сиянии дневного света или же в ночи – большая разница. «Считай, что так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, что показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума… Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага – причиной знания и познаваемости истины» [95; 290-291].
Таким образом, идеальное есть то, что опосредует способность познавать и способность быть познанным, способность мыслить и способность быть мыслимым, это их тождество – тождество бытия и мышления, бытия и знания. Идеальное – то, в чем (в свете чего) светится истина или полнота (подлинность, совершенство) бытия. Платон говорит далее: «Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться лишь благодаря благу, но оно дает им и бытие, и существование, хотя само оно не есть существование, оно – за пределами существования, превышая его достоинством и силой» [95; 291]. Идеализм здесь лишь в «за пределами существования», если же сказать, что идеальное – предел существования – актуальная бесконечность, то здесь никакого идеализма не будет. «В том, что познаваемо, идея блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она – сама владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни» [95; 298].
Схватить в становлении бытие, в конечном – бесконечное; в этом, как представляется, и заключается суть диалектической способности, мышления, делающего своим предметом собственные предпосылки, себя самого. Поэтому, именно абстрактное (чисто рассудочное) противопоставление бытия и становления, мыслимого и чувственного приводит к тому, что любой идеализм в конечном счете всегда изменяет диалектике. «Как глазу невозможно повернуться от мрака к свету иначе, чем в месте со всем телом, так же нужно отвратиться всей душой от всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо» [95; 299]. Идеализм не желает различить в становлении бытие, он их абстрактно противопоставляет, раздувает относительное преимущество бытия в абсолют, тем самым выступая как противостоящий развитию консервативный фактор, не понимая, что бытие нуждается в относительном небытии и что, не будь последнего, не было бы и примата бытия. Он отказывает в понимании бытия как становления, как единства с небытием.
О значении объективного полюса идеального говорит и Гегель: «Мышление в сознании абсолютного своего права быть свободным упорно полагает, что оно примирится хотя бы и с превосходным содержанием лишь постольку, поскольку последнее сумеет сообщить себе форму, которая вместе с тем наиболее достойна и самого этого содержания, - форму понятия, необходимости, которая связывает все и вся, связывает как содержание, так и мысли и именно этим делает их свободными» [11; 71-72].И далее. «Сказать, что в мире есть рассудок, разум, равнозначно выражению: объективная мысль. Но это выражение неудобно именно потому, что слово мысль слишком часто употребляется в значении того, что принадлежит лишь духу, сознанию, а слово объективное употребляется обычно в значении недуховного… Во избежание недоразумений лучше не употреблять выражения мысль, а говорить: определение мышления» [11; 121].
Возвращаясь к определению идеального как для себя всеобщего, необходимо заметить, что именно отсюда следует, что идеальное в своей высшей форме возможно только в мире человека. Так, у Гегеля только человек есть для себя всеобщее: «Человек есть мыслящее существо и есть всеобщее; но он есть мыслящее существо лишь постольку, поскольку для него существует всеобщее. Животное есть также в себе всеобщее, но всеобщего как такового для животного не существует, для него всегда есть лишь единичное. Животное видит лишь единичное… Чувственное ощущение также имеет дело лишь с единичным (эта боль, этот приятный вкус и т.д.). Природа не доходит до осознания (нус); только человек удваивает себя таким образом, чтоон есть всеобщее для всеобщего[11; 122]».
И далее: «…Духовная жизнь отличается от природной и, более определенно, от животной жизни тем, что она не остается в своем в-себе-бытии, а есть для себя» [11; 129].
Лифшиц замечает, что необходимо различать два термина, используемые Марксом: «ideelle» и «ideale». Первый означает нечто, существующее лишь в «голове», второй – «материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Когда Ильенков говорит об «идеальности» формы стоимости у Маркса, то речь у него везде идет об «идеальности» в первом значении. «Под IdeelleГегель имеет в виду то, что существует так сказать в плане развития, но еще не определилось, не является самобытием, но существует для ума… речь здесь идет о предвосхищении будущего развития определенной реальности. Это предвосхищение, по идее уже налицо, но реально не существует» [53; 130]. Можно сказать, что «ideelle» – это такой момент развития, когда нечто существует только через свое инобытие и не достигло еще момента себетождественности бытия.
Действительно Гегель четко различает указанные категории. Так, в § 95 Малой Логики он замечает: «ImFürsichseinistdieBestimmungderIdealitäteingetreten. Das Dasein Zunnächstnur nach seinem Sein oder seiner Affirmation aufgefasst, hat realität (§ 91), somit ist anch die Endlichreit Zunachst in der Bestimmung der Realität. Aber Wahrheit des Endlichen ist vielmehr seineIdealität. Ebensoserh ist anch das Verstandes – Unendliche, welches, neben das Endliche gestellt, selbst nur eins der beiden Endlichen ist, imunwarhres, ein ideelles [113; 115]. («В для-себя-бытии выступает определениеидеальности. Наличное бытие, взятое ближайшим образом лишь со стороны его бытия или его утвердительности, обладает реальностью (§ 91) и, следовательно, конечность также ближайшим образом выступает в определении реальности. Но истину конечного составляет, наоборот, егоидеальность. И точно так же бесконечное рассудка, которое ставится им рядом с конечным, само есть одно из двух конечных, есть неистинное, идеальное[11; 236].).
Ideelle есть нечто существующее лишь «по идее» («в-себе, т. е. согласно понятию» [11; 354]) , лишь в плане возможного развития, лишь как потенция, или, наоборот, как уже идеализованная, ассимилированная конкретностью абстрактная определенность. Ideelle – такое идеальное, которое не есть реальное, но абстрактно противостоит последнему. Это – лишь в-себе-бытие, нечто, не достигшее еще своей истины или для-себя-бытия, такое бытие, которое, скорее, есть небытие, т. е. не есть еще истинное бытие. Это не значит, что ideelle есть нечто плохое, но значит, что оно весьма противоречиво. Движущим принципом всякого развития является влечение из в-себе-бытия в для-себя-бытие. Ничто не может стать реальным, не пройдя стадии идеальности (ideelle) и не достигнув порога реальности (ideale).
«Движение понятия есть, напротив, развитие, посредством которого полагается лишь то, что уже имеется в себе. В природе ступени понятия соответствует органическая жизнь.Так, например, растение развивается из своего зародыша. Последний содержит в самом себе уже все растение, но идеальным образом, и мы не должны понимать его развитие так, будто различные части растения… уже существуют в зародыше реально, но только в очень малом виде. Недостаток этой так называемой гипотезы включения состоит, следовательно, в том, что то, что пока имеется лишь идеально, рассматривается как уже существующее», - т. е. как сущая определенность – реальность [11; 343]. Зародыш, как растение по идее, имеет свои особенности только в себе. Это особенное «полагается лишь тогда, когда зародыш раскрывается, что должно рассматривать как суждение о растении. Этот пример… может сделать для нас ясным, что ни понятие, ни суждениене находится только в нашей головеи не образуются лишь нами. Понятиеесть то, что живет в самих вещах, то, благодаря чему они суть то, что они суть, и понять предмет означает, следовательно, осознать его понятие» [11; 352]. Здесь опять-таки понятие – переведенное на язык человеческой головы материальное, предметное бытие, но «язык человеческой головы» – язык самой объективной реальности. Поэтому противоположностью объективного является вовсе не вообще субъективное, понятие, но лишь субъективное, нечто сущее лишь для субъекта, лишь по идее (ideelle), так, например, растению противостоит зародыш, как растение, объективная (собственная всеобщая и необходимая) определенность которого еще не существует реально; точно также конкретная полнота определений мысли о предмете противостоит еще не развитой совокупности определений мысли, еще не истиннымабстракциям.
Все, что живет, есть в какой-то степени ideelle, причем в двух смыслах: оно находится в развитии, в бесконечном движении становления и, во-первых, есть нечто, что еще только возможно будет, а, во-вторых, в нем самом в снятом виде живет нечто, ранее достигшее известной степени самобытия. Так, в современных классических литературе и изобразительном искусстве живут древнегреческий эпос и пластика, и только поэтому они до сих пор живы и сами по себе, т. е. они остались для нас ideal, потому что ideelle присутствуют в художественной мысли, в духовно-практической деятельности современного человека. И наоборот, они присутствуют там ideelle, только потому, что сами по себе они – ideal. Когда говорят, что знаки духовной культуры, взятые сами по себе, - только ideelle, то здесь для них слишком много чести: взятые в отрыве от культуры, от ideale, они уже даже и не ideelle, но лишь мертвая предметность.
Таким образом, не только лишь то может стать для-себя, что первоначально было в-себе, но и всякое для-себя может быть сохранено только в снятии самого себя, только в дальнейшем развитии. Для того, чтобы Ideale не превратилось «в покинутую духом» мертвую форму культуры, оно должно принять определение ideelle.
Мы видим, таким образом, что ideelle выступает также в значении чего-то несамостоятельного, снятого в том, что более конкретно, в некоей целостности, тотальности,полноте того, что есть лишь момент. Так, Гегель замечает, что в единстве лейбницевской монады «всякое различие существует лишь как идеальное, несамостоятельное. Ничто не проникает в монаду извне, она есть в себе целиком все понятие, отличающееся большей или меньшей степенью собственного развития [11; 383]». То же самое относится и к живому организму: «Ничто не проявляется в нем как самостоятельное, каждая определенность есть в то же время и идеальное… в животном организме внеположенность его частей обнаруживается во всей своей неистинности» [12; 17]. Идеальностью (в смысле ideelle) Гегель называет снятие внешности, принадлежащее понятию духа: только через это возвращение в себя, «через эту идеализацию, или ассимиляцию, внешнего дух становится духом и есть дух» [12; 19].
В Малой Логике есть место, в котором Гегель употребляет термин ideelle одновременно в обоих его значениях – в значении «потенции» и в значении «снятого». Он говорит об абсолютной идее, что «она есть свое собственное содержание, поскольку она есть идеальное различение самой себя от себя» [11; 419-420]. И все развитие, по Гегелю, заключается в том, что абсолютная идея полагает то, что она есть в-себе, - свое собственное саморазличение, а затем снимает его, в результате чего она теперь знает себя как саму себя, знает свое собственное содержание.
Мы уже говорили выше, что для Гегеля идеальное (ideale) или идеальность (idealität) означают истину реального, а эта истина, как идея есть «единство идеального и реального» [11; 402] («IdeellenundReellen» [113; 183]. Это означает также, что реальность в своем развитии стремится к своей высшей – идеальной (ideale) форме, а идеальное (ideelle), в развитии должно стать реальным, обрести реальность.
Помимо идеального как еще нераскрывшегося или уже снятого момента некоторой целостности, полноты, некоторого самобытия, Гегель употребляет термин «ideelle» и для характеристики природы того, что содержит в себе свои моменты, как и моменты своего становления в снятом (несамостоятельном, положенном) виде. Так, в частности, он характеризует чувствующую душу при переходе ко второй части антропологии в «Философии духа» своей «Энциклопедии философских наук»: «…Хотя душа не имеет еще никакого сознания об этой своей идеальной природе, она тем не менее представляет собой идеальность, или отрицательность, всех многообразных видов ощущений, которые,по-видимому, существуют в ней каждое для себяи безразличны по отношению друг к другу» [12; 128].
Для Гегеля быть снятым означает прежде всего быть переведенным в форму мысли, вернее, вмысленную форму, в ideelle, а поскольку всякая действительная философия имеет непосредственным предметом своего исследования именно такие формы, формы мысли как таковые (формы мысли в виде мысленных форм), то, по Гегелю, всякая действительная философия есть идеализм: «Положение о том, что конечное идеально (ideelle - В. Л.), составляет идеализм. Философский идеализм состоит только в том, что конечное не признается истинно сущим… Первоначала (Prinzipien) древних или новых философских учений – вода или материя или атомы – суть мысли, всеобщее, идеальное (ideelle. – В. Л.) а не вещи… в их чувственной единичности… Назвав только что принцип, всеобщее, идеальным, еще с большим правом должно назватьидеальным(ideelle) понятие, идею, дух» [13; 221-222]. Но так понимаемые понятие, идея, дух есть то, чему противостоят единичное и особенное, единичные чувственные вещи, как самостоятельно сущие. «Когда говорят об идеальном, имеют в виду прежде всего форму представления, и идеальным называют то, что вообще имеется в моем представление или в понятии, в идее, в воображении и т. д., так что идеальное вообще признается и фантазиями – представлениями, которые как предполагают, не только отличаются от реального, но по своему существу не реальны… В простоте «Я» такого рода внешнее бытие лишь снято, оно для меня, оно идеально во мне» [13; 221-222].
«Идеальное (ideelle) есть конечное, как оно есть в истинно бесконечном… не есть нечто самостоятельно сущее, а дано как момент». Поэтому «ideale», имеющему, как это замечает Гегель, более определенное значение (прекрасного и того, что к нему относится), а относится к нему, как это мы представляем, истина и благо, здесь еще и не место [13; 214-215]. А где место ideale? «Телеология вообще обладает более высоким принципом – понятием в своем существовании, каковое понятие в себе и для себя есть бесконечное и абсолютное, - принцип свободы», абсолютно лишенный внешней определенности [14; 188-189].
Выше уже говорилось, что идеальное есть определенное выражение всеобщего, однако, есть всеобщее и всеобщее: «Такое всеобщее, под которое только подводится [единичное], есть нечто абстрактное, становящееся конкретным лишь в чем-то ином, в особенном. Напротив, цель есть конкретное всеобщее, имеющее в самом себе момент особенности и внешней проявленности; оно поэтому деятельнои есть побуждение отталкивать себя от самого себя» [14; 191]. «Конкретное понятие – равное самому себе всеобщее» [14; 193].
Почему именно с рассмотрением телеологического процесса возникает необходимость в использования понятия ideale – идеальное, в противоположность ideelle как лишь «идеализованному» (лишь мысленной определенности), хотя Гегель нигде в «Учении о понятии», в «Субъективной логике» не использует термин ideale, предпочитая говорить не об «идеальном», но об «идее»? Да потому, что понятие здесь становится для-себя-бытием; потому, что отрицательное отношение целесообразной деятельности к объекту есть«переход объективности в самой в себе в цель», или, что то же самое «перевод понятия, существующего отчетливо как понятие, в объективность» – слияние «понятия с самим собой через самого себя»; потому, что «содержание цели и есть это тождество, существующее в форме тождественного»; потому, что «объективная цель не только в себе остается равной себе, но и существует как то, что остается равным себе»; потому, что телеология есть «становление уже ставшего… в ней обретает существование уже существующее» [14; 198-201]. Гегель, правда, называет такое понятие, которое как для-себя-сущее тождество отличное от своей в-себе-сущей объективности, тем не менее в этой внешней целокупности есть самоопределяющее ее тождество, не идеальным – ideale, а идеей, но мы можем сказать, что идея здесь есть не что иное как идеальное(ideale) понятие, поскольку это все-таки «Наука логики», а в логике идеальное является предметом исследования именно как идея, причем как идея в абстрактной стихии мышления [11; 107], или как «изображение бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа» [13; 103]; «идея, в себе и для себя истинное, есть по существу своему предмет логики» [14; 217]. «Идея есть адекватное понятие, объективно истинное или истинное, как таковое. Если что-либо истинно, оно истинно через свою идею, иначе говоря, нечто истинно лишь поскольку оно идея» [14; 209].
Э. В. Ильенков, критикуя определение Д. И. Дубровским «идеального» как любого психического состояния отдельной личности, как любого состояния ее сознания вне зависимости от его объективности, от его отношения к истине, писал: «…Философия, как особая наука, разрабатывала и разработала категорию «идеального» именно в связи с проблемой истинности… Проблема идеальности всегда была аспектом проблемы объективности («истинности») знания» [22; 231-232]. Но истина имеет не только гносеологический, но и онтологический статус: «…Все действительное есть лишь постольку, поскольку оно имеет внутри себя идею и выражает ее (таким образом идеальность есть не что иное как мера действительности. – В. Л.)… Реальность, не соответствующая понятию, есть просто явление, нечто… случайное, произвольное, что не есть истина» [14; 211]. «Вот эта-то своеобразная категория явлений, обладающих особого рода объективностью, т. е. совершенно очевидной независимостью от индивида с его телом и «душой», принципиально отличающейся от объективности чувственно воспринимаемых индивидом единичных вещей, и была когда-то «обозначена» философией как идеальность этих явлений, как идеальное вообще» [22; 232]. Поэтому непосредственноотождествлять ideale с ideelle, с тем, что существует не на самом деле, а только в воображении, можно только в рамках, по словам Э. В. Ильенкова, однобокого эмпиризма Локка, Беркли, Юма и т. д., теснейшим образом связанного со средневековым номинализмом, утверждающим «будто «на самом деле» существуют лишь отдельные, единичные, чувственно воспринимаемые «вещи», а всякое всеобщее есть лишь фантом воображения, лишь психический феномен…» [22; 233]. А отсюда уже недалеко до субъективной абстракции мыслимой формы и бесформенной материи [14; 211].
«Бытие достигло значения истины, поскольку идея есть единство понятия и реальности; бытием обладает теперь, следовательно лишь то, что есть идея… В том, что действительные вещи не совпадают с идеей, выражается их конечность, неистинность, в соответствии с чем объекты определяются механически, химически или внешней целью» [14; 212].
Итак, идеальное есть совершенная объективность, всеобщая единичность или индивидуальная всеобщность. Гегель называет действительной индивидуальностью соотносящееся с собой для-себя-бытие [14; 226]. «Род… всеобщность имеет действительность в образе единичности; это – понятие, реальность которого имеет форму непосредственной объективности» [14; 230].
«Мышление, дух, самосознание суть определения идеи, поскольку она имеет своим предметом самое себя и поскольку ее наличное бытие, т. е. определенность ее бытия, есть ее собственное отличие от самой себя» [14; 233]. Идеальное отражается как идеальное.Да и вообще отражается только отражаемое, т. е. идеальное в предмете, если, конечно, не понимать отражение механистически. В доказательстве положения II части III «Этики» Спиноза утверждает, что «все состояния (модусы) мышления имеют причиной Бога, поскольку он есть вещь мыслящая, а не поскольку он выражается другим атрибутом» [101; 125].
В-себе-сущее (ideelle. – В. Л.) выступаетлишь как нечто субъективное, иначе говоря, онолишь положено в определении понятия, но в силу этого еще не таково в себе и для себя… Идея есть для себя сущее понятие и бесконечное всецело внутри себя…» [14; 244-245]. Несколько упрощая, можно сказать, что ideelle есть действительность как идея, как только мыслимая действительность, как лишь ее абстрактная определенность, а ideale – идея как действительностьили действительная идея. Или еще, необходимо различать ideale как форму мышления и ideelle как лишь мысленную форму. «Предмет, каков он без мышления и без понятия, есть некоторое представление или дажетолько название; лишь в определениях мышления и понятия он есть то, что он есть» [14; 298].
Гегель начинал свою Логику с абстрактного непосредственного бытия и в итоге пришел к абсолютной идее, которая единственно лишь есть бытие [14; 288]. Движение вперед было бы чем-то лишним, «если бы то, с чего начинают, уже было по истине абсолютным; движение вперед состоит скорее в том, что всеобщее определяет само себя и есть всеобщее для себя, т. е. точно также есть единичное и субъект. Лишь в своем завершении оно абсолютное» [14; 294]. Таким образом, Логика Гегеля есть историческая теория или теоретическая история развития идеального, как идеи. «Метод есть чистое понятие, относящееся лишь к самому себе; поэтому онпростое соотношение с собой, которое естьбытие» [14; 309].
Э. В. Ильенков замечает: «Несомненно, что «идеальное», понимаемое… как всеобщая форма и закон существования и изменения многообразных, эмпирически-чувственно данных человеку явлений… в своем «чистом виде» выявляется и фиксируется только в исторически сложившихся формах духовной культуры, в социально значимых формах своего выражения…» [22; 235]. Эта мысль Э. В. Ильенкова не означает, во-первых, что всякая социально-значимая или культурная форма – идеальная форма, и, во-вторых, что идеальное это только аспект культуры, что оно существует только в обществе. Всякий подлинный аспект культуры, - замечал М. А. Лифшиц, - идеален [53; 139], но обратная мысль отнюдь не верна.
Нельзя согласиться с Э. В. Ильенковым, что идеальность – это «своеобразная печать, наложенная на вещество природы общественно-человеческой жизнедеятельностью» [22; 256]. Любую вещь можно преобразовать только в соответствии с ее собственной внутренней логикой, логикой ее развития. Природа не воск, ее нельзя месить как тесто. И здесь не имеет значения, идет ли речь об общественном или индивидуальном: как сказал однажды Маркс, воля народа так же мало может выйти за пределы законов разума, как и воля отдельного человека [77; 285], а, по словам того же Маркса, разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме [77; 380].
Представляется правомерным говорить об идеальности вещей как об их символьно-знаковой функции. Но символическая функция вещи, в противоположность ее знаковой функции, для которой объективная форма вещи более безразлична, всегда опирается на объективную идеальность вещи, не зависящую от человека с его деятельностью, с его сознанием и волей. «Когда материальная субстанция факта становится ничтожной по сравнению со всеобщей нагрузкой, которую он несет, перед нами начало языка и мышления… Дальнейший вопрос – каким образом осуществляется уравнение того и другого (факта и его всеобщего смысла. –В. Л.). Есть разница между простым внешним знаком всеобщего содержания и более жизненным подобием, определяющим своеобразие всей художественной сферы» [41; 103]. В художественном произведении, - пишет М. А. Лифшиц, - отражается то, что само имеет свойство отражаемости. «Для диалектической теории отражения роль зеркала начинается в самом объективном мире. Истина не только мера соответствия нашей идеи предмету (veritascognitiva), она также прежде всего мера соответствия предмета самому себе, его идентичности (veritasobjectiva). Чтобы узнать что-нибудь, нужно определить, то ли это на самом деле, что нам представляется… равно ли истинное государство своим существенным признакам или оно еще не достигло равенства себе? Только то, что определилось в развитии на своей собственной основе, что, возвращаясь к себе, подтверждает свое бытие, только это объективное содержание обладает достаточной зеркальностью и может сказаться, видеться, слышаться в образах искусства [41; 114-115].
Почему, как выразился С. Н. Мареев, Лифшиц считал необходимым сделать займы у объективного идеализма, у Гегеля, Шеллинга, Платона и Аристотеля. Вот как об этом говорил сам М. А. Лифшиц: «Идеализм является реакционным мировоззрением (в последнем счете), но в истории философии до Маркса и Энгельса идеалисты развивалисубъективную, деятельную сторону, иначе – диалектический метод, а старый материализм неизбежно носил ограниченный, метафизический характер» [45; 229]. Одно из двух, либо деятельная форма существует только в общественном развитии, а, следовательно, диалектика применима только к общественным процессам, и мыслить можно только общественные формы, либо диалектика, деятельная форма универсальны, а стало быть универсальна необходимая (атрибутивная) категория диалектики – категория идеального. Мистика не в том, чтобы вне человека существовали деятельные формы, а в том, что деятельные формы присущи исключительно человеку, ибо в последнем случае только мистически можно объяснить их рождение.
Э. В. Ильенков, как известно, сам считал себя спинозистом. Но, по Спинозе, любую вещь, а не только вещь мыслящую, можно рассматривать как под атрибутом протяжения, так и под атрибутом мышления, т. е. под атрибутом закона ее порождения, развития, формы полноты ее бытия. Таким образом, любую вещь можно рассматривать как деятельную способность. В противном случае, либо немыслящие вещи не субстанциальны, либо мышление не есть атрибут субстанции, иного не дано. И здесь не помогут заверения в том, что социальная материя это тоже материя [71; 114].
С. Н. Мареев пишет, что идеальное в мышлении проявляется прежде всего как момент отрицательности, как чистая негация; без этого нет идеального, нет мышления и нет диалектики [71; 147]. Но о какой отрицательности идет речь? Если эта отрицательность носит абстрактный характер, то мы имеем здесь то, что молодой М. А. Лифшиц в несколько экспрессивной форме назвал «диалектикой дураков» [44; 234]. «Между тем «отрицательное» и есть элемент движения, а «положительное» воспроизводит… исходное положение на высшей ступени». Здесь имеет место кругообразный ритм поступательного движения [44; 234]. Истинное, конкретное положительное утверждает себя в отрицании отрицания, и нет большей разницы между пределом полноты и конкретности отрицания отрицания и пределом абстрактного выравнивания всех потерь в бесконечном развитии. В реализации отрицания отрицания в данных конкретных масштабах, а не в отдаленной перспективе, М. А. Лифшиц видит основание такого понятия как «классика» [44; 227].
Вот что пишет по данному вопросу Гегель: «Только что рассмотренная отрицательность составляет поворотный пункт в движении понятия. Она простой момент отрицательного соотношения с собой, глубочайший источник всякой деятельности, живого и духовного самодвижения, диалектическая душа, которая все истинное имеет в самом себе и через которую оно только и есть истина; ведь единственно лишь на этой субъективности основываетсяснятие противоположности между понятием и реальностью и [их] единство, которое есть истина. –Второе отрицательное, отрицательное отрицательного, к которому мы пришли, есть указанное снятие противоречия, но оно, точно так же как противоречие, не есть действие некоторой внешней рефлексии; оно сокровеннейший, объективнейший момент жизни и духа, благодаря которому имеет бытие субъект, лицо, свободное» [14; 301]. Это второе отрицательное Гегель называет также «абсолютной отрицательностью» [14; 302]. В этом смысле идеальное можно характеризовать как абсолютно положительное.
Но вернемся к диалектике идеального у Ильенкова. Лифшиц заметил, что говоря о деятельности общественного человека, Ильенков опускает различение между ideelle и ideale. Об этом различии забывать нельзя, без него нет конкретного понимания идеального. Но в том то и дело, что только в деятельности общественного человека (для уточнения добавим, именно в такой деятельности, которая совпадает с развитием, которая есть развитие) идеальное и выступает во всей своей конкретной полноте, в единстве ideale и ideelle. Такого единства действительно нет в дочеловеческой природе, оно возможно только в культурно-исторической практике, однако – не в любой человеческой деятельности и не в любом социальном процессе, но только в сознательной и свободной.
В своей книге про Э. В. Ильенкова С. Н. Мареев, между прочим, отмечает, что способность воображения невозможно понять, оставаясь на точке зрения механического материализма. Он пишет, что «воображение есть отрицание отражения» [71; 42]. Это так, но какого отражения? Механически понимаемого! Но механически понимаемое отражение – это как раз такое отражение, когда материальное отражается как материальное, самый яркий пример из криминалистики – дактилоскопия, здесь надо идентифицировать абстрактную единичность, ту самую песчинку, которая абсолютно неповторима. Воображение – введение (вхождение) во образ никогда не стало бы способностью человеческого мышления, если бы оно не было универсальной формой развития, самоутверждения вещей. Поэтому воображение есть определенность не человеческого отражения, но отражения вообще, если оно, конечно, понимается не механически, и, если, конечно, не считать дочеловеческое развитие мира механическим процессом. И совершенно справедливо, что отражение, как и воображение, есть деятельность. Отсюда и субстанциальность различения материального и духовного, которое «не зависит от человека и человечества. В качестве важной теоретической грани оно имеет всеобщее, «допотопное» существование» [47; 129].
1.4. Попытка синтеза
В философской литературе последних лет имеет место попытка синтезировать деятельностный и информационный подходы к проблеме идеального. Так, К. Любутин и Д. Пивоваров полагают, что концепции «идеального» у «идеалиста» Гегеля и «материалистов» Дубровского, Ильенкова и Лифшица вышли из некогда единой точки зрения [69; 22], т. е. получается, что каждый из указанных исследователей развивал абстрактно одну сторону проблемы, а К. Любутин и Д. Пивоваров претендуют на то, чтобы из этих абстрактно односторонних подходов синтезировать конкретный, истинный подход к проблеме идеального.
К. Любутин и Д. Пивоваров пытаются интерпретировать «теорию рефлексии Гегеля» на геометрический лад [69; 23-42]. «Способность вещи как объекта оказывать сопротивление внешнему для нее субъекту именуется философски «материальностью»: взятая со стороны своих внешних пространственных границ, вещь обладает свойством материальности» [69; 24]. Однако, если «Науку логики» Гегеля интерпретировать как «теорию рефлексии», то надо заметить, что в ней речь идет не о взаимоотражении и взаимопереходе друг в друга вещей, не о «рефлексии» вещей, но о «рефлексии» категорий. Так инобытием «качества» выступает «количество», а единство обоих противоположных моментов в их взаимопереходе дает становление «меры» и т.д. Если же мы обозначим «А» единичную вещь, а «В» – существующую наряду с ней и даже находящуюся с ней во взаимодействии другую единичную вещь, то «А» никогда не сможет перейти в «В», никогда не сможет стать «В». «А» в своем развитии может получить систему определений «В» и таким образом стать равной «В», но она никогда не сможет стать «В» в ее единичности. Если «А» и «В» – единичные вещи, то как таковые они не могут выступать как инобытие друг друга, не могут по той причине, что они абсолютно тождественны в своей единичности (один равен одному) и не могут являться противоположностями. Любутин и Пивоваров, как это видно из текста, понимают, конечно, что у Гегеля речь идет о всеобщих определениях вещей, но не о самих вещах, но в то же время говорят о каких-то «изменяющихся внутри А и В копиях друг друга» [69; 36].
«Отсутствие у рефлексии, как количественной определенности, твердых границ служит теоретическим объяснением невозможности ее фиксации органами чувств. Происходя на уровне сущности почти на всем своем протяжении и преимущественно выступая как сущность какого-либо отдельног
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу


