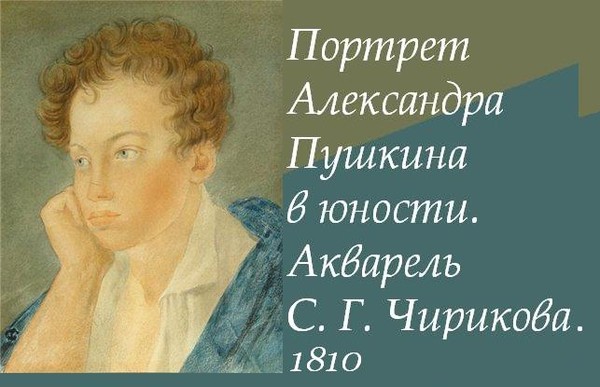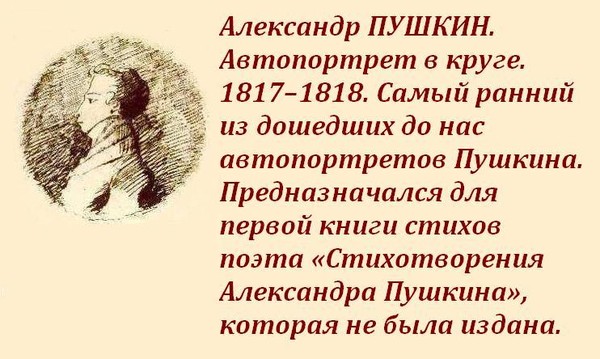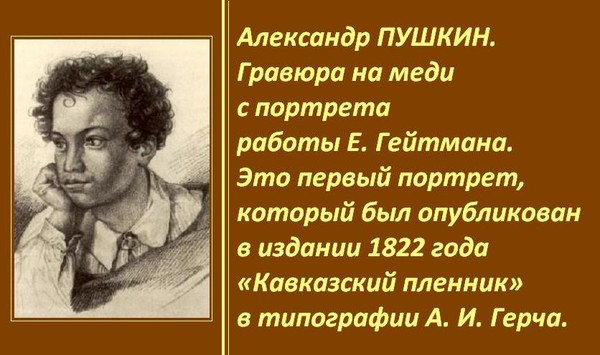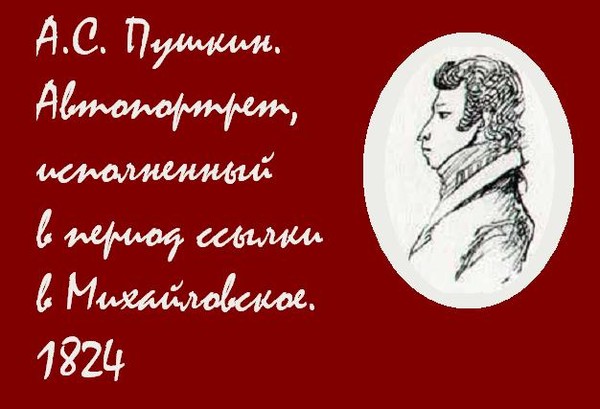Елена Байер,
13-07-2010 13:27
(ссылка)
ДОСТОЕВСКИЙ: ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

В 1871 году, 1 июля (14 июля ст. ст.) в Петербургской судебной палате начинается суд, первый в России гласный политический «процесс нечаевцев».
«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».
Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)
http://my.mail.ru/community...
О Нечаеве
http://www.kommersant.ru/do...
«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».
Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)
http://my.mail.ru/community...
О Нечаеве
http://www.kommersant.ru/do...
Метки: писатели, Россия, Достоевский, бесы, Нечаев
Елена Байер,
14-03-2010 14:47
(ссылка)
НЕ-ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из блога Солнце http://blogs.mail.ru/mail/a...
Тематические изыски, или "Об ком звоним"...
Е. Хмелева
Как вы думаете, что нужно для написания хорошей книги? Для начала - уметь писать, скажете вы - и будете абсолютно правы! А еще что? Умение правильно выбрать тему. Такую тему, чтобы читатель на протяжении всей книги сидел вцепившись в переплет и перебирал ногами от возбуждения - ну, что там дальше-то?! К сожалению, многие молодые (да и не очень) авторы отнюдь не утруждают себя поисками интересных тем, а придерживаются уже имеющихся, подчас - избитых, испробованных и потертых. Таким образом, мы имеем клонов почище овечки Долли, почти во всех жанрах уже напечатанных и переизданных книг. К тому же многие молодые авторы не очень-то и представляют себе, что им делать с той или иной выбранной или заказанной им темой.
Пробежимся?..
1. "Все в жизни плохо" или "никто меня не любит". Почти всегда автобиографичное произведение, где главный герой - одинокий, гордый, красивый и безумно сексуальный. Работает герой менеджером, дизайнером, иногда - учителем. Книга представляет собой описание жизненных и трудовых проблем героя, его случайных связей и пьянок, вперемешку с философскими рассуждениями. Кончается книга чаще всего так: "Он вышел на улицу и подставил разгоряченное лицо осеннему дождю". Бр-р-р-р.
2. "Земное и небесное". Небесный ангел, эльф или другое неземное прекрасное создание попадает на землю и влюбляется в земную и потому смертную. Или в земного и смертного. Короче - трагедия всей его бессмертной жизни. Как альтернатива ангелам, у авторов-готов, мистиков и любителей ужастиков "используются" вампиры.
3. "Великий артефакт". На протяжении всей книги герои и иже с ними гоняются за каким-нибудь артефактом, которой или наделяет владельца невероятными способностями (волшебными, творческими, сексуальными или же деловыми - в зависимости от фантазии автора), или же способен разрушить или исправить мир. Положительные герои желают использовать его во благо, а отрицательные - во зло. Как вариант, вместо артефакта может быть какая-нибудь историческая реликвия, которую злодеи всеми силами пытаются вывести куда-нибудь подальше.
4. "Я - пришелец". Главный герой оказывается в параллельном мире, на другой планете, в другой исторической эпохе, где становится королем, богом, волшебником, "истиной в последней инстанции" или революционером. Короче - "весь мир ля-ля-ля мы разрушим"
5. "Неравный брак". Чаще всего слезливо-сопливая история любви людей разного круга - дочери олигарха и студента из провинции, самого олигарха (женатого, с тремя детьми) и скромной секретарши (студентки, просто девушки, которую он как-то подвез в дождливый вечер), дочери академика и простого "советского" учителя и т.п. Описание моральных страданий героев перемежается с постельными сценами, достойными занесения в "Камасутру". Чаще всего книга кончается расставанием героев по причине невозможности соединиться или трагической гибелью одного из них.
6. "Передовая графиня". Она умна, идет широким шагом впереди своей эпохи. Крестьян освободила задолго до наполеоновских войн. Она разоблачает шпионов, попутно спасает Россию и Государя, а любит всего лишь благородного, но бедного военного офицера. Кончается или свадьбой в Париже, или медовым месяцем в Сибири.
7. "Простая любовь простого менеджера". Имеется: девушка, у нее - высшее образование, хорошая работа, ослепительная красота и высокие моральные качества. Отсутствует - любовь и личная жизнь. И тут появляется герой - красавец-мужчина, богатый, но - с проблемами. Как обязательное условие: наличие мудрой тети или подружки-советчицы, а также бывшей жены героя.
8. "Мой адрес - Советский Союз". Автор пытается воссоздать эпоху 1950-1960-х годов, чаще всего неудачно. Его герои живут в коммуналке или "хрущобе", имеют простые профессии, они или высокоморальны, или явно просятся на Колыму - убирать снег. Весь.
9. "Призрак метрополитена" или "Как выжить после Апокалипсиса". Миру явилась "белая полярная лисичка", все либо вымерли, либо мутировали, либо вовремя спрятались. Последние, оставшись в твердом разуме и более-менее человеческом обличье, рыщут по подземельям, пещерам, лесам и прочим мрачным территориям с пулеметом либо в поисках лекарства для всего человечества, либо в поисках живых собратьев, либо с целью просто "найти пожрать". Книга похожа на инструкцию по прохождению компьютерного квеста-стрелялки.
10. "Импортный принц на белом мерседесе". Книга описывает случайное знакомство, вспыхнувшие чувства, метание по посольствам с целью объединения героев в счастливый союз и т.д. Попутно могут возникать споры о преимуществе того или иного государственного строя: "а у вас зато негров линчуют"+ Короче - лавры "Интердевочки" кому-то не дают покоя.
11. "Следствие ведет идиотка". Этих книг сегодня не пишет только ленивая. Сама героиня - невероятно затюканная дама, как правило, с неудавшейся личной жизнью, которая с завидным постоянством влипает в самые невероятные ситуации. Мотивы убийств в книге нереальны, остальные герои или дураки, или супермены, или сволочи. Поскольку автор никогда не работал в милиции, прокуратуре или следственных органах, книга написана по мотивам Уголовного Кодекса (за что и сколько дают) и имеет отношение к литературе такое же, как расписание пригородных электричек.
12. "Всемирный заговор" или "Былина об Илье МУРовце". Враг (неважно какой!) уже у ворот и грозит немедленной расправой над ничего не подозревающими мирными гражданами. Но - спи, народ, спокойно: ведь у тебя есть ОН - великий и неподкупный сержант милиции! Книга изобилует большими деньгами, соблазнами, тайными организациями, шифрами, длинноногими блондинками с 190 IQ и суровыми буднями каких-то органов.
13. "Политические подштаники". Для написания книги о российских и забугорных политиках автору достаточно регулярно смотреть программу "Вести" и "К барьеру", а также просматривать странички в периодических изданиях с описанием, кто у кого чего украл и кто у кого чего купил. Благодаря этому он безошибочно предскажет очередной дефолт, а также проникнет в самые глубокие+ гм+ места политической жизни. При этом знание истории, умение мыслить и хоть в чем-то разбираться, не обязательны.
14. "А вас, Штирлиц, я попрошу" Герой - разведчик, заброшенный в прямом и в переносном смысле в одну из стран Западной Европы, Азии или Америки. Он обаятелен, умен, в совершенстве владеет собой, иностранными языками, карате, и умением втираться в доверие к высшим партийным лидерам страны-противника. Как правило, остается без связи и выкручивается своими силами. Возвращается домой, пройдя через все круги ада почти без единой царапины.
15. "Рублевская красавица". В последнее время, благодаря творчеству определенных дам, эта тема стала прямо таки насущной. Как же - простому неискушенному россиянину всегда интересно и, главное, важно знать, какое это страдание - быть женой олигарха! Попутно читателю предлагается другая необходимая в жизни информация: сколько нужно на шубу шкурок шиншиллы, почем нынче изделия "Graff"* и как можно уберечься от кризиса путем увольнения стилиста любимой собачки.
Пробежимся?..
1. "Все в жизни плохо" или "никто меня не любит". Почти всегда автобиографичное произведение, где главный герой - одинокий, гордый, красивый и безумно сексуальный. Работает герой менеджером, дизайнером, иногда - учителем. Книга представляет собой описание жизненных и трудовых проблем героя, его случайных связей и пьянок, вперемешку с философскими рассуждениями. Кончается книга чаще всего так: "Он вышел на улицу и подставил разгоряченное лицо осеннему дождю". Бр-р-р-р.
2. "Земное и небесное". Небесный ангел, эльф или другое неземное прекрасное создание попадает на землю и влюбляется в земную и потому смертную. Или в земного и смертного. Короче - трагедия всей его бессмертной жизни. Как альтернатива ангелам, у авторов-готов, мистиков и любителей ужастиков "используются" вампиры.
3. "Великий артефакт". На протяжении всей книги герои и иже с ними гоняются за каким-нибудь артефактом, которой или наделяет владельца невероятными способностями (волшебными, творческими, сексуальными или же деловыми - в зависимости от фантазии автора), или же способен разрушить или исправить мир. Положительные герои желают использовать его во благо, а отрицательные - во зло. Как вариант, вместо артефакта может быть какая-нибудь историческая реликвия, которую злодеи всеми силами пытаются вывести куда-нибудь подальше.
4. "Я - пришелец". Главный герой оказывается в параллельном мире, на другой планете, в другой исторической эпохе, где становится королем, богом, волшебником, "истиной в последней инстанции" или революционером. Короче - "весь мир ля-ля-ля мы разрушим"
5. "Неравный брак". Чаще всего слезливо-сопливая история любви людей разного круга - дочери олигарха и студента из провинции, самого олигарха (женатого, с тремя детьми) и скромной секретарши (студентки, просто девушки, которую он как-то подвез в дождливый вечер), дочери академика и простого "советского" учителя и т.п. Описание моральных страданий героев перемежается с постельными сценами, достойными занесения в "Камасутру". Чаще всего книга кончается расставанием героев по причине невозможности соединиться или трагической гибелью одного из них.
6. "Передовая графиня". Она умна, идет широким шагом впереди своей эпохи. Крестьян освободила задолго до наполеоновских войн. Она разоблачает шпионов, попутно спасает Россию и Государя, а любит всего лишь благородного, но бедного военного офицера. Кончается или свадьбой в Париже, или медовым месяцем в Сибири.
7. "Простая любовь простого менеджера". Имеется: девушка, у нее - высшее образование, хорошая работа, ослепительная красота и высокие моральные качества. Отсутствует - любовь и личная жизнь. И тут появляется герой - красавец-мужчина, богатый, но - с проблемами. Как обязательное условие: наличие мудрой тети или подружки-советчицы, а также бывшей жены героя.
8. "Мой адрес - Советский Союз". Автор пытается воссоздать эпоху 1950-1960-х годов, чаще всего неудачно. Его герои живут в коммуналке или "хрущобе", имеют простые профессии, они или высокоморальны, или явно просятся на Колыму - убирать снег. Весь.
9. "Призрак метрополитена" или "Как выжить после Апокалипсиса". Миру явилась "белая полярная лисичка", все либо вымерли, либо мутировали, либо вовремя спрятались. Последние, оставшись в твердом разуме и более-менее человеческом обличье, рыщут по подземельям, пещерам, лесам и прочим мрачным территориям с пулеметом либо в поисках лекарства для всего человечества, либо в поисках живых собратьев, либо с целью просто "найти пожрать". Книга похожа на инструкцию по прохождению компьютерного квеста-стрелялки.
10. "Импортный принц на белом мерседесе". Книга описывает случайное знакомство, вспыхнувшие чувства, метание по посольствам с целью объединения героев в счастливый союз и т.д. Попутно могут возникать споры о преимуществе того или иного государственного строя: "а у вас зато негров линчуют"+ Короче - лавры "Интердевочки" кому-то не дают покоя.
11. "Следствие ведет идиотка". Этих книг сегодня не пишет только ленивая. Сама героиня - невероятно затюканная дама, как правило, с неудавшейся личной жизнью, которая с завидным постоянством влипает в самые невероятные ситуации. Мотивы убийств в книге нереальны, остальные герои или дураки, или супермены, или сволочи. Поскольку автор никогда не работал в милиции, прокуратуре или следственных органах, книга написана по мотивам Уголовного Кодекса (за что и сколько дают) и имеет отношение к литературе такое же, как расписание пригородных электричек.
12. "Всемирный заговор" или "Былина об Илье МУРовце". Враг (неважно какой!) уже у ворот и грозит немедленной расправой над ничего не подозревающими мирными гражданами. Но - спи, народ, спокойно: ведь у тебя есть ОН - великий и неподкупный сержант милиции! Книга изобилует большими деньгами, соблазнами, тайными организациями, шифрами, длинноногими блондинками с 190 IQ и суровыми буднями каких-то органов.
13. "Политические подштаники". Для написания книги о российских и забугорных политиках автору достаточно регулярно смотреть программу "Вести" и "К барьеру", а также просматривать странички в периодических изданиях с описанием, кто у кого чего украл и кто у кого чего купил. Благодаря этому он безошибочно предскажет очередной дефолт, а также проникнет в самые глубокие+ гм+ места политической жизни. При этом знание истории, умение мыслить и хоть в чем-то разбираться, не обязательны.
14. "А вас, Штирлиц, я попрошу" Герой - разведчик, заброшенный в прямом и в переносном смысле в одну из стран Западной Европы, Азии или Америки. Он обаятелен, умен, в совершенстве владеет собой, иностранными языками, карате, и умением втираться в доверие к высшим партийным лидерам страны-противника. Как правило, остается без связи и выкручивается своими силами. Возвращается домой, пройдя через все круги ада почти без единой царапины.
15. "Рублевская красавица". В последнее время, благодаря творчеству определенных дам, эта тема стала прямо таки насущной. Как же - простому неискушенному россиянину всегда интересно и, главное, важно знать, какое это страдание - быть женой олигарха! Попутно читателю предлагается другая необходимая в жизни информация: сколько нужно на шубу шкурок шиншиллы, почем нынче изделия "Graff"* и как можно уберечься от кризиса путем увольнения стилиста любимой собачки.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Язвительно, с претензией на проникновение в проблемы современной литературы... Но дело в том, что рассматривает автор то, что, так сказать, около литературы никогда не лежало, - бульварное чтиво... А чтиву положено по природе быть таким... Что уж тут копья ломать? Было бы из-за чего!
А насчет: "...чтобы читатель на протяжении всей книги сидел вцепившись в переплет и перебирал ногами от возбуждения - ну, что там дальше-то?!" - хотелось бы у автора спросить, пробовала ли она читать книгу, вцепившись в переплет - не в обложку, а именно в переплет... и при этом перебирать ногами. Пусть попробует - вот ей и новая захватывающая тема для ее очередного опуса - не романа, конечно, а так, для бульварной статьи...
По моему глубокому убеждению, ТАКОЙ критик достоин именно ТАКОЙ литературы. И темы здесь ни при чем: вся мировая классика укладывается в ее условные темы. Дело в таланте, мудрости, искренности автора, в его честности и трудолюбии. Толстой 20 лет писал и переписывал роман, Пушкин мучительно искал слово, Довлатов работал над своими рассказами так, чтобы слова даже с приблизительно одинаковым набором звуков не встречались в одном предложении... До того ли современным псевдописателям, если пишут они НЕ потому, что душа кричит, а потому, что читатель СКУШАЕТ ВСЁ, да и денег хочется...
Уж не знаю, кстати или некстати, но вспомнился анекдот 90-х.
Встречаются два однокурсника, в прошлом выпускника консерватории. Один - цветущий, жизнерадостный; другой - поникший, обтрепанный.
- Как ты? - спрашивает жизнерадостный.
- Да вот, написал симфонию, оперу, фортепианный концерт... Никому не надо. Говорят, что сейчас другие музыкальные формы востребованы. Денег нет... А ты-то как?
- Я - хорошо. Тоже музыку пишу, платят так, что квартиру, машину купил, на Канары съездил... - отвечает жизнерадостный.
- Извини, я что-то имени твоего последнее время не слышал... Что ты написал?
- Ну, вот хотя бы, из последнего: "М-м-м, Данон..." - пропел жизнерадостный...
Метки: Проблемы, самобытность, писатели, Литература
Елена Байер,
12-02-2010 16:37
(ссылка)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА ПУШКИНА
В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»
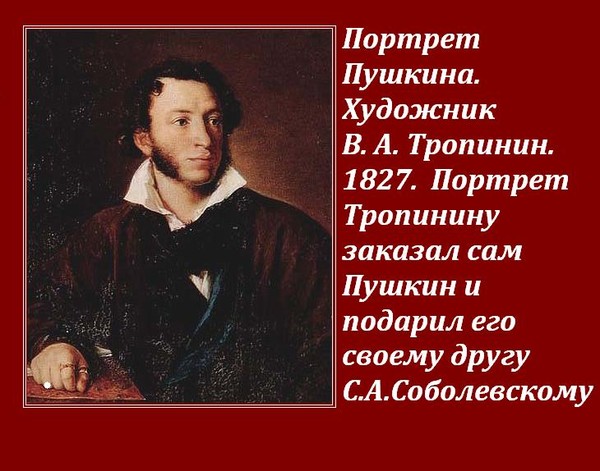
Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.
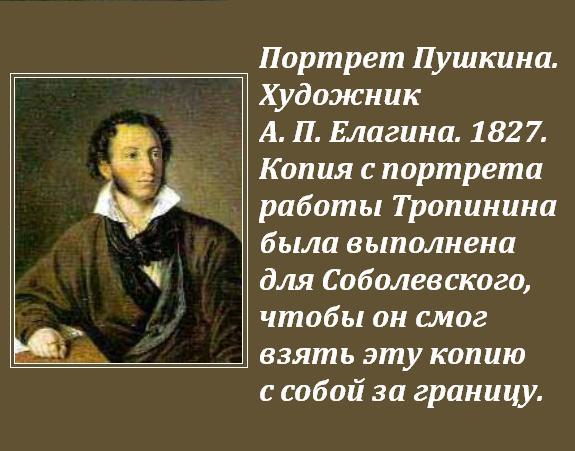
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
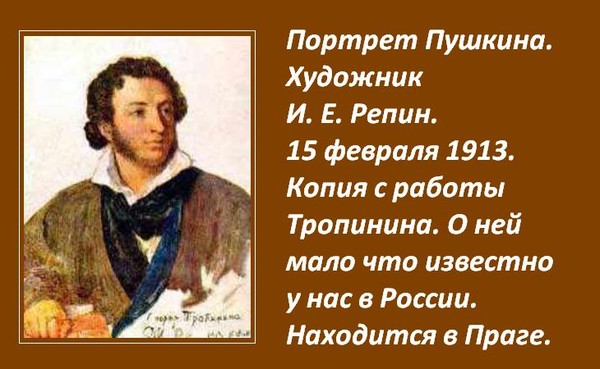
* * *
С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»
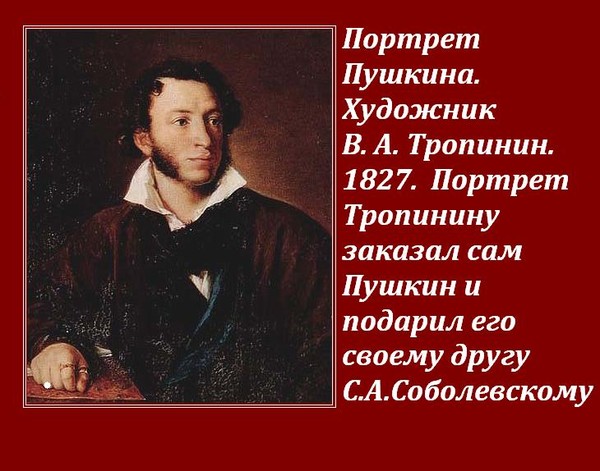
Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.
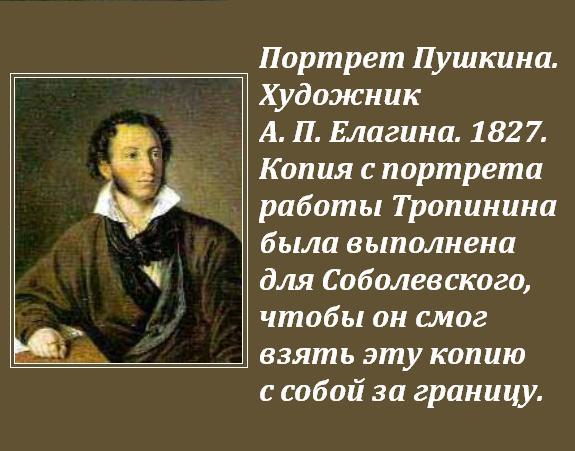
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
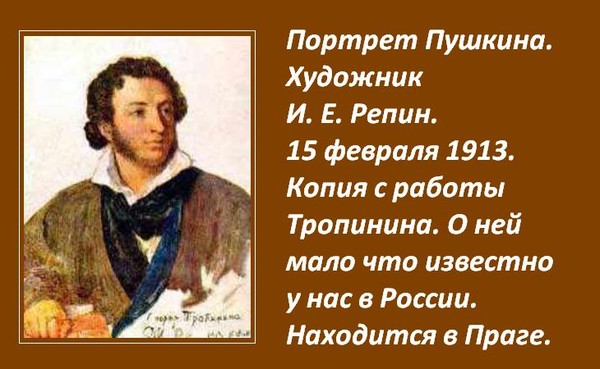
* * *
С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
Елена Байер,
01-07-2010 09:53
(ссылка)
НАСЛЕДИЕ. ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сто лет назад догорал костер европейского пожара, и тогда начала существовать Московская Духовная академия. Зарево нового, еще более ужасного, европейского пожара освещает ее столетний юбилей. Против кого воевала наша Россия тогда, сто лет назад? Против Франции, против «просвещенной», передовой Франции. Тогда нашим врагом была страна, только что пережившая век Просвещения, Вольтера, революцию, страна, провозгласившая великие принципы свободы, равенства и братства — и изобретшая гильотину для проведения в жизнь этих высоких принципов. Теперь мы воюем с Германией. Но не Германия ли за последнее время идет во главе европейской культуры и прогресса? Несомненно, она. По пути прогресса она бесспорно далеко опередила всех. Русский человек в Германии невольно изумляется тому, как много можно сделать для удобства жизни земной. В сознании невольно мелькает мысль: как далеко мы отстали! Я сам испытал это, проезжая Германию от Торна до Кельна и Аахена. «Во всем, касающемся земного устроения, Германия занимает первое место, играет роль школы цивилизации, ей принадлежит сейчас культурная гегемония, ибо вся современная фабрично-капиталистическая и научно-идеалистическая культура, до известной степени, made in Germany, носит на себе печать германского духа».
Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.
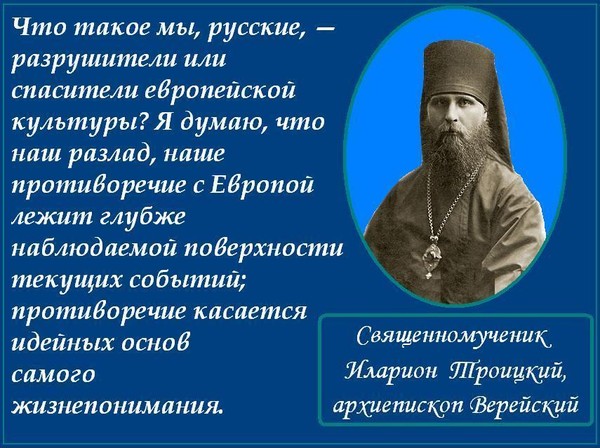
Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.
Но не трудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной, и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель — сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они порок и погибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут… такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске ― какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику, и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому «пройти бы можно, чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland liber alles!» — вот припев германского патриотизма. Слабые народы — это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства — так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уже с несомненными варварами турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не сметь! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подожженная немцами!
Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.
Война — это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны недавно прошедшего столетия порою кажутся детскими забавами. Это — прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война — это самопроклятие прогресса!
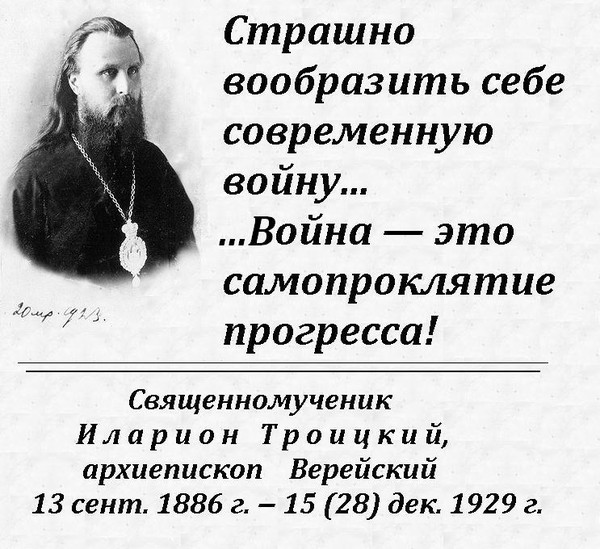
Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но… но “да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!”. Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!» Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, — и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.
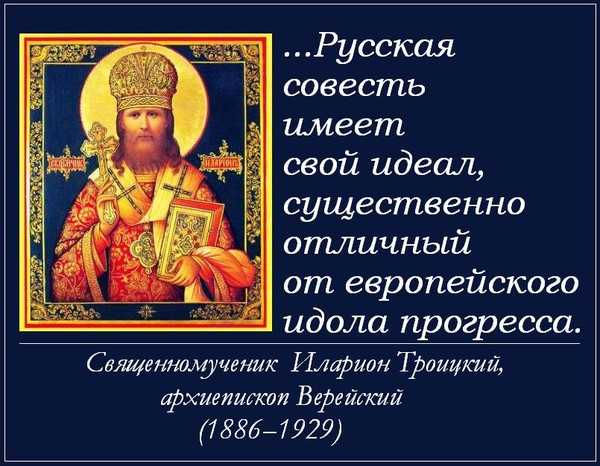
Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал православия.
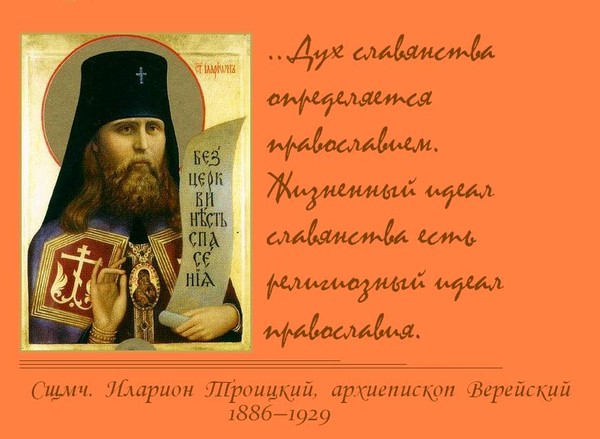
Но в чем религиозный идеал православия? Идеал православия есть не прогресс, но преображение. О преображении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Никодиму. По слову апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (1 Кор. 15,. 49). От славы в славу преображаются они от Духа Господня (2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» — говорил Господь устами древнего пророка (Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит:
«Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 1–4).
Процесс преображения человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5, 48).
Идеалом преображения жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков, и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» — смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин — новый, как бы только что родившийся человек. Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть крест, пользуясь вервию — Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все — богоносцы и храмоносцы, христоносцы, святоносцы. Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.
В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви, начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.
Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение — не слащаво-сантиментальное завывание самодовольного буржуя-протестанта в своей кирхе, не боязливая просьба несчастного католика о пощаде и помиловании, наше богослужение — гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к небу, на гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси». В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Востаните ленивии, иже всегда низу поникший в землю, возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения».
Итак, идеал православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним».
При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противоположность обнаруживается в культе. В культе, говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европеец преклонял колена пред богиней разума, потом пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подземелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это — прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговейно лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. Зато они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник — храм, посвященный имени святого, а не великого только.
Я уже сказал, что идеалом православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западноевропейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным. Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западноевропейскому прогрессу. Ему ясно и понятно, что за чечевичную похлебку культурной жизни европеец продал невозвратно права Божественного первородства. Немец душу черту продал, а русский так отдал, и в этом несомненное превосходство русского, потому что он так же и уйти от черта может, а немцу выкупиться нечем.
Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?.. Бог с ними.
По прихоти своей скитаться здесь и там ,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!
Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него — излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.
Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, — по словам Достоевского, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».
Отбившись от народной веры и жизни — что стало случаться после петровского окна в Европу, — русский делается скитальцем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:
Оставь нас, гордый человек!
Ты для себя лишь хочешь воли…
Ты зол и смел — оставь же нас.
Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».
Чем дальше от народа и православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство — все же признак того, что не спокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преображения печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне», Акт третий) рассказывает: «Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил… Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо… и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько — пожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю… Одна у него радость была — земля эта… И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого… с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками… Человек и говорит ученому: „Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?“ Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет! Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: „Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…“ Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой — и удавился!..»
По этому представлению и наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия — философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а оканчивает «Размышлением о Божественной литургии».
Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность — душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преображения, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
И милость к падшим призывал.
Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него преступление обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преображению и веру в его возможность. «Всеобщее исцеление во всеобщем преображении — в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде — у Толстого, а из мыслителей — у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего» (кн. Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума.). У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «свете Фаворском и преображении ума». У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преп. Ефрема Сирина и признается:
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой (А. С. Пушкин).
Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель — «сердцем возлетать во области заочны».
Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.
Напрасно я бегу к сионским высотам —
Грех алчный гонится за мною по пятам.
Грех — вот самый главный враг преображения. Отсюда у носителя идеала преображения особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал апостол Павел в послании к римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского пред европейцем. Европеец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европеец смеется, а иногда сам грех облекает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, не мало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древе пишут хулы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво. Европейский Иуда, предав — Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо». При этом «один каторжный бросился было на него в решительном исступлении».
А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, — люди несчастные, страдающие; они ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многажды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма», и «у последней черты», по их представлению, — страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.
Итак, если идеал Запада — прогресс, то русский народный идеал — преображение. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник — Бог (Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен, он — матерь всем нам (Гал. 4, 26).
Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преображение, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.
В истории Московской Духовной Академии мы стоим на грани двух столетий, и нам весьма полезно, хотя бы под давлением грандиозных событий, напомнить себе религиозный идеал православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преображения нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преображения, чтобы, когда придет время трудиться на ниве народной, не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.
Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.
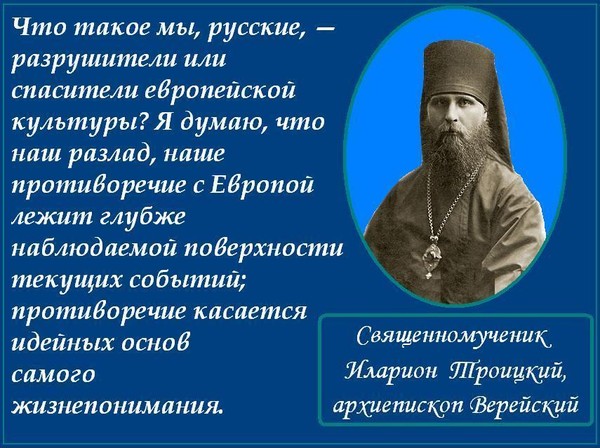
Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.
Но не трудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной, и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель — сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они порок и погибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут… такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске ― какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику, и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому «пройти бы можно, чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland liber alles!» — вот припев германского патриотизма. Слабые народы — это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства — так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уже с несомненными варварами турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не сметь! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подожженная немцами!
Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.
Война — это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны недавно прошедшего столетия порою кажутся детскими забавами. Это — прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война — это самопроклятие прогресса!
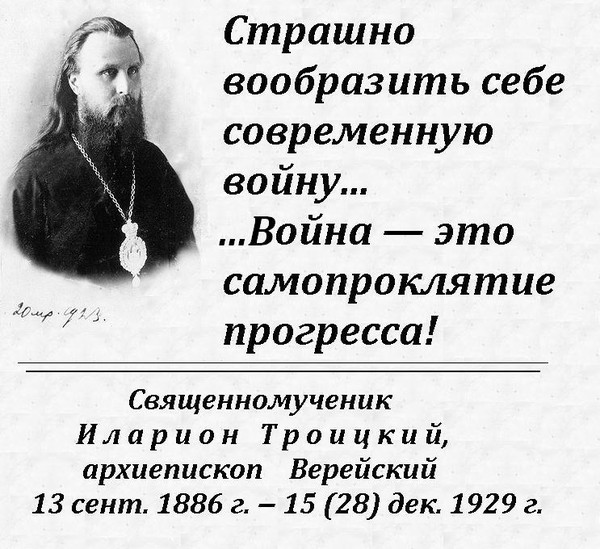
Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но… но “да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!”. Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!» Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, — и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.
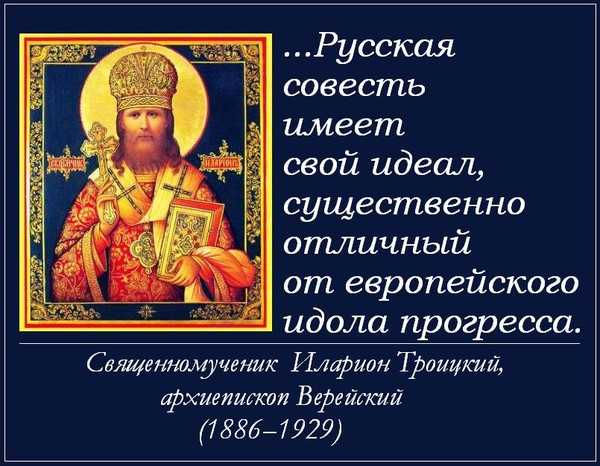
Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал православия.
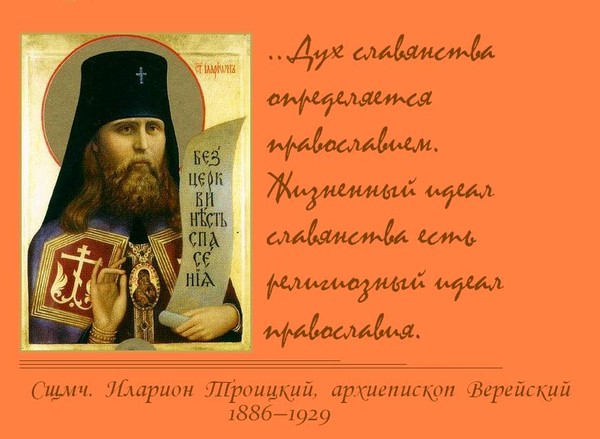
Но в чем религиозный идеал православия? Идеал православия есть не прогресс, но преображение. О преображении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Никодиму. По слову апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (1 Кор. 15,. 49). От славы в славу преображаются они от Духа Господня (2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» — говорил Господь устами древнего пророка (Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит:
«Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 1–4).
Процесс преображения человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5, 48).
Идеалом преображения жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков, и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» — смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин — новый, как бы только что родившийся человек. Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть крест, пользуясь вервию — Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все — богоносцы и храмоносцы, христоносцы, святоносцы. Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.
В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви, начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.
Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение — не слащаво-сантиментальное завывание самодовольного буржуя-протестанта в своей кирхе, не боязливая просьба несчастного католика о пощаде и помиловании, наше богослужение — гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к небу, на гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси». В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Востаните ленивии, иже всегда низу поникший в землю, возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения».
Итак, идеал православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним».
При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противоположность обнаруживается в культе. В культе, говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европеец преклонял колена пред богиней разума, потом пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подземелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это — прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговейно лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. Зато они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник — храм, посвященный имени святого, а не великого только.
Я уже сказал, что идеалом православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западноевропейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным. Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западноевропейскому прогрессу. Ему ясно и понятно, что за чечевичную похлебку культурной жизни европеец продал невозвратно права Божественного первородства. Немец душу черту продал, а русский так отдал, и в этом несомненное превосходство русского, потому что он так же и уйти от черта может, а немцу выкупиться нечем.
Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?.. Бог с ними.
По прихоти своей скитаться здесь и там ,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!
Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него — излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.
Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, — по словам Достоевского, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».
Отбившись от народной веры и жизни — что стало случаться после петровского окна в Европу, — русский делается скитальцем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:
Оставь нас, гордый человек!
Ты для себя лишь хочешь воли…
Ты зол и смел — оставь же нас.
Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».
Чем дальше от народа и православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство — все же признак того, что не спокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преображения печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне», Акт третий) рассказывает: «Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил… Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо… и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько — пожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю… Одна у него радость была — земля эта… И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого… с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками… Человек и говорит ученому: „Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?“ Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет! Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: „Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…“ Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой — и удавился!..»
По этому представлению и наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия — философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а оканчивает «Размышлением о Божественной литургии».
Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность — душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преображения, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
И милость к падшим призывал.
Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него преступление обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преображению и веру в его возможность. «Всеобщее исцеление во всеобщем преображении — в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде — у Толстого, а из мыслителей — у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего» (кн. Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума.). У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «свете Фаворском и преображении ума». У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преп. Ефрема Сирина и признается:
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой (А. С. Пушкин).
Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель — «сердцем возлетать во области заочны».
Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.
Напрасно я бегу к сионским высотам —
Грех алчный гонится за мною по пятам.
Грех — вот самый главный враг преображения. Отсюда у носителя идеала преображения особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал апостол Павел в послании к римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского пред европейцем. Европеец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европеец смеется, а иногда сам грех облекает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, не мало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древе пишут хулы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво. Европейский Иуда, предав — Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо». При этом «один каторжный бросился было на него в решительном исступлении».
А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, — люди несчастные, страдающие; они ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многажды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма», и «у последней черты», по их представлению, — страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.
Итак, если идеал Запада — прогресс, то русский народный идеал — преображение. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник — Бог (Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен, он — матерь всем нам (Гал. 4, 26).
Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преображение, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.
В истории Московской Духовной Академии мы стоим на грани двух столетий, и нам весьма полезно, хотя бы под давлением грандиозных событий, напомнить себе религиозный идеал православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преображения нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преображения, чтобы, когда придет время трудиться на ниве народной, не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.
Вступительная лекция-речь, сказанная в академической аудитории 3 сентября 1914 года. Впервые опубликовано в журнале «Богословский вестник», 1914, т. 3, № 10-11. Подписано «Архимандрит Иларион».
Священномученик Иларион (Троицкий)
Священномученик Иларион (Троицкий)
Метки: Наследие, самобытность, Русь, Россия, открытка
Елена Байер,
02-03-2010 18:55
(ссылка)
ИСТОРИЯ ВЕНЧАНИЯ ПУШКИНА
2 марта (18 февраля ст. ст.) в 1831 году
Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…
Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…
Рассказ о своем обручении Александр Сергеевич доверил черновику в виде перевода как бы с французского: «Отец первый встретил меня с отверстыми объятьями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Нас благословили. Невеста подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне – и я жених…» Дедушка Натальи Николаевны пообещал ей триста душ, но не дал ни одной, а вместо этого стал использовать связи поэта, чтобы продать казне бронзовую статую Екатерины II, валявшуюся в Гончаровском сарае с Потемкинских времен. И вот в мае 1830-го, через три недели после помолвки, Пушкин просит у Бенкендорфа разрешения этот «шедевр» растопить: «Свадьба внучки, – пишет он, – быстро налаженная, застала деда совершенно без денег, и вывести нас из затруднения может только Государь Император и его августейшая бабка».
Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.

Тёща звала его «сочинителем», обвиняла в безверии, безденежье и плохих отношениях с властями. Он боялся, что Наталья Николаевна не сможет его полюбить: «Когда окружена она будет восторгами, поклонением, соблазнами, не будет ли смотреть на меня как на помеху? Не стану ли я ей тогда противен?»

Но ещё больше его пугала перспектива смерти, которую каким-то особым чутьем поэта он осязал в грядущем браке – первое, что он увидел из окон Гончаровой, была вывеска погребальной конторы. В один день с «Гробовщиком» он пишет:

Девятого сентября 1830 года, в пятый день в Болдине, Александр Сергеевич заканчивает «Гробовщика» и рисует на его последней странице свою невесту и возницу в похоронном плаще. А начинается повесть так: Адриян Прохоров взваливает пожитки на похоронные дроги, и тощая пара тащится с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. На Басманной Пушкин родился и был крещён, на Никитской жила семья Гончаровых...


Заключив Пушкина на карантин, судьба помогает ему ещё раз все взвесить. Уже 20 сентября готовы «Барышня-крестьянка» и «Монастырь на Казбеке». В повести мечта о счастливой свадьбе, в стихах – о монастыре:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Порыв нешуточный… Очевидно, что жених ещё не определился. Но разлука и холера, которая подбирается к Москве, делают свое дело. Кроме того, Пушкин узнает, что дедушка невесты раздумал переплавлять статую Екатерины.

Раздается «Выстрел» Сильвио, заставляющий понять, как дорога бывает жизнь, когда ты любишь, когда юная красавица становится женой. А за ним появляется «Метель» с рисунком челна и плавателя, входящего в гавань. Он верит, что Божий Промысел ведет его, как Марью Гавриловну с Бурминым, и вдруг… отец присылает известие о том, что свадьба с Натали расстроилась. Невзирая на строжайший карантин, Александр Сергеевич срывается с места…
С этой трагедией в сердце Пушкин добирается до Владимира, но его разворачивает первый же карантин. Просит подорожную – отказ. Шлет бессильную жалобу губернатору. Отчаяние! И тут ему советуют пойти к старцу, которому носит свои скорби вся округа.


Наверняка, Пушкин ждал, что, помолясь, старец скажет, будет ли счастлив он в мужьях и ждут ли его вообще семейные узы. Судя по «Пиру во время чумы», отец Серафим Саровский открыл поэту всю опасность этого пути.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак, – хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может, полное Чумы.
Это песня свободного человека, а только свободный может любить. Наверное, в женитьбе Александру Сергеевичу была предложена не только смерть, но и очищение, и залог вечной жизни, ведь дева-роза – его суженая. И роман о чистоте и верности соединенных Богом сердец он ещё напишет.
9 декабря 1830 года Пушкин шлет Плетнёву письмо: «Милый! Я в Москве. Нашел тёщу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил. Насилу прорвался и сквозь карантины. Пришли мне денег, сколько можно более, я на мели. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий и прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется».
Первым делом Александр Сергеевич кинулся к людям, хорошо знавшим Екатерину II, собирать материал для будущего романа, и только после этого принялся улаживать житейские дела. Перед свадьбой он был необычайно грустен. Обмолвился в одном письме, что, вероятно, ему придется погибнуть на поединке.

Но после венчания, которое не обошлось без дурных примет (он ронял кольцо, Евангелие и крест, свеча гасла в его руке), Александр Сергеевич уже был весел и светел. «Я женат и счастлив, – читает Плетнёв, – это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через пять лет, осенью 1836-го, Пётр Александрович получит «Капитанскую дочку», великую песнь русской литературы о любви, песнь песней Пушкина, а сам Александр Сергеевич примет долгожданную и благую весть.
Чудный сон мне Бог послал –
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некой предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник – ляжешь на ночлеге,
В гавань, плаватель, войдешь.
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде».
<…>
Сон отрадный, благовещный
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. – Кто там идет?
Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.

Тёща звала его «сочинителем», обвиняла в безверии, безденежье и плохих отношениях с властями. Он боялся, что Наталья Николаевна не сможет его полюбить: «Когда окружена она будет восторгами, поклонением, соблазнами, не будет ли смотреть на меня как на помеху? Не стану ли я ей тогда противен?»

Но ещё больше его пугала перспектива смерти, которую каким-то особым чутьем поэта он осязал в грядущем браке – первое, что он увидел из окон Гончаровой, была вывеска погребальной конторы. В один день с «Гробовщиком» он пишет:

Девятого сентября 1830 года, в пятый день в Болдине, Александр Сергеевич заканчивает «Гробовщика» и рисует на его последней странице свою невесту и возницу в похоронном плаще. А начинается повесть так: Адриян Прохоров взваливает пожитки на похоронные дроги, и тощая пара тащится с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. На Басманной Пушкин родился и был крещён, на Никитской жила семья Гончаровых...


Заключив Пушкина на карантин, судьба помогает ему ещё раз все взвесить. Уже 20 сентября готовы «Барышня-крестьянка» и «Монастырь на Казбеке». В повести мечта о счастливой свадьбе, в стихах – о монастыре:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Порыв нешуточный… Очевидно, что жених ещё не определился. Но разлука и холера, которая подбирается к Москве, делают свое дело. Кроме того, Пушкин узнает, что дедушка невесты раздумал переплавлять статую Екатерины.

Раздается «Выстрел» Сильвио, заставляющий понять, как дорога бывает жизнь, когда ты любишь, когда юная красавица становится женой. А за ним появляется «Метель» с рисунком челна и плавателя, входящего в гавань. Он верит, что Божий Промысел ведет его, как Марью Гавриловну с Бурминым, и вдруг… отец присылает известие о том, что свадьба с Натали расстроилась. Невзирая на строжайший карантин, Александр Сергеевич срывается с места…
С этой трагедией в сердце Пушкин добирается до Владимира, но его разворачивает первый же карантин. Просит подорожную – отказ. Шлет бессильную жалобу губернатору. Отчаяние! И тут ему советуют пойти к старцу, которому носит свои скорби вся округа.


Наверняка, Пушкин ждал, что, помолясь, старец скажет, будет ли счастлив он в мужьях и ждут ли его вообще семейные узы. Судя по «Пиру во время чумы», отец Серафим Саровский открыл поэту всю опасность этого пути.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак, – хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может, полное Чумы.
Это песня свободного человека, а только свободный может любить. Наверное, в женитьбе Александру Сергеевичу была предложена не только смерть, но и очищение, и залог вечной жизни, ведь дева-роза – его суженая. И роман о чистоте и верности соединенных Богом сердец он ещё напишет.
9 декабря 1830 года Пушкин шлет Плетнёву письмо: «Милый! Я в Москве. Нашел тёщу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил. Насилу прорвался и сквозь карантины. Пришли мне денег, сколько можно более, я на мели. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий и прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется».
Первым делом Александр Сергеевич кинулся к людям, хорошо знавшим Екатерину II, собирать материал для будущего романа, и только после этого принялся улаживать житейские дела. Перед свадьбой он был необычайно грустен. Обмолвился в одном письме, что, вероятно, ему придется погибнуть на поединке.

Но после венчания, которое не обошлось без дурных примет (он ронял кольцо, Евангелие и крест, свеча гасла в его руке), Александр Сергеевич уже был весел и светел. «Я женат и счастлив, – читает Плетнёв, – это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через пять лет, осенью 1836-го, Пётр Александрович получит «Капитанскую дочку», великую песнь русской литературы о любви, песнь песней Пушкина, а сам Александр Сергеевич примет долгожданную и благую весть.
Чудный сон мне Бог послал –
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некой предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник – ляжешь на ночлеге,
В гавань, плаватель, войдешь.
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде».
<…>
Сон отрадный, благовещный
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. – Кто там идет?
Метки: Пушкин
Елена Байер,
09-08-2009 17:11
(ссылка)
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ Н. В. ГОГОЛЬ

Иеромонах Симеон (Томачинский) - директор издательства Сретенского монастыря, кандидат филологических наук, автор диссертации о Николае Васильевиче Гоголе. Корреспондент «Интерфакс-Религия» Ольга Курова побеседовала с отцом Симеоном о христианском наследии творчества Н. В. Гоголя.
ГОГОЛЬ — САМЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
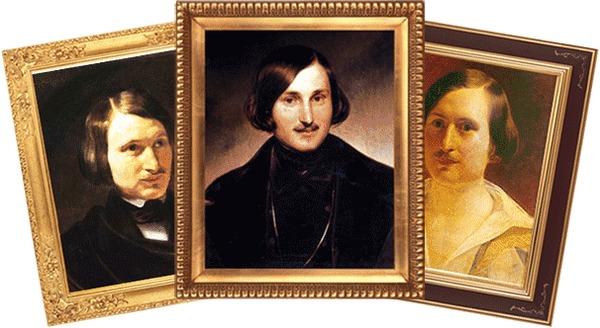
— Ваше преподобие, чем Гоголь близок именно Вам, почему он стал темой Вашей диссертации?
— Гоголь близок мне очень многим. Во-первых, мама в самом раннем детстве мне его читала, и я впоследствии часто обращался к гоголевским произведениям. Во-вторых, во мне тоже перемешаны русская кровь с украинской. И как Гоголь не мог сказать, какая у него больше душа — «хохлацкая или русская», как он выражался, так и я не могу сказать, какой больше. И, конечно, своим аскетическим настроением он повлиял на мое решение уйти в монастырь. Известно, что Гоголь жил, как инок, хотел принять монашество, часто приезжал в Оптину пустынь, но старец Макарий сказал, что его труды нужнее на литературном поприще. И вообще, Гоголь — самый церковный писатель из классиков русской литературы, наиболее близкий к Церкви не только по идеям и мировоззрению, но и по своей жизни. Гоголь не только принимал активное участие в службах, исповедовался, причащался, но и глубоко изучал церковное богослужение. Об этом свидетельствуют его произведения, огромные тетради его выписок из святоотеческих произведений, из Миней, из Кормчей книги и, наконец, его работа «Размышления о Божественной Литургии», ради которой он специально изучал греческий язык.
— А они издавались в наше время?
— «Размышления о Божественной Литургии» издавались. В советское время, правда, об этой книге умалчивалось, в академическом так называемом «Полном собрании сочинений» не было этой работы, хотя многие исследователи указывали, что она отмечена особым лиризмом, отсвет самой личности Гоголя лежит на этой книге.
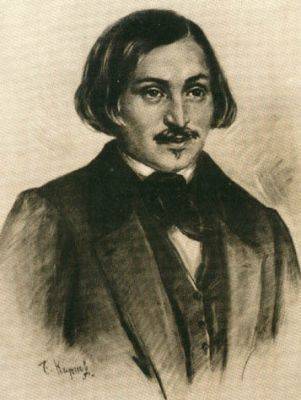
Но в наше время она издавалась, я с удовольствием ее перечитываю, она помогает понимать, что происходит во время литургии, каков смысл священнодействий, песнопений, тех молитв, которые священник читает в алтаре, — все очень подробно.
— То есть она может быть катехизаторской книгой для современного человека?
— Несомненно. Для тех, кто хочет понять смысл Божественной литургии, а не просто созерцать то, что происходит в храме, это прекрасный помощник. Ее рекомендовали читать и оптинские старцы.
— А что бы Вы сказали об эволюции взглядов Гоголя? Чем отличается ранний Гоголь от позднего?
— Существовала «концепция двух Гоголей», которую выдвинул Белинский. По ней «ранний» Гоголь — это замечательный художник, который подавал большие надежды, а потом изменил своему призванию, тронулся умом, церковники сгубили его.

Эта концепция в советское время была общепринятой. Но по многочисленным исследованиям, появившимся в последние два десятилетия, в первую очередь таких ученых, как Владимир Алексеевич Воропаев и другие, это неверная теория. Сами письма Гоголя, его отношение к своим произведениям показывают, что в его мировоззрении какой-то резкой ломки не было. Он всегда был православным, церковным человеком, но, конечно, молодости свойственны увлечения, он был в творческом поиске, у него была творческая эволюция.
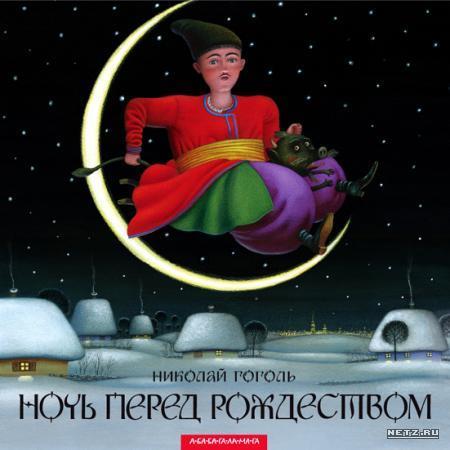
От веселых малороссийских историй «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь перешел к более серьезным произведениям. Это совершенно нормально, естественно для гения, великого художника. В середине сороковых годов у него действительно был духовный кризис, который заставил его пересмотреть свое отношение к творчеству, но тот же «Тарас Бульба», первая редакция, был написан, когда Гоголю было двадцать с небольшим лет.
Впоследствии он создал вторую редакцию, но все христианские идеи уже присутствовали в первой. А, скажем, «Ревизор», который многие воспринимали просто как сатирическое произведение, обличающее нравы?
Собственноручный рисунок Гоголя к комедии "Ревизор"
Гоголь многократно пытался объяснить, что он вкладывал более глубокий смысл в это произведение, что каждый должен на свою душу посмотреть, что все эти чиновники олицетворяют собой страсти, господствующие в человеке, а настоящий ревизор — это истинная совесть, в отличие от «ветреной совести», которую олицетворяет Хлестаков.
Тот духовный смысл, те идеи, которые в ранних произведениях не столь явственно выражены, впоследствии стали более яркими в других жанрах, в которых Гоголь стал работать. Говорить о каком-то противоречии между «ранним» и «поздним» Гоголем неправомерно, да и сам Гоголь об этом не говорит. Да, он признает, что некоторые ранние его произведения не заслуживают столь большого внимания, что «Выбранные места из переписки с друзьями» для него гораздо важнее, но он нигде не отрекается от своего прошлого.
— А как сочетается православие Гоголя со всей той бесовщиной, которую он сочинял, в том числе и в молодости?
— Это вопрос сложный. Как я уже сказал, в зрелом возрасте Гоголь другими глазами смотрел на свое раннее творчество. Он пишет, что становится жутко от тех плодов, которые мы, сами не думая, вырастили, от тех страшилищ, что подымаются из наших творений, о чем мы и не предполагали.
Гоголь переживал за многое из того, что было им написано, хотя в ранних его произведениях не было какого-то богоборчества или язычества. Возможно, восприятие Гоголем христианских идей в юности было более поверхностным, как это часто бывает. Поэтому действия дьявольских сил были для него скорее предметом смеха, и он считал, что можно шутить с такими вещами, с которыми на самом деле шутить не стоит. Именно за это он каялся впоследствии.
— А что бы Вы сказали о Гоголе как об имперском писателе? Он считал, что у всей Святой Руси должен быть один язык, язык Пушкина. Насколько реально празднование его юбилея в бывших советских республиках, что будет с наследием Гоголя на Украине?
— Я уверен, что Гоголя на Украине читают и любят. В конце марта состоялась гоголевская конференция в Киеве.
Памятник Гоголю в Киеве
И таких конференций не одна, их много. Другое дело, что на Украине в наше время Гоголя преподают в курсе зарубежной литературы — просто потому, что он писал на русском языке. Для современных украинских властей такой Гоголь, как он есть, неудобен. Николай Васильевич считал, что русские с украинцами должны быть вместе, что эти две нации дополняют друг друга, и в их взаимном единении заключается великая сила. Вот что он говорил в частном письме 1844 года: «Никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».
Памятник Гоголю в Харькове
Про украинский язык Гоголь говорил, что для малороссийских песен он замечательно подходит, указывал на его певучесть и лиричность. Но при этом он говорил, в частности, своему земляку, известному слависту Бодянскому, что «нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен». Русский язык вбирает в себя многочисленные наречия, он может самые разные противоположности в себя впитывать и обогащаться, утверждал Гоголь. Для него не было вопроса, какой язык должен быть у славян, — конечно, язык Пушкина.
Памятник Гоголю в Нежине
К сожалению, сейчас на родине Гоголя его издают на украинском языке, где все беспощадно переделывается. Где писатель говорит «русская земля», они пишут «украинская земля», где классик говорит о силе русского народа, они пишут «украинского народа» и так далее. Жестокой цензуре подвергают его произведения, насильно делая Гоголя каким-то оголтелым националистом. Это не вызывает уважения, это надругательство над памятью писателя.
Памятник Гоголю в Северодонецке
Надеюсь, что нынешний юбилей откроет людям глаза на то, что великий сын украинского народа Гоголь, который бесконечно любил свою Родину, желал ей только добра и процветания, при этом говорил, что Украина должна идти рука об руку с Россией, что это взаимодополняющие нации, одна без другой жить не может: «Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные».
— Будет ли восстановлен крест на могиле Гоголя? Писали, что за его восстановление выступала инициативная группа...
Могила Гоголя в некрополе Новодевичьего монастыря
— Да, решение об этом уже принято. В России действует оргкомитет по проведению торжеств, в нем было решено, что на могиле Гоголя в Новодевичьем монастыре установят крест.
Бывшая могила Гоголя в Свято-Даниловом монастыре
Известно, что Гоголь вначале был похоронен в Даниловом монастыре, — там установят памятную доску.
И, конечно, масса других событий приурочена к юбилею. Должен выйти на экраны фильм Бортко «Тарас Бульба», который снимался на Украине, где в главной роли украинец Богдан Ступка.
Вроде бы Украина готова у себя в прокате его демонстрировать. А именно в «Тарасе Бульбе» — квинтэссенция украинской истории. Сила украинского духа — в защите своей веры, в защите православной цивилизации и своей идентичности. И выбор казаков, которые сражаются против ляхов, против латинства, он однозначно в пользу православной веры.
Гоголь серьезно изучал историю Украины, у него был огромный проект «История Малороссии». Он его не закончил, но осталась масса интересных материалов по этой теме. Гоголь не на пустом месте все это писал, не из головы выдумывал. Он изучал историю украинского народа, который в битвах выковывал свою национальную идею, состоящую, повторюсь, в защите своей веры и православной цивилизации. А Россия, по Гоголю, после падения Константинополя, после арабо-мусульманских завоеваний — это последний и главный оплот православия, и только в союзе с ней Украина может защитить православную веру.
— Не собирается ли Сретенский монастырь что-то издать к юбилею писателя?
— Мы только что издали томик избранных произведений Гоголя тиражом 5000 экземпляров. Туда вошли повести «Тарас Бульба», «Портрет», «Размышления о Божественной Литургии», религиозно-нравственные трактаты, молитвы, предсмертные записки. В ближайшее время в серии «Письма о духовной жизни» у нас выйдут избранные гоголевские письма. Гоголя сейчас нужно больше издавать, больше пропагандировать, в миссионерском плане его творчество обладает огромным потенциалом.
— Гоголь близок мне очень многим. Во-первых, мама в самом раннем детстве мне его читала, и я впоследствии часто обращался к гоголевским произведениям. Во-вторых, во мне тоже перемешаны русская кровь с украинской. И как Гоголь не мог сказать, какая у него больше душа — «хохлацкая или русская», как он выражался, так и я не могу сказать, какой больше. И, конечно, своим аскетическим настроением он повлиял на мое решение уйти в монастырь. Известно, что Гоголь жил, как инок, хотел принять монашество, часто приезжал в Оптину пустынь, но старец Макарий сказал, что его труды нужнее на литературном поприще. И вообще, Гоголь — самый церковный писатель из классиков русской литературы, наиболее близкий к Церкви не только по идеям и мировоззрению, но и по своей жизни. Гоголь не только принимал активное участие в службах, исповедовался, причащался, но и глубоко изучал церковное богослужение. Об этом свидетельствуют его произведения, огромные тетради его выписок из святоотеческих произведений, из Миней, из Кормчей книги и, наконец, его работа «Размышления о Божественной Литургии», ради которой он специально изучал греческий язык.
— А они издавались в наше время?
— «Размышления о Божественной Литургии» издавались. В советское время, правда, об этой книге умалчивалось, в академическом так называемом «Полном собрании сочинений» не было этой работы, хотя многие исследователи указывали, что она отмечена особым лиризмом, отсвет самой личности Гоголя лежит на этой книге.
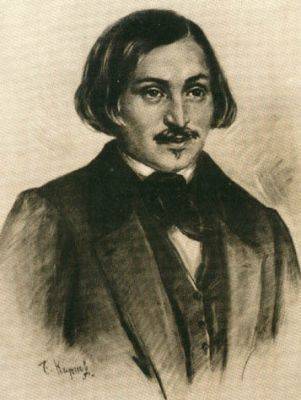
Но в наше время она издавалась, я с удовольствием ее перечитываю, она помогает понимать, что происходит во время литургии, каков смысл священнодействий, песнопений, тех молитв, которые священник читает в алтаре, — все очень подробно.
— То есть она может быть катехизаторской книгой для современного человека?
— Несомненно. Для тех, кто хочет понять смысл Божественной литургии, а не просто созерцать то, что происходит в храме, это прекрасный помощник. Ее рекомендовали читать и оптинские старцы.
— А что бы Вы сказали об эволюции взглядов Гоголя? Чем отличается ранний Гоголь от позднего?
— Существовала «концепция двух Гоголей», которую выдвинул Белинский. По ней «ранний» Гоголь — это замечательный художник, который подавал большие надежды, а потом изменил своему призванию, тронулся умом, церковники сгубили его.

Эта концепция в советское время была общепринятой. Но по многочисленным исследованиям, появившимся в последние два десятилетия, в первую очередь таких ученых, как Владимир Алексеевич Воропаев и другие, это неверная теория. Сами письма Гоголя, его отношение к своим произведениям показывают, что в его мировоззрении какой-то резкой ломки не было. Он всегда был православным, церковным человеком, но, конечно, молодости свойственны увлечения, он был в творческом поиске, у него была творческая эволюция.
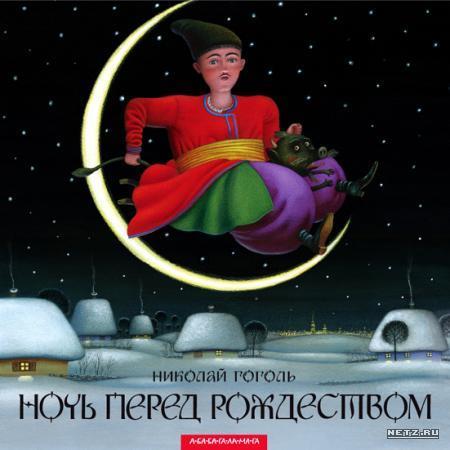
От веселых малороссийских историй «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь перешел к более серьезным произведениям. Это совершенно нормально, естественно для гения, великого художника. В середине сороковых годов у него действительно был духовный кризис, который заставил его пересмотреть свое отношение к творчеству, но тот же «Тарас Бульба», первая редакция, был написан, когда Гоголю было двадцать с небольшим лет.
Впоследствии он создал вторую редакцию, но все христианские идеи уже присутствовали в первой. А, скажем, «Ревизор», который многие воспринимали просто как сатирическое произведение, обличающее нравы?
Собственноручный рисунок Гоголя к комедии "Ревизор"
Гоголь многократно пытался объяснить, что он вкладывал более глубокий смысл в это произведение, что каждый должен на свою душу посмотреть, что все эти чиновники олицетворяют собой страсти, господствующие в человеке, а настоящий ревизор — это истинная совесть, в отличие от «ветреной совести», которую олицетворяет Хлестаков.
Тот духовный смысл, те идеи, которые в ранних произведениях не столь явственно выражены, впоследствии стали более яркими в других жанрах, в которых Гоголь стал работать. Говорить о каком-то противоречии между «ранним» и «поздним» Гоголем неправомерно, да и сам Гоголь об этом не говорит. Да, он признает, что некоторые ранние его произведения не заслуживают столь большого внимания, что «Выбранные места из переписки с друзьями» для него гораздо важнее, но он нигде не отрекается от своего прошлого.
— А как сочетается православие Гоголя со всей той бесовщиной, которую он сочинял, в том числе и в молодости?
— Это вопрос сложный. Как я уже сказал, в зрелом возрасте Гоголь другими глазами смотрел на свое раннее творчество. Он пишет, что становится жутко от тех плодов, которые мы, сами не думая, вырастили, от тех страшилищ, что подымаются из наших творений, о чем мы и не предполагали.
Гоголь переживал за многое из того, что было им написано, хотя в ранних его произведениях не было какого-то богоборчества или язычества. Возможно, восприятие Гоголем христианских идей в юности было более поверхностным, как это часто бывает. Поэтому действия дьявольских сил были для него скорее предметом смеха, и он считал, что можно шутить с такими вещами, с которыми на самом деле шутить не стоит. Именно за это он каялся впоследствии.
— А что бы Вы сказали о Гоголе как об имперском писателе? Он считал, что у всей Святой Руси должен быть один язык, язык Пушкина. Насколько реально празднование его юбилея в бывших советских республиках, что будет с наследием Гоголя на Украине?
— Я уверен, что Гоголя на Украине читают и любят. В конце марта состоялась гоголевская конференция в Киеве.
Памятник Гоголю в Киеве
И таких конференций не одна, их много. Другое дело, что на Украине в наше время Гоголя преподают в курсе зарубежной литературы — просто потому, что он писал на русском языке. Для современных украинских властей такой Гоголь, как он есть, неудобен. Николай Васильевич считал, что русские с украинцами должны быть вместе, что эти две нации дополняют друг друга, и в их взаимном единении заключается великая сила. Вот что он говорил в частном письме 1844 года: «Никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».
Памятник Гоголю в Харькове
Про украинский язык Гоголь говорил, что для малороссийских песен он замечательно подходит, указывал на его певучесть и лиричность. Но при этом он говорил, в частности, своему земляку, известному слависту Бодянскому, что «нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен». Русский язык вбирает в себя многочисленные наречия, он может самые разные противоположности в себя впитывать и обогащаться, утверждал Гоголь. Для него не было вопроса, какой язык должен быть у славян, — конечно, язык Пушкина.
Памятник Гоголю в Нежине
К сожалению, сейчас на родине Гоголя его издают на украинском языке, где все беспощадно переделывается. Где писатель говорит «русская земля», они пишут «украинская земля», где классик говорит о силе русского народа, они пишут «украинского народа» и так далее. Жестокой цензуре подвергают его произведения, насильно делая Гоголя каким-то оголтелым националистом. Это не вызывает уважения, это надругательство над памятью писателя.
Памятник Гоголю в Северодонецке
Надеюсь, что нынешний юбилей откроет людям глаза на то, что великий сын украинского народа Гоголь, который бесконечно любил свою Родину, желал ей только добра и процветания, при этом говорил, что Украина должна идти рука об руку с Россией, что это взаимодополняющие нации, одна без другой жить не может: «Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные».
— Будет ли восстановлен крест на могиле Гоголя? Писали, что за его восстановление выступала инициативная группа...
Могила Гоголя в некрополе Новодевичьего монастыря
— Да, решение об этом уже принято. В России действует оргкомитет по проведению торжеств, в нем было решено, что на могиле Гоголя в Новодевичьем монастыре установят крест.
Бывшая могила Гоголя в Свято-Даниловом монастыре
Известно, что Гоголь вначале был похоронен в Даниловом монастыре, — там установят памятную доску.
И, конечно, масса других событий приурочена к юбилею. Должен выйти на экраны фильм Бортко «Тарас Бульба», который снимался на Украине, где в главной роли украинец Богдан Ступка.
Вроде бы Украина готова у себя в прокате его демонстрировать. А именно в «Тарасе Бульбе» — квинтэссенция украинской истории. Сила украинского духа — в защите своей веры, в защите православной цивилизации и своей идентичности. И выбор казаков, которые сражаются против ляхов, против латинства, он однозначно в пользу православной веры.
Гоголь серьезно изучал историю Украины, у него был огромный проект «История Малороссии». Он его не закончил, но осталась масса интересных материалов по этой теме. Гоголь не на пустом месте все это писал, не из головы выдумывал. Он изучал историю украинского народа, который в битвах выковывал свою национальную идею, состоящую, повторюсь, в защите своей веры и православной цивилизации. А Россия, по Гоголю, после падения Константинополя, после арабо-мусульманских завоеваний — это последний и главный оплот православия, и только в союзе с ней Украина может защитить православную веру.
— Не собирается ли Сретенский монастырь что-то издать к юбилею писателя?
— Мы только что издали томик избранных произведений Гоголя тиражом 5000 экземпляров. Туда вошли повести «Тарас Бульба», «Портрет», «Размышления о Божественной Литургии», религиозно-нравственные трактаты, молитвы, предсмертные записки. В ближайшее время в серии «Письма о духовной жизни» у нас выйдут избранные гоголевские письма. Гоголя сейчас нужно больше издавать, больше пропагандировать, в миссионерском плане его творчество обладает огромным потенциалом.
АЛЬБОМ "НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ"
http://my.mail.ru/community...
Метки: Гоголь
Елена Байер,
07-05-2010 17:48
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". БЕНЕДИКТОВ
Владимир БЕНЕДИКТОВ
(1807–1873)

К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
(От стариков)
Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу!
Дай Бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час.
Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу
Шагайте через нас!
Мы грузом наших дней недолго вас помучим;
О смерти нашей вы не станете тужить,
А жизнью мы своей тому хоть вас научим,
Что так не должно жить.
Не падайте, как мы, пороков грязных в сети!
Не мрите заживо косненьем гробовым!
И пусть вины отцов покроют наши дети
Достоинством своим!
Молитесь! — Ваша жизнь да будет с мраком битва!
Пусть будет истины светильником она!
Слышней молитесь! Жизнь — единая молитва,
Которая слышна.
Молитесь же — борьбой с гасильниками света,
Борьбой с невежеством и каждым злом земным!
Пред вами добрый царь: хвала и многи лета!
Молитесь вместе с ним!
Прямую вечную прокладывать дорогу
Вы, дети, научась блужданием отцов,
Молитесь, бодрые, живых живому Богу —
Не богу мертвецов!
Служите Господу — не аскетизма скукой,
Не фарисейства тьмой, не бабьим ханжеством,
Но — делом жизненным, искусством и наукой,
И правды торжеством!
И если мы порой на старине с упорством
Стоим и на ходу задерживаем вас
Своим болезненным, тупым противоборством —
Шагайте через нас!
(1807–1873)

К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
(От стариков)
Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу!
Дай Бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час.
Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу
Шагайте через нас!
Мы грузом наших дней недолго вас помучим;
О смерти нашей вы не станете тужить,
А жизнью мы своей тому хоть вас научим,
Что так не должно жить.
Не падайте, как мы, пороков грязных в сети!
Не мрите заживо косненьем гробовым!
И пусть вины отцов покроют наши дети
Достоинством своим!
Молитесь! — Ваша жизнь да будет с мраком битва!
Пусть будет истины светильником она!
Слышней молитесь! Жизнь — единая молитва,
Которая слышна.
Молитесь же — борьбой с гасильниками света,
Борьбой с невежеством и каждым злом земным!
Пред вами добрый царь: хвала и многи лета!
Молитесь вместе с ним!
Прямую вечную прокладывать дорогу
Вы, дети, научась блужданием отцов,
Молитесь, бодрые, живых живому Богу —
Не богу мертвецов!
Служите Господу — не аскетизма скукой,
Не фарисейства тьмой, не бабьим ханжеством,
Но — делом жизненным, искусством и наукой,
И правды торжеством!
И если мы порой на старине с упорством
Стоим и на ходу задерживаем вас
Своим болезненным, тупым противоборством —
Шагайте через нас!
Метки: Бенедиктов, стихи
Елена Байер,
14-04-2011 23:41
(ссылка)
Новая притча на старый лад
В ТРАВЕ СИДЕ КУЗНЕЧИК

Аки преподобнии отцы пустынницы, в дебрех травяных сиде убо тварь Божия Кузнечиком нареченная. И цвет и вид и подобие име огуречное. Постником бе и травою питася. И мяс козявочных никогдаже вкушаше. И звери дивии мухами нареченнии прихождаше к нему и трапезу делиша с ним братолюбия ради.
Внезапу, яко тать в нощи приидоша убо окаянная Лягуха - грешница велия, чревоугодница жестоковыйная. И яко геенна ненасытная разверзе убо уста свои смердящии и пожре Кузнечика за грехи его тайныя. Аще бы Кузнечик, жалости вельми достойный, не име стыда ложного на исповеди и не утаи греси своя по неразумию - не смогла убо Лягуха противная поглотити его нераскаяннаго.
Напрасно бо кузнечик о смертном часе не памятова, аще и правильно не гадал с чародейцами о времени пришествия его, но не помышляху убо о кончине лютей без покаяния, тако и умре неуготованный.
Внезапу, яко тать в нощи приидоша убо окаянная Лягуха - грешница велия, чревоугодница жестоковыйная. И яко геенна ненасытная разверзе убо уста свои смердящии и пожре Кузнечика за грехи его тайныя. Аще бы Кузнечик, жалости вельми достойный, не име стыда ложного на исповеди и не утаи греси своя по неразумию - не смогла убо Лягуха противная поглотити его нераскаяннаго.
Напрасно бо кузнечик о смертном часе не памятова, аще и правильно не гадал с чародейцами о времени пришествия его, но не помышляху убо о кончине лютей без покаяния, тако и умре неуготованный.
Метки: шутка
Елена Байер,
16-05-2010 12:48
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
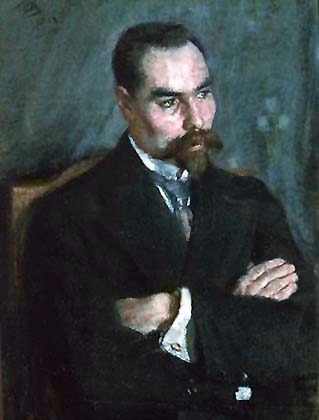
Валерий Брюсов
К МОЕЙ СТРАНЕ
Моя страна! Ты доказала
И мне и всем, что дух твой жив,
Когда, почуяв в теле жало,
Ты заметалась, застонала,
Вся - исступленье, вся - порыв!
О, страшен был твой недвижимый,
На смерть похожий, черный сон!
Но вдруг пронесся гул Цусимы,
Ты задрожала вся, и мнимый
Мертвец был громом пробужден.
Нет, не позор бесправной доли,
Не зов непризванных вождей,
Но жгучий стыд, но ярость боли
Тебя метнули к новой воле
И дали мощь руке твоей!
И как недужному, сквозь бреды,
Порой мелькают имена, -
Ты вспомнила восторг победы,
И то, о чем сказали деды:
Что ты великой быть - должна!
Пусть ветры вновь оледенили
Разбег апрельский бурных рек:
Их жизнь - во временной могиле,
Мы смеем верить скрытой силе,
Ждать мая, мая в этот век!
1911
И мне и всем, что дух твой жив,
Когда, почуяв в теле жало,
Ты заметалась, застонала,
Вся - исступленье, вся - порыв!
О, страшен был твой недвижимый,
На смерть похожий, черный сон!
Но вдруг пронесся гул Цусимы,
Ты задрожала вся, и мнимый
Мертвец был громом пробужден.
Нет, не позор бесправной доли,
Не зов непризванных вождей,
Но жгучий стыд, но ярость боли
Тебя метнули к новой воле
И дали мощь руке твоей!
И как недужному, сквозь бреды,
Порой мелькают имена, -
Ты вспомнила восторг победы,
И то, о чем сказали деды:
Что ты великой быть - должна!
Пусть ветры вновь оледенили
Разбег апрельский бурных рек:
Их жизнь - во временной могиле,
Мы смеем верить скрытой силе,
Ждать мая, мая в этот век!
1911
Елена Байер,
10-08-2011 03:16
(ссылка)
«Кровавые кусочки воробьев»
«Кровавые кусочки воробьев» победили на конкурсе худшей прозы

Победительницей американского конкурса худших начальных фраз литературных произведений Bulwer-Lytton Fiction Contest 2011 стала преподавательница из Висконсина Сью Фондри, сообщает Associated Press. Она удостоилась награды за предложение: «Разум Шерил вращался как лопасти ветряной турбины, разрубая ее похожие на воробьев мысли на кровавые кусочки, которые падали вниз, формируя растущую груду забытых воспоминаний».
В сообщении на сайте конкурса отмечается, что предложение Фондри, состоящее в оригинале из 26 слов, стало самым коротким из побеждавших в Bulwer-Lytton Fiction Contest за без малого три десятилетия существования конкурса.
Bulwer-Lytton Fiction Contest проводится Университетом Сан-Хосе с 1982 года. Он получил название в честь английского писателя XIX века Эдварда Бульвера-Литтона. Роман Бульвера-Литтона «Пол Клиффорд» начинается с фразы: «Ночь выдалась темная и дождливая» и считается образцом напыщенной и витиеватой прозы.
Правила конкурса позволяют любому автору прислать сколько угодно начальных фраз к воображаемым литературным произведениям на английском языке. Авторам рекомендуется не присылать предложения длиннее 50-60 слов. При этом все отрывки должны быть созданы самими авторами и не публиковаться нигде до конкурса. Известно, что один из участников Bulwer-Lytton Fiction Contest прислал организаторам около трех тысяч вариантов плохих начальных фраз.
Помимо собственно худшей начальной фразы литературного произведения члены жюри выбирают победителей в отдельных номинациях. Так, в 2011 году в категории «детектив» победил автор фразы о маньяке, который опрыскивал тела жертв «фирменным» малиновым одеколоном. В номинации «фэнтези» был отмечен автор предложения, в котором рыдающая принцесса говорит королю гоблинов, что тот может повести ее под венец, но никогда не будет даже наполовину настолько же мужчиной, насколько убитый им кентавр. В номинации «любовный роман» победу одержал автор строк, в которых героиня надеется, что таинственный незнакомец «поймет ее» и «заберет отсюда», а не «сожмет ее грудь, издав звук автомобильного гудка, как делали все остальные».
В сообщении на сайте конкурса отмечается, что предложение Фондри, состоящее в оригинале из 26 слов, стало самым коротким из побеждавших в Bulwer-Lytton Fiction Contest за без малого три десятилетия существования конкурса.
Bulwer-Lytton Fiction Contest проводится Университетом Сан-Хосе с 1982 года. Он получил название в честь английского писателя XIX века Эдварда Бульвера-Литтона. Роман Бульвера-Литтона «Пол Клиффорд» начинается с фразы: «Ночь выдалась темная и дождливая» и считается образцом напыщенной и витиеватой прозы.
Правила конкурса позволяют любому автору прислать сколько угодно начальных фраз к воображаемым литературным произведениям на английском языке. Авторам рекомендуется не присылать предложения длиннее 50-60 слов. При этом все отрывки должны быть созданы самими авторами и не публиковаться нигде до конкурса. Известно, что один из участников Bulwer-Lytton Fiction Contest прислал организаторам около трех тысяч вариантов плохих начальных фраз.
Помимо собственно худшей начальной фразы литературного произведения члены жюри выбирают победителей в отдельных номинациях. Так, в 2011 году в категории «детектив» победил автор фразы о маньяке, который опрыскивал тела жертв «фирменным» малиновым одеколоном. В номинации «фэнтези» был отмечен автор предложения, в котором рыдающая принцесса говорит королю гоблинов, что тот может повести ее под венец, но никогда не будет даже наполовину настолько же мужчиной, насколько убитый им кентавр. В номинации «любовный роман» победу одержал автор строк, в которых героиня надеется, что таинственный незнакомец «поймет ее» и «заберет отсюда», а не «сожмет ее грудь, издав звук автомобильного гудка, как делали все остальные».
Елена Байер,
15-12-2010 02:05
(ссылка)
Книги - юбиляры-2010. РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
190 лет назад вышла в свет поэма «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820)
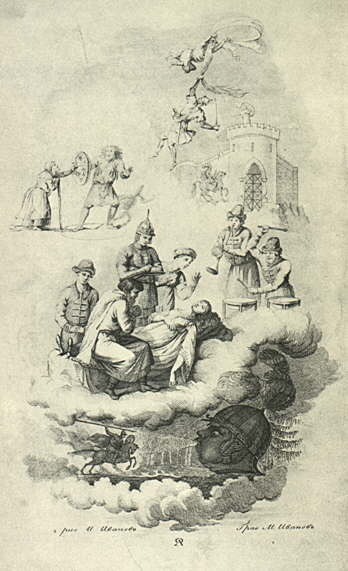
Иллюстрация к первому изданию "Руслана и Людмилы". 1820
А. Ф. ВОЕЙКОВ. Разбор поэмы «Руслан и Людмила», сочин. Александра Пушкина
http://pushkin.niv.ru/pushk...
Замечания на поэму «Руслан и Людмила» в шести песнях, соч. А. Пушкина. 1820
http://pushkin.niv.ru/pushk...
И. А. Крылов
<ЭПИГРАММА РЕЦЕНЗЕНТУ ПОЭМЫ
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»>
Напрасно говорят, что критика легка.
Я критику читал Руслана и Людмилы
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка!
Д.П. Зыков
Письмо к сочинителю критики на поэму "Руслан и Людмила"
http://dugward.ru/library/p...
А. Е. ИЗМАЙЛОВ
«Руслан и Людмила». Поэма в шести песнях.
Сочинение А. Пушкина.
СПб., 1820, в тип. Н. Греча, в большую 8-ку, 143 стран.
Подробный разбор сей поэмы напечатан уже в четырех книжках «Сына отечества» (№ 34, 35, 36 и 37)*. Не сравнивая молодого поэта ни с Гомером, ни с Ариостом, ни с Тассом, ниже с Вольтером; несмотря на неуважение его к зоилам (стр. 147), плоские, натянутые остроты (146), вялые стихи, мужицкие рифмы**, иностранные слова, каково, например, фонтан***, недостаток логики и прочие столь же важные недостатки и погрешности, замеченные беспристрастным рецензентом В., — скажем, что богатырская, волшебная, шуточная, т. е. романтическая поэма «Руслан и Людмила» есть прекрасный феномен в нашей словесности. Главное достоинство этой поэмы, или, как другие, не менее строгие, критики говорят, повести, сказки, составляют, по нашему мнению, картинные описания, живость и приятность рассказа и легкая, непринужденная версификация.
Сноски
* Продается в типографии издателя «С<ына> о<течества>» и в книжных лавках Плавильщикова и Слениных. Цена, в цветной обертке, 10 руб.
** Вот новый термин, который не был еще употреблен ни в какой пиитике! — Мужицкими рифмами г. рецензент называет следующие: кругом, копиём, языком, копиём (см. 37 N «С<ына> о<течества>», стр. 152). Итак, если не ошибаюсь, под мужицкими рифмами разумеет он те, из которых одна имеет в окончании букву о, а другая ё. Однако такие рифмы употребляются и лучшими нашими стихотворцами, например, в этой же самой книжке «Сына отечества», т. е. в 37 №, напечатан отрывок из поэмы «Искусства и науки», соч. А. Ф. Воейкова, где между прочим есть рифмы: звездочетства, мореходство; ревет, оплот.
*** «Не грешно ли, — спрашивает г. рецензент В., — употреблять в поэзии слово фонтан, когда у нас есть свое прекрасное, выразительное — водомет?» — Конечно, в поэзии возвышенной, напр., в оде, в поэме эпической, непременно должно употребить водомет, но в поэме шуточной или в сказке, которых слог весьма близко подходит к обыкновенному разговорному слогу, почему не сказать фонтан? В «Причуднице» Дмитриева и в «Душеньке» Богдановича находим мы слова фонтан и каскад (водопад). Изд. «Б<лагонамеренного>».
Елена Байер,
07-02-2010 19:44
(ссылка)
УСРЕДНЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОРТРЕТ ПУШКИНА
Г. ИВАНИЦКИЙ, член-корреспондент РАН
А. ДЕЕВ, кандидат физико-математических наук
А. ДЕЕВ, кандидат физико-математических наук
ВЕРНИСАЖ НАХОДОК.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ЖИВОПИСНЫХ ОБРАЗОВ ПОЭТА
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ЖИВОПИСНЫХ ОБРАЗОВ ПОЭТА
В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти. ― Прим. авт.), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Портрет Пушкина. Художник Тропинин. 1827
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Приведем для примера описание творческих мучений Ильи Ефимовича Репина; в течение двадцати лет он работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Если замечательный мастер Репин считал себя посредственностью, взявшись за воплощение облика Пушкина, то уж биофизикам, далеким от его художественного таланта, казалось бы, здесь делать нечего. Тем не менее мы рискнули попытаться воссоздать наиболее вероятный облик поэта в различные периоды его жизни, но подойти к решению этой задачи с иной стороны. Юбилей поэта стимулировал наше желание, а многолетний опыт компьютерной реконструкции, накопленный в биологических экспериментах, вселял оптимизм.
Работа начиналась как «игра». Но незаметно переросла в объемное биофизическое исследование с элементами искусствоведения, психологии восприятия образов и их компьютерным анализом и синтезом. Однако работа оказалась много сложнее, чем мы предполагали, приступая к ней, и заметно отличалась от имевшегося у нас опыта.

Исследуя биоструктуры, мы изучаем их по электронно-микроскопическим, рентгеновским или оптическим снимкам. Часто эти изображения бывают существенно искажены из-за аберраций приборов, но эти приборные ошибки, накладываемые на истинный образ биоструктур, можно вычислить и скорректировать. В данном же случае мы имели дело с рукотворными портретами поэта, то есть с произведениями искусства, а человеческое творчество ― это то немногое, что с большим трудом поддается формализации.
Проживи А. С. Пушкин еще пять лет, и, возможно, потомки располагали бы его фотопортретами. Как известно, первые черно-белые фотоизображения были получены во Франции Л.-Ж.-М. Дагером и Ж.-Н. Ньепсом в 1839 году, двумя годами позже фотографии были сделаны в Англии, а затем ― в России. Но история не имеет сослагательного наклонения.
Изменчивое, живое лицо поэта (а это отмечают все его современники, оставившие воспоминания) было нелегко изобразить даже художникам, писавшим портрет с натуры. Существуют хотя и многочисленные, но субъективные живописные портреты Пушкина и описания его внешности. Мы даже не знаем точно, какого цвета были его волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие (П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр, смолоду белокурый, после 17 лет начал темнеть. Сам Пушкин написал по-французски свой шуточный автопортрет: «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Чтобы ответить на вопрос: каким был облик поэта? ― нужно было с особой осторожностью относиться к воспоминаниям, написанным много лет спустя после гибели поэта. В них и смещение временных периодов в памяти мемуаристов, и влияние величия личности, то есть «давление» социального стереотипа на настроение вспоминающих. Большей ценностью обладают дневниковые заметки современников ― пусть отрывистые и неважно ― друзей или недругов, ― а также собственные высказывания поэта.
К архиву словесных портретов мы добавили визуальные живописные портреты, автопортреты Пушкина, сделанные им на полях рукописей и в альбомах его современниц, а также зарисовки и скульптурные портреты, созданные уже после смерти поэта. Помимо этого мы располагали зарисовками лица поэта на смертном одре и фотографиями его посмертной маски в разных ракурсах.
На маску, как объективный носитель образа поэта, мы возлагали особенно большие надежды. Однако, как выяснилось, она отражает лишь приблизительно облик живого рельефа лица. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В свое время антрополог-скульптор М. М. Герасимов (1907―1970), создавая метод пластической реконструкции лица по черепу, исследовал эти вопросы. Не зная, каким был облик человека при жизни, точно реконструировать рельеф его лица по маске и черепу нельзя. Можно передать лишь приблизительный облик натуры, хотя образ может быть узнаваемым.
Синтезировав множество обликов поэта, неизбежно требуется прибегнуть к мнению экспертов ― своеобразному «суду присяжных», которые должны выбрать наиболее вероятный облик лица реального человека. Но человека уже нет, как нет среди нас, ныне живущих, того, кто его видел. Поэтому ответ всегда носит вероятностный характер. Выбор одной гипотезы из множества других неизбежно вызывает сомнение и порождает вопрос: «А судьи кто?» Мы можем лишь утверждать, что отобранные образы из множества синтезированных не противоречат словесным описаниям и живописным прижизненным портретам (с учетом квалификации и объективности мемуаристов и художников). Однако все равно после всех поправок, выбранный портрет остается портретом, а не фотографией и несет на себе груз субъективности.
При синтезе новых портретов поэта мы использовали два взаимно дополняющих друг друга компьютерных метода: «фоторобота» (совмещения элементов из разных портретов) и «морфинга» (наложения портретов и их элементов с определенными весовыми коэффициентами друг на друга). Не будем утомлять читателя математическими выкладками, связанными с измерением антропометрических параметров изображенного на портретах лица, с количественными отклонениями этих параметров на различных портретах и с формированием пространств из этих признаков, цель которых ― распознавание образов. Не станем излагать и методы поворотов изображений на портретах для их сравнения и расчетные формулы эллипсоидальной геометрии при проекциях рельефа лица на плоскость портрета. Обо всем этом можно узнать, прочитав в журнале «Успехи физических наук» (№ 5, 1999) нашу статью.
У ИСТОКОВ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ ПОЭТА
Итак, перед вами ― галерея портретов поэта, ставшая основой наших исследований. Из 38 портретов, с которыми мы оперировали, 16 ― прижизненные.
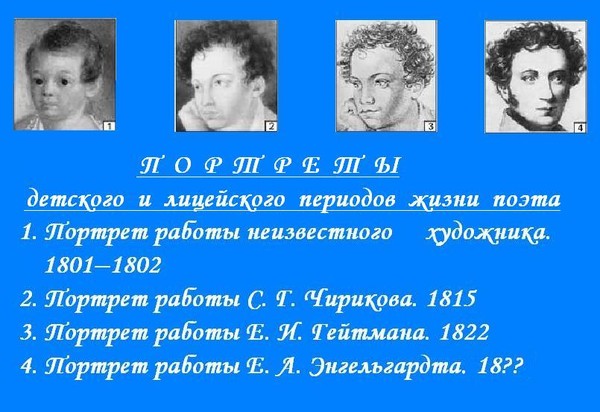
История создания и судьба каждого из портретов достойны отдельного разговора. Анализу портретов в Пушкиниане посвящена обширная литература. Для нас в данном случае важно другое ― как возник тот облик поэта, который каждому из нас знаком с детства? Насколько он соответствует реальному образу живого человека?

Классический облик А. С. Пушкина (его можно еще назвать «социальный стереотип») был порожден тиражированием портретов работы О. А. Кипренского (6) и В. А. Тропинина (7). Оба художника ― профессионалы высочайшего класса.
Василий Андреевич Тропинин (1776―1857), ученик С. С. Щукина, выпускник Петербургской академии художеств, был крупнейшим русским портретистом. Его работы отличались скульптурной четкостью объемов и внимательностью к характерным деталям. Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский не отправил его в Петербург на выставку (хотя Н. А. Полевой в журнале «Московский телеграф» и сообщил об этом), а отдал для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала небольшую копию(9), размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина. Но оригинал с середины 1850-х годов находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
Орест Адамович Кипренский (1782―1836) был в то время, пожалуй, еще более известным живописцем и графиком, чем Тропинин. В 1812 году за особые заслуги в области живописи его избрали академиком Академии художеств. В 1805 году он получил Золотую медаль за свою теперь хорошо известную картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Однако как художник он был скорее романтиком, чем реалистом. Его портрет Пушкина (6) отличает внешняя красивость с элементами классических представлений о том, как следует изобразить крупную творческую личность.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский. 1827
Общепринято считать, что сам поэт оценивал этот портрет очень высоко, и в доказательство обычно приводятся строки из его послания Кипренскому:
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Однако если стихотворение А. С. Пушкина, адресованное Кипренскому, прочитать полностью, то в нем легко заметить явно проступающую саркастическую усмешку поэта по поводу своего портретного образа.
Любимец моды легкокрылый,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз,
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных Аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Портрет, выполненный Кипренским, стал классическим и дублировался еще при жизни поэта разными способами. Пушкин оказался прав ― социальный стереотип его облика родился именно из портрета Кипренского и аналогов (работ Уткина, Райта, позднее ― Матэ и Безлюдного и т. д.). После гибели поэта спрос на его портреты сильно возрос, раскупались все гравюры и литографии, сделанные по работам Тропинина и Кипренского. Любопытно, но их печатали в соотношении один к девяти. Видимо, и поэтому мы, потомки, воспринимаем облик поэта прежде всего по образу, созданному Кипренским. Дальнейшая судьба этого портрета известна. Он принадлежал другу поэта, А. А. Дельвигу, после его смерти (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.
Первым этот портрет удачно скопировал и размножил выдающийся мастер резцовой гравюры Николай Иванович Уткин (1780―1836). Хотя его гравировка (8), казалось бы, всего лишь повторение оригинала Кипренского, но Уткину удалось усилить выразительность портрета богатством и разнообразием штриха, а возможно, и собственными представлениями о натуре поэта. Профессиональный уровень этих трех живописцев не может подлежать сомнению. Однако Пушкин, изображенный ими примерно в одно и то же время, видится по-разному.
К этой же портретной группе следует отнести акварельные работы Петра Федоровича Соколова (1791―1848). Приведенный портрет поэта (10) почти на десять лет отстоит от работ Тропинина и Кипренского, Пушкин на десять лет старше, но он такой же. Из этого истока родилась большая «гибридная река» изобразительного ряда похожих, с небольшими вариациями, обликов поэта ― от Т. Райта (17) до К. Ф. Юона (28) и далее.
Но был ли истинный образ поэта таким, каким он показан на своих прижизненных портретах? Единого мнения не было. Одни из современников говорили «да», другие ― «нет». Пожалуй, вторых больше. Но подобные споры не решаются голосованием. Необходим независимый источник информации. Что думал по этому поводу сам поэт? С одной стороны, Пушкин не был высокого мнения о своей внешности, и можно найти много его высказываний по этому поводу. Вот примеры:
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бысстыдным бешенством желаний.
(«Юрьеву», 1820)
«Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (Из письма к жене, 1835).
«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Из письма жене, 1836).
Но есть его высказывание и противоположного рода:
«В... газете объявили, что я собою неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко тронула» (А. С. Пушкин. Опровержение на критику, 1830).
Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Художник Н. П. Ульянов
Заключая анализ портретного ряда, порожденного тропинино-кипренским истоком, приведем цитату из заметки художника Н. П. Ульянова «Мои встречи» (М.: изд-во АХ СССР, 1959), написавшего в 1936 году картину «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (36 ― это фрагмент названной картины):
«...В сущности есть всего два блестящих художественных документа из иконографии поэта. Это портреты Тропинина и Кипренского. Для одних они неоспоримо верный синтез внешнего и внутреннего "я" Пушкина; в других они вызывают некоторые чувства недоверия. Слов нет, оба портрета, и каждый по-своему, замечательны... Но не надо забывать, что тогда было принято "крахмалить" образ. Эпоха требовала некоторой пышности, приподнятости изображения».
Второй поток портретов поэта (28―36) был вызван желанием художников снять с образа поэта «исторический крахмал» (образ, созданный Ульяновым, относится к этому направлению) и отойти от сложившегося социального стереотипа. У истоков этого потока стояли портреты Г. А. Гиппиуса, Жана Вивьена и прежде всего И. Л. Линева.
Во многих высказываниях современников подчеркивается, что Пушкин был собою «неблагообразен». В качестве примера ограничимся тремя цитатами.
«Пушкин, писатель, разговаривает очаровательно без претензий, живо, пламенно. Нельзя быть безобразнее его ― это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикое во взгляде... Рядом с ней (имеется в виду жена поэта. ― Прим. авт.) его уродливость еще более поражает, но когда он говорит, забываешь, чего ему недостает, чтобы быть красивым» (из дневника графини Д. Ф. Фикельмон, урожденной Тизенгаузен, внучки Кутузова, близкой знакомой поэта).
«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевлено, ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно...» (из воспоминаний Л. С. Пушкина). Рост Пушкина в зрелом возрасте был 166,6 см ― это известно из подписи под изображением поэта во весь рост в исполнении художника Г. Г. Чернецова: «Рисовал с натуры, 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».
«Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор по-прежнему, в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению...» (из письма П. Л. Яковлева, брата однокашника Пушкина М. Л. Яковлева. Ноябрь 1826 г.).
Портрет Пушкина работы Жана Вивьена (15) и миниатюра (13), которая также с большой вероятностью выполнена Вивьеном, показывают нам поэта в возрасте приблизительно 28 лет (миниатюра датирована, а на портрете даты нет). Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса (11) изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии. Линию Ж. Вивьена в изображении поэта явно продолжил Г. Г. Мясоедов (32) в известном большом полотне «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской» (1905―1907).
Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской. Художник Г. Г. Мясоедов. 1905-1907
Поздний Пушкин (1836―1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева (16), на котором изображен вне романтического ореола. Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали:
«Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его» (П. Х. Граббе, знакомый Пушкина, автор воспоминаний о встрече с ним).
«К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться» (П. В. Нащокин, один из близких друзей Пушкина).
«Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти» (Н. М. Смирнов, близкий знакомый Пушкина).
Особого упоминания требует история создания портрета работы Линева. Она полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х ― начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе ― марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Автор версии С. М. Куликов, рассматривая записку неизвестному (возможно, Жуковскому), написанную рукой Пушкина ориентировочно в 1835―1837 годах и содержащую следующие слова: «Посылаю тебе мою образину», ― высказывает гипотезу, что речь идет о портрете Пушкина именно работы Линева.
Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29―30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы... Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица ― приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.
Как бы там ни было, но линевский портрет совместно с портретами Вивьена и Гиппиуса породил свою линию в галерее портретов Пушкина ― от К. П. Мазера (29) до В. И. Шухаева (38).
Сюда же следует отнести известную совместную романтическую картину И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. Прощай, свободная стихия!» (1887), где Пушкин (30) в изображении Репина явно унаследовал некоторые черты портрета Линева.
Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» Художники И. Е. Репин и И. К. Айвазовский. 1887
А вот Пушкин, изображенный самим Айвазовским (21) в картине «Пушкин на берегу Черного моря» (1868), ближе к линии портретов Тропинина и Кипренского.
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868. Фрагмент
Это все, что касается портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Первые три зарисовки выполнены 29 января 1837 года, вторые две ― на следующий день. Посмертная маска была снята с лица в первый день после смерти.
На полях рукописей Пушкин часто рисовал свое лицо. Существует свыше 50 его автопортретов. Наиболее типичные из них мы использовали в работе.
Известно, что и дома, и в Лицее молодому Пушкину преподавали основы рисования, он любил и умел рисовать, и эти автопортреты-шаржи дают дополнительные сведения об облике поэта. На всех рисунках присутствует характерный профиль ― срезанный лоб и выдающаяся вперед нижняя часть лица.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор наиболее вероятного портрета из синтезированного компьютером множества был, без сомнения, самым сложным этапом работы. На читательский суд мы представляем три портрета, относящиеся к разным временным отрезкам жизни А. С. Пушкина.
В центре ― портрет, отобранный экспертами как наиболее вероятный облик А. С Пушкина в возрасте 27―28 лет. Отбор производился из сотни новых синтезированных компьютером портретов, полученных комбинаторными перестановками из элементов базовых портретов и наложением изображений друг на друга. Перед нами наяву, как перед Татьяной во сне, проходила галерея причудливых образов поэта. Метод компьютерного «фоторобота» дает возможность создавать фантасмагорию подвижных химер, подобную описанной А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
Отобранный экспертами портрет получен прямым объединением (по специальной программе) портретов работы О. А. Кипренского (6) и работы В. А. Тропинина (Елагинская копия ― 9). Чем же руководствовались эксперты, выбирая образ? В первую очередь были учтены близость антропометрических параметров его изображения к средним значениям всей совокупности прижизненных портретов этого периода жизни и соответствие данного образа описаниям, составляющим словесный портрет поэта. Например:
«С Пушкина списал Кипренский портрет, необычно похожий» (Н. А. Муханов, знакомый Пушкина, в письме к брату 15 июля 1827 года).
«Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским» (профессор Петербургского университета А. В. Никитенко, 2 сентября 1827 года в дневнике ― о выставке в Академии художеств, открывшейся 1 сентября).
«Не распространяясь в исчислении красот сего произведения г. Кипренского, мы скажем только, что это живой Пушкин» (Ф. В. Булгарин. Газета «Северная пчела», 1827. Обзоры выставки).
«Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь... Лучше всего, по-моему, передает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос ― выдающимся ― это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с негустыми, кудрявыми волосами» (из воспоминаний И. А. Гончарова, когда он студентом увидел А. С. Пушкина при посещении им Московского университета, 27 сентября 1832 года).
Далее эксперты учитывали выраженность на выбранном портрете характерных особенностей подбородка и губ, связанных с абиссинской (эфиопской) наследственностью поэта, и высокую квалификацию художников ― Тропинина и Кипренского, создавших эти два портрета.
Тем не менее выяснилось (и это очень важно), что, делая свой выбор, каждый из экспертов подсознательно испытывал влияние уже сформировавшегося социального стереотипа облика поэта. И это не позволяло заметно отклоняться от принятого стандарта. Кроме того, привлекательность образа, полученного методом наложения и усреднения, обусловлена и другим психологическим фактором ― так называемым «давлением усреднения». Обычно считалось, что среднее лицо непривлекательно. С этим соглашался и иронизировал по этому поводу сам поэт (строки из основного черновика поэмы «Медный всадник»):
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.
Однако, как показали экспериментальные исследования, именно средний образ человека обладает для большинства наибольшей привлекательностью. Если взять несколько десятков черно-белых фотографий разных людей, собранных по методу случайной выборки, и изготовить из них усредненный образ, то для подавляющего большинства наблюдателей он будет привлекательнее индивидуальных. «Средние глаза, уши, рты» ― симпатичнее индивидуальных. И еще одно интересное обстоятельство. Чем больше отдельных лиц привлекается для получения усредненного изображения, тем красивее для наблюдателей противоположного пола оказывался полученный результат. У таких образов есть только один недостаток ― таких «полностью усредненных» лиц не существует.
Вероятно, такое «давление усредненного стандарта» проявилось не только у наших экспертов при выборе, но и при изображении поэта разными художниками. Наибольшую сложность у рисовальщиков портретов А. С. Пушкина вызывали самые информативные элементы его облика ― глаза и нижняя часть лица. Художники, вольно или невольно, пытались «подтянуть» наблюдаемый ими реальный образ под усредненный стандарт европейских лиц или, наоборот, как можно больше утрировать подмеченное ими индивидуальное отличие.
У Пушкина, как отмечали современники, были удлиненные голубые глаза. Наши измерения показали, что среднее соотношение размеров ширины открытого глаза к его длине равно 1 : 3. Но именно такого соотношения на индивидуальных прижизненных портретах поэта мы не встречаем. У стандартного глаза европейца это соотношение приблизительно 1 : 2,5. По-видимому, этим и объясняется столь большое различие в геометрии глаза на разных портретах Пушкина: одни подтягивали размеры под «европейский» глаз, другие уходили от стандарта. Разброс отношений составляет до 25%. На портрете работы Тропинина отклонение составляет 7% в сторону удлинения по горизонтали, а на портрете работы Кипренского ― на 16% в противоположную сторону и почти соответствует европейскому стандарту глаза (1 : 2,6). Сам Пушкин на своих автопортретах рисовал глаза удлиненными.
Форма нижней части лица ― выдвинутые вперед подбородок и крупные губы ― настолько сильно отклонялась от стандартного европейского облика, что ставила как художников-современников, изображавших поэта, так и их последователей и самого поэта перед проблемой: как сделать изображение похожим на оригинал и в то же время скрыть «его непривлекательную наружность». На портретах 3, 5, 7, 16 и на зарисовке М. Ф. Бруни «Пушкин на смертном одре» тем не менее в целом передана эта наиболее сложная и нестандартная часть лица поэта. На портретах 4 и 6―14 в отличие от портрета работы Тропинина в значительной степени исчезла скошенность лба, которая присутствует на всех автопортретах поэта.
Вот и решайте, соответствует ли усредненный портрет Тропинина ― Кипренского реальному облику поэта, или его выбор определили подсознательные процессы в головах экспертов?
Далее мы обратились к реконструкции образа молодого Пушкина. От лицейских времен сохранились два мало схожих между собой пушкинских портрета. Первый нарисован в начале лицейской жизни, второй (4) ― в ее конце Е. А. Энгельгардтом, директором Лицея. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным подростком первого портрета, нарисованным гувернером, учителем рисования С. Г. Чириковым. Только большой лоб да острота взгляда те же. Возможно, директору Лицея хотелось, чтобы вверенные ему лицеисты выглядели подтянутыми и по-немецки опрятными. Третий портрет (3) ― это гравюрная авторская копия, выполненная Е. И. Гейтманом с портрета Чирикова.
Из трех этих образов молодого поэта были синтезированы 24 новых портрета, из которых был выбран портрет, полученный из образов 2 и 3 с подбором весовых коэффициентов при наложении. При выборе учитывались два обстоятельства. Первое. Образ поэта в зрелом возрасте, уже отобранный экспертами, и возможность перехода к нему при взрослении выбираемого детского лица. Второе. Издатель Н. И. Гнедич приложил портрет 3-му к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 году, вероятно, потому, что он был сходен с натурой. Выбранный синтезированный портрет не только весьма похож на образы 2 и 3, но и совпадает со словесными описаниями, относящимися к этому периоду:
«...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик... со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались...» (из воспоминаний Е. П. Яньковой).
Соответствует этот портрет и приводившемуся уже высказыванию о своей внешности молодого Пушкина:
«У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Наконец, мы попытались сформировать облик позднего Пушкина, после 1830 года. Выбранный экспертами образ получен методом «фоторобота» из портретов 15 и 38. Похожий на этот образ портрет получается также методом «фоторобота» из портретов 15 и 16. Выбор этого портрета определился, в частности, и тем, что при повороте синтетического портрета 27-летнего Пушкина дополнительно к исходному ракурсу на 15 градусов выбранный образ соответствует ему, но выглядит несколько старше. Этот выбор экспертов подтверждают уже приводившиеся выше словесные портреты позднего Пушкина и собственные рисунки поэта (образы 5, 6, 8, 10-12 автопортретов Пушкина).
* * *
Для восприятия творческого наследия А. С. Пушкина не так уж важно, как он сам выглядел и как воспринимался современниками. Сегодня Пушкин для нас ― национальный символ нашей культуры и истории. Он для россиян значит больше, чем Шекспир или Байрон для англичан, а Гете ― для немцев. Его обобщенный хрестоматийный образ (пусть не совсем похожий на оригинал) уже живет сам по себе, вне времени. Юбилей поэта явился для нас лишь поводом, чтобы с позиции современного компьютерного распознавания образов под неожиданным ракурсом взглянуть на социопсихологическую проблему восприятия и отображения художниками разных поколений облика Пушкина. Мы попытались воссоздать наиболее вероятный образ методами, которые раньше не существовали.
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти. ― Прим. авт.), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Портрет Пушкина. Художник Тропинин. 1827
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Приведем для примера описание творческих мучений Ильи Ефимовича Репина; в течение двадцати лет он работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Если замечательный мастер Репин считал себя посредственностью, взявшись за воплощение облика Пушкина, то уж биофизикам, далеким от его художественного таланта, казалось бы, здесь делать нечего. Тем не менее мы рискнули попытаться воссоздать наиболее вероятный облик поэта в различные периоды его жизни, но подойти к решению этой задачи с иной стороны. Юбилей поэта стимулировал наше желание, а многолетний опыт компьютерной реконструкции, накопленный в биологических экспериментах, вселял оптимизм.
Работа начиналась как «игра». Но незаметно переросла в объемное биофизическое исследование с элементами искусствоведения, психологии восприятия образов и их компьютерным анализом и синтезом. Однако работа оказалась много сложнее, чем мы предполагали, приступая к ней, и заметно отличалась от имевшегося у нас опыта.

Исследуя биоструктуры, мы изучаем их по электронно-микроскопическим, рентгеновским или оптическим снимкам. Часто эти изображения бывают существенно искажены из-за аберраций приборов, но эти приборные ошибки, накладываемые на истинный образ биоструктур, можно вычислить и скорректировать. В данном же случае мы имели дело с рукотворными портретами поэта, то есть с произведениями искусства, а человеческое творчество ― это то немногое, что с большим трудом поддается формализации.
Проживи А. С. Пушкин еще пять лет, и, возможно, потомки располагали бы его фотопортретами. Как известно, первые черно-белые фотоизображения были получены во Франции Л.-Ж.-М. Дагером и Ж.-Н. Ньепсом в 1839 году, двумя годами позже фотографии были сделаны в Англии, а затем ― в России. Но история не имеет сослагательного наклонения.
Изменчивое, живое лицо поэта (а это отмечают все его современники, оставившие воспоминания) было нелегко изобразить даже художникам, писавшим портрет с натуры. Существуют хотя и многочисленные, но субъективные живописные портреты Пушкина и описания его внешности. Мы даже не знаем точно, какого цвета были его волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие (П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр, смолоду белокурый, после 17 лет начал темнеть. Сам Пушкин написал по-французски свой шуточный автопортрет: «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Чтобы ответить на вопрос: каким был облик поэта? ― нужно было с особой осторожностью относиться к воспоминаниям, написанным много лет спустя после гибели поэта. В них и смещение временных периодов в памяти мемуаристов, и влияние величия личности, то есть «давление» социального стереотипа на настроение вспоминающих. Большей ценностью обладают дневниковые заметки современников ― пусть отрывистые и неважно ― друзей или недругов, ― а также собственные высказывания поэта.
К архиву словесных портретов мы добавили визуальные живописные портреты, автопортреты Пушкина, сделанные им на полях рукописей и в альбомах его современниц, а также зарисовки и скульптурные портреты, созданные уже после смерти поэта. Помимо этого мы располагали зарисовками лица поэта на смертном одре и фотографиями его посмертной маски в разных ракурсах.
На маску, как объективный носитель образа поэта, мы возлагали особенно большие надежды. Однако, как выяснилось, она отражает лишь приблизительно облик живого рельефа лица. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В свое время антрополог-скульптор М. М. Герасимов (1907―1970), создавая метод пластической реконструкции лица по черепу, исследовал эти вопросы. Не зная, каким был облик человека при жизни, точно реконструировать рельеф его лица по маске и черепу нельзя. Можно передать лишь приблизительный облик натуры, хотя образ может быть узнаваемым.
Синтезировав множество обликов поэта, неизбежно требуется прибегнуть к мнению экспертов ― своеобразному «суду присяжных», которые должны выбрать наиболее вероятный облик лица реального человека. Но человека уже нет, как нет среди нас, ныне живущих, того, кто его видел. Поэтому ответ всегда носит вероятностный характер. Выбор одной гипотезы из множества других неизбежно вызывает сомнение и порождает вопрос: «А судьи кто?» Мы можем лишь утверждать, что отобранные образы из множества синтезированных не противоречат словесным описаниям и живописным прижизненным портретам (с учетом квалификации и объективности мемуаристов и художников). Однако все равно после всех поправок, выбранный портрет остается портретом, а не фотографией и несет на себе груз субъективности.
При синтезе новых портретов поэта мы использовали два взаимно дополняющих друг друга компьютерных метода: «фоторобота» (совмещения элементов из разных портретов) и «морфинга» (наложения портретов и их элементов с определенными весовыми коэффициентами друг на друга). Не будем утомлять читателя математическими выкладками, связанными с измерением антропометрических параметров изображенного на портретах лица, с количественными отклонениями этих параметров на различных портретах и с формированием пространств из этих признаков, цель которых ― распознавание образов. Не станем излагать и методы поворотов изображений на портретах для их сравнения и расчетные формулы эллипсоидальной геометрии при проекциях рельефа лица на плоскость портрета. Обо всем этом можно узнать, прочитав в журнале «Успехи физических наук» (№ 5, 1999) нашу статью.
У ИСТОКОВ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ ПОЭТА
Итак, перед вами ― галерея портретов поэта, ставшая основой наших исследований. Из 38 портретов, с которыми мы оперировали, 16 ― прижизненные.
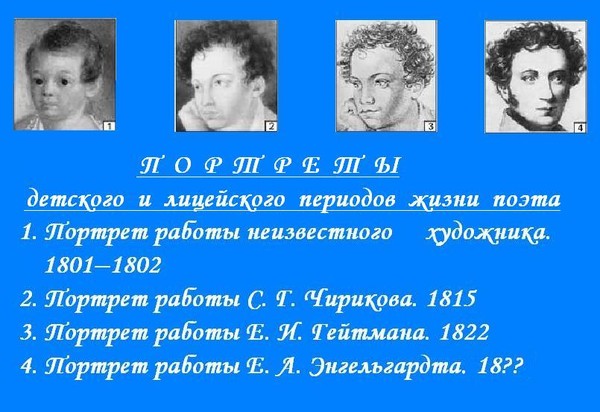
История создания и судьба каждого из портретов достойны отдельного разговора. Анализу портретов в Пушкиниане посвящена обширная литература. Для нас в данном случае важно другое ― как возник тот облик поэта, который каждому из нас знаком с детства? Насколько он соответствует реальному образу живого человека?

Классический облик А. С. Пушкина (его можно еще назвать «социальный стереотип») был порожден тиражированием портретов работы О. А. Кипренского (6) и В. А. Тропинина (7). Оба художника ― профессионалы высочайшего класса.
Василий Андреевич Тропинин (1776―1857), ученик С. С. Щукина, выпускник Петербургской академии художеств, был крупнейшим русским портретистом. Его работы отличались скульптурной четкостью объемов и внимательностью к характерным деталям. Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский не отправил его в Петербург на выставку (хотя Н. А. Полевой в журнале «Московский телеграф» и сообщил об этом), а отдал для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала небольшую копию(9), размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина. Но оригинал с середины 1850-х годов находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
Орест Адамович Кипренский (1782―1836) был в то время, пожалуй, еще более известным живописцем и графиком, чем Тропинин. В 1812 году за особые заслуги в области живописи его избрали академиком Академии художеств. В 1805 году он получил Золотую медаль за свою теперь хорошо известную картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Однако как художник он был скорее романтиком, чем реалистом. Его портрет Пушкина (6) отличает внешняя красивость с элементами классических представлений о том, как следует изобразить крупную творческую личность.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский. 1827
Общепринято считать, что сам поэт оценивал этот портрет очень высоко, и в доказательство обычно приводятся строки из его послания Кипренскому:
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Однако если стихотворение А. С. Пушкина, адресованное Кипренскому, прочитать полностью, то в нем легко заметить явно проступающую саркастическую усмешку поэта по поводу своего портретного образа.
Любимец моды легкокрылый,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз,
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных Аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Портрет, выполненный Кипренским, стал классическим и дублировался еще при жизни поэта разными способами. Пушкин оказался прав ― социальный стереотип его облика родился именно из портрета Кипренского и аналогов (работ Уткина, Райта, позднее ― Матэ и Безлюдного и т. д.). После гибели поэта спрос на его портреты сильно возрос, раскупались все гравюры и литографии, сделанные по работам Тропинина и Кипренского. Любопытно, но их печатали в соотношении один к девяти. Видимо, и поэтому мы, потомки, воспринимаем облик поэта прежде всего по образу, созданному Кипренским. Дальнейшая судьба этого портрета известна. Он принадлежал другу поэта, А. А. Дельвигу, после его смерти (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.
Первым этот портрет удачно скопировал и размножил выдающийся мастер резцовой гравюры Николай Иванович Уткин (1780―1836). Хотя его гравировка (8), казалось бы, всего лишь повторение оригинала Кипренского, но Уткину удалось усилить выразительность портрета богатством и разнообразием штриха, а возможно, и собственными представлениями о натуре поэта. Профессиональный уровень этих трех живописцев не может подлежать сомнению. Однако Пушкин, изображенный ими примерно в одно и то же время, видится по-разному.
К этой же портретной группе следует отнести акварельные работы Петра Федоровича Соколова (1791―1848). Приведенный портрет поэта (10) почти на десять лет отстоит от работ Тропинина и Кипренского, Пушкин на десять лет старше, но он такой же. Из этого истока родилась большая «гибридная река» изобразительного ряда похожих, с небольшими вариациями, обликов поэта ― от Т. Райта (17) до К. Ф. Юона (28) и далее.
Но был ли истинный образ поэта таким, каким он показан на своих прижизненных портретах? Единого мнения не было. Одни из современников говорили «да», другие ― «нет». Пожалуй, вторых больше. Но подобные споры не решаются голосованием. Необходим независимый источник информации. Что думал по этому поводу сам поэт? С одной стороны, Пушкин не был высокого мнения о своей внешности, и можно найти много его высказываний по этому поводу. Вот примеры:
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бысстыдным бешенством желаний.
(«Юрьеву», 1820)
«Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (Из письма к жене, 1835).
«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Из письма жене, 1836).
Но есть его высказывание и противоположного рода:
«В... газете объявили, что я собою неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко тронула» (А. С. Пушкин. Опровержение на критику, 1830).
Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Художник Н. П. Ульянов
Заключая анализ портретного ряда, порожденного тропинино-кипренским истоком, приведем цитату из заметки художника Н. П. Ульянова «Мои встречи» (М.: изд-во АХ СССР, 1959), написавшего в 1936 году картину «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (36 ― это фрагмент названной картины):
«...В сущности есть всего два блестящих художественных документа из иконографии поэта. Это портреты Тропинина и Кипренского. Для одних они неоспоримо верный синтез внешнего и внутреннего "я" Пушкина; в других они вызывают некоторые чувства недоверия. Слов нет, оба портрета, и каждый по-своему, замечательны... Но не надо забывать, что тогда было принято "крахмалить" образ. Эпоха требовала некоторой пышности, приподнятости изображения».
Второй поток портретов поэта (28―36) был вызван желанием художников снять с образа поэта «исторический крахмал» (образ, созданный Ульяновым, относится к этому направлению) и отойти от сложившегося социального стереотипа. У истоков этого потока стояли портреты Г. А. Гиппиуса, Жана Вивьена и прежде всего И. Л. Линева.
Во многих высказываниях современников подчеркивается, что Пушкин был собою «неблагообразен». В качестве примера ограничимся тремя цитатами.
«Пушкин, писатель, разговаривает очаровательно без претензий, живо, пламенно. Нельзя быть безобразнее его ― это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикое во взгляде... Рядом с ней (имеется в виду жена поэта. ― Прим. авт.) его уродливость еще более поражает, но когда он говорит, забываешь, чего ему недостает, чтобы быть красивым» (из дневника графини Д. Ф. Фикельмон, урожденной Тизенгаузен, внучки Кутузова, близкой знакомой поэта).
«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевлено, ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно...» (из воспоминаний Л. С. Пушкина). Рост Пушкина в зрелом возрасте был 166,6 см ― это известно из подписи под изображением поэта во весь рост в исполнении художника Г. Г. Чернецова: «Рисовал с натуры, 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».
«Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор по-прежнему, в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению...» (из письма П. Л. Яковлева, брата однокашника Пушкина М. Л. Яковлева. Ноябрь 1826 г.).
Портрет Пушкина работы Жана Вивьена (15) и миниатюра (13), которая также с большой вероятностью выполнена Вивьеном, показывают нам поэта в возрасте приблизительно 28 лет (миниатюра датирована, а на портрете даты нет). Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса (11) изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии. Линию Ж. Вивьена в изображении поэта явно продолжил Г. Г. Мясоедов (32) в известном большом полотне «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской» (1905―1907).
Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской. Художник Г. Г. Мясоедов. 1905-1907
Поздний Пушкин (1836―1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева (16), на котором изображен вне романтического ореола. Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали:
«Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его» (П. Х. Граббе, знакомый Пушкина, автор воспоминаний о встрече с ним).
«К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться» (П. В. Нащокин, один из близких друзей Пушкина).
«Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти» (Н. М. Смирнов, близкий знакомый Пушкина).
Особого упоминания требует история создания портрета работы Линева. Она полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х ― начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе ― марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Автор версии С. М. Куликов, рассматривая записку неизвестному (возможно, Жуковскому), написанную рукой Пушкина ориентировочно в 1835―1837 годах и содержащую следующие слова: «Посылаю тебе мою образину», ― высказывает гипотезу, что речь идет о портрете Пушкина именно работы Линева.
Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29―30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы... Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица ― приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.
Как бы там ни было, но линевский портрет совместно с портретами Вивьена и Гиппиуса породил свою линию в галерее портретов Пушкина ― от К. П. Мазера (29) до В. И. Шухаева (38).
Сюда же следует отнести известную совместную романтическую картину И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. Прощай, свободная стихия!» (1887), где Пушкин (30) в изображении Репина явно унаследовал некоторые черты портрета Линева.
Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» Художники И. Е. Репин и И. К. Айвазовский. 1887
А вот Пушкин, изображенный самим Айвазовским (21) в картине «Пушкин на берегу Черного моря» (1868), ближе к линии портретов Тропинина и Кипренского.
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868. Фрагмент
Это все, что касается портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Первые три зарисовки выполнены 29 января 1837 года, вторые две ― на следующий день. Посмертная маска была снята с лица в первый день после смерти.
На полях рукописей Пушкин часто рисовал свое лицо. Существует свыше 50 его автопортретов. Наиболее типичные из них мы использовали в работе.
Известно, что и дома, и в Лицее молодому Пушкину преподавали основы рисования, он любил и умел рисовать, и эти автопортреты-шаржи дают дополнительные сведения об облике поэта. На всех рисунках присутствует характерный профиль ― срезанный лоб и выдающаяся вперед нижняя часть лица.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор наиболее вероятного портрета из синтезированного компьютером множества был, без сомнения, самым сложным этапом работы. На читательский суд мы представляем три портрета, относящиеся к разным временным отрезкам жизни А. С. Пушкина.
В центре ― портрет, отобранный экспертами как наиболее вероятный облик А. С Пушкина в возрасте 27―28 лет. Отбор производился из сотни новых синтезированных компьютером портретов, полученных комбинаторными перестановками из элементов базовых портретов и наложением изображений друг на друга. Перед нами наяву, как перед Татьяной во сне, проходила галерея причудливых образов поэта. Метод компьютерного «фоторобота» дает возможность создавать фантасмагорию подвижных химер, подобную описанной А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
Отобранный экспертами портрет получен прямым объединением (по специальной программе) портретов работы О. А. Кипренского (6) и работы В. А. Тропинина (Елагинская копия ― 9). Чем же руководствовались эксперты, выбирая образ? В первую очередь были учтены близость антропометрических параметров его изображения к средним значениям всей совокупности прижизненных портретов этого периода жизни и соответствие данного образа описаниям, составляющим словесный портрет поэта. Например:
«С Пушкина списал Кипренский портрет, необычно похожий» (Н. А. Муханов, знакомый Пушкина, в письме к брату 15 июля 1827 года).
«Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским» (профессор Петербургского университета А. В. Никитенко, 2 сентября 1827 года в дневнике ― о выставке в Академии художеств, открывшейся 1 сентября).
«Не распространяясь в исчислении красот сего произведения г. Кипренского, мы скажем только, что это живой Пушкин» (Ф. В. Булгарин. Газета «Северная пчела», 1827. Обзоры выставки).
«Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь... Лучше всего, по-моему, передает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос ― выдающимся ― это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с негустыми, кудрявыми волосами» (из воспоминаний И. А. Гончарова, когда он студентом увидел А. С. Пушкина при посещении им Московского университета, 27 сентября 1832 года).
Далее эксперты учитывали выраженность на выбранном портрете характерных особенностей подбородка и губ, связанных с абиссинской (эфиопской) наследственностью поэта, и высокую квалификацию художников ― Тропинина и Кипренского, создавших эти два портрета.
Тем не менее выяснилось (и это очень важно), что, делая свой выбор, каждый из экспертов подсознательно испытывал влияние уже сформировавшегося социального стереотипа облика поэта. И это не позволяло заметно отклоняться от принятого стандарта. Кроме того, привлекательность образа, полученного методом наложения и усреднения, обусловлена и другим психологическим фактором ― так называемым «давлением усреднения». Обычно считалось, что среднее лицо непривлекательно. С этим соглашался и иронизировал по этому поводу сам поэт (строки из основного черновика поэмы «Медный всадник»):
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.
Однако, как показали экспериментальные исследования, именно средний образ человека обладает для большинства наибольшей привлекательностью. Если взять несколько десятков черно-белых фотографий разных людей, собранных по методу случайной выборки, и изготовить из них усредненный образ, то для подавляющего большинства наблюдателей он будет привлекательнее индивидуальных. «Средние глаза, уши, рты» ― симпатичнее индивидуальных. И еще одно интересное обстоятельство. Чем больше отдельных лиц привлекается для получения усредненного изображения, тем красивее для наблюдателей противоположного пола оказывался полученный результат. У таких образов есть только один недостаток ― таких «полностью усредненных» лиц не существует.
Вероятно, такое «давление усредненного стандарта» проявилось не только у наших экспертов при выборе, но и при изображении поэта разными художниками. Наибольшую сложность у рисовальщиков портретов А. С. Пушкина вызывали самые информативные элементы его облика ― глаза и нижняя часть лица. Художники, вольно или невольно, пытались «подтянуть» наблюдаемый ими реальный образ под усредненный стандарт европейских лиц или, наоборот, как можно больше утрировать подмеченное ими индивидуальное отличие.
У Пушкина, как отмечали современники, были удлиненные голубые глаза. Наши измерения показали, что среднее соотношение размеров ширины открытого глаза к его длине равно 1 : 3. Но именно такого соотношения на индивидуальных прижизненных портретах поэта мы не встречаем. У стандартного глаза европейца это соотношение приблизительно 1 : 2,5. По-видимому, этим и объясняется столь большое различие в геометрии глаза на разных портретах Пушкина: одни подтягивали размеры под «европейский» глаз, другие уходили от стандарта. Разброс отношений составляет до 25%. На портрете работы Тропинина отклонение составляет 7% в сторону удлинения по горизонтали, а на портрете работы Кипренского ― на 16% в противоположную сторону и почти соответствует европейскому стандарту глаза (1 : 2,6). Сам Пушкин на своих автопортретах рисовал глаза удлиненными.
Форма нижней части лица ― выдвинутые вперед подбородок и крупные губы ― настолько сильно отклонялась от стандартного европейского облика, что ставила как художников-современников, изображавших поэта, так и их последователей и самого поэта перед проблемой: как сделать изображение похожим на оригинал и в то же время скрыть «его непривлекательную наружность». На портретах 3, 5, 7, 16 и на зарисовке М. Ф. Бруни «Пушкин на смертном одре» тем не менее в целом передана эта наиболее сложная и нестандартная часть лица поэта. На портретах 4 и 6―14 в отличие от портрета работы Тропинина в значительной степени исчезла скошенность лба, которая присутствует на всех автопортретах поэта.
Вот и решайте, соответствует ли усредненный портрет Тропинина ― Кипренского реальному облику поэта, или его выбор определили подсознательные процессы в головах экспертов?
Далее мы обратились к реконструкции образа молодого Пушкина. От лицейских времен сохранились два мало схожих между собой пушкинских портрета. Первый нарисован в начале лицейской жизни, второй (4) ― в ее конце Е. А. Энгельгардтом, директором Лицея. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным подростком первого портрета, нарисованным гувернером, учителем рисования С. Г. Чириковым. Только большой лоб да острота взгляда те же. Возможно, директору Лицея хотелось, чтобы вверенные ему лицеисты выглядели подтянутыми и по-немецки опрятными. Третий портрет (3) ― это гравюрная авторская копия, выполненная Е. И. Гейтманом с портрета Чирикова.
Из трех этих образов молодого поэта были синтезированы 24 новых портрета, из которых был выбран портрет, полученный из образов 2 и 3 с подбором весовых коэффициентов при наложении. При выборе учитывались два обстоятельства. Первое. Образ поэта в зрелом возрасте, уже отобранный экспертами, и возможность перехода к нему при взрослении выбираемого детского лица. Второе. Издатель Н. И. Гнедич приложил портрет 3-му к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 году, вероятно, потому, что он был сходен с натурой. Выбранный синтезированный портрет не только весьма похож на образы 2 и 3, но и совпадает со словесными описаниями, относящимися к этому периоду:
«...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик... со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались...» (из воспоминаний Е. П. Яньковой).
Соответствует этот портрет и приводившемуся уже высказыванию о своей внешности молодого Пушкина:
«У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Наконец, мы попытались сформировать облик позднего Пушкина, после 1830 года. Выбранный экспертами образ получен методом «фоторобота» из портретов 15 и 38. Похожий на этот образ портрет получается также методом «фоторобота» из портретов 15 и 16. Выбор этого портрета определился, в частности, и тем, что при повороте синтетического портрета 27-летнего Пушкина дополнительно к исходному ракурсу на 15 градусов выбранный образ соответствует ему, но выглядит несколько старше. Этот выбор экспертов подтверждают уже приводившиеся выше словесные портреты позднего Пушкина и собственные рисунки поэта (образы 5, 6, 8, 10-12 автопортретов Пушкина).
* * *
Для восприятия творческого наследия А. С. Пушкина не так уж важно, как он сам выглядел и как воспринимался современниками. Сегодня Пушкин для нас ― национальный символ нашей культуры и истории. Он для россиян значит больше, чем Шекспир или Байрон для англичан, а Гете ― для немцев. Его обобщенный хрестоматийный образ (пусть не совсем похожий на оригинал) уже живет сам по себе, вне времени. Юбилей поэта явился для нас лишь поводом, чтобы с позиции современного компьютерного распознавания образов под неожиданным ракурсом взглянуть на социопсихологическую проблему восприятия и отображения художниками разных поколений облика Пушкина. Мы попытались воссоздать наиболее вероятный образ методами, которые раньше не существовали.
Елена Байер,
19-10-2009 02:44
(ссылка)
ДЕСЯТЬ ПРИЖИЗНЕННЫХ ПОРТРЕТОВ ЛЕРМОНТОВА
16 ОКТЯБРЯ 1814 ГОДА РОДИЛСЯ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ. В НЫНЕШНЕМ, 2009 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 195 ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ.
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
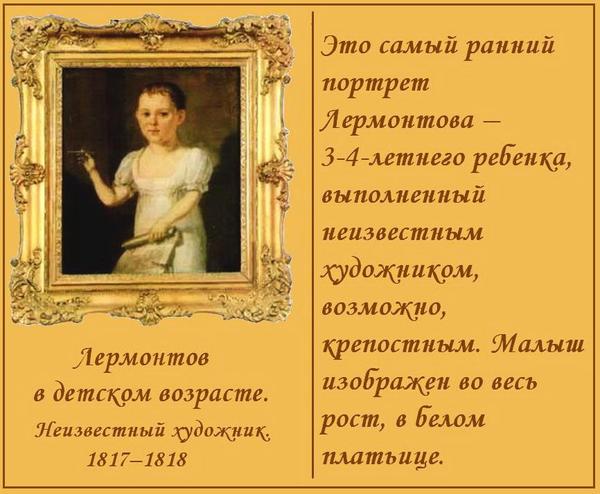
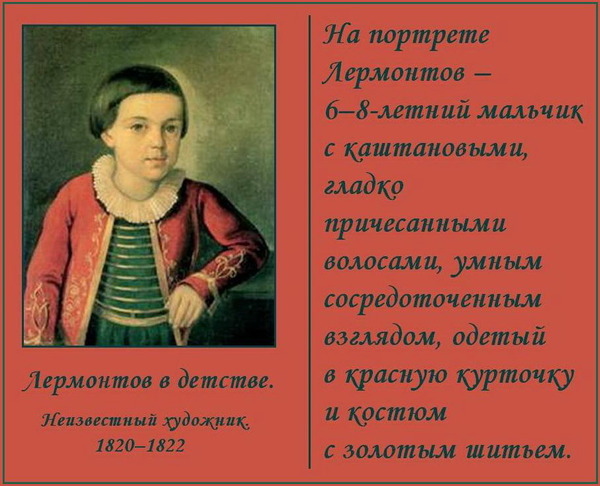
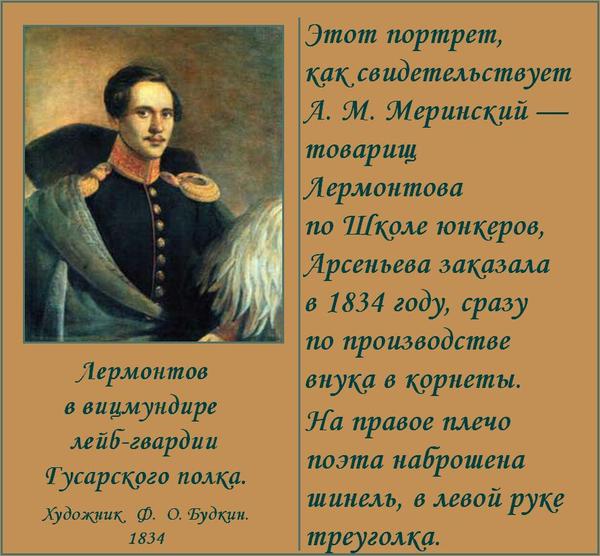
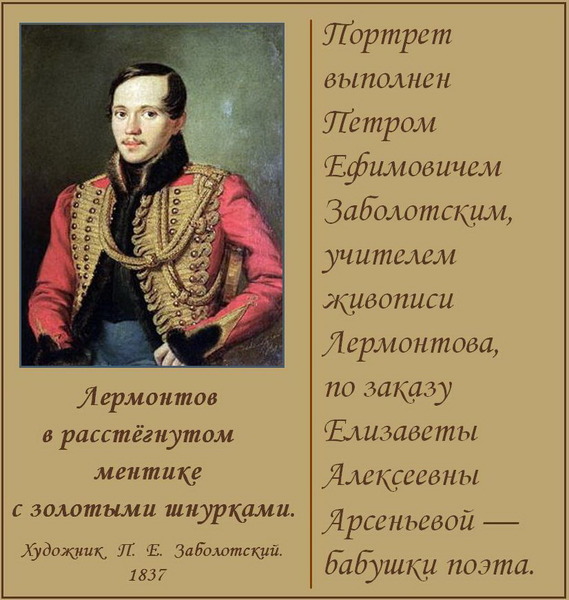
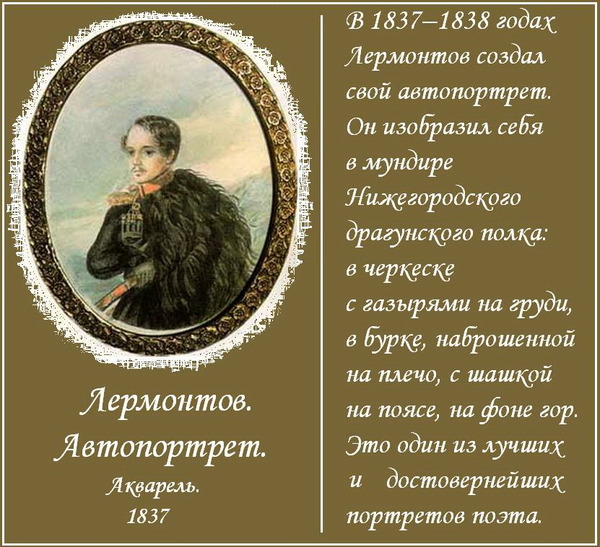
Елена Байер,
20-02-2009 02:48
(ссылка)
ЧЕРНАЯ БРАНЬ
ЧЕРНАЯ БРАНЬ
(слово о русском мате)
(слово о русском мате)
Казалось бы, русский народ матерился всегда. Передаваясь от отца к сыну, от поколения к поколению, матерные слова дошли до настоящего времени вопреки всем попыткам объявить их вне языка, запретить их употребление, то есть, иначе говоря, убить их. Этот путь сквозь века, проделанный матерщиной, сделал ее чем-то вроде завета — завета не поддаваться цензуре, противостоять всякому авторитету и запрету, им устанавливаемому. И мы, знающие эти слова, чувствуем своего рода единство — не столько единство языка, сколько единство свободы — свободы говорить то, что нам вздумается. Хотя и сознаем, что материться — недоброе дело: примем во внимание хотя бы то, что до последнего времени подобная вольность речи считалась недопустимой в обществе женщин и детей. Но, даже согласившись внутренне с такой оценкой, мало кто ставит целью изжить в себе мат до конца. Мы как-то не привыкли ущемлять свое чувство свободы, тем более что, имея свободу слова в числе общественных идеалов, легко дать волю своему языку.
Матерщина захватывает человека подобно стихии. Можно и ощущать ее как стихию, и, осознавая ее народной, человек, не матерясь сам, может испытывать почти гордость оттого, что русский мат — самая крепкая ругань в мире. Так мы ее, заграницу!
Казалось бы, смешно, что то, чего мы должны стыдиться, выставляется напоказ. Однако то, что о крепости мата известно чуть ли не каждому русскому, заставляет отнестись к этому серьезно. Где-то в глубине русской души сидит убеждение, что истинно русский человек должен уметь при случае матюгнуться. Считается нормальным материться при трудной работе, под матерщину, кажется, и дело идет сподручней. Споткнувшись, ударившись, люди сеют в воздух матерные слова. И вообще, чуть ли не народная мудрость гласит: когда тебе плохо, выматерись — и станет легче.
Наконец, существует и еще одна сфера приложения мата. При традиционно благожелательном отношении русского человека к выпивке, эта снисходительная благожелательность попускает пьяному и его язык. Считается в порядке вещей, что в пьяном виде человек матерится. Слушая пьяную речь, можно морщиться, но и только — с пьяного какой спрос?.. Иногда кажется, что во хмелю человек и не может изъясняться иначе. Читаем у Достоевского (Дневник писателя за 1873 г.): «Гуляки из рабочего люда мне не мешают, и я к ним, оставшись теперь в Петербурге, совсем привык, хотя прежде терпеть не мог, даже до ненависти. Они ходят по праздникам, пьяные, иногда толпами, давят и натыкаются на людей — не от буянства, а так, потому что пьяному и нельзя не натыкаться и не давить; сквернословят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно этот язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было — его следовало бы выдумать. Я вовсе не шутя говорю. Рассудите. Известно, что во хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного или у всякого не как стелька пьяного человека почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворить этим обоим, противоположным состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси». Конечно же, это мат.
Оставив в стороне восторги исследования, возьмем у Достоевского лишь голую мысль о внутренней связи пьяного состояния и матерной ругани. Получится простое правило: чем больше народ спивается, тем больше он матерится.
Общая картина такова. Средняя русская речь, та, которую можно слышать на улицах, обильно помечена матом — в различных контекстах и по самому разному поводу.
И все-таки, несмотря на высокую частоту матерных слов, матерщина не стала нормальным употреблением языка. Она даже не стала нормой в отношении ругани. Народ определил матерщину как черную брань. И это не просто эпитет, а интерпретация мата. Черный цвет — не просто один из многих в палитре мира, он противопоставляется белому как цвет зла цвету добра. То, что называется черным, особенно из того, что лишено природной окраски, тем самым относится к активному проявлению зла. И если мат — ругань черная, то он в народном сознании, в отличие от всей другой ругани, представляет собой активное зло. Чтобы понять, что его делает таковым, надо внимательнее к нему приглядеться, а чтобы выделить его из общего фона ругани, надо понять, что такое ругань вообще.
Ругань противоестественна. Хотя ее и можно считать своего рода применением языка, причем достаточно распространенным (бранные слова и выражения присутствуют, наверное, во всех языках мира), по своей сути она противоречит всему языку. Брань и язык решают задачи прямо противоположные. Цель языка состоит в объединении людей. Люди говорят между собой, чтобы лучше понять друг друга. Без этого невозможно жить и действовать сообща. У ругани цель иная: ее задача не сблизить, а наоборот, разобщить людей, провести между ними границу. Бранясь, человек показывает другому, что тот зря претендует на понимание. Он должен держать дистанцию, знать свое место. И место это может оказаться самым ничтожным.
Для современного человека нет ничего удивительного в том, что язык позволяет ему держать всех на расстоянии и не подпускать никого близко к своей душе. Но это добровольное отчуждение возможно лишь в благоприятной среде. Когда же жизнь такова, что враг или природа могут в любую минуту отнять ее у тебя, когда чужое проявляет себя в полную силу, тебе необходимо свое и свои, чтобы не противостоять опасности в одиночку. В таких случаях отчуждение равносильно самоубийству. Но если прошлое не позволяло человеку держать себя на особицу, то как объяснить, что именно из этого прошлого человек вынес привычку ругаться?
Исходной точкой возникновения ругани можно считать схватку с врагом. Брань — это не только обмен ругательствами, но и битва, сражение. И сегодня «поле боя» и «поле брани» для нас синонимы. В древности, встречаясь с противником лицом к лицу, человек не сразу пускал в дело оружие. Исход боя неясен, и тот, кто идет на бой, знает, что битва может кончиться для него смертью. Поэтому и возникает непосредственно перед схваткой пауза, хоть немного отдаляющая сам поединок, а вместе с тем и смертельный его исход для кого-то из поединщиков. И в этот момент вместо оружия идут в дело слова. Если поединщики говорят на одном языке, они могут хвалиться своей сноровкой и силой, пытаясь запугать врага и тем стяжать себе психологическое преимущество.
Татарский хан Идолище из русской былины хвастается:
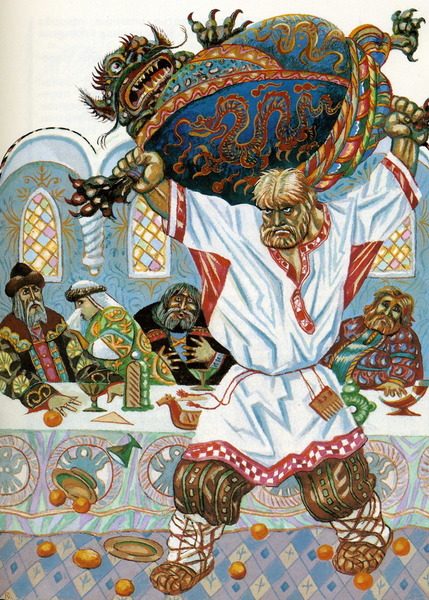
Был бы здесь Илья Муромец —
Так я бы его на одну руку клал
Да другою бы рукою прихлопнул.
Он бы как блин стал.
Да и сдунул бы я его в чисто поле.
Я-то — Идолище — росту две сажени печатных.
А в ширину — сажень печатная.
Голова у меня — что пивной котел,
А глаза — что чаши пивные.
Хлеба я ем по три печи в день,
А зелена вина пью по три ведра медных...
Оставить похвальбу противника без комментариев — значит признать, что он тебя превосходит, проиграть словесную схватку. Отвечая, можно похвалиться самому, а можно свести его хвастовство на нет, опрокинув слова словами.
Илья Муромец отвечает нахвальщику-Идолищу:
А как у нас у попа ростовского
Была корова обжориста:
Много она ела, пила, да тут и треснула.
Это насмешка. То, что Идолище ставил себе в заслугу, то, что должно было подтвердить его богатырскую мощь, Илья Муромец высмеивает. Это шаржирование, создание портрета из недостатков имеет самое непосредственное отношение к ругани. Само слово говорит об этом: «поругаться» изначально значило «насмехаться». До сих пор эта насмешка составляет один из действенных бранных приемов.
Но в силу того что этот прием прост, он не только наиболее распространен, но и наименее злобен. Близко к нему стоит брань иного рода. В уличной сутолоке, назвав человека хамом, можно не заметить, что ты ругнулся. На самом же деле именем хама мы уподобили жертву нашего обращения библейскому персонажу, прославившему себя не лучшим образом.
А ведь механизм уподобления позволяет лишить того, против кого он обращается, даже облика человека. Мы намекаем на эту возможность неуклюжему человеку, когда говорим: «Что ты как слон в посудной лавке». Назвав же человека свиньей, мы больше не утруждаем себя метафорой, мы прямо утверждаем тождество между нашей жертвой и этим животным. И речь идет не о сходстве, не о близости черт, — если поведение человека позволяет сравнить его со свиньей, это слово прозвучит менее обидно, чем адресованное человеку вне всякой мотивации, просто по злобе. Бранясь «свиньей», обидчик бы желал, чтобы его жертва, быть может, человек достойный, впал в свинство, чтобы это имя действительно подходило к нему. Назвать свиньей — это втайне желать видеть в человеке свинью.
В «Алисе в Стране чудес» ребенок — дитя Герцогини, то и дело называемый поросенком, — действительно становится им. У Кэрролла это игра со словами, но ведь и брань — это своего рода тоже игра со словами. Вопрос лишь в том, что люди ожидают от слов.
Если допустить, что слова могут изменять мир, не стоит их высказывать так легко — ведь придется отвечать за каждое действие вылетевшего слова. Если слова имеют силу действия, можно превратить человека словом в свинью. Впрочем, и в обыденной жизни, сея брань и рождая обиду, бранчливый способствует «освинению» мира. Некоторые же формы брани прямо построены на ожидании эффекта от сказанных слов. По существу, такая брань представляет собой магические формулы, предназначенные творить зло. Их структура включает в себя обращение к человеку и пожелание несчастий, которые должны с ним случиться. Когда эти формулы возникли, люди верили в их силу, поэтому, скорее всего, не многие пользовались ими. Тот, кто прибегал к ним часто, был колдуном. Если же такую формулу произносил обычный человек, то это было вызвано тем, что выходит за пределы обыденной жизни, и поэтому неудивительно, что от такого события ждали последствий, способных потрясти мир или хотя бы перевернуть жизнь и погубить ненавистного человека.
Вкладывающий в проклятие свою душу этим делал ее причастным злу, которое пророчил другому. Эта сторона проклятия, хорошо осознаваемая нашими предками, делала его особенно страшным. Проклиная, человек как бы подводил под своей жизнью черту, отдавая все свое будущее той темной силе, которая взамен должна была сокрушить врага. Две жизни приносилось на алтарь мести, человек срывался в бездну и увлекал в нее другого. Эта ожесточенная самоотверженность заставляла замирать в мистическом трепете всех свидетелей этой ужасной минуты. Проклятие, исторгнутое на смертном одре, было еще более страшным. Человек призывал месть ценой своей бессмертной души, уже не имея времени на покаяние.
Сегодня острота переживания проклятия утрачена. Люди готовы призывать друг на друга разверзшиеся небеса по мельчайшему поводу, не замечая мистического характера произносимых ими слов. Некоторые магические формулы потеряли адресность и даже содержание, осталось лишь выражение некой угрозы: «Да чтоб тебя!» — говорит человек, споткнувшись о торчащую из земли проволоку, и не замечает, что оказался на пороге проклятья.
Матерщина по своей структуре подобна проклятью, она тоже магическая словесная формула. Матерная брань наиболее оскорбительна, когда не скрывает этой своей природы, когда она адресна и действительно направлена против конкретного человека. Но чаще она прячет свое лицо.
На первый взгляд в мате нет ничего магического. Матерщина, как определяют ее словари, — это просто слова определенного содержания. То, что речь человека может быть густо усеяна ими, не представляет собой никакой загадки. Подобным же образом в языке существуют многие слова-паразиты.
Человек, не умеющий говорить связно, испытывает затруднения на стыке слов. То, что он хочет сказать, находится в его уме. Мысли сталкиваются одна с другой, накладываются друг на друга, не зная никакого порядка. Речь же требует, чтобы из этого хаоса человек вытянул, как нитку из пряжи, определенную последовательность слов. Речь линейна, нельзя сказать все сразу, только одно за другим. К тому же от того, как выстроятся слова, зависит понятность сказанного. Речь должна соответствовать грамматической модели, принятой в языке. Профессиональный оратор не задумывается над этим, для него не составляет проблемы высказаться. Сам переход мысли в речь для него столь же естественен, как привычка дышать. Человек же, не привыкший говорить длинные речи, испытывает затруднение всякий раз, когда ему приходится что-то рассказывать. И в тот момент, когда у него на языке не оказывается нужного слова, с него соскальзывает слово-паразит, не давая речи оборваться молчанием. Прервать молчание, начать говорить заново требует большего расхода энергии, чем продолжение речи. Пустые слова, образуя мостик между словами, которые что-то значат, выполняют роль смазки, сохраняют непрерывность речи и тем экономят говорящему силы.
Чаще всего в роли таких слов используются указательные частицы «это», «вот». Слово «значит», которое в современном языке часто превращается в «смазку», тоже своего рода указание. Оно служит переходом от знака, имени, выражения к тому, что ими обозначаются. Превращаясь в слово-паразит, оно теряет содержание, на которое должно указывать. Такое указание «ни на что» наиболее удобно для заполнения провалов в речи. Оно побуждает слушателя не терять внимания, как бы обещая ему, что речь все-таки доведут до конца.
Помимо указательных слов, роль «смазки» играют и другие, начиная от общераспространенного «ну» и кончая диалектическими и специфическими («дык» и т. п.), с помощью которых писатели так любят создавать колорит речи своих героев. Такие частицы изначально лишены самостоятельного значения, они имеют его только по отношению к другим словам, сообщая им различные дополнительные оттенки. Потеряв связь с другими словами, частицы остаются лишь устойчивыми сочетаниями звуков, не означающими ничего. Обнулить их смысл довольно легко, достаточно просто вырвать их из контекста. Используемые в качестве «смазки», они не тянут за собой никакого значения, к тому же они, как правило, невелики по длине, что снижает затраты энергии, расходуемой впустую.
Матерные слова имеют совсем другую природу. Они принадлежат к разряду табуированных слов. «Табу» — слово полинезийского происхождения. В современном языке им легко могут назвать любой строгий запрет. Однако то, что для обозначения запрета, играющего значительную роль в традиционных, архаических обществах, потребовалось особое слово, подсказывает, что здесь дело не только в строгости. В полинезийском обществе человек, нарушивший табу, подлежал жестокому наказанию, нередко — смерти. Почему? Не потому, что он преступил установления общества — это лишь внешняя сторона, видимая, но вторичная. Хотя табу и налагалось людьми, это были не просто люди. Это были вожди; однако право налагать и снимать табу определялось не самим авторитетом вождя, а тем, что создавало этот авторитет. В Полинезии вождь считался обладающим особой сверхъестественной силой — маной. Именно обладание маной и делало человека вождем. Всё, в чем, по убеждению полинезийцев, заключена мана, они считали святым. И эту святость требовалось защищать. Ману можно было утратить, и чтобы этого не случилось, как раз использовалось табу, путем запретов регулирующее отношения человека и сверхъестественного.
Таким образом, слово «табу» может быть с полным правом использовано нами за пределами полинезийской культуры только в том случае, если обозначаемые этим словом запреты регулируют не человеческие отношения, а отношения человека с миром сверхъестественных сил.
То, что матерные слова подлежат табу, свидетельствует об их сакральной природе. Корни матерщины лежат в язычестве. Не все слова, которые мы сегодня считаем матерными, восходят к языческому культу, но тем, что люди матерятся, мы обязаны, скорее всего, ему. Языческие обряды, посвященные самым разным богам, часто принимали формы, оскорбляющие нравственное сознание обыкновенного человека. То, что творилось во имя богов, не могло происходить в обыденной жизни, — это бы сочли преступлением. И хотя в обыкновенной жизни отношения между полами регулировались общественными установлениями, призванными обеспечить стабильное существование общества, во время языческих праздников, как правило, посвященных богам плодородия, практиковалось всевозможнейшее бесчинство. Часто оно облекалось в формы мистерий, охватывающих лишь посвященных, но всегда носило сакральный характер. Мистерии учинялись не ради самого разгула страстей, но ради богов. Этому своего рода «священнодействию» соответствовал и особый язык. Эта непотребная, похабная речь, немыслимая в обыденной жизни, была нормой общения во время языческого празднества.
Впрочем, возможно, в языческую эпоху матерные слова не были табуированы. Слово «руда» не вытеснило слово «кровь». Это означает, что запрет, если он и существовал, нарушался. Аналогичным образом языческая культура, испытывающая сильнейшее давление на нравственность со стороны своих обрядов, возможно, допускала похабство и в обыденной речи.
Ситуация резко изменилась с принятием христианства. Идеал нравственности, воспринятый вместе с православной верой, обязывал обуздывать речь. Тому языку, что славит Бога, не пристало блудить словами. Матерные слова должны были выйти из употребления. Однако этого не случилось.
По законам лингвистики жизнь слова в языке определяется его употреблением. Если матерщина была частью языческого культа, то с прекращением идолослужений, т. е. с исчезновением той ситуации, в которой употреблялись эти слова, мат должен был устареть и исчезнуть. Но если мат допускался в обыденном употреблении, он был жестко привязан к «постельной теме». «Перевод» этой темы на язык христианского брака также должен был снизить, а не увеличить частоту употребления матерных слов. То, что случилось в действительности, свидетельствует о том, что мат — не просто языковое явление.
Сквернословие — грех. А грех — это не преступление общественных установлений, т. е. нарушение морали, а преступление завета между человеком и Богом, нарушение запрета, установленного не человеком, а Богом. Первый запрет человек нарушил еще в раю. Хитрость змия проявилась в том, что он обратил внимание на запретное дерево как на что-то особенное. Когда отец запрещает сыну есть ядовитые ягоды, эта заповедь просто принимается к сведению и не искушает ребенка. В самом запрете нет искушения. Искушение начинается тогда, когда мы начинаем подозревать, что запретный плод имеет свои хорошие стороны. Адам и его жена знали, что от древа познания добра и зла они не должны есть, потому что «смертью умрут» (Быт., 2, 17). Но вот речи змия заставили их посмотреть на это дерево по-другому. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт., 3, 6). Грех проник в человека — и человек познал сладость греха. Эта сладость заключается в том, что, как оказалось, человек может по своей воле нарушить запрет, установленный волей Бога, как бы поспорить с Богом и настоять на своем. Это ложная сладость: она выглядит как обретение свободы, хотя есть лишь отпадение человеческой воли от воли Божией. Свобода воли становится заметной, потому что воля бунтует. Бунт разрушителен, последствия бунта смертельны, но существует упоение бунтом. В бунте человеческая воля достигает наиболее яркого своеобразия, но так как это своеобразие заключается в отпадении от Бога, результат на поверку оказывается безобразным и мерзким.
В этом суть сквернословия. Употребляя запрещенные, мерзкие слова, человек противопоставляет себя Богу, демонстрирует свою, особенную волю, как бы повторяя грехопадение первого человека.
Следует думать, что в первые века христианства матерщина была на Руси явлением более редким, поскольку воспринималась как преступление и самим сквернословом и обществом. Матерясь, человек публично оскорблял Бога и получал жалкое удовлетворение от того, что тварь бросает вызов своему Творцу.
Поэтому неудивительно, что мат и содержательно развился в прямое оскорбление святыни. То, что получило название «забористого» мата, связано с обращением грязных слов на то, что должно быть дорогим для каждого человека. Язык матерщинника оскорблял мать, Богородицу и самого Бога. Насколько подобные обороты были свойственны матерщине, говорит само ее название. Несомненно «мат» означает «ругать по матери». Умение составить изощренное ругательство считалось (да и до сих пор считается) особым искусством.
Не как языковое явление, а как грех мат получил свое широчайшее распространение. Это выглядит даже как месть: народ, принявший сердцем православную веру, получил тяжкую болезнь языка. Матерщина — черная сыпь, терзающая русский язык. Матерные слова — это не просто слова-паразиты. И хотя они часто выполняют роль «смазки», не в этом их основная роль. Прежде всего от слов-паразитов их отличает то, что они не потеряли своего исходного блудного смысла. В каком бы месте речи матерные слова ни находились, они постоянно проповедуют блуд, что ощущает всякий произносящий и слушающий. Благодаря им любая тема становится скабрезной, любой разговор похабным.
Более того, матерные слова являются самыми продуктивными основами для словообразования. Матерная лексика живая, она подталкивает человека к производству новых форм. И эти формы не остаются без употребления. В употреблении же они вытесняют слова нормальной речи.
В языке это явление существует и за пределами мата. Слово «дело» способно заменить любое действие, совершаемое человеком. Еще шире сфера применения таких слов, как «штука», «вещь». Пустейшее слово «ерунда» может заменить название любого предмета. Все эти слова — свидетельство бессилия человека выразить свою мысль. Их использование делает речь невыразительной, пустой. Каждое такое слово указывает на место провала, где человек не справился со своим языком и оставил смысл без выражения.
Матерная речь во многом сохраняет черты подобных оборотов, однако она вся исполнена экспрессии, она агрессивна. По-видимому, ее следует признать первичной по отношению к «пустому» употреблению слов типа «штука», «ерунда», которые замещают не значимые слова русского языка, а уже запретные матерные выражения.
Можно сказать, что матерщина ведет самую настоящую войну против русского языка. Она способна расширять свой словарный запас, имеет свои устойчивые словесные формы и фразеологизмы. Острие мата направлено на замещение простых, наиболее употребляемых слов. В конечном счете, матерщина претендует на то, чтобы создать свой язык, параллельный русскому языку, или пропитать собою весь русский язык, слившись с ним в блудном экстазе. На руку мату играет то, что он представляет собой определенный стиль речи. Распространенный среди простого народа, «не тронутого» образованием, он стал своего рода символом народности языка. И в качестве такового сегодня выглядит привлекательным даже для интеллигенции.
Употребление мата отграничивает «своих» от «чужих». И если человек ищет доступа в какое-то общество, где распространен мат, он вынужден применять матерный стиль. Он вынужденно учится мату, пока материться не станет его привычкой. Сегодняшний матерщинник и не мыслит быть бунтарем, наоборот, он жаждет не отличаться, быть таким же как все. Мат уже не звучит как бунт против Бога. Это ему позволяет прекрасно себя чувствовать и в светском, атеистическом обществе.
Подведем итоги.
Матерщина не просто ругань, стремление одержать верх над противником в словесной стычке. В конечном счете она направлена не против людей, а против Бога, за что и получила именование «черной ругани». Материться — значит ругаться по-черному. Черный цвет еще с дохристианских времен относился к силам зла. Поэтому мат носит чисто магический, сакральный характер. Он — элемент служения сатане, контрабандой проникший в светскую жизнь. Каждое матерное слово — это хуление Бога и прославление сатаны. Поэтому не случайно, что матюки у матерщинника заменяют собой молитвы. В трудные минуты, в тяжелом труде он не ищет помощи в обращении к Богу, а матерится. Всплеск энергии в матерном слове — и дело движется, хотя толкает его зло, которому тем самым отдает себя человек. Работа со злостью может быть эффективной. В результате воспитывается условный рефлекс: плохо тебе — матернись. Так человека отучают от Бога.
Поэтому следует сказать четко и ясно, что матерщина — это служение сатане, которое человек осуществляет по собственной воле и публично. Возможно, это достаточно страшно, чтобы сподвигнуть человека обуздать свой язык.
(Статья с сайта КУЛЬТУРОЛОГ)
Метки: брань
Елена Байер,
30-01-2014 18:23
(ссылка)
ССЫЛКИ НА РАЗДЕЛЫ СООБЩЕСТВА
Персоналии
Абузяров Ильдар
http://my.mail.ru/community...
Афанасьев А. Н.
http://my.mail.ru/community...
Ахматова Анна
http://my.mail.ru/community...
Бенедиктов Владимир
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бродский Иосиф
http://my.mail.ru/community...
Брюсов Валерий
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бунин Иван
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Волошин Максимилиан
http://my.mail.ru/community...
Высоцкий Владимир
http://my.mail.ru/community...
Гоголь Николай Васильевич
http://my.mail.ru/community...
Гумилев Николай
http://my.mail.ru/community...
Достоевский Федор Михайлович
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Есенин Сергей
http://my.mail.ru/community...
Заболоцкий Николай
http://my.mail.ru/community...
Карамзин
http://my.mail.ru/community...
Леонов Леонид
http://my.mail.ru/community...
Лермонтов. 10 прижизненных портретов
http://my.mail.ru/community...
Лесков Николай
http://my.mail.ru/community...
Ломоносов Михаил Васильевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Майков Аполлон Николаевич
http://my.mail.ru/community...
Окуджава Булат
http://my.mail.ru/community...
Прилепин Захар о Леониде Леонове
http://my.mail.ru/community...
Пушкин
http://my.mail.ru/community...
Пушкин в живописи
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История венчания
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История одного портрета
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Миниатюра Тропинина
http://my.mail.ru/community...
Пушкин на войне
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Прижизненные портреты
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Усредненный компьютерный портрет
http://my.mail.ru/community...
Рубцов Николай
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Толстой Лев Николаевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Тургенев Андрей
http://my.mail.ru/community...
Тютчев Федор
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Чаадаев Петр
http://my.mail.ru/community...
Чехов Антон Павлович
http://my.mail.ru/community...
Шукшин Василий
http://my.mail.ru/community...
Эппель Асар
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии
Русский Буккер-2012
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии 2011 года
http://my.mail.ru/community...
Русский Буккер-2011
http://my.mail.ru/community...
"Русский Букер"-2010 и другие годы
http://my.mail.ru/community...
Юбилеи и праздники
Книги - юбиляры-2010. Руслан и Людмила
http://my.mail.ru/community...
Книги - юбиляры-2010. Путешествие из Петербурга в Москву
http://my.mail.ru/community...
Современная поэзия
Каталог новых поэзий
http://my.mail.ru/community...
Минимальная картина современной поэзии
http://my.mail.ru/community...
Русская поэзия конца ХХ века
http://my.mail.ru/community...
Современная проза
«Кровавые кусочки воробьев»
http://my.mail.ru/community...
Не-проблемы русской литературы
http://my.mail.ru/community...
Библейский сюжет
«Бесы» Достоевского
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
Беречь родной язык
http://my.mail.ru/community...
Борьба за чистоту языка
http://my.mail.ru/community...
Дар и бездарность
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
http://my.mail.ru/community...
Искажение сути слов
http://my.mail.ru/community...
Кирилл и Мефодий. Житие
http://my.mail.ru/community...
Народный язык
http://my.mail.ru/community...
Праздные слова
http://my.mail.ru/community...
Проблемы языка и "Старое радио"
http://my.mail.ru/community...
Пустословие
http://my.mail.ru/community...
Сквернословие
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Слово - благодать
http://my.mail.ru/community...
Черная брань (о русском мате)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты (понятие)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Битва
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Взгляд
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. День
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Женщина
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Земля
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Ночь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Речь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Слово
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Счастье
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Язык, беседа, разговор
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Хохма
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Язычник
http://my.mail.ru/community...
Образование
ЕГЭ и Хармс
http://my.mail.ru/community...
Школа
http://my.mail.ru/community...
Школьные страницы
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Древняя Русь и литература
Слово о Законе и Благодати
http://my.mail.ru/community...
Литература и...
История. Православный князь Аскольд
http://my.mail.ru/community...
Карамзин. Великий князь Владимир
http://my.mail.ru/community...
Мемориал. Никто не забыт...
http://my.mail.ru/community...
Наследие. Прогресс и преображение
http://my.mail.ru/community...
Новая притча на старый лад
http://my.mail.ru/community...
Память
http://my.mail.ru/community...
Степанов Юрий. Интервью
http://my.mail.ru/community...
Чему нам учиться у Европы
http://my.mail.ru/community...
Опросы
ЕГЭ. Как вам это нравится?
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид. Свободный стих
http://my.mail.ru/community...
Читаете ли Вы дома вслух?
http://my.mail.ru/community...
Трудные вопросы
Проверьте свою грамотность
http://my.mail.ru/community...
Словари и справочники
http://my.mail.ru/community...
Словарный запас. Тест
http://my.mail.ru/community...
Смешно о важном
http://my.mail.ru/community...
Фонетика по Галичу
http://my.mail.ru/community...
Что скажут филологи
http://my.mail.ru/community...
Альбомы
Бродский
http://foto.mail.ru/communi...
ВОЙНА и МИР в иллюстрациях
http://foto.mail.ru/communi...
Гоголь
http://foto.mail.ru/communi...
Лермонтов
http://foto.mail.ru/communi...
Настольные книги
http://foto.mail.ru/communi...
Пушкин. Наше всё
http://foto.mail.ru/communi...
Русь
http://foto.mail.ru/communi...
Стихи на открытках
http://foto.mail.ru/communi...
Хранители слова
http://foto.mail.ru/communi...
Абузяров Ильдар
http://my.mail.ru/community...
Афанасьев А. Н.
http://my.mail.ru/community...
Ахматова Анна
http://my.mail.ru/community...
Бенедиктов Владимир
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бродский Иосиф
http://my.mail.ru/community...
Брюсов Валерий
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бунин Иван
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Волошин Максимилиан
http://my.mail.ru/community...
Высоцкий Владимир
http://my.mail.ru/community...
Гоголь Николай Васильевич
http://my.mail.ru/community...
Гумилев Николай
http://my.mail.ru/community...
Достоевский Федор Михайлович
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Есенин Сергей
http://my.mail.ru/community...
Заболоцкий Николай
http://my.mail.ru/community...
Карамзин
http://my.mail.ru/community...
Леонов Леонид
http://my.mail.ru/community...
Лермонтов. 10 прижизненных портретов
http://my.mail.ru/community...
Лесков Николай
http://my.mail.ru/community...
Ломоносов Михаил Васильевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Майков Аполлон Николаевич
http://my.mail.ru/community...
Окуджава Булат
http://my.mail.ru/community...
Прилепин Захар о Леониде Леонове
http://my.mail.ru/community...
Пушкин
http://my.mail.ru/community...
Пушкин в живописи
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История венчания
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История одного портрета
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Миниатюра Тропинина
http://my.mail.ru/community...
Пушкин на войне
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Прижизненные портреты
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Усредненный компьютерный портрет
http://my.mail.ru/community...
Рубцов Николай
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Толстой Лев Николаевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Тургенев Андрей
http://my.mail.ru/community...
Тютчев Федор
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Чаадаев Петр
http://my.mail.ru/community...
Чехов Антон Павлович
http://my.mail.ru/community...
Шукшин Василий
http://my.mail.ru/community...
Эппель Асар
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии
Русский Буккер-2012
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии 2011 года
http://my.mail.ru/community...
Русский Буккер-2011
http://my.mail.ru/community...
"Русский Букер"-2010 и другие годы
http://my.mail.ru/community...
Юбилеи и праздники
Книги - юбиляры-2010. Руслан и Людмила
http://my.mail.ru/community...
Книги - юбиляры-2010. Путешествие из Петербурга в Москву
http://my.mail.ru/community...
Современная поэзия
Каталог новых поэзий
http://my.mail.ru/community...
Минимальная картина современной поэзии
http://my.mail.ru/community...
Русская поэзия конца ХХ века
http://my.mail.ru/community...
Современная проза
«Кровавые кусочки воробьев»
http://my.mail.ru/community...
Не-проблемы русской литературы
http://my.mail.ru/community...
Библейский сюжет
«Бесы» Достоевского
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
Беречь родной язык
http://my.mail.ru/community...
Борьба за чистоту языка
http://my.mail.ru/community...
Дар и бездарность
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
http://my.mail.ru/community...
Искажение сути слов
http://my.mail.ru/community...
Кирилл и Мефодий. Житие
http://my.mail.ru/community...
Народный язык
http://my.mail.ru/community...
Праздные слова
http://my.mail.ru/community...
Проблемы языка и "Старое радио"
http://my.mail.ru/community...
Пустословие
http://my.mail.ru/community...
Сквернословие
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Слово - благодать
http://my.mail.ru/community...
Черная брань (о русском мате)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты (понятие)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Битва
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Взгляд
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. День
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Женщина
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Земля
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Ночь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Речь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Слово
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Счастье
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Язык, беседа, разговор
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Хохма
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Язычник
http://my.mail.ru/community...
Образование
ЕГЭ и Хармс
http://my.mail.ru/community...
Школа
http://my.mail.ru/community...
Школьные страницы
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Древняя Русь и литература
Слово о Законе и Благодати
http://my.mail.ru/community...
Литература и...
История. Православный князь Аскольд
http://my.mail.ru/community...
Карамзин. Великий князь Владимир
http://my.mail.ru/community...
Мемориал. Никто не забыт...
http://my.mail.ru/community...
Наследие. Прогресс и преображение
http://my.mail.ru/community...
Новая притча на старый лад
http://my.mail.ru/community...
Память
http://my.mail.ru/community...
Степанов Юрий. Интервью
http://my.mail.ru/community...
Чему нам учиться у Европы
http://my.mail.ru/community...
Опросы
ЕГЭ. Как вам это нравится?
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид. Свободный стих
http://my.mail.ru/community...
Читаете ли Вы дома вслух?
http://my.mail.ru/community...
Трудные вопросы
Проверьте свою грамотность
http://my.mail.ru/community...
Словари и справочники
http://my.mail.ru/community...
Словарный запас. Тест
http://my.mail.ru/community...
Смешно о важном
http://my.mail.ru/community...
Фонетика по Галичу
http://my.mail.ru/community...
Что скажут филологи
http://my.mail.ru/community...
Альбомы
Бродский
http://foto.mail.ru/communi...
ВОЙНА и МИР в иллюстрациях
http://foto.mail.ru/communi...
Гоголь
http://foto.mail.ru/communi...
Лермонтов
http://foto.mail.ru/communi...
Настольные книги
http://foto.mail.ru/communi...
Пушкин. Наше всё
http://foto.mail.ru/communi...
Русь
http://foto.mail.ru/communi...
Стихи на открытках
http://foto.mail.ru/communi...
Хранители слова
http://foto.mail.ru/communi...
Метки: ссылки
Елена Байер,
09-11-2011 01:43
(ссылка)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 2011 ГОДА

29 мая 2011 года был объявлен лауреат премии «Супернацбест». Им стал Захар Прилепин – его роман в рассказах «Грех» признан книгой десятилетия.
В конкурсе участвовали десять книг, в 2000–2010 годах становившихся победителями ежегодной общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер».
Роман Захара Прилепина получил ее в 2008 году. Главный герой книги — альтер-эго писателя, молодой человек, который воевал в Чечне, а вернувшись к мирной жизни, работает то вышибалой в кабаке, то могильщиком – и при этом остается очень человечным и не становится циником.
На премию «Супернацбест» также претендовали:
● Эдуард Кочергин — «Крещенные крестами» (2010);
● Андрей Геласимов — «Степные боги» (2009);
● Илья Бояшов — «Путь Мури» (2007);
● Дмитрий Быков — «Борис Пастернак» (2006);
● Михаил Шишкин — «Венерин волос» (2005);
● Виктор Пелевин — «ДПП (NN)» (2004);
● Гаррос-Евдокимов — «[Голово]ломка» (2003);
● Александр Проханов — «Господин Гексоген» (2002);
● Леонид Юзефович — «Князь ветра» (2001).
В жюри входили экономист Сергей Васильев, генеральный директор медиахолдинга «Коммерсантъ» Андрей Галиев, банкир Владимир Коган, актриса Александра Куликова, писатель Эдуард Лимонов, издатель и основатель премии «Нацбест» Константин Тублин, политик Ирина Хакамада, вице-президент Петербургского ПЕН-клуба Илья Штемлер, дизайнер Валентин Юдашкин, писатель, первый лауреат премии Леонид Юзефович, а также почетный председатель — помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
Каждый из членов жюри открыто называл своего кандидата. «Грех» получил больше всего голосов — три, его выбрали Ирина Хакамада, Эдуард Лимонов и Леонид Юзефович.

28 сентября на пресс-конференции в Москве был объявлен шорт-лист премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» сезона 2011 года.
В лонг-лист конкурса в 2011 году вошли 25 книг, представленные как центральными и региональными издательствами, научными сотрудниками, так и оргкомитетом, жюри и учредителем премии, основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым.
В состав жюри «Просветителя» в 2011 году вошли:
● Юрий Алексеевич Рыжов — академик РАН (председатель жюри);
● Алексей Семихатов — ведущий научный сотрудник ФИАН, доктор физ.-мат наук, переводчик;
● Евгений Бунимович — поэт, педагог, публицист, заслуженный учитель России;
● Илья Колмановский — биолог, журналист, популяризатор науки;
● Максим Кронгауз — лингвист, профессор РГГУ, финалист премии 2008 года.
Финалистов премии объявили Дмитрий Зимин и сопредседатели оргкомитета — писатель и телеведущий Александр Архангельский и издатель Александр Гаврилов. Были представлены два коротких списка по гуманитарному направлению и естественным и точным наукам.
Шорт-лист премии «Просветитель» 2011 года в номинации «Гуманитарные науки»
1. Яков Гордин. Кавказская Атлантида. 300 лет войны. (М.: Время, 2011);
2. Ирина Левонтина. Русский со словарем. (М.: Азбуковник, 2010);
3. Владимир Плунгян. Почему языки такие разные. (М.: АСТ-Пресс, 2011);
4. Константин Сонин. Уроки экономики. (М.: Альпина Бизнес Букс, 2011);
Шорт-лист премии «Просветитель» 2011 года в номинации «Естественные и точные науки»
1. Александр Марков. Эволюция человека (рукопись). (М.: Corpus, 2011);
2. Антон Первушин. 108 минут, изменившие мир. Вся правда о полете Юрия Гагарина. (М.: Эксмо, 2011);
3. Любовь Стрельникова. Из чего всё сделано? Рассказы о веществе. (М.: Яуза-Пресс, 2011);
4. Владимир Цимбал. Растения. Параллельный мир. (Фрязино: ВЕК 2, 2010).
Церемония награждения лауреатов премии пройдет 24 ноября. Денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке наградят и издателей книг лауреатов премии.
В 2010 году лауреатами премии «Просветитель» стали ученый-византинист Сергей Иванов («1000 лет озарений. Удивительные истории простых вещей») и математик-лингвист Владимир Успенский («Апология математики»).
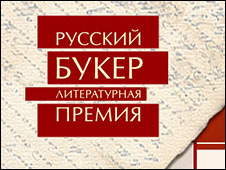
Премия «Русский Букер» в этом году испытывала серьезные проблемы с финансированием, но после того как спонсор наконец нашелся, организаторы объявили о своем желании выбрать в этом сезоне только «книгу десятилетия». Номинантами стали шесть десятков произведений, которые на протяжении десяти лет существования конкурса оказывались в «коротких списках», включая победителей. Члены жюри минувших лет в ходе первого этапа голосования сформировали юбилейный «шорт-лист», который был обнародован в рамках первого Международного книжного форума, проходившего 1-2 ноября в Москве.
В «коротком списке» юбилейной литературной премии оказались пять претендентов, из которых только один – бывший лауреат.
Наибольшее число баллов получили:
1. Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней;
2. Захар Прилепин. Санькя;
3. Роман Сенчин. Елтышевы;
4. Людмила Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик;
5. Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени…
Из этих произведений только первое было удостоено «Букера» в 2002 году, остальные четыре входили только в «короткие списки». После второго тура голосования, в котором вновь примут участие все члены прежних жюри премии за десять лет, 1 декабря будет названо имя лауреата премии – призовой фонд составляет 600 тысяч рублей. Тогда же объявит своего лауреата и жюри «Студенческого Букера». Организаторы надеются, что юбилейный конкурс даст возможность «проверить перспективную справедливость ежегодных оценок, выносимых букеровским жюри, и предложит итоговый рекомендательный список читателям современной литературы».

1 ноября, объявлен шорт-лист Премии Андрея Белого, старейшей негосударственной литературной премии в России. Лауреаты будут названы 2 декабря на 13-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы.
В этом году в Комитет Премии Андрея Белого вошли Михаил Айзенберг, Борис Дубин, Никита Елисеев, Борис Иванов, Глеб Морев, Борис Останин, Александр Секацкий
Шорт-лист Премии Андрея Белого 2011 года в номинации «Поэзия»
● Полина Барскова (Амхерст, США) – «Сообщение Ариэля» (М.: НЛО, 2011);
● Алла Горбунова (Петербург) – «Колодезное вино» (М.: Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2010);
● Владимир Ермолаев (Рига) – «Трибьюты и оммажи» (М.: Культурная революция, 2011);
● Василий Ломакин (Вашингтон, США) – «Цветы в альбом»;
● Андрей Поляков (Симферополь) – «Китайский десант» (М.: Новое издательство, 2010); «Радиостанция "Последняя Европа"»;
● Алексей Порвин (Петербург) – «Стихотворения» (М.: НЛО, 2011);
● Илья Риссенберг (Харьков) – «Третий из двух».
Шорт-лист Премии Андрея Белого 2011 года в номинации «Проза»
● Николай Байтов (Москва) – «Думай, что говоришь» (М.: КоЛибри, 2011);
● Игорь Голубенцев (Петербург) – «Точка Цзе» (М.: Memories, 2010);
● Владимир Михайлов (Бишкек) – «Русский садизм» (рукопись);
● Александр Маркин (Цюрих) – «Дневник. 2006-2011» (Тверь: Kolonna Publications, 2011);
● Денис Осокин (Казань) – «Овсянки» (М.: КоЛибри, 2011);
● Павел Пепперштейн (Москва) – «Пражская ночь» (СПб.: Амфора, 2011); «Весна» (М.: Ad Marginem, 2010);
● Мария Рыбакова (Сан-Диего, США) – «Гнедич» (М.: Время, 2011).
Шорт-лист Премии Андрея Белого 2011 года в номинации «Гуманитарные исследования»
● Геннадий Барабтарло (Колумбия, США) – «Сочинение Набокова» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011);
● Дмитрий Замятин (Москва) – «В сердце воздуха: к поискам сокровенных пространств» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011);
● Михаил Золотоносов (Петербург) – «Комментарии к стихотворному сборнику Н. Кононова "80"» (СПб.: Инапресс, 2011); «Логомахия». «Поэма Тимура Кибирова "Послание Л. С. Рубинштейну" как литературный памятник» (М.: Ладомир, 2010);
● Артемий Магун (Петербург) – «Единство и одиночество. Курс политической философии Нового времени» (М.: НЛО, 2011);
● Виктор Мазин (Петербург) – «Субъект Фрейда и Деррида» (СПб.: Алетейя, 2010);
● Елена Петровская (Москва) – «Теория образа» (М.: Изд-во РГГУ, 2010);
● Кети Чухров (Москва) – «Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства» (СПб.: Европейский университет, 2011).
Специальная премия отцов-основателей Бориса Иванова и Бориса Останина за «Литературные проекты»
● Тамара Буковская, Валерий Мишин (Петербург) – издатели поэтического самиздатского альманаха «Акт» (с 2000 г., 19 номеров), международного поэтического альманаха «Литераче», альманаха визуальной поэзии «Словолов», антологий «Актуальная поэзия на Пушкинской-10» (2009) и «Перекрестное опыление» (2010);
● Юлия Валиева (Петербург) – составитель и редактор книг: «Лица петербургской поэзии. 1950 – 1990-е. Автобиографии. Авторское чтение» (СПб.: Zamizdat, 2011); «Сумерки «Сайгона» (СПб.:Zamizdat, 2010); «Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров» (СПб.: Реноме, 2006);
● Олег Зоберн (Москва) – составитель серии «Уроки русского» (изд-во «КоЛибри»);
● Александр Николюкин (Москва) – составитель и редактор Собрания сочинений В. В. Розанова в 30 томах (М.: Республика, 1994-2010) и «Розановской энциклопедии» (М.: РОССПЭН, 2008);
● Игорь Эбаноидзе (Москва) – составитель и редактор Полного собрания сочинений Ф. Ницше в 13 томах (М.: Культурная революция, 2005-2011).
Также будет вручена Специальная премия за перевод (шорт-лист не оглашается).
Награждение по традиции пройдет в декабре в Петербурге.
Премия Андрея Белого была учреждена в 1978 году редакцией ленинградского самиздатского литературного журнала «Часы». Призовой фонд премии составляет 1 рубль.
В прошлом году лауреатами Премии Андрея Белого стали Анатолий Гаврилов, Сергей Стратановский, Людмила Зубова, Сергей Кудрявцев, Евгений Кольчужкин и Алексей Прокопьев.
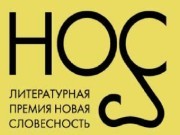
2 ноября, на V Красноярской ярмарке книжной культуры (КрЯКК) объявлен шорт-лист литературной премии «НОС» (Новая словесность) 2011 года. В него вошли десять произведений, в том числе книги Виктора Пелевина и Михаила Шишкина.
Премия «НОС» вручается Фондом культурных инициатив Михаила Прохорова с 2010 года «для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке». Лонг-лист из 25 произведений был объявлен 20 сентября.
Лонг-лист премии «НОС» 2011 года
1. Андрей Аствацатуров. Скунскамера;
2. Каринэ Арутюнова. Пепел красной коровы;
3. Марина Ахмедова. Дневник смертницы. Хадижа;
4. Николай Байтов. Думай, что говоришь;
5. Илья Бояшов. Каменная баба;
6. Яна Вагнер. Вонгозеро;
7. Игорь Вишневецкий. Ленинград;
8. Наталья Галкина. Табернакль;
9. Dj Stalingrad. Исход;
10. Дмитрий Данилов. Горизонтальное положение;
11. Николай Кононов. Фланёр;
12. Александр Маркин. Дневник 2006–2011;
13. Алексей Никитин. Истеми;
14. Марина Палей. Дань саламандре;
15. Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы;
16. Андрей Рубанов. Тоже родина;
17. Мария Рыбакова. Гнедич;
18. Фигль-Мигль. Ты так любишь эти фильмы;
19. Маргарита Хемлин. Крайний;
20. Андрей Шарый, Ярослав Шимов. Корни и корона;
21. Михаил Шишкин. Письмовник;
22. Нина Шнирман. Счастливая девочка;
23. Глеб Шульпяков. Фес;
24. Александр Яблонский. Абраша;
25. Ирина Ясина. История болезни.
Первым лауреатом премии «НОС» стала Лена Элтанг («Каменные клены»), а в сезоне 2010 года победителем был назван Владимир Сорокин («Метель»).
Шорт-лист премии «НОС» 2011 года
● Андрей Аствацатуров. Скунскамера;
● Николай Байтов. Думай, что говоришь;
● Игорь Вишневецкий. Ленинград;
● Дмитрий Данилов. Горизонтальное положение;
● Николай Кононов. Фланёр;
● Александр Маркин. Дневник 2006–2011;
● Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы;
● Мария Рыбакова. Гнедич;
● Михаил Шишкин. Письмовник;
● Ирина Ясина. История болезни.
Книга Дмитрия Данилова добавлена в список экспертами.
В жюри премии входят филолог Марк Липовецкий(председатель), литератор Кирилл Кобрин, критик Константин Мильчин, поэт Елена Фанайлова и журналист Владислав Толстов.
В конце января 2012 года состоится ток-шоу с выбором и награждением победителя и вручением приза читательских симпатий (по результатам голосования в Интернете).
Победитель получит 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей, приз читательских симпатий — 200 тысяч рублей.
В конкурсе участвовали десять книг, в 2000–2010 годах становившихся победителями ежегодной общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер».
Роман Захара Прилепина получил ее в 2008 году. Главный герой книги — альтер-эго писателя, молодой человек, который воевал в Чечне, а вернувшись к мирной жизни, работает то вышибалой в кабаке, то могильщиком – и при этом остается очень человечным и не становится циником.
На премию «Супернацбест» также претендовали:
● Эдуард Кочергин — «Крещенные крестами» (2010);
● Андрей Геласимов — «Степные боги» (2009);
● Илья Бояшов — «Путь Мури» (2007);
● Дмитрий Быков — «Борис Пастернак» (2006);
● Михаил Шишкин — «Венерин волос» (2005);
● Виктор Пелевин — «ДПП (NN)» (2004);
● Гаррос-Евдокимов — «[Голово]ломка» (2003);
● Александр Проханов — «Господин Гексоген» (2002);
● Леонид Юзефович — «Князь ветра» (2001).
В жюри входили экономист Сергей Васильев, генеральный директор медиахолдинга «Коммерсантъ» Андрей Галиев, банкир Владимир Коган, актриса Александра Куликова, писатель Эдуард Лимонов, издатель и основатель премии «Нацбест» Константин Тублин, политик Ирина Хакамада, вице-президент Петербургского ПЕН-клуба Илья Штемлер, дизайнер Валентин Юдашкин, писатель, первый лауреат премии Леонид Юзефович, а также почетный председатель — помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
Каждый из членов жюри открыто называл своего кандидата. «Грех» получил больше всего голосов — три, его выбрали Ирина Хакамада, Эдуард Лимонов и Леонид Юзефович.

28 сентября на пресс-конференции в Москве был объявлен шорт-лист премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» сезона 2011 года.
В лонг-лист конкурса в 2011 году вошли 25 книг, представленные как центральными и региональными издательствами, научными сотрудниками, так и оргкомитетом, жюри и учредителем премии, основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым.
В состав жюри «Просветителя» в 2011 году вошли:
● Юрий Алексеевич Рыжов — академик РАН (председатель жюри);
● Алексей Семихатов — ведущий научный сотрудник ФИАН, доктор физ.-мат наук, переводчик;
● Евгений Бунимович — поэт, педагог, публицист, заслуженный учитель России;
● Илья Колмановский — биолог, журналист, популяризатор науки;
● Максим Кронгауз — лингвист, профессор РГГУ, финалист премии 2008 года.
Финалистов премии объявили Дмитрий Зимин и сопредседатели оргкомитета — писатель и телеведущий Александр Архангельский и издатель Александр Гаврилов. Были представлены два коротких списка по гуманитарному направлению и естественным и точным наукам.
Шорт-лист премии «Просветитель» 2011 года в номинации «Гуманитарные науки»
1. Яков Гордин. Кавказская Атлантида. 300 лет войны. (М.: Время, 2011);
2. Ирина Левонтина. Русский со словарем. (М.: Азбуковник, 2010);
3. Владимир Плунгян. Почему языки такие разные. (М.: АСТ-Пресс, 2011);
4. Константин Сонин. Уроки экономики. (М.: Альпина Бизнес Букс, 2011);
Шорт-лист премии «Просветитель» 2011 года в номинации «Естественные и точные науки»
1. Александр Марков. Эволюция человека (рукопись). (М.: Corpus, 2011);
2. Антон Первушин. 108 минут, изменившие мир. Вся правда о полете Юрия Гагарина. (М.: Эксмо, 2011);
3. Любовь Стрельникова. Из чего всё сделано? Рассказы о веществе. (М.: Яуза-Пресс, 2011);
4. Владимир Цимбал. Растения. Параллельный мир. (Фрязино: ВЕК 2, 2010).
Церемония награждения лауреатов премии пройдет 24 ноября. Денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке наградят и издателей книг лауреатов премии.
В 2010 году лауреатами премии «Просветитель» стали ученый-византинист Сергей Иванов («1000 лет озарений. Удивительные истории простых вещей») и математик-лингвист Владимир Успенский («Апология математики»).
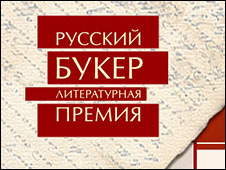
Премия «Русский Букер» в этом году испытывала серьезные проблемы с финансированием, но после того как спонсор наконец нашелся, организаторы объявили о своем желании выбрать в этом сезоне только «книгу десятилетия». Номинантами стали шесть десятков произведений, которые на протяжении десяти лет существования конкурса оказывались в «коротких списках», включая победителей. Члены жюри минувших лет в ходе первого этапа голосования сформировали юбилейный «шорт-лист», который был обнародован в рамках первого Международного книжного форума, проходившего 1-2 ноября в Москве.
В «коротком списке» юбилейной литературной премии оказались пять претендентов, из которых только один – бывший лауреат.
Наибольшее число баллов получили:
1. Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней;
2. Захар Прилепин. Санькя;
3. Роман Сенчин. Елтышевы;
4. Людмила Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик;
5. Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени…
Из этих произведений только первое было удостоено «Букера» в 2002 году, остальные четыре входили только в «короткие списки». После второго тура голосования, в котором вновь примут участие все члены прежних жюри премии за десять лет, 1 декабря будет названо имя лауреата премии – призовой фонд составляет 600 тысяч рублей. Тогда же объявит своего лауреата и жюри «Студенческого Букера». Организаторы надеются, что юбилейный конкурс даст возможность «проверить перспективную справедливость ежегодных оценок, выносимых букеровским жюри, и предложит итоговый рекомендательный список читателям современной литературы».

1 ноября, объявлен шорт-лист Премии Андрея Белого, старейшей негосударственной литературной премии в России. Лауреаты будут названы 2 декабря на 13-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы.
В этом году в Комитет Премии Андрея Белого вошли Михаил Айзенберг, Борис Дубин, Никита Елисеев, Борис Иванов, Глеб Морев, Борис Останин, Александр Секацкий
Шорт-лист Премии Андрея Белого 2011 года в номинации «Поэзия»
● Полина Барскова (Амхерст, США) – «Сообщение Ариэля» (М.: НЛО, 2011);
● Алла Горбунова (Петербург) – «Колодезное вино» (М.: Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2010);
● Владимир Ермолаев (Рига) – «Трибьюты и оммажи» (М.: Культурная революция, 2011);
● Василий Ломакин (Вашингтон, США) – «Цветы в альбом»;
● Андрей Поляков (Симферополь) – «Китайский десант» (М.: Новое издательство, 2010); «Радиостанция "Последняя Европа"»;
● Алексей Порвин (Петербург) – «Стихотворения» (М.: НЛО, 2011);
● Илья Риссенберг (Харьков) – «Третий из двух».
Шорт-лист Премии Андрея Белого 2011 года в номинации «Проза»
● Николай Байтов (Москва) – «Думай, что говоришь» (М.: КоЛибри, 2011);
● Игорь Голубенцев (Петербург) – «Точка Цзе» (М.: Memories, 2010);
● Владимир Михайлов (Бишкек) – «Русский садизм» (рукопись);
● Александр Маркин (Цюрих) – «Дневник. 2006-2011» (Тверь: Kolonna Publications, 2011);
● Денис Осокин (Казань) – «Овсянки» (М.: КоЛибри, 2011);
● Павел Пепперштейн (Москва) – «Пражская ночь» (СПб.: Амфора, 2011); «Весна» (М.: Ad Marginem, 2010);
● Мария Рыбакова (Сан-Диего, США) – «Гнедич» (М.: Время, 2011).
Шорт-лист Премии Андрея Белого 2011 года в номинации «Гуманитарные исследования»
● Геннадий Барабтарло (Колумбия, США) – «Сочинение Набокова» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011);
● Дмитрий Замятин (Москва) – «В сердце воздуха: к поискам сокровенных пространств» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011);
● Михаил Золотоносов (Петербург) – «Комментарии к стихотворному сборнику Н. Кононова "80"» (СПб.: Инапресс, 2011); «Логомахия». «Поэма Тимура Кибирова "Послание Л. С. Рубинштейну" как литературный памятник» (М.: Ладомир, 2010);
● Артемий Магун (Петербург) – «Единство и одиночество. Курс политической философии Нового времени» (М.: НЛО, 2011);
● Виктор Мазин (Петербург) – «Субъект Фрейда и Деррида» (СПб.: Алетейя, 2010);
● Елена Петровская (Москва) – «Теория образа» (М.: Изд-во РГГУ, 2010);
● Кети Чухров (Москва) – «Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства» (СПб.: Европейский университет, 2011).
Специальная премия отцов-основателей Бориса Иванова и Бориса Останина за «Литературные проекты»
● Тамара Буковская, Валерий Мишин (Петербург) – издатели поэтического самиздатского альманаха «Акт» (с 2000 г., 19 номеров), международного поэтического альманаха «Литераче», альманаха визуальной поэзии «Словолов», антологий «Актуальная поэзия на Пушкинской-10» (2009) и «Перекрестное опыление» (2010);
● Юлия Валиева (Петербург) – составитель и редактор книг: «Лица петербургской поэзии. 1950 – 1990-е. Автобиографии. Авторское чтение» (СПб.: Zamizdat, 2011); «Сумерки «Сайгона» (СПб.:Zamizdat, 2010); «Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров» (СПб.: Реноме, 2006);
● Олег Зоберн (Москва) – составитель серии «Уроки русского» (изд-во «КоЛибри»);
● Александр Николюкин (Москва) – составитель и редактор Собрания сочинений В. В. Розанова в 30 томах (М.: Республика, 1994-2010) и «Розановской энциклопедии» (М.: РОССПЭН, 2008);
● Игорь Эбаноидзе (Москва) – составитель и редактор Полного собрания сочинений Ф. Ницше в 13 томах (М.: Культурная революция, 2005-2011).
Также будет вручена Специальная премия за перевод (шорт-лист не оглашается).
Награждение по традиции пройдет в декабре в Петербурге.
Премия Андрея Белого была учреждена в 1978 году редакцией ленинградского самиздатского литературного журнала «Часы». Призовой фонд премии составляет 1 рубль.
В прошлом году лауреатами Премии Андрея Белого стали Анатолий Гаврилов, Сергей Стратановский, Людмила Зубова, Сергей Кудрявцев, Евгений Кольчужкин и Алексей Прокопьев.
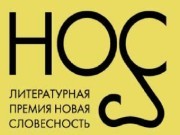
2 ноября, на V Красноярской ярмарке книжной культуры (КрЯКК) объявлен шорт-лист литературной премии «НОС» (Новая словесность) 2011 года. В него вошли десять произведений, в том числе книги Виктора Пелевина и Михаила Шишкина.
Премия «НОС» вручается Фондом культурных инициатив Михаила Прохорова с 2010 года «для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке». Лонг-лист из 25 произведений был объявлен 20 сентября.
Лонг-лист премии «НОС» 2011 года
1. Андрей Аствацатуров. Скунскамера;
2. Каринэ Арутюнова. Пепел красной коровы;
3. Марина Ахмедова. Дневник смертницы. Хадижа;
4. Николай Байтов. Думай, что говоришь;
5. Илья Бояшов. Каменная баба;
6. Яна Вагнер. Вонгозеро;
7. Игорь Вишневецкий. Ленинград;
8. Наталья Галкина. Табернакль;
9. Dj Stalingrad. Исход;
10. Дмитрий Данилов. Горизонтальное положение;
11. Николай Кононов. Фланёр;
12. Александр Маркин. Дневник 2006–2011;
13. Алексей Никитин. Истеми;
14. Марина Палей. Дань саламандре;
15. Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы;
16. Андрей Рубанов. Тоже родина;
17. Мария Рыбакова. Гнедич;
18. Фигль-Мигль. Ты так любишь эти фильмы;
19. Маргарита Хемлин. Крайний;
20. Андрей Шарый, Ярослав Шимов. Корни и корона;
21. Михаил Шишкин. Письмовник;
22. Нина Шнирман. Счастливая девочка;
23. Глеб Шульпяков. Фес;
24. Александр Яблонский. Абраша;
25. Ирина Ясина. История болезни.
Первым лауреатом премии «НОС» стала Лена Элтанг («Каменные клены»), а в сезоне 2010 года победителем был назван Владимир Сорокин («Метель»).
Шорт-лист премии «НОС» 2011 года
● Андрей Аствацатуров. Скунскамера;
● Николай Байтов. Думай, что говоришь;
● Игорь Вишневецкий. Ленинград;
● Дмитрий Данилов. Горизонтальное положение;
● Николай Кононов. Фланёр;
● Александр Маркин. Дневник 2006–2011;
● Виктор Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы;
● Мария Рыбакова. Гнедич;
● Михаил Шишкин. Письмовник;
● Ирина Ясина. История болезни.
Книга Дмитрия Данилова добавлена в список экспертами.
В жюри премии входят филолог Марк Липовецкий(председатель), литератор Кирилл Кобрин, критик Константин Мильчин, поэт Елена Фанайлова и журналист Владислав Толстов.
В конце января 2012 года состоится ток-шоу с выбором и награждением победителя и вручением приза читательских симпатий (по результатам голосования в Интернете).
Победитель получит 700 тысяч рублей, финалисты — по 40 тысяч рублей, приз читательских симпатий — 200 тысяч рублей.
Метки: совр.литература, лит.премия, Букер, НОС, Андрей Белый, Просветитель, Нацбест
Елена Байер,
17-04-2010 17:25
(ссылка)
ПУШКИН НА ВОЙНЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ. ПУШКИН НА ВОЙНЕ
И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.
Книга пророка Исаии
Книга пророка Исаии
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет Вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Казбек, твой царственный шатер
Сияет Вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Горе имеем сердца!
Весною 1828 года, зайдя в танцкласс Иогеля, Пушкин увидел шестнадцатилетнюю Наташу. Через год, после еще одной встречи на балу, он прислал к Гончаровым сватов. И получил полусогласие, с оговоркой на юный возраст и просьбой подождать.
В ту же ночь окрыленный надеждой и вместе с тем, как он признавался, испытывая «невольную тревогу, которая гнала его прочь из Москвы», Пушкин выехал на войну. В дороге он дурачился со скуки – писал мелом стихи и карикатуры на дверях почтовых станций. Сторожа, сердясь, стирали тряпкой его творения. Однажды молодые офицеры стали со смехом внушать ворчливому инвалиду: «Что ты делаешь, ведь это Пушкин рисовал». Старик сердито отвечал: «А по мне хоть Пушкин, хоть Кукушкин, а казенный дом нечего пачкать». Но вот, наконец, весною 29-го Александр Сергеевич вступает в долину Дарьяла.
«Кавказ нас принял в свое святилище. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе… Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как, некогда, плыл мимо Чатырдага».
Он и сам толком не знал, зачем едет. И засиделся, и друзей хотелось повидать, и надо было, как блудному сыну, прийти в себя перед женитьбой. Минувший год окунул его в крайнее нецеломудрие и измучил постоянными мыслями о смерти: «День каждый, каждую годину, привык я думой провождать, грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать».
Уже был написан «Пророк» и «Борис Годунов», но вместе с тем и «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана». В те времена библейский Эдем связывали с Арзрумом – древней Грузией, которую русская армия освобождала теперь от турок. Из этой области вытекают четыре реки: Тигр, Ефрат, Кура и Аракс. Первые две упоминаются в Книге Бытия, две другие неизвестны, но вполне могли иметь исток именно здесь.
В ту же ночь окрыленный надеждой и вместе с тем, как он признавался, испытывая «невольную тревогу, которая гнала его прочь из Москвы», Пушкин выехал на войну. В дороге он дурачился со скуки – писал мелом стихи и карикатуры на дверях почтовых станций. Сторожа, сердясь, стирали тряпкой его творения. Однажды молодые офицеры стали со смехом внушать ворчливому инвалиду: «Что ты делаешь, ведь это Пушкин рисовал». Старик сердито отвечал: «А по мне хоть Пушкин, хоть Кукушкин, а казенный дом нечего пачкать». Но вот, наконец, весною 29-го Александр Сергеевич вступает в долину Дарьяла.
«Кавказ нас принял в свое святилище. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе… Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как, некогда, плыл мимо Чатырдага».
Он и сам толком не знал, зачем едет. И засиделся, и друзей хотелось повидать, и надо было, как блудному сыну, прийти в себя перед женитьбой. Минувший год окунул его в крайнее нецеломудрие и измучил постоянными мыслями о смерти: «День каждый, каждую годину, привык я думой провождать, грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать».
Уже был написан «Пророк» и «Борис Годунов», но вместе с тем и «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана». В те времена библейский Эдем связывали с Арзрумом – древней Грузией, которую русская армия освобождала теперь от турок. Из этой области вытекают четыре реки: Тигр, Ефрат, Кура и Аракс. Первые две упоминаются в Книге Бытия, две другие неизвестны, но вполне могли иметь исток именно здесь.
Тифлис. 1820-е
Подъезжая к «миловидной Грузии, с ее садами, ее светлыми долинами, орошаемыми веселой Арагвой, ее зелеными долинами и обитаемыми скалами», Александр Сергеевич с восхищением чувствовал, что не ошибся, что здесь может произойти перелом в его внутренней войне.
«Казаки разбудили меня на заре. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. „Что за гора?“ — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: „это Арарат“. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана, и голубицу излетающих, символы казни и примирения…»
По дороге к Карсу, недалеко от крепости Гергеры Пушкин увидел, как два вола тащат в гору арбу. Повозку сопровождали несколько военных. «Откуда вы?» — «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, — пишет Пушкин, — которое препровождали в Тифлис.
Весь этот возвышенный эпизод, от начала до конца, Александр Сергеевич выдумал. На самом деле тело Грибоедова сопровождал почетный кортеж, целая траурная процессия, и было это за месяц до того, как путешественник Пушкин покинул Тифлис. Но поэт Пушкин, жаждавший очищения, конечно, встретился с покойным Александром Сергеевичем, потому что его путь он мечтал пройти сам.
«Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию; уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях… Женился он на той, которую любил… Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, не ровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».
Перед путешествием на войну Пушкин пишет свое знаменитое «Поэт и толпа». Встреча с Грибоедовым, красной нитью проходящая сквозь «Арзрум» – продолжение темы гонимого пророка; «ума, отверженного Россией». «Замечательные люди, — заключает Александр Сергеевич, — исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны».
Они подали заявление о приеме на службу в Иностранной Коллегии в один день. Тогда и познакомились, но коротко сошлись лишь десять лет спустя, в Петербурге, где они жили в одной гостинице и всюду ходили вместе. Они оба любили Кюхельбекера, сидевшего теперь в одиночке, и царя Давида, с которого оба во всем желали брать пример.
«Казаки разбудили меня на заре. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. „Что за гора?“ — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: „это Арарат“. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана, и голубицу излетающих, символы казни и примирения…»
По дороге к Карсу, недалеко от крепости Гергеры Пушкин увидел, как два вола тащат в гору арбу. Повозку сопровождали несколько военных. «Откуда вы?» — «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, — пишет Пушкин, — которое препровождали в Тифлис.
Весь этот возвышенный эпизод, от начала до конца, Александр Сергеевич выдумал. На самом деле тело Грибоедова сопровождал почетный кортеж, целая траурная процессия, и было это за месяц до того, как путешественник Пушкин покинул Тифлис. Но поэт Пушкин, жаждавший очищения, конечно, встретился с покойным Александром Сергеевичем, потому что его путь он мечтал пройти сам.
«Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию; уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях… Женился он на той, которую любил… Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, не ровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».
Перед путешествием на войну Пушкин пишет свое знаменитое «Поэт и толпа». Встреча с Грибоедовым, красной нитью проходящая сквозь «Арзрум» – продолжение темы гонимого пророка; «ума, отверженного Россией». «Замечательные люди, — заключает Александр Сергеевич, — исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны».
Они подали заявление о приеме на службу в Иностранной Коллегии в один день. Тогда и познакомились, но коротко сошлись лишь десять лет спустя, в Петербурге, где они жили в одной гостинице и всюду ходили вместе. Они оба любили Кюхельбекера, сидевшего теперь в одиночке, и царя Давида, с которого оба во всем желали брать пример.
Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Это стихотворение Пушкин посвятил Денису Давыдову, в самом имени которого он тоже видел покров святого псалмопевца. Он мог надписать его и Грибоедову, а мог бы — и самому Давиду.
«Не могу описать моего удивления и радости, — пишет Михаил Пущин, — когда Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был: «Ну, скажи, Пущин, где турки? Увижу ли я их? Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и с оружием в руках. Пушкин радовался тому ощущению, которое его ожидает». Но воевать Александру Сергеевичу пришлось недолго. Турки отступали без сражений. Был только один бой, в котором он участвовал.
Он скакал по полю битвы в пиджачке и маленьком цилиндре на голове, устремляясь вперед передовых отрядов. Казаки с удивлением смотрели на этого безумного штатского и прозвали его драгунским батюшкой. Он вовсе не был похож на капеллана, он рассуждал духовно.
«Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, незнающим грамоты. Кто из вас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии, Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи – но оживленным теплым усердием и смиренномудрием?»
Солдаты хорошо его понимали, офицеры, за внешним ребячеством, – похуже. Так что, проповедуя Евангелие, в путевых своих записках, он будет немного оправдываться перед ними:
«Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякий имеет право говорить языком высшей Истины. Я не такого мнения. Истина, как добро Мольера, там и берется, где попадается».
Не обошлось без недоразумений. Один молодой поклонник, искренне желая сделать поэту приятное, начал читать отрывок из его юношеской поэмы «Гавриилиада». Как рассказывал очевидец, «Пушкин вспыхнул, в лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин говорил, что дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в молодости».
«Не могу описать моего удивления и радости, — пишет Михаил Пущин, — когда Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был: «Ну, скажи, Пущин, где турки? Увижу ли я их? Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и с оружием в руках. Пушкин радовался тому ощущению, которое его ожидает». Но воевать Александру Сергеевичу пришлось недолго. Турки отступали без сражений. Был только один бой, в котором он участвовал.
Он скакал по полю битвы в пиджачке и маленьком цилиндре на голове, устремляясь вперед передовых отрядов. Казаки с удивлением смотрели на этого безумного штатского и прозвали его драгунским батюшкой. Он вовсе не был похож на капеллана, он рассуждал духовно.
«Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, незнающим грамоты. Кто из вас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии, Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи – но оживленным теплым усердием и смиренномудрием?»
Солдаты хорошо его понимали, офицеры, за внешним ребячеством, – похуже. Так что, проповедуя Евангелие, в путевых своих записках, он будет немного оправдываться перед ними:
«Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякий имеет право говорить языком высшей Истины. Я не такого мнения. Истина, как добро Мольера, там и берется, где попадается».
Не обошлось без недоразумений. Один молодой поклонник, искренне желая сделать поэту приятное, начал читать отрывок из его юношеской поэмы «Гавриилиада». Как рассказывал очевидец, «Пушкин вспыхнул, в лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин говорил, что дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в молодости».
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
27 июня 1829 года русские войска вошли в Арзрум. Среди пленных был старик паша. Увидев штатского среди военных, он спросил, кто это такой.
«Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и все ему поклоняются». Выходя из палатки, я увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и мехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший поприветствовать победителя. Его насилу отогнали».
«Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и все ему поклоняются». Выходя из палатки, я увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и мехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший поприветствовать победителя. Его насилу отогнали».
Взятие Арзрума
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.
Это стихотворение да еще «Опять увенчаны мы славой» — написал Александр Сергеевич про конечный пункт своего похода. Сам город никакого впечатления на него не произвел:
«В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии… Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, и я готов был отвечать им тем же». Еще он посетил «харем» и грязную народную баню, и, решив, что война окончена, 1 августа вернулся в Тифлис, где при «звуке музыки и песен грузинских провел он несколько вечеров в садах, в веселом и любезном обществе».
Накануне Грузия торжественно простилась с Грибоедовым. Он видел Нину, видел ее отца Александра Чавчавадзе — людей, в чьей любви окрепла вера его ушедшего друга. Он не пишет об этом, но нет сомнения, что дорогого гостя возили по святым местам, говорили с ним о Церкви и обсуждали его Призвание и помолвку с Наташей.
«В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии… Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, и я готов был отвечать им тем же». Еще он посетил «харем» и грязную народную баню, и, решив, что война окончена, 1 августа вернулся в Тифлис, где при «звуке музыки и песен грузинских провел он несколько вечеров в садах, в веселом и любезном обществе».
Накануне Грузия торжественно простилась с Грибоедовым. Он видел Нину, видел ее отца Александра Чавчавадзе — людей, в чьей любви окрепла вера его ушедшего друга. Он не пишет об этом, но нет сомнения, что дорогого гостя возили по святым местам, говорили с ним о Церкви и обсуждали его Призвание и помолвку с Наташей.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
В стихах, родившихся здесь, следы долгих бесед о Горнем мире. О свете Преображения, «сияющем вечными лучами», о том благодатном Облаке, всегда покрывающем церковный шатёр, которым Господь давал Израилю ощутить Свое присутствие во время Исхода, и во время освящения Храма, и на горе Фавор. И о служении пророка, от которого, как говорит мудрейший царь Соломон, Бог просит только одного: «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои».
Прощаясь с Кавказом, как оказалось навсегда, Пушкин записал в свой дневник:
«Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками...»
Что именно произошло с ним в Грузии, Александр Сергеевич сохранит в тайне. Но ровно через год он закажет для себя акварель с видом Дарьяльского ущелья. А еще через два — Никанор Чернецов подарит Пушкину масляную картину Дарьяла, которая будет висеть в его кабинете всегда. Рассказ о своем «Путешествии в Арзрум» он опубликовал только 36-м, в журнале «Современник» под номером 1, но первый отчет об итоге этого паломничества дал свету сразу по возвращении, написав в духе Рембрандта «Воспоминания в Царском Селе»…
Прощаясь с Кавказом, как оказалось навсегда, Пушкин записал в свой дневник:
«Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками...»
Что именно произошло с ним в Грузии, Александр Сергеевич сохранит в тайне. Но ровно через год он закажет для себя акварель с видом Дарьяльского ущелья. А еще через два — Никанор Чернецов подарит Пушкину масляную картину Дарьяла, которая будет висеть в его кабинете всегда. Рассказ о своем «Путешествии в Арзрум» он опубликовал только 36-м, в журнале «Современник» под номером 1, но первый отчет об итоге этого паломничества дал свету сразу по возвращении, написав в духе Рембрандта «Воспоминания в Царском Селе»…
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.
Елена Байер,
08-08-2010 01:46
(ссылка)
Вышла книга Захара Прилепина о Леониде Леонове
НЕ БОЙТЕСЬ СООБРАЖАТЬ
Павел Басинский
апрель 2010 г.
апрель 2010 г.
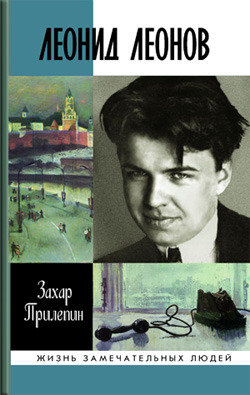
В конце 80-х гулял в литсреде анекдот. Режиссер Никита Михалков спрашивает своего отца, Сергея Михалкова: " - Папа, а Леонид Леонов еще жив?" - "Жив". - "И всё еще соображает?" - "Соображает, но боится". - "Чего боится?" - "Соображать".
Надо воздать должное бесстрашию Захара Прилепина, поместившего этот анекдот в самом начале своей книги. Книги, которая вышла в серии "Жизнь замечательных людей" и которая является очевидной данью любви молодого, модного и очень востребованного писателя к патриарху советской литературы, которого прочно забыли и как бы сдали в архив.
Сразу признаюсь: я никогда не любил Леонова и не стал любить его больше после прочтения книги Прилепина. Но я не помню, какую книгу за последнее время я читал с таким вниманием и внутренним напряжением.
Вдруг понимаешь, что именно по судьбе Леонова надо бы изучать историю советской литературы, а, быть может, и шире - русской литературы ХХ века. Он родился в 1899 году (как Платонов и Набоков) и прожил 95 лет. Любимый ученик Горького и любимец Сталина (и первый, и второй в нем в конечном итоге разочаровались), он дожил до торжества "перестройки" и даже до ее затухания. С ним встречался Горбачев и его хотел посетить в больнице Ельцин. Он работал во всех жанрах - от стихов до романов, от пьес до эпопей, от статей до сценариев. О нем отзывались все заметные критики ХХ века, включая эмигрантских. Не писатель, а какая-то история литературы. Даже просто История.
Книга Прилепина тоже сочетает в себе несколько жанров. Это и биография (добротная, детальная), и журналистское расследование, и апология довольно-таки спорной литературной фигуры, и острый публицистический анализ, как минимум, шести исторических эпох: 20-е, 30-е, 40-е, 50-60-е, 70-80-е и 90-е. Там, где автор не справляется с этим осмыслением (а кто с этим в одиночку справится?), он мудро дает возможность просто высказываться разным "голосам", в том числе и тем, которые ему лично неприятны.
Даже удивительно, до какой степени Прилепин, от которого меньше всего ждут лояльности и политкорректности, в этой книге выступает как опытный сапер: те мины, которые он не может разминировать, он мудро обходит, но... обозначает флажками.
Две ключевые главы в его книге: "Леонов и Горький" и "Леонов и Сталин". Из первой внимательный читатель поймет всю сложность отношений "основоположника" не только с Леоновым, но и со всеми, кого он будто бы "основоположил", со всем этим спектром молодых советских писателей, гнездившихся то в Сорренто, то в особняке Рябушинского, то в Горках, то в кулуарах Первого съезда Союза писателей СССР. В этих "гнездовищах" Леонов играл особую и безусловно элитную роль. Роль, которая была ему глубоко неприятна, как человеку умному, талантливому и даже заряженному на своего рода "гениальность", но которую он исполнял до конца, лишь в глубокой старости позволяя себе немного капризничать и пошугивать литчиновников разного калибра.
Вторая глава оставляет ощущение какой-то непреходящей ж у т и, страшной нравственной скверны, в которую вляпались писатели 30-х годов. Для одних это закончилось полной деградацией, для других - самоубийством (Фадеев), для третьих - той или иной попыткой выправления собственной судьбы. Леонов принадлежал к третьим, но и здесь его путь был весьма загадочным, витиеватым, в отличие от более понятных путей, например, Симонова и Твардовского. Если с кем и сравнивать его в это время, то с Валентином Катаевым, с той только разницей, что Катаева прибило к "левому", а Леонова к "правому" литературно-общественному крылу.
В качестве "ключа" к судьбе Леонова Прилепин предлагает историю его белогвардейского прошлого (даже хлеще - служил интервентам-англичанам в Архангельске). Эту историю Леонов, с одной стороны, тщательно скрывал (некто неизвестный даже уничтожил леоновскую часть секретного архангельского архива), а с другой - с упорством, граничащим с каким-то мазохизмом, бесконечно "высвечивал" в своем творчестве, вкладывая в уста своих отрицательных героев - шпионов, вредителей, недобитых белогвардейцев и т. п. - свои же сокровенные мысли о Боге, о людях, о России. Если Прилепин прав, а он, надо признать, весьма убедителен, то судьба Леонова - это путь непрерывного самоистязания при внешнем благополучии. Но тогда не совсем понятно: чему же он научил своих собственных учеников - от Астафьева до Распутина и... Прилепина? На мой взгляд, это главная "черная дыра" в этой книге, во всех других отношениях внятной и полезной.
Прилепин сделал огромное дело. Он "распечатал" Леонова. Но теперь не понятно, что нам делать с этим "мэссэджем" из чудовищного ХХ века? Из которого мы вышли, но который совсем не знаем. Впрочем, любая книга тем хороша, что ее можно просто прочитать и поставить на полку.
Надо воздать должное бесстрашию Захара Прилепина, поместившего этот анекдот в самом начале своей книги. Книги, которая вышла в серии "Жизнь замечательных людей" и которая является очевидной данью любви молодого, модного и очень востребованного писателя к патриарху советской литературы, которого прочно забыли и как бы сдали в архив.
Сразу признаюсь: я никогда не любил Леонова и не стал любить его больше после прочтения книги Прилепина. Но я не помню, какую книгу за последнее время я читал с таким вниманием и внутренним напряжением.
Вдруг понимаешь, что именно по судьбе Леонова надо бы изучать историю советской литературы, а, быть может, и шире - русской литературы ХХ века. Он родился в 1899 году (как Платонов и Набоков) и прожил 95 лет. Любимый ученик Горького и любимец Сталина (и первый, и второй в нем в конечном итоге разочаровались), он дожил до торжества "перестройки" и даже до ее затухания. С ним встречался Горбачев и его хотел посетить в больнице Ельцин. Он работал во всех жанрах - от стихов до романов, от пьес до эпопей, от статей до сценариев. О нем отзывались все заметные критики ХХ века, включая эмигрантских. Не писатель, а какая-то история литературы. Даже просто История.
Книга Прилепина тоже сочетает в себе несколько жанров. Это и биография (добротная, детальная), и журналистское расследование, и апология довольно-таки спорной литературной фигуры, и острый публицистический анализ, как минимум, шести исторических эпох: 20-е, 30-е, 40-е, 50-60-е, 70-80-е и 90-е. Там, где автор не справляется с этим осмыслением (а кто с этим в одиночку справится?), он мудро дает возможность просто высказываться разным "голосам", в том числе и тем, которые ему лично неприятны.
Даже удивительно, до какой степени Прилепин, от которого меньше всего ждут лояльности и политкорректности, в этой книге выступает как опытный сапер: те мины, которые он не может разминировать, он мудро обходит, но... обозначает флажками.
Две ключевые главы в его книге: "Леонов и Горький" и "Леонов и Сталин". Из первой внимательный читатель поймет всю сложность отношений "основоположника" не только с Леоновым, но и со всеми, кого он будто бы "основоположил", со всем этим спектром молодых советских писателей, гнездившихся то в Сорренто, то в особняке Рябушинского, то в Горках, то в кулуарах Первого съезда Союза писателей СССР. В этих "гнездовищах" Леонов играл особую и безусловно элитную роль. Роль, которая была ему глубоко неприятна, как человеку умному, талантливому и даже заряженному на своего рода "гениальность", но которую он исполнял до конца, лишь в глубокой старости позволяя себе немного капризничать и пошугивать литчиновников разного калибра.
Вторая глава оставляет ощущение какой-то непреходящей ж у т и, страшной нравственной скверны, в которую вляпались писатели 30-х годов. Для одних это закончилось полной деградацией, для других - самоубийством (Фадеев), для третьих - той или иной попыткой выправления собственной судьбы. Леонов принадлежал к третьим, но и здесь его путь был весьма загадочным, витиеватым, в отличие от более понятных путей, например, Симонова и Твардовского. Если с кем и сравнивать его в это время, то с Валентином Катаевым, с той только разницей, что Катаева прибило к "левому", а Леонова к "правому" литературно-общественному крылу.
В качестве "ключа" к судьбе Леонова Прилепин предлагает историю его белогвардейского прошлого (даже хлеще - служил интервентам-англичанам в Архангельске). Эту историю Леонов, с одной стороны, тщательно скрывал (некто неизвестный даже уничтожил леоновскую часть секретного архангельского архива), а с другой - с упорством, граничащим с каким-то мазохизмом, бесконечно "высвечивал" в своем творчестве, вкладывая в уста своих отрицательных героев - шпионов, вредителей, недобитых белогвардейцев и т. п. - свои же сокровенные мысли о Боге, о людях, о России. Если Прилепин прав, а он, надо признать, весьма убедителен, то судьба Леонова - это путь непрерывного самоистязания при внешнем благополучии. Но тогда не совсем понятно: чему же он научил своих собственных учеников - от Астафьева до Распутина и... Прилепина? На мой взгляд, это главная "черная дыра" в этой книге, во всех других отношениях внятной и полезной.
Прилепин сделал огромное дело. Он "распечатал" Леонова. Но теперь не понятно, что нам делать с этим "мэссэджем" из чудовищного ХХ века? Из которого мы вышли, но который совсем не знаем. Впрочем, любая книга тем хороша, что ее можно просто прочитать и поставить на полку.
* * *

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Николаевич Прилепин; род. 7 июля 1975, д. Ильинка, Скопинский район, Рязанская область) — российский писатель, филолог, журналист.
Захар Прилепин родился в семье учителя и медсестры. Трудовую деятельность начал в 16 лет. Закончил филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.
Первые произведения были опубликованы в 2003 году в газете «День литературы».
Захар Прилепин родился в семье учителя и медсестры. Трудовую деятельность начал в 16 лет. Закончил филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.
Первые произведения были опубликованы в 2003 году в газете «День литературы».
НАГРАДЫ
• Лауреат премии Бориса Соколова (2004)
• Лауреат премии газеты «Литературная Россия» (2004)
• Лауреат премии «Роман-газеты» в номинации «Открытие» (2005)
• Диплом премии «Эврика» (2006)
• В 2005 и 2006 годах входил в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» (2005, 2006)
• В 2006 году стал финалистом премии «Русский Букер»
• Лауреат Всекитайской Международной Литературной премии «Лучшая иностранная книга 2006-го года» (2007)
• Лауреат ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого (номинация «XXI век») за роман «Санькя» (2007)
• Лауреат литературной премии «России верные сыны» имени Александра Невского за роман в рассказах «Грех» (2007)
• Лауреат всероссийской премии Института национальной стратегии «Солдат Империи» (2008)
• Лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман в рассказах «Грех» (2008)
• Серебряная медаль Бунинской премии за книгу «TerraTartarara: Это касается лично меня» (2009)
• Лауреат премии Бориса Соколова (2004)
• Лауреат премии газеты «Литературная Россия» (2004)
• Лауреат премии «Роман-газеты» в номинации «Открытие» (2005)
• Диплом премии «Эврика» (2006)
• В 2005 и 2006 годах входил в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» (2005, 2006)
• В 2006 году стал финалистом премии «Русский Букер»
• Лауреат Всекитайской Международной Литературной премии «Лучшая иностранная книга 2006-го года» (2007)
• Лауреат ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого (номинация «XXI век») за роман «Санькя» (2007)
• Лауреат литературной премии «России верные сыны» имени Александра Невского за роман в рассказах «Грех» (2007)
• Лауреат всероссийской премии Института национальной стратегии «Солдат Империи» (2008)
• Лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман в рассказах «Грех» (2008)
• Серебряная медаль Бунинской премии за книгу «TerraTartarara: Это касается лично меня» (2009)
Метки: Прилепин, леонов, Новая книга
Лилия Аторф,
26-05-2009 11:39
(ссылка)
Любопытные вопросы этимологии
Иногда очевидное начинает подвергаться сомнению...
Сегодня наткнулась на статью по поводу происхождения слова "хохма". Конечно, у нас оно ассоциируется в первую очередь со словом "хохот", но интересно ведь увидеть еще возможные связи. Так вот... Ивритское слово חכמה- (хохама) - переводится, как "мудрость". :-)
Сегодня наткнулась на статью по поводу происхождения слова "хохма". Конечно, у нас оно ассоциируется в первую очередь со словом "хохот", но интересно ведь увидеть еще возможные связи. Так вот... Ивритское слово חכמה- (хохама) - переводится, как "мудрость". :-)
Метки: этимология
Елена Байер,
31-01-2010 12:11
(ссылка)
МИНИАТЮРА ТРОПИНИНА

Прижизненный миниатюрный портрет Пушкина был впервые опубликован Сергеем Михайловичем (Сержем) Лифарем в изданном им в Париже на русском языке томике романа "Евгений Онегин". В книге "Моя зарубежная Пушкиниана" Лифарь так высказывается об истории появления в его собрании миниатюрного портрета Пушкина:
"Однажды какой-то русский беженец принес… и продал за малую цену маленький портрет Пушкина. Не зная, чьей он работы, я бросился к А.Н. Бенуа… Без колебания А.Н. определил, что это — миниатюра Тропинина. Кн. Аргутинский, И. Браз, Эрнст мне подтвердили слова А.Н. Бенуа".
В 1937 году пушкинские реликвии впервые были представлены на выставке "Пушкин и его эпоха", организованной Лифарем в большом фойе престижного парижского зала "Плейель".
Прекрасна тропининская миниатюра Пушкина в медальоне была подарена поэтом невесте Н.Н. Гончаровой. На обороте миниатюры в кольце-змейке написано золотом: Amour.
Прекрасна тропининская миниатюра Пушкина в медальоне была подарена поэтом невесте Н.Н. Гончаровой. На обороте миниатюры в кольце-змейке написано золотом: Amour.
Елена Байер,
16-05-2010 13:29
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ II
Удивительно то, что происходит в России и с Россией сейчас. Весь мир признал российско-советскую систему образования как самую эффективную, а мы отказались от нее и... по дурному примеру Запада ввели ЕГЭ. Испокон Русь семьей крепла, а мы ратуем за введение ювенальной юстиции, разрушающей семью. Веками о героях слагали песни, а мы почти готовы признать под давлением "просвещенного" Запада, что наши герои были... оккупантами... Всё опрокинулось... Вразуми нас, Господи!..
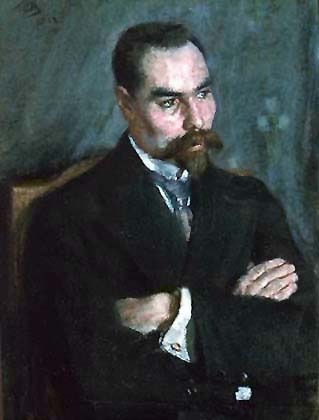
Валерий Брюсов
СТАРЫЙ ВОПРОС
СТАРЫЙ ВОПРОС
Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнёмся спокойно и тесно.
Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий;
Но Рок подымает вопрос:
Мы кто в этой старой Европе?
Случайные гости? орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Все губит в бессмысленной злобе?
Иль мы - тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита?
Иль мы - тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжелых?
Иль мы - тот народ, кто обрел
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?
Да, так, мы - славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?
И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?
Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы величавой,
Мы явим пред ликом веков,
В чем наше народное право.
Не надо несбыточных грез,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?
30 июля 1914
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнёмся спокойно и тесно.
Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий;
Но Рок подымает вопрос:
Мы кто в этой старой Европе?
Случайные гости? орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Все губит в бессмысленной злобе?
Иль мы - тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита?
Иль мы - тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжелых?
Иль мы - тот народ, кто обрел
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?
Да, так, мы - славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?
И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?
Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы величавой,
Мы явим пред ликом веков,
В чем наше народное право.
Не надо несбыточных грез,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?
30 июля 1914
Метки: стихи, писатели, Русь, самобытность, поэты, Россия, брюсов
Елена Байер,
10-03-2012 16:48
(ссылка)
КАТАЛОГ НОВЫХ ПОЭЗИЙ
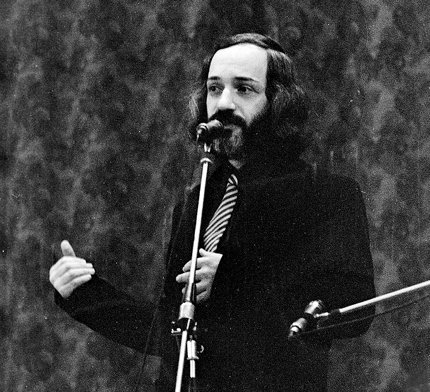
Михаил Эпштейн
Опубликовано по-русски и по-немецки в сборнике «Современная русская поэзия после 1966. Двуязычная Антология».
Берлин.
Обербаум верлаг. 1990, с. 359–367.
Опубликовано по-русски и по-немецки в сборнике «Современная русская поэзия после 1966. Двуязычная Антология».
Берлин.
Обербаум верлаг. 1990, с. 359–367.
________________________________________
Если современная русская проза (Солженицын, Рыбаков, Дудинцев, Приставкин) в основном сводит счеты с историческим прошлым, то поэзия прокладывает пути новому художественному мышлению. Поэзия - экспериментальная площадка будущей демократии, если таковая у нас возникнет, - возможность переходить с языка на язык, пусть не понимая, но и не перебивая друг друга. На развалинах социальной утопии теперь строится утопия языка - вавилонская башня слова, где перемешиваются множество культурных кодов и профессиональных жаргонов, включая язык советской идеологии. Идеал мистического коммунизма осуществляется в сфере языковых практик, как экспроприация знаковых систем всех эпох и стилей, уничтожение их ценностной иерархии, приоритет надличных уровней создания, отмена лиричности как пережитка эго- и антропоцентризма.
Никогда еще в России не было такого количества похожих поэтов и разных поэзий - это понятие, некогда нормативное, как и слово "культура", теперь вполне может употребляться во множественном числе, обозначая разноукладность современного поэтического хозайства, где патриархально-народнический тип частушечного распева соседствует с деконструктивной процедурой сознательной десемантизации текста. Позволю себе составить список этих новых поэзий - тех, которые определяют ситуацию 80-х годов в ее отличии от предыдущих:
1. Концептуализм - система языковых жестов, относящихся к материалу советской идеологии, массового сознания социалистического общества. Официальные лозунги и клише доводятся до абсурда, обнажая разрыв между знаком, от которого остается голый концепт, понятийное ядро, и его бытийным наполнителем - означаемым. Поэзия опустошенных идеологем, близкая тому, что в живописи именуется "соц-артом". Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Вилен Барский.
2. Постконцептуализм, или "новая искренность" - опыт использования "падших", омертвелых языков с любовью к ним, с чистым воодушевлением, как бы преодолевающим полосу отчуждения. Если в концептуализме господствует абсурдистская, то в постконцептуализме - ностальгическая установка: лирическое задание восстанавливается на антилирическом материале - отбросах идеологической кухни, блуждающих разговорных клише, элементах иностранной лексики. Тимур Кибиров, Михаил Сухотин.
3. Нулевой стиль, или "великое поражение" - воспроизведение готовых языковых моделей, например, русской классики 19 века, в предельно опрозраченном контексте, как бы лишенном признаков авторской индивидуальности - в модусе раскавыченных текстов чужих произведений. Андрей Монастырский, Павел Пепперштейн.
4. Неопримитив, использующий детский и обывательский тип сознания для игры с самыми устойчивыми, близкими, поверхностными слоями реальности, поскольку все остальные метафизически неизвестны и поддаются идеологической подмене. "Ножик", "стол", "конфета" - самые неподменные слова, неизолгавшиеся знаки. Ирина Пивоварова, Андрей Туркин.
5. Ироническая, шаржированно-гротесковая поэзия, обыгрывающая трафареты повседневного образа жизни, абсурдизм существования "типичного" человека в "образцовом" обществе. В отличие от концептуализма, работающего с языковыми моделями, ироническая поэзия работает с самой реальностью - на уровне не грамматического описания идеоязыка, а производимых на нем конкретных сообщений. Поэтому здесь сохраняется явная авторская поэзия, отсутствующая в концептуализме: смех, ирония, сарказм, юмор. Виктор Коркия, Игорь Иртеньев, Владимир Салимон.
Таковая левая часть спектра современных поэзий, тяготеющая, условно говоря, к антиискусству, к языковой диверсии. Перейдем к правой части, тяготеющей к сверхискусству, к языковой утопии.
6. Метареализм - поэзия высших слоев реальности, образных универсалий, пронизывающих всю европейскую классику. Система приемлющих и освящающих жестов, обращенная от современности к высокой культуре и культовой поэзии минувших эпох - от античности до барокко, от Библии до символистов. Архетипы "ветра", "воды", зеркала", "книги" - образы, тяготеющие к безусловности и сверхвременности мифологем. Обилие вариаций на вечные темы, перекличек с классиками всех эпох и народов. Ольга Седакова, Виктор Кривулин, Иван Жданов, Елена Шварц, Ольга Денисова.
7. Континуализм. Поэзия размытых семантических полей, упраздняющих значение каждого определенного слова, рассчитанная на тающее, исчезающее понимание. Техника деконструкции, десемантизации текста, используемая в современных литературоведческих исследованиях /постструктурализм/, здесь становится методом творчества. Слово ставится в такой контекст, чтобы его значение стало максимально неопределенным, "волнообразным", лишилось дискретности, вытянулось в непрерывный, континуальный ряд со значениями всех других слов. Снимается бремя значения и наступает праздник сплошной, нерасчлененной значимости. Аркадий Драгомощенко, Владимир Аристов.
8. Презентализм - соотносимая с футуризмом, но обращенная не к будущему, а к настоящему техническая эстетика вещей, магия их весомого, зримого присутствия в человеческой жизни. Феноменологический подход: мир явлений фиксируется как таковой, в его данности, вне отсылки к "иной" сущности. Подчеркнуто дегуманизированный взгляд, снятый непосредственно с сетчатки глаза, до всяких психологических преломлений. Ориентация на системы знаков, принятые в современной науке и технологических производствах, - метафорическое употребление специальных слов. Природа переосмысляется в терминах современной цивилизации. Алексей Парщиков, Илья Кутик.
9. Полистилистика. Мультикодовая поэзия, соединяющая разные языки по принципу коллажа. Обывательски-низовый и героико-официозный язык, лексика традиционного пейзажа и технической инструкции, "металлургические леса", в которых созревает настоящий "хлорофилл". В отличие от презентализма, который добивается органического сращения разных кодов в целостном, "энциклопедическом" описании вещей, коллажирующая поэзия играет на их несовместимости, катастрофическом распаде реальности. Александр Еременко, Нина Искренко.
10. Лирический архив, или поэзия исчезающего "я". Наиболее традиционная из всех новых поэзий, сохраняющая в качестве центра некое лирическое "я", но уже данное в модусе ускользающей предметности, невозможности, элегической тоски по личности в мире твердеющих и ожесточающихся структур. Реализм в описании современного быта, но не вполне живого, раскрытого как слой в зоне будущих археологических раскопок /"московская культура 80-х гг. ХХ века" /. Ностальгический /по чувству/ и археологический/ по предметности/ реализм. Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Александр Сопровский.
Данный список можно было бы продолжить еще десятком или даже сотней поэзий. Многие из них прекрасно уживаются в творчестве одного поэта. Например, Всеволода Некрасова можно поместить в №1 и №4, а еще лучше - создать для него свой особый №. Другой пример - Вилен Барский, который наряду с № 1, куда он помещен, параллельно работает в поэзии, соотносимой с №6, а также и в визуальной поэзии на стыке семантики слова и его изображения. В конечном счете, каждый автор и даже каждое стихотворение или цикл - это еще одна поэзия. Кроме того, предложенный список можно рассматривать как образчик продуктивного ныне жанра каталога, как пример поэзии № 11, перечисляющей и систематизирующей все остальные /"парадигмальная поэзия"/.
Дело в том, что современная теория сближается с поэзией в той же мере, в какой поэзия сближается с теорией. Их общий признак - парадигматическое устройство текста, который не столько производит сообщение на некоем уже известном аудитории языке, сколько формулирует правила еще незнакомого языка, приводит таблицы склонений и спряжений новых поэтических форм. Старомодный читатель начинает скучать, потому что его засаживают за учебник иностранного языка, вместо того, чтобы делиться переживаниями на родном языке.
Итак, перефразируя нашего революционного классика Чернышевского, назвавшего литературу "учебником жизни", современную поэзию можно определить как "учебник языка", порождающую модель возможных синтаксических и семантических миров. Наша литература так долго учила читателей жить и занималась всесторонним переустройством жизни, что теперешнее ограничение ее роли областью языка позволяет не только вдохнуть новую жизнь в поэзию, но и самой жизни вздохнуть свободнее.
Никогда еще в России не было такого количества похожих поэтов и разных поэзий - это понятие, некогда нормативное, как и слово "культура", теперь вполне может употребляться во множественном числе, обозначая разноукладность современного поэтического хозайства, где патриархально-народнический тип частушечного распева соседствует с деконструктивной процедурой сознательной десемантизации текста. Позволю себе составить список этих новых поэзий - тех, которые определяют ситуацию 80-х годов в ее отличии от предыдущих:
1. Концептуализм - система языковых жестов, относящихся к материалу советской идеологии, массового сознания социалистического общества. Официальные лозунги и клише доводятся до абсурда, обнажая разрыв между знаком, от которого остается голый концепт, понятийное ядро, и его бытийным наполнителем - означаемым. Поэзия опустошенных идеологем, близкая тому, что в живописи именуется "соц-артом". Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Вилен Барский.
2. Постконцептуализм, или "новая искренность" - опыт использования "падших", омертвелых языков с любовью к ним, с чистым воодушевлением, как бы преодолевающим полосу отчуждения. Если в концептуализме господствует абсурдистская, то в постконцептуализме - ностальгическая установка: лирическое задание восстанавливается на антилирическом материале - отбросах идеологической кухни, блуждающих разговорных клише, элементах иностранной лексики. Тимур Кибиров, Михаил Сухотин.
3. Нулевой стиль, или "великое поражение" - воспроизведение готовых языковых моделей, например, русской классики 19 века, в предельно опрозраченном контексте, как бы лишенном признаков авторской индивидуальности - в модусе раскавыченных текстов чужих произведений. Андрей Монастырский, Павел Пепперштейн.
4. Неопримитив, использующий детский и обывательский тип сознания для игры с самыми устойчивыми, близкими, поверхностными слоями реальности, поскольку все остальные метафизически неизвестны и поддаются идеологической подмене. "Ножик", "стол", "конфета" - самые неподменные слова, неизолгавшиеся знаки. Ирина Пивоварова, Андрей Туркин.
5. Ироническая, шаржированно-гротесковая поэзия, обыгрывающая трафареты повседневного образа жизни, абсурдизм существования "типичного" человека в "образцовом" обществе. В отличие от концептуализма, работающего с языковыми моделями, ироническая поэзия работает с самой реальностью - на уровне не грамматического описания идеоязыка, а производимых на нем конкретных сообщений. Поэтому здесь сохраняется явная авторская поэзия, отсутствующая в концептуализме: смех, ирония, сарказм, юмор. Виктор Коркия, Игорь Иртеньев, Владимир Салимон.
Таковая левая часть спектра современных поэзий, тяготеющая, условно говоря, к антиискусству, к языковой диверсии. Перейдем к правой части, тяготеющей к сверхискусству, к языковой утопии.
6. Метареализм - поэзия высших слоев реальности, образных универсалий, пронизывающих всю европейскую классику. Система приемлющих и освящающих жестов, обращенная от современности к высокой культуре и культовой поэзии минувших эпох - от античности до барокко, от Библии до символистов. Архетипы "ветра", "воды", зеркала", "книги" - образы, тяготеющие к безусловности и сверхвременности мифологем. Обилие вариаций на вечные темы, перекличек с классиками всех эпох и народов. Ольга Седакова, Виктор Кривулин, Иван Жданов, Елена Шварц, Ольга Денисова.
7. Континуализм. Поэзия размытых семантических полей, упраздняющих значение каждого определенного слова, рассчитанная на тающее, исчезающее понимание. Техника деконструкции, десемантизации текста, используемая в современных литературоведческих исследованиях /постструктурализм/, здесь становится методом творчества. Слово ставится в такой контекст, чтобы его значение стало максимально неопределенным, "волнообразным", лишилось дискретности, вытянулось в непрерывный, континуальный ряд со значениями всех других слов. Снимается бремя значения и наступает праздник сплошной, нерасчлененной значимости. Аркадий Драгомощенко, Владимир Аристов.
8. Презентализм - соотносимая с футуризмом, но обращенная не к будущему, а к настоящему техническая эстетика вещей, магия их весомого, зримого присутствия в человеческой жизни. Феноменологический подход: мир явлений фиксируется как таковой, в его данности, вне отсылки к "иной" сущности. Подчеркнуто дегуманизированный взгляд, снятый непосредственно с сетчатки глаза, до всяких психологических преломлений. Ориентация на системы знаков, принятые в современной науке и технологических производствах, - метафорическое употребление специальных слов. Природа переосмысляется в терминах современной цивилизации. Алексей Парщиков, Илья Кутик.
9. Полистилистика. Мультикодовая поэзия, соединяющая разные языки по принципу коллажа. Обывательски-низовый и героико-официозный язык, лексика традиционного пейзажа и технической инструкции, "металлургические леса", в которых созревает настоящий "хлорофилл". В отличие от презентализма, который добивается органического сращения разных кодов в целостном, "энциклопедическом" описании вещей, коллажирующая поэзия играет на их несовместимости, катастрофическом распаде реальности. Александр Еременко, Нина Искренко.
10. Лирический архив, или поэзия исчезающего "я". Наиболее традиционная из всех новых поэзий, сохраняющая в качестве центра некое лирическое "я", но уже данное в модусе ускользающей предметности, невозможности, элегической тоски по личности в мире твердеющих и ожесточающихся структур. Реализм в описании современного быта, но не вполне живого, раскрытого как слой в зоне будущих археологических раскопок /"московская культура 80-х гг. ХХ века" /. Ностальгический /по чувству/ и археологический/ по предметности/ реализм. Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Александр Сопровский.
Данный список можно было бы продолжить еще десятком или даже сотней поэзий. Многие из них прекрасно уживаются в творчестве одного поэта. Например, Всеволода Некрасова можно поместить в №1 и №4, а еще лучше - создать для него свой особый №. Другой пример - Вилен Барский, который наряду с № 1, куда он помещен, параллельно работает в поэзии, соотносимой с №6, а также и в визуальной поэзии на стыке семантики слова и его изображения. В конечном счете, каждый автор и даже каждое стихотворение или цикл - это еще одна поэзия. Кроме того, предложенный список можно рассматривать как образчик продуктивного ныне жанра каталога, как пример поэзии № 11, перечисляющей и систематизирующей все остальные /"парадигмальная поэзия"/.
Дело в том, что современная теория сближается с поэзией в той же мере, в какой поэзия сближается с теорией. Их общий признак - парадигматическое устройство текста, который не столько производит сообщение на некоем уже известном аудитории языке, сколько формулирует правила еще незнакомого языка, приводит таблицы склонений и спряжений новых поэтических форм. Старомодный читатель начинает скучать, потому что его засаживают за учебник иностранного языка, вместо того, чтобы делиться переживаниями на родном языке.
Итак, перефразируя нашего революционного классика Чернышевского, назвавшего литературу "учебником жизни", современную поэзию можно определить как "учебник языка", порождающую модель возможных синтаксических и семантических миров. Наша литература так долго учила читателей жить и занималась всесторонним переустройством жизни, что теперешнее ограничение ее роли областью языка позволяет не только вдохнуть новую жизнь в поэзию, но и самой жизни вздохнуть свободнее.
1987
Copyright © Mikhail Epshtein 1997
При цитировании обязательны ссылки на источник и указание электронной страницы.
http://modernpoetry.ru/main...
Людмила Шевелёва,
14-03-2010 13:19
(ссылка)
Что скажут филологи?
"Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках,
то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье..."
(И.Бунин "Жизнь Арсеньева")
Как можно охарктеризовать данное предложение, вернее, вид связи, представленный союзом что...?
А может, здесь запятая перед ЧТО не нужна...и ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ ЧТО ЛЕЖАЛ - сказуемое?
то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье..."
(И.Бунин "Жизнь Арсеньева")
Как можно охарктеризовать данное предложение, вернее, вид связи, представленный союзом что...?
А может, здесь запятая перед ЧТО не нужна...и ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ ЧТО ЛЕЖАЛ - сказуемое?
Метки: синтаксис
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу