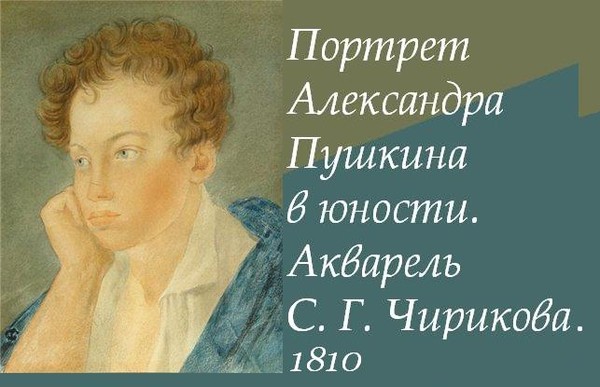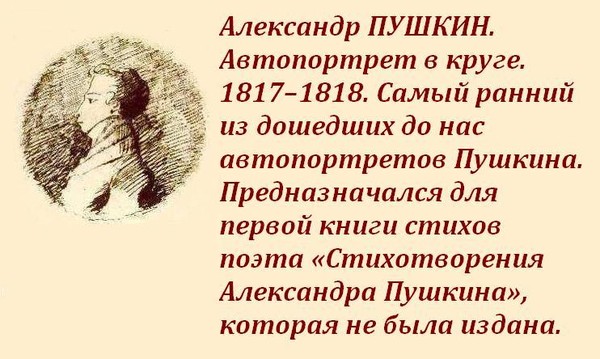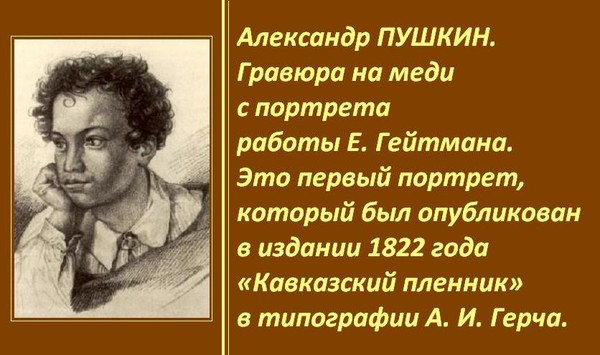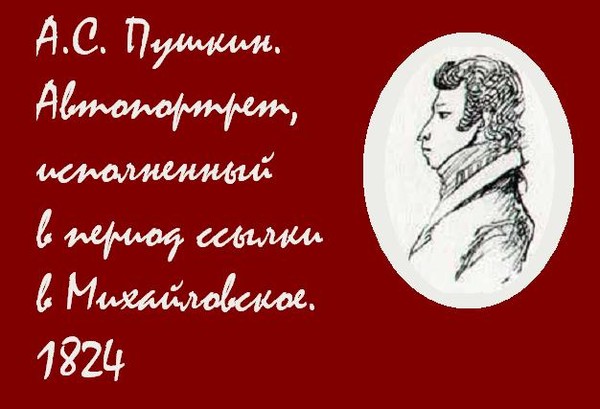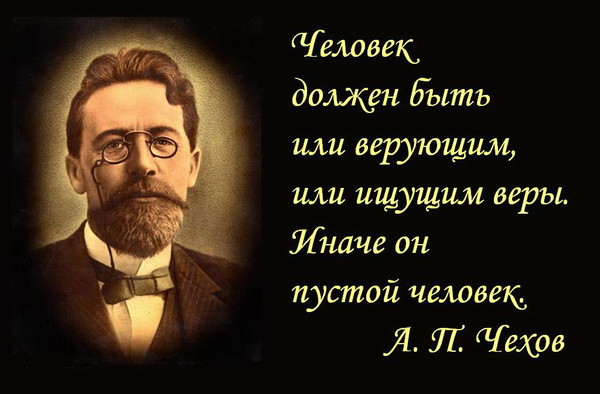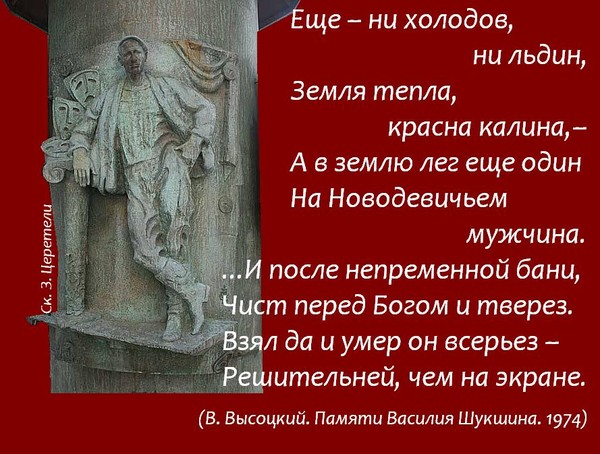Елена Байер,
13-07-2010 13:27
(ссылка)
ДОСТОЕВСКИЙ: ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

В 1871 году, 1 июля (14 июля ст. ст.) в Петербургской судебной палате начинается суд, первый в России гласный политический «процесс нечаевцев».
«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».
Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)
http://my.mail.ru/community...
О Нечаеве
http://www.kommersant.ru/do...
«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».
Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)
http://my.mail.ru/community...
О Нечаеве
http://www.kommersant.ru/do...
Метки: писатели, Россия, Достоевский, бесы, Нечаев
Елена Байер,
16-04-2010 23:11
(ссылка)
ПАМЯТИ ЛОМОНОСОВА
17 (4) апреля 1765 года умер Михаил Васильевич Ломоносов.

Могила М. В. Ломоносова в Александро-Невской лавре, в Некрополе XVIII века.
На монументе высечены слова:
В память
славному мужу
Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах
в 1711 году.
Бывшему статскому советнику,
С.-Петербургской Академии наук
профессору,
Стокголмской и Болоннской
члену.
Разумом и науками превосходному,
знатным украшением Отечеству
послужившему.
Красноречия стихотворства
и гистории российской
учителю.
Мусии первому в России без руководства изобретателю
преждевременною смертию
от муз и Отечества
на днях святыя Пасхи в 1765 году
похищенному.
Воздвиг сию гробницу
граф М. Воронцов
славя Отечество с таковым
гражданином и горестно соболезнуя
о его кончине.

Дом М. В. Ломоносова на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. XIX в. Литография Виктора по рисунку Л. О. Примацци
В дни памяти принято говорить о человеке только хорошее или ничего. Поэтому я не цитирую здесь недружелюбных слов А. Н. Радищева. Я обращаюсь за добрыми словами к гению Пушкина.

Могила М. В. Ломоносова в Александро-Невской лавре, в Некрополе XVIII века.
На монументе высечены слова:
В память
славному мужу
Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах
в 1711 году.
Бывшему статскому советнику,
С.-Петербургской Академии наук
профессору,
Стокголмской и Болоннской
члену.
Разумом и науками превосходному,
знатным украшением Отечеству
послужившему.
Красноречия стихотворства
и гистории российской
учителю.
Мусии первому в России без руководства изобретателю
преждевременною смертию
от муз и Отечества
на днях святыя Пасхи в 1765 году
похищенному.
Воздвиг сию гробницу
граф М. Воронцов
славя Отечество с таковым
гражданином и горестно соболезнуя
о его кончине.

Дом М. В. Ломоносова на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. XIX в. Литография Виктора по рисунку Л. О. Примацци
В дни памяти принято говорить о человеке только хорошее или ничего. Поэтому я не цитирую здесь недружелюбных слов А. Н. Радищева. Я обращаюсь за добрыми словами к гению Пушкина.

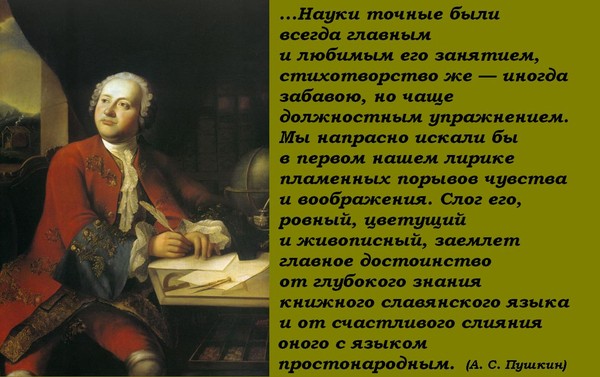
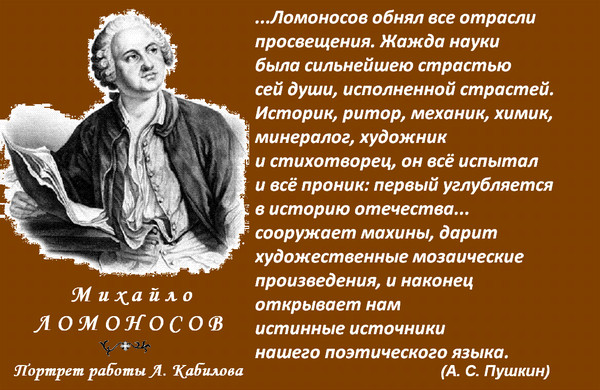
Елена Байер,
12-02-2010 16:37
(ссылка)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА ПУШКИНА
В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»
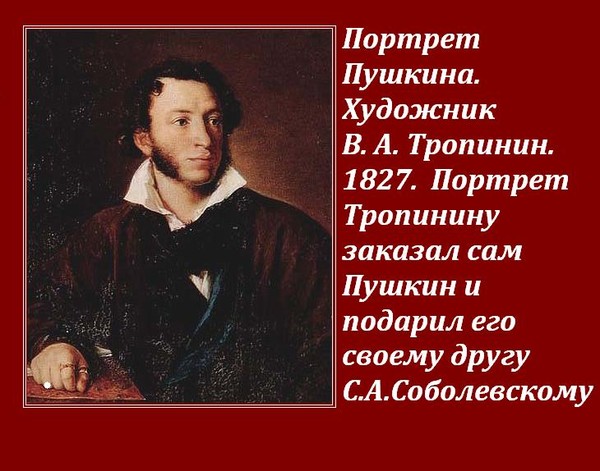
Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.
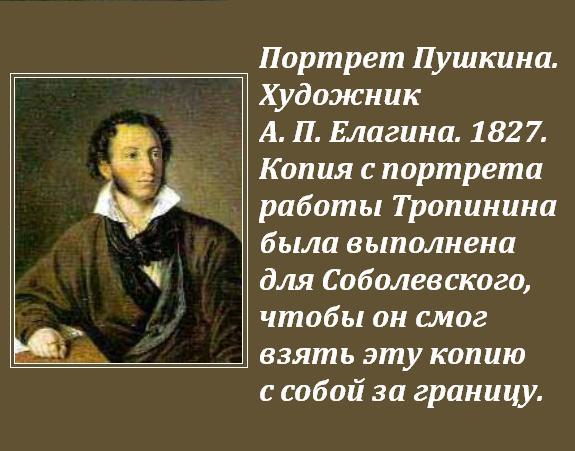
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
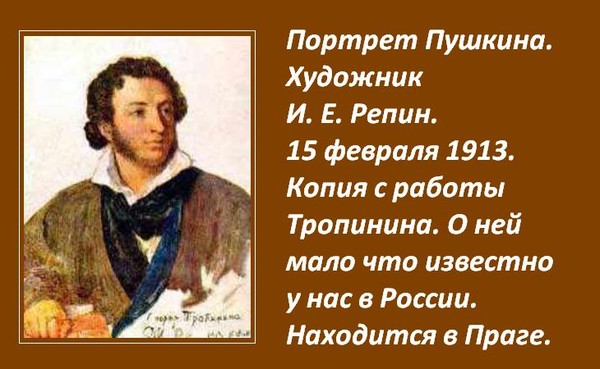
* * *
С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»
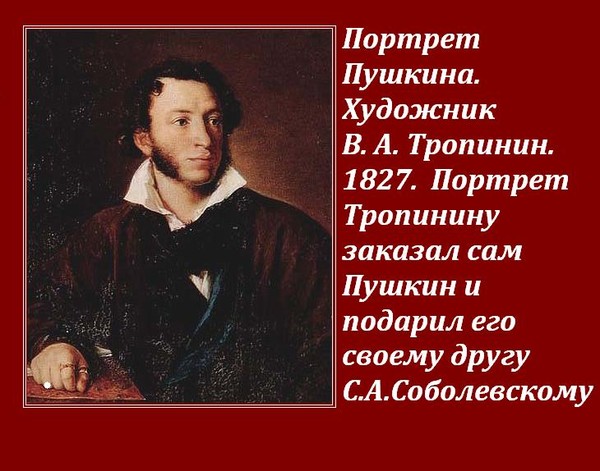
Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.
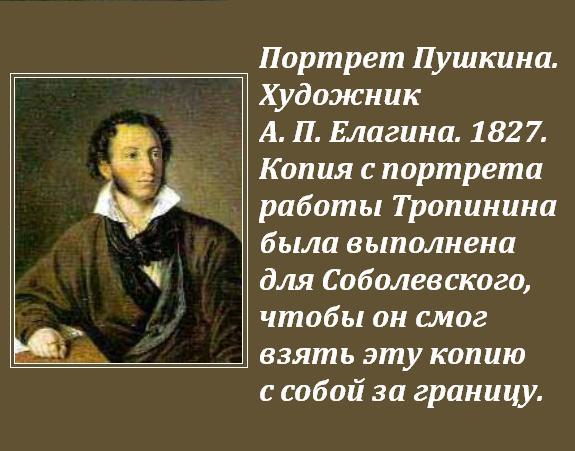
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
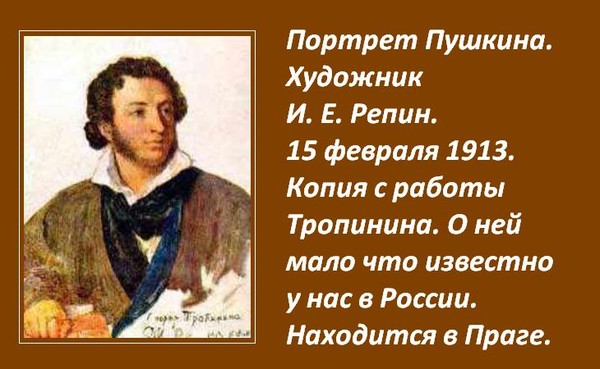
* * *
С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
Елена Байер,
31-01-2010 12:11
(ссылка)
МИНИАТЮРА ТРОПИНИНА

Прижизненный миниатюрный портрет Пушкина был впервые опубликован Сергеем Михайловичем (Сержем) Лифарем в изданном им в Париже на русском языке томике романа "Евгений Онегин". В книге "Моя зарубежная Пушкиниана" Лифарь так высказывается об истории появления в его собрании миниатюрного портрета Пушкина:
"Однажды какой-то русский беженец принес… и продал за малую цену маленький портрет Пушкина. Не зная, чьей он работы, я бросился к А.Н. Бенуа… Без колебания А.Н. определил, что это — миниатюра Тропинина. Кн. Аргутинский, И. Браз, Эрнст мне подтвердили слова А.Н. Бенуа".
В 1937 году пушкинские реликвии впервые были представлены на выставке "Пушкин и его эпоха", организованной Лифарем в большом фойе престижного парижского зала "Плейель".
Прекрасна тропининская миниатюра Пушкина в медальоне была подарена поэтом невесте Н.Н. Гончаровой. На обороте миниатюры в кольце-змейке написано золотом: Amour.
Прекрасна тропининская миниатюра Пушкина в медальоне была подарена поэтом невесте Н.Н. Гончаровой. На обороте миниатюры в кольце-змейке написано золотом: Amour.
Елена Байер,
02-03-2010 18:55
(ссылка)
ИСТОРИЯ ВЕНЧАНИЯ ПУШКИНА
2 марта (18 февраля ст. ст.) в 1831 году
Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…
Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…
Рассказ о своем обручении Александр Сергеевич доверил черновику в виде перевода как бы с французского: «Отец первый встретил меня с отверстыми объятьями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Нас благословили. Невеста подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне – и я жених…» Дедушка Натальи Николаевны пообещал ей триста душ, но не дал ни одной, а вместо этого стал использовать связи поэта, чтобы продать казне бронзовую статую Екатерины II, валявшуюся в Гончаровском сарае с Потемкинских времен. И вот в мае 1830-го, через три недели после помолвки, Пушкин просит у Бенкендорфа разрешения этот «шедевр» растопить: «Свадьба внучки, – пишет он, – быстро налаженная, застала деда совершенно без денег, и вывести нас из затруднения может только Государь Император и его августейшая бабка».
Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.

Тёща звала его «сочинителем», обвиняла в безверии, безденежье и плохих отношениях с властями. Он боялся, что Наталья Николаевна не сможет его полюбить: «Когда окружена она будет восторгами, поклонением, соблазнами, не будет ли смотреть на меня как на помеху? Не стану ли я ей тогда противен?»

Но ещё больше его пугала перспектива смерти, которую каким-то особым чутьем поэта он осязал в грядущем браке – первое, что он увидел из окон Гончаровой, была вывеска погребальной конторы. В один день с «Гробовщиком» он пишет:

Девятого сентября 1830 года, в пятый день в Болдине, Александр Сергеевич заканчивает «Гробовщика» и рисует на его последней странице свою невесту и возницу в похоронном плаще. А начинается повесть так: Адриян Прохоров взваливает пожитки на похоронные дроги, и тощая пара тащится с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. На Басманной Пушкин родился и был крещён, на Никитской жила семья Гончаровых...


Заключив Пушкина на карантин, судьба помогает ему ещё раз все взвесить. Уже 20 сентября готовы «Барышня-крестьянка» и «Монастырь на Казбеке». В повести мечта о счастливой свадьбе, в стихах – о монастыре:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Порыв нешуточный… Очевидно, что жених ещё не определился. Но разлука и холера, которая подбирается к Москве, делают свое дело. Кроме того, Пушкин узнает, что дедушка невесты раздумал переплавлять статую Екатерины.

Раздается «Выстрел» Сильвио, заставляющий понять, как дорога бывает жизнь, когда ты любишь, когда юная красавица становится женой. А за ним появляется «Метель» с рисунком челна и плавателя, входящего в гавань. Он верит, что Божий Промысел ведет его, как Марью Гавриловну с Бурминым, и вдруг… отец присылает известие о том, что свадьба с Натали расстроилась. Невзирая на строжайший карантин, Александр Сергеевич срывается с места…
С этой трагедией в сердце Пушкин добирается до Владимира, но его разворачивает первый же карантин. Просит подорожную – отказ. Шлет бессильную жалобу губернатору. Отчаяние! И тут ему советуют пойти к старцу, которому носит свои скорби вся округа.


Наверняка, Пушкин ждал, что, помолясь, старец скажет, будет ли счастлив он в мужьях и ждут ли его вообще семейные узы. Судя по «Пиру во время чумы», отец Серафим Саровский открыл поэту всю опасность этого пути.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак, – хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может, полное Чумы.
Это песня свободного человека, а только свободный может любить. Наверное, в женитьбе Александру Сергеевичу была предложена не только смерть, но и очищение, и залог вечной жизни, ведь дева-роза – его суженая. И роман о чистоте и верности соединенных Богом сердец он ещё напишет.
9 декабря 1830 года Пушкин шлет Плетнёву письмо: «Милый! Я в Москве. Нашел тёщу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил. Насилу прорвался и сквозь карантины. Пришли мне денег, сколько можно более, я на мели. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий и прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется».
Первым делом Александр Сергеевич кинулся к людям, хорошо знавшим Екатерину II, собирать материал для будущего романа, и только после этого принялся улаживать житейские дела. Перед свадьбой он был необычайно грустен. Обмолвился в одном письме, что, вероятно, ему придется погибнуть на поединке.

Но после венчания, которое не обошлось без дурных примет (он ронял кольцо, Евангелие и крест, свеча гасла в его руке), Александр Сергеевич уже был весел и светел. «Я женат и счастлив, – читает Плетнёв, – это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через пять лет, осенью 1836-го, Пётр Александрович получит «Капитанскую дочку», великую песнь русской литературы о любви, песнь песней Пушкина, а сам Александр Сергеевич примет долгожданную и благую весть.
Чудный сон мне Бог послал –
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некой предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник – ляжешь на ночлеге,
В гавань, плаватель, войдешь.
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде».
<…>
Сон отрадный, благовещный
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. – Кто там идет?
Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.

Тёща звала его «сочинителем», обвиняла в безверии, безденежье и плохих отношениях с властями. Он боялся, что Наталья Николаевна не сможет его полюбить: «Когда окружена она будет восторгами, поклонением, соблазнами, не будет ли смотреть на меня как на помеху? Не стану ли я ей тогда противен?»

Но ещё больше его пугала перспектива смерти, которую каким-то особым чутьем поэта он осязал в грядущем браке – первое, что он увидел из окон Гончаровой, была вывеска погребальной конторы. В один день с «Гробовщиком» он пишет:

Девятого сентября 1830 года, в пятый день в Болдине, Александр Сергеевич заканчивает «Гробовщика» и рисует на его последней странице свою невесту и возницу в похоронном плаще. А начинается повесть так: Адриян Прохоров взваливает пожитки на похоронные дроги, и тощая пара тащится с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. На Басманной Пушкин родился и был крещён, на Никитской жила семья Гончаровых...


Заключив Пушкина на карантин, судьба помогает ему ещё раз все взвесить. Уже 20 сентября готовы «Барышня-крестьянка» и «Монастырь на Казбеке». В повести мечта о счастливой свадьбе, в стихах – о монастыре:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Порыв нешуточный… Очевидно, что жених ещё не определился. Но разлука и холера, которая подбирается к Москве, делают свое дело. Кроме того, Пушкин узнает, что дедушка невесты раздумал переплавлять статую Екатерины.

Раздается «Выстрел» Сильвио, заставляющий понять, как дорога бывает жизнь, когда ты любишь, когда юная красавица становится женой. А за ним появляется «Метель» с рисунком челна и плавателя, входящего в гавань. Он верит, что Божий Промысел ведет его, как Марью Гавриловну с Бурминым, и вдруг… отец присылает известие о том, что свадьба с Натали расстроилась. Невзирая на строжайший карантин, Александр Сергеевич срывается с места…
С этой трагедией в сердце Пушкин добирается до Владимира, но его разворачивает первый же карантин. Просит подорожную – отказ. Шлет бессильную жалобу губернатору. Отчаяние! И тут ему советуют пойти к старцу, которому носит свои скорби вся округа.


Наверняка, Пушкин ждал, что, помолясь, старец скажет, будет ли счастлив он в мужьях и ждут ли его вообще семейные узы. Судя по «Пиру во время чумы», отец Серафим Саровский открыл поэту всю опасность этого пути.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак, – хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может, полное Чумы.
Это песня свободного человека, а только свободный может любить. Наверное, в женитьбе Александру Сергеевичу была предложена не только смерть, но и очищение, и залог вечной жизни, ведь дева-роза – его суженая. И роман о чистоте и верности соединенных Богом сердец он ещё напишет.
9 декабря 1830 года Пушкин шлет Плетнёву письмо: «Милый! Я в Москве. Нашел тёщу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил. Насилу прорвался и сквозь карантины. Пришли мне денег, сколько можно более, я на мели. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий и прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется».
Первым делом Александр Сергеевич кинулся к людям, хорошо знавшим Екатерину II, собирать материал для будущего романа, и только после этого принялся улаживать житейские дела. Перед свадьбой он был необычайно грустен. Обмолвился в одном письме, что, вероятно, ему придется погибнуть на поединке.

Но после венчания, которое не обошлось без дурных примет (он ронял кольцо, Евангелие и крест, свеча гасла в его руке), Александр Сергеевич уже был весел и светел. «Я женат и счастлив, – читает Плетнёв, – это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через пять лет, осенью 1836-го, Пётр Александрович получит «Капитанскую дочку», великую песнь русской литературы о любви, песнь песней Пушкина, а сам Александр Сергеевич примет долгожданную и благую весть.
Чудный сон мне Бог послал –
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некой предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Уж готовит ангел смерти
Для тебя святой венец...
Путник – ляжешь на ночлеге,
В гавань, плаватель, войдешь.
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде».
<…>
Сон отрадный, благовещный
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
Не моя. – Кто там идет?
Метки: Пушкин
Елена Байер,
07-02-2010 19:44
(ссылка)
УСРЕДНЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОРТРЕТ ПУШКИНА
Г. ИВАНИЦКИЙ, член-корреспондент РАН
А. ДЕЕВ, кандидат физико-математических наук
А. ДЕЕВ, кандидат физико-математических наук
ВЕРНИСАЖ НАХОДОК.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ЖИВОПИСНЫХ ОБРАЗОВ ПОЭТА
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ЖИВОПИСНЫХ ОБРАЗОВ ПОЭТА
В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти. ― Прим. авт.), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Портрет Пушкина. Художник Тропинин. 1827
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Приведем для примера описание творческих мучений Ильи Ефимовича Репина; в течение двадцати лет он работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Если замечательный мастер Репин считал себя посредственностью, взявшись за воплощение облика Пушкина, то уж биофизикам, далеким от его художественного таланта, казалось бы, здесь делать нечего. Тем не менее мы рискнули попытаться воссоздать наиболее вероятный облик поэта в различные периоды его жизни, но подойти к решению этой задачи с иной стороны. Юбилей поэта стимулировал наше желание, а многолетний опыт компьютерной реконструкции, накопленный в биологических экспериментах, вселял оптимизм.
Работа начиналась как «игра». Но незаметно переросла в объемное биофизическое исследование с элементами искусствоведения, психологии восприятия образов и их компьютерным анализом и синтезом. Однако работа оказалась много сложнее, чем мы предполагали, приступая к ней, и заметно отличалась от имевшегося у нас опыта.

Исследуя биоструктуры, мы изучаем их по электронно-микроскопическим, рентгеновским или оптическим снимкам. Часто эти изображения бывают существенно искажены из-за аберраций приборов, но эти приборные ошибки, накладываемые на истинный образ биоструктур, можно вычислить и скорректировать. В данном же случае мы имели дело с рукотворными портретами поэта, то есть с произведениями искусства, а человеческое творчество ― это то немногое, что с большим трудом поддается формализации.
Проживи А. С. Пушкин еще пять лет, и, возможно, потомки располагали бы его фотопортретами. Как известно, первые черно-белые фотоизображения были получены во Франции Л.-Ж.-М. Дагером и Ж.-Н. Ньепсом в 1839 году, двумя годами позже фотографии были сделаны в Англии, а затем ― в России. Но история не имеет сослагательного наклонения.
Изменчивое, живое лицо поэта (а это отмечают все его современники, оставившие воспоминания) было нелегко изобразить даже художникам, писавшим портрет с натуры. Существуют хотя и многочисленные, но субъективные живописные портреты Пушкина и описания его внешности. Мы даже не знаем точно, какого цвета были его волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие (П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр, смолоду белокурый, после 17 лет начал темнеть. Сам Пушкин написал по-французски свой шуточный автопортрет: «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Чтобы ответить на вопрос: каким был облик поэта? ― нужно было с особой осторожностью относиться к воспоминаниям, написанным много лет спустя после гибели поэта. В них и смещение временных периодов в памяти мемуаристов, и влияние величия личности, то есть «давление» социального стереотипа на настроение вспоминающих. Большей ценностью обладают дневниковые заметки современников ― пусть отрывистые и неважно ― друзей или недругов, ― а также собственные высказывания поэта.
К архиву словесных портретов мы добавили визуальные живописные портреты, автопортреты Пушкина, сделанные им на полях рукописей и в альбомах его современниц, а также зарисовки и скульптурные портреты, созданные уже после смерти поэта. Помимо этого мы располагали зарисовками лица поэта на смертном одре и фотографиями его посмертной маски в разных ракурсах.
На маску, как объективный носитель образа поэта, мы возлагали особенно большие надежды. Однако, как выяснилось, она отражает лишь приблизительно облик живого рельефа лица. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В свое время антрополог-скульптор М. М. Герасимов (1907―1970), создавая метод пластической реконструкции лица по черепу, исследовал эти вопросы. Не зная, каким был облик человека при жизни, точно реконструировать рельеф его лица по маске и черепу нельзя. Можно передать лишь приблизительный облик натуры, хотя образ может быть узнаваемым.
Синтезировав множество обликов поэта, неизбежно требуется прибегнуть к мнению экспертов ― своеобразному «суду присяжных», которые должны выбрать наиболее вероятный облик лица реального человека. Но человека уже нет, как нет среди нас, ныне живущих, того, кто его видел. Поэтому ответ всегда носит вероятностный характер. Выбор одной гипотезы из множества других неизбежно вызывает сомнение и порождает вопрос: «А судьи кто?» Мы можем лишь утверждать, что отобранные образы из множества синтезированных не противоречат словесным описаниям и живописным прижизненным портретам (с учетом квалификации и объективности мемуаристов и художников). Однако все равно после всех поправок, выбранный портрет остается портретом, а не фотографией и несет на себе груз субъективности.
При синтезе новых портретов поэта мы использовали два взаимно дополняющих друг друга компьютерных метода: «фоторобота» (совмещения элементов из разных портретов) и «морфинга» (наложения портретов и их элементов с определенными весовыми коэффициентами друг на друга). Не будем утомлять читателя математическими выкладками, связанными с измерением антропометрических параметров изображенного на портретах лица, с количественными отклонениями этих параметров на различных портретах и с формированием пространств из этих признаков, цель которых ― распознавание образов. Не станем излагать и методы поворотов изображений на портретах для их сравнения и расчетные формулы эллипсоидальной геометрии при проекциях рельефа лица на плоскость портрета. Обо всем этом можно узнать, прочитав в журнале «Успехи физических наук» (№ 5, 1999) нашу статью.
У ИСТОКОВ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ ПОЭТА
Итак, перед вами ― галерея портретов поэта, ставшая основой наших исследований. Из 38 портретов, с которыми мы оперировали, 16 ― прижизненные.
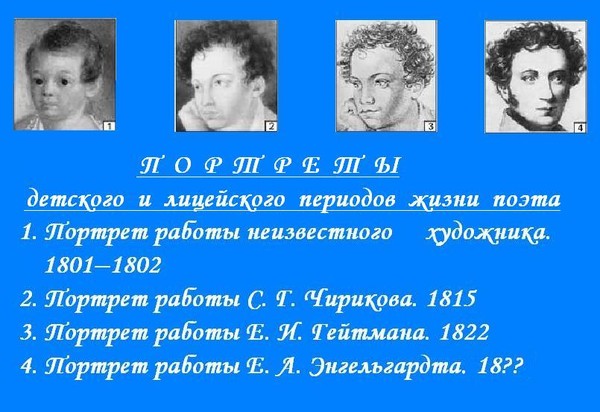
История создания и судьба каждого из портретов достойны отдельного разговора. Анализу портретов в Пушкиниане посвящена обширная литература. Для нас в данном случае важно другое ― как возник тот облик поэта, который каждому из нас знаком с детства? Насколько он соответствует реальному образу живого человека?

Классический облик А. С. Пушкина (его можно еще назвать «социальный стереотип») был порожден тиражированием портретов работы О. А. Кипренского (6) и В. А. Тропинина (7). Оба художника ― профессионалы высочайшего класса.
Василий Андреевич Тропинин (1776―1857), ученик С. С. Щукина, выпускник Петербургской академии художеств, был крупнейшим русским портретистом. Его работы отличались скульптурной четкостью объемов и внимательностью к характерным деталям. Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский не отправил его в Петербург на выставку (хотя Н. А. Полевой в журнале «Московский телеграф» и сообщил об этом), а отдал для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала небольшую копию(9), размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина. Но оригинал с середины 1850-х годов находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
Орест Адамович Кипренский (1782―1836) был в то время, пожалуй, еще более известным живописцем и графиком, чем Тропинин. В 1812 году за особые заслуги в области живописи его избрали академиком Академии художеств. В 1805 году он получил Золотую медаль за свою теперь хорошо известную картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Однако как художник он был скорее романтиком, чем реалистом. Его портрет Пушкина (6) отличает внешняя красивость с элементами классических представлений о том, как следует изобразить крупную творческую личность.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский. 1827
Общепринято считать, что сам поэт оценивал этот портрет очень высоко, и в доказательство обычно приводятся строки из его послания Кипренскому:
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Однако если стихотворение А. С. Пушкина, адресованное Кипренскому, прочитать полностью, то в нем легко заметить явно проступающую саркастическую усмешку поэта по поводу своего портретного образа.
Любимец моды легкокрылый,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз,
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных Аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Портрет, выполненный Кипренским, стал классическим и дублировался еще при жизни поэта разными способами. Пушкин оказался прав ― социальный стереотип его облика родился именно из портрета Кипренского и аналогов (работ Уткина, Райта, позднее ― Матэ и Безлюдного и т. д.). После гибели поэта спрос на его портреты сильно возрос, раскупались все гравюры и литографии, сделанные по работам Тропинина и Кипренского. Любопытно, но их печатали в соотношении один к девяти. Видимо, и поэтому мы, потомки, воспринимаем облик поэта прежде всего по образу, созданному Кипренским. Дальнейшая судьба этого портрета известна. Он принадлежал другу поэта, А. А. Дельвигу, после его смерти (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.
Первым этот портрет удачно скопировал и размножил выдающийся мастер резцовой гравюры Николай Иванович Уткин (1780―1836). Хотя его гравировка (8), казалось бы, всего лишь повторение оригинала Кипренского, но Уткину удалось усилить выразительность портрета богатством и разнообразием штриха, а возможно, и собственными представлениями о натуре поэта. Профессиональный уровень этих трех живописцев не может подлежать сомнению. Однако Пушкин, изображенный ими примерно в одно и то же время, видится по-разному.
К этой же портретной группе следует отнести акварельные работы Петра Федоровича Соколова (1791―1848). Приведенный портрет поэта (10) почти на десять лет отстоит от работ Тропинина и Кипренского, Пушкин на десять лет старше, но он такой же. Из этого истока родилась большая «гибридная река» изобразительного ряда похожих, с небольшими вариациями, обликов поэта ― от Т. Райта (17) до К. Ф. Юона (28) и далее.
Но был ли истинный образ поэта таким, каким он показан на своих прижизненных портретах? Единого мнения не было. Одни из современников говорили «да», другие ― «нет». Пожалуй, вторых больше. Но подобные споры не решаются голосованием. Необходим независимый источник информации. Что думал по этому поводу сам поэт? С одной стороны, Пушкин не был высокого мнения о своей внешности, и можно найти много его высказываний по этому поводу. Вот примеры:
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бысстыдным бешенством желаний.
(«Юрьеву», 1820)
«Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (Из письма к жене, 1835).
«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Из письма жене, 1836).
Но есть его высказывание и противоположного рода:
«В... газете объявили, что я собою неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко тронула» (А. С. Пушкин. Опровержение на критику, 1830).
Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Художник Н. П. Ульянов
Заключая анализ портретного ряда, порожденного тропинино-кипренским истоком, приведем цитату из заметки художника Н. П. Ульянова «Мои встречи» (М.: изд-во АХ СССР, 1959), написавшего в 1936 году картину «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (36 ― это фрагмент названной картины):
«...В сущности есть всего два блестящих художественных документа из иконографии поэта. Это портреты Тропинина и Кипренского. Для одних они неоспоримо верный синтез внешнего и внутреннего "я" Пушкина; в других они вызывают некоторые чувства недоверия. Слов нет, оба портрета, и каждый по-своему, замечательны... Но не надо забывать, что тогда было принято "крахмалить" образ. Эпоха требовала некоторой пышности, приподнятости изображения».
Второй поток портретов поэта (28―36) был вызван желанием художников снять с образа поэта «исторический крахмал» (образ, созданный Ульяновым, относится к этому направлению) и отойти от сложившегося социального стереотипа. У истоков этого потока стояли портреты Г. А. Гиппиуса, Жана Вивьена и прежде всего И. Л. Линева.
Во многих высказываниях современников подчеркивается, что Пушкин был собою «неблагообразен». В качестве примера ограничимся тремя цитатами.
«Пушкин, писатель, разговаривает очаровательно без претензий, живо, пламенно. Нельзя быть безобразнее его ― это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикое во взгляде... Рядом с ней (имеется в виду жена поэта. ― Прим. авт.) его уродливость еще более поражает, но когда он говорит, забываешь, чего ему недостает, чтобы быть красивым» (из дневника графини Д. Ф. Фикельмон, урожденной Тизенгаузен, внучки Кутузова, близкой знакомой поэта).
«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевлено, ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно...» (из воспоминаний Л. С. Пушкина). Рост Пушкина в зрелом возрасте был 166,6 см ― это известно из подписи под изображением поэта во весь рост в исполнении художника Г. Г. Чернецова: «Рисовал с натуры, 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».
«Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор по-прежнему, в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению...» (из письма П. Л. Яковлева, брата однокашника Пушкина М. Л. Яковлева. Ноябрь 1826 г.).
Портрет Пушкина работы Жана Вивьена (15) и миниатюра (13), которая также с большой вероятностью выполнена Вивьеном, показывают нам поэта в возрасте приблизительно 28 лет (миниатюра датирована, а на портрете даты нет). Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса (11) изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии. Линию Ж. Вивьена в изображении поэта явно продолжил Г. Г. Мясоедов (32) в известном большом полотне «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской» (1905―1907).
Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской. Художник Г. Г. Мясоедов. 1905-1907
Поздний Пушкин (1836―1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева (16), на котором изображен вне романтического ореола. Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали:
«Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его» (П. Х. Граббе, знакомый Пушкина, автор воспоминаний о встрече с ним).
«К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться» (П. В. Нащокин, один из близких друзей Пушкина).
«Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти» (Н. М. Смирнов, близкий знакомый Пушкина).
Особого упоминания требует история создания портрета работы Линева. Она полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х ― начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе ― марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Автор версии С. М. Куликов, рассматривая записку неизвестному (возможно, Жуковскому), написанную рукой Пушкина ориентировочно в 1835―1837 годах и содержащую следующие слова: «Посылаю тебе мою образину», ― высказывает гипотезу, что речь идет о портрете Пушкина именно работы Линева.
Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29―30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы... Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица ― приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.
Как бы там ни было, но линевский портрет совместно с портретами Вивьена и Гиппиуса породил свою линию в галерее портретов Пушкина ― от К. П. Мазера (29) до В. И. Шухаева (38).
Сюда же следует отнести известную совместную романтическую картину И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. Прощай, свободная стихия!» (1887), где Пушкин (30) в изображении Репина явно унаследовал некоторые черты портрета Линева.
Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» Художники И. Е. Репин и И. К. Айвазовский. 1887
А вот Пушкин, изображенный самим Айвазовским (21) в картине «Пушкин на берегу Черного моря» (1868), ближе к линии портретов Тропинина и Кипренского.
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868. Фрагмент
Это все, что касается портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Первые три зарисовки выполнены 29 января 1837 года, вторые две ― на следующий день. Посмертная маска была снята с лица в первый день после смерти.
На полях рукописей Пушкин часто рисовал свое лицо. Существует свыше 50 его автопортретов. Наиболее типичные из них мы использовали в работе.
Известно, что и дома, и в Лицее молодому Пушкину преподавали основы рисования, он любил и умел рисовать, и эти автопортреты-шаржи дают дополнительные сведения об облике поэта. На всех рисунках присутствует характерный профиль ― срезанный лоб и выдающаяся вперед нижняя часть лица.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор наиболее вероятного портрета из синтезированного компьютером множества был, без сомнения, самым сложным этапом работы. На читательский суд мы представляем три портрета, относящиеся к разным временным отрезкам жизни А. С. Пушкина.
В центре ― портрет, отобранный экспертами как наиболее вероятный облик А. С Пушкина в возрасте 27―28 лет. Отбор производился из сотни новых синтезированных компьютером портретов, полученных комбинаторными перестановками из элементов базовых портретов и наложением изображений друг на друга. Перед нами наяву, как перед Татьяной во сне, проходила галерея причудливых образов поэта. Метод компьютерного «фоторобота» дает возможность создавать фантасмагорию подвижных химер, подобную описанной А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
Отобранный экспертами портрет получен прямым объединением (по специальной программе) портретов работы О. А. Кипренского (6) и работы В. А. Тропинина (Елагинская копия ― 9). Чем же руководствовались эксперты, выбирая образ? В первую очередь были учтены близость антропометрических параметров его изображения к средним значениям всей совокупности прижизненных портретов этого периода жизни и соответствие данного образа описаниям, составляющим словесный портрет поэта. Например:
«С Пушкина списал Кипренский портрет, необычно похожий» (Н. А. Муханов, знакомый Пушкина, в письме к брату 15 июля 1827 года).
«Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским» (профессор Петербургского университета А. В. Никитенко, 2 сентября 1827 года в дневнике ― о выставке в Академии художеств, открывшейся 1 сентября).
«Не распространяясь в исчислении красот сего произведения г. Кипренского, мы скажем только, что это живой Пушкин» (Ф. В. Булгарин. Газета «Северная пчела», 1827. Обзоры выставки).
«Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь... Лучше всего, по-моему, передает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос ― выдающимся ― это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с негустыми, кудрявыми волосами» (из воспоминаний И. А. Гончарова, когда он студентом увидел А. С. Пушкина при посещении им Московского университета, 27 сентября 1832 года).
Далее эксперты учитывали выраженность на выбранном портрете характерных особенностей подбородка и губ, связанных с абиссинской (эфиопской) наследственностью поэта, и высокую квалификацию художников ― Тропинина и Кипренского, создавших эти два портрета.
Тем не менее выяснилось (и это очень важно), что, делая свой выбор, каждый из экспертов подсознательно испытывал влияние уже сформировавшегося социального стереотипа облика поэта. И это не позволяло заметно отклоняться от принятого стандарта. Кроме того, привлекательность образа, полученного методом наложения и усреднения, обусловлена и другим психологическим фактором ― так называемым «давлением усреднения». Обычно считалось, что среднее лицо непривлекательно. С этим соглашался и иронизировал по этому поводу сам поэт (строки из основного черновика поэмы «Медный всадник»):
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.
Однако, как показали экспериментальные исследования, именно средний образ человека обладает для большинства наибольшей привлекательностью. Если взять несколько десятков черно-белых фотографий разных людей, собранных по методу случайной выборки, и изготовить из них усредненный образ, то для подавляющего большинства наблюдателей он будет привлекательнее индивидуальных. «Средние глаза, уши, рты» ― симпатичнее индивидуальных. И еще одно интересное обстоятельство. Чем больше отдельных лиц привлекается для получения усредненного изображения, тем красивее для наблюдателей противоположного пола оказывался полученный результат. У таких образов есть только один недостаток ― таких «полностью усредненных» лиц не существует.
Вероятно, такое «давление усредненного стандарта» проявилось не только у наших экспертов при выборе, но и при изображении поэта разными художниками. Наибольшую сложность у рисовальщиков портретов А. С. Пушкина вызывали самые информативные элементы его облика ― глаза и нижняя часть лица. Художники, вольно или невольно, пытались «подтянуть» наблюдаемый ими реальный образ под усредненный стандарт европейских лиц или, наоборот, как можно больше утрировать подмеченное ими индивидуальное отличие.
У Пушкина, как отмечали современники, были удлиненные голубые глаза. Наши измерения показали, что среднее соотношение размеров ширины открытого глаза к его длине равно 1 : 3. Но именно такого соотношения на индивидуальных прижизненных портретах поэта мы не встречаем. У стандартного глаза европейца это соотношение приблизительно 1 : 2,5. По-видимому, этим и объясняется столь большое различие в геометрии глаза на разных портретах Пушкина: одни подтягивали размеры под «европейский» глаз, другие уходили от стандарта. Разброс отношений составляет до 25%. На портрете работы Тропинина отклонение составляет 7% в сторону удлинения по горизонтали, а на портрете работы Кипренского ― на 16% в противоположную сторону и почти соответствует европейскому стандарту глаза (1 : 2,6). Сам Пушкин на своих автопортретах рисовал глаза удлиненными.
Форма нижней части лица ― выдвинутые вперед подбородок и крупные губы ― настолько сильно отклонялась от стандартного европейского облика, что ставила как художников-современников, изображавших поэта, так и их последователей и самого поэта перед проблемой: как сделать изображение похожим на оригинал и в то же время скрыть «его непривлекательную наружность». На портретах 3, 5, 7, 16 и на зарисовке М. Ф. Бруни «Пушкин на смертном одре» тем не менее в целом передана эта наиболее сложная и нестандартная часть лица поэта. На портретах 4 и 6―14 в отличие от портрета работы Тропинина в значительной степени исчезла скошенность лба, которая присутствует на всех автопортретах поэта.
Вот и решайте, соответствует ли усредненный портрет Тропинина ― Кипренского реальному облику поэта, или его выбор определили подсознательные процессы в головах экспертов?
Далее мы обратились к реконструкции образа молодого Пушкина. От лицейских времен сохранились два мало схожих между собой пушкинских портрета. Первый нарисован в начале лицейской жизни, второй (4) ― в ее конце Е. А. Энгельгардтом, директором Лицея. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным подростком первого портрета, нарисованным гувернером, учителем рисования С. Г. Чириковым. Только большой лоб да острота взгляда те же. Возможно, директору Лицея хотелось, чтобы вверенные ему лицеисты выглядели подтянутыми и по-немецки опрятными. Третий портрет (3) ― это гравюрная авторская копия, выполненная Е. И. Гейтманом с портрета Чирикова.
Из трех этих образов молодого поэта были синтезированы 24 новых портрета, из которых был выбран портрет, полученный из образов 2 и 3 с подбором весовых коэффициентов при наложении. При выборе учитывались два обстоятельства. Первое. Образ поэта в зрелом возрасте, уже отобранный экспертами, и возможность перехода к нему при взрослении выбираемого детского лица. Второе. Издатель Н. И. Гнедич приложил портрет 3-му к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 году, вероятно, потому, что он был сходен с натурой. Выбранный синтезированный портрет не только весьма похож на образы 2 и 3, но и совпадает со словесными описаниями, относящимися к этому периоду:
«...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик... со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались...» (из воспоминаний Е. П. Яньковой).
Соответствует этот портрет и приводившемуся уже высказыванию о своей внешности молодого Пушкина:
«У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Наконец, мы попытались сформировать облик позднего Пушкина, после 1830 года. Выбранный экспертами образ получен методом «фоторобота» из портретов 15 и 38. Похожий на этот образ портрет получается также методом «фоторобота» из портретов 15 и 16. Выбор этого портрета определился, в частности, и тем, что при повороте синтетического портрета 27-летнего Пушкина дополнительно к исходному ракурсу на 15 градусов выбранный образ соответствует ему, но выглядит несколько старше. Этот выбор экспертов подтверждают уже приводившиеся выше словесные портреты позднего Пушкина и собственные рисунки поэта (образы 5, 6, 8, 10-12 автопортретов Пушкина).
* * *
Для восприятия творческого наследия А. С. Пушкина не так уж важно, как он сам выглядел и как воспринимался современниками. Сегодня Пушкин для нас ― национальный символ нашей культуры и истории. Он для россиян значит больше, чем Шекспир или Байрон для англичан, а Гете ― для немцев. Его обобщенный хрестоматийный образ (пусть не совсем похожий на оригинал) уже живет сам по себе, вне времени. Юбилей поэта явился для нас лишь поводом, чтобы с позиции современного компьютерного распознавания образов под неожиданным ракурсом взглянуть на социопсихологическую проблему восприятия и отображения художниками разных поколений облика Пушкина. Мы попытались воссоздать наиболее вероятный образ методами, которые раньше не существовали.
«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти. ― Прим. авт.), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Портрет Пушкина. Художник Тропинин. 1827
Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Приведем для примера описание творческих мучений Ильи Ефимовича Репина; в течение двадцати лет он работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.
«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Если замечательный мастер Репин считал себя посредственностью, взявшись за воплощение облика Пушкина, то уж биофизикам, далеким от его художественного таланта, казалось бы, здесь делать нечего. Тем не менее мы рискнули попытаться воссоздать наиболее вероятный облик поэта в различные периоды его жизни, но подойти к решению этой задачи с иной стороны. Юбилей поэта стимулировал наше желание, а многолетний опыт компьютерной реконструкции, накопленный в биологических экспериментах, вселял оптимизм.
Работа начиналась как «игра». Но незаметно переросла в объемное биофизическое исследование с элементами искусствоведения, психологии восприятия образов и их компьютерным анализом и синтезом. Однако работа оказалась много сложнее, чем мы предполагали, приступая к ней, и заметно отличалась от имевшегося у нас опыта.

Исследуя биоструктуры, мы изучаем их по электронно-микроскопическим, рентгеновским или оптическим снимкам. Часто эти изображения бывают существенно искажены из-за аберраций приборов, но эти приборные ошибки, накладываемые на истинный образ биоструктур, можно вычислить и скорректировать. В данном же случае мы имели дело с рукотворными портретами поэта, то есть с произведениями искусства, а человеческое творчество ― это то немногое, что с большим трудом поддается формализации.
Проживи А. С. Пушкин еще пять лет, и, возможно, потомки располагали бы его фотопортретами. Как известно, первые черно-белые фотоизображения были получены во Франции Л.-Ж.-М. Дагером и Ж.-Н. Ньепсом в 1839 году, двумя годами позже фотографии были сделаны в Англии, а затем ― в России. Но история не имеет сослагательного наклонения.
Изменчивое, живое лицо поэта (а это отмечают все его современники, оставившие воспоминания) было нелегко изобразить даже художникам, писавшим портрет с натуры. Существуют хотя и многочисленные, но субъективные живописные портреты Пушкина и описания его внешности. Мы даже не знаем точно, какого цвета были его волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие (П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр, смолоду белокурый, после 17 лет начал темнеть. Сам Пушкин написал по-французски свой шуточный автопортрет: «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Чтобы ответить на вопрос: каким был облик поэта? ― нужно было с особой осторожностью относиться к воспоминаниям, написанным много лет спустя после гибели поэта. В них и смещение временных периодов в памяти мемуаристов, и влияние величия личности, то есть «давление» социального стереотипа на настроение вспоминающих. Большей ценностью обладают дневниковые заметки современников ― пусть отрывистые и неважно ― друзей или недругов, ― а также собственные высказывания поэта.
К архиву словесных портретов мы добавили визуальные живописные портреты, автопортреты Пушкина, сделанные им на полях рукописей и в альбомах его современниц, а также зарисовки и скульптурные портреты, созданные уже после смерти поэта. Помимо этого мы располагали зарисовками лица поэта на смертном одре и фотографиями его посмертной маски в разных ракурсах.
На маску, как объективный носитель образа поэта, мы возлагали особенно большие надежды. Однако, как выяснилось, она отражает лишь приблизительно облик живого рельефа лица. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В свое время антрополог-скульптор М. М. Герасимов (1907―1970), создавая метод пластической реконструкции лица по черепу, исследовал эти вопросы. Не зная, каким был облик человека при жизни, точно реконструировать рельеф его лица по маске и черепу нельзя. Можно передать лишь приблизительный облик натуры, хотя образ может быть узнаваемым.
Синтезировав множество обликов поэта, неизбежно требуется прибегнуть к мнению экспертов ― своеобразному «суду присяжных», которые должны выбрать наиболее вероятный облик лица реального человека. Но человека уже нет, как нет среди нас, ныне живущих, того, кто его видел. Поэтому ответ всегда носит вероятностный характер. Выбор одной гипотезы из множества других неизбежно вызывает сомнение и порождает вопрос: «А судьи кто?» Мы можем лишь утверждать, что отобранные образы из множества синтезированных не противоречат словесным описаниям и живописным прижизненным портретам (с учетом квалификации и объективности мемуаристов и художников). Однако все равно после всех поправок, выбранный портрет остается портретом, а не фотографией и несет на себе груз субъективности.
При синтезе новых портретов поэта мы использовали два взаимно дополняющих друг друга компьютерных метода: «фоторобота» (совмещения элементов из разных портретов) и «морфинга» (наложения портретов и их элементов с определенными весовыми коэффициентами друг на друга). Не будем утомлять читателя математическими выкладками, связанными с измерением антропометрических параметров изображенного на портретах лица, с количественными отклонениями этих параметров на различных портретах и с формированием пространств из этих признаков, цель которых ― распознавание образов. Не станем излагать и методы поворотов изображений на портретах для их сравнения и расчетные формулы эллипсоидальной геометрии при проекциях рельефа лица на плоскость портрета. Обо всем этом можно узнать, прочитав в журнале «Успехи физических наук» (№ 5, 1999) нашу статью.
У ИСТОКОВ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ ПОЭТА
Итак, перед вами ― галерея портретов поэта, ставшая основой наших исследований. Из 38 портретов, с которыми мы оперировали, 16 ― прижизненные.
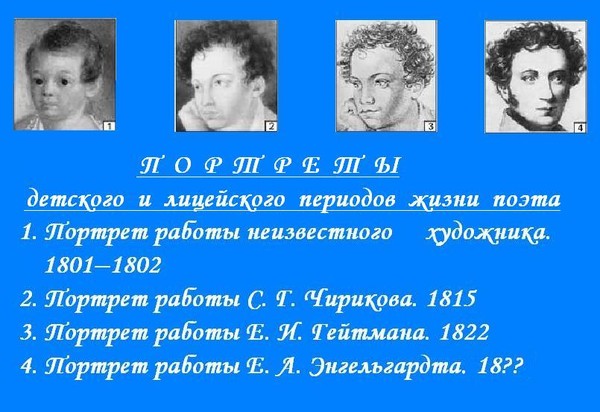
История создания и судьба каждого из портретов достойны отдельного разговора. Анализу портретов в Пушкиниане посвящена обширная литература. Для нас в данном случае важно другое ― как возник тот облик поэта, который каждому из нас знаком с детства? Насколько он соответствует реальному образу живого человека?

Классический облик А. С. Пушкина (его можно еще назвать «социальный стереотип») был порожден тиражированием портретов работы О. А. Кипренского (6) и В. А. Тропинина (7). Оба художника ― профессионалы высочайшего класса.
Василий Андреевич Тропинин (1776―1857), ученик С. С. Щукина, выпускник Петербургской академии художеств, был крупнейшим русским портретистом. Его работы отличались скульптурной четкостью объемов и внимательностью к характерным деталям. Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский не отправил его в Петербург на выставку (хотя Н. А. Полевой в журнале «Московский телеграф» и сообщил об этом), а отдал для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала небольшую копию(9), размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина. Но оригинал с середины 1850-х годов находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.
Орест Адамович Кипренский (1782―1836) был в то время, пожалуй, еще более известным живописцем и графиком, чем Тропинин. В 1812 году за особые заслуги в области живописи его избрали академиком Академии художеств. В 1805 году он получил Золотую медаль за свою теперь хорошо известную картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Однако как художник он был скорее романтиком, чем реалистом. Его портрет Пушкина (6) отличает внешняя красивость с элементами классических представлений о том, как следует изобразить крупную творческую личность.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский. 1827
Общепринято считать, что сам поэт оценивал этот портрет очень высоко, и в доказательство обычно приводятся строки из его послания Кипренскому:
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Однако если стихотворение А. С. Пушкина, адресованное Кипренскому, прочитать полностью, то в нем легко заметить явно проступающую саркастическую усмешку поэта по поводу своего портретного образа.
Любимец моды легкокрылый,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз,
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных Аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Портрет, выполненный Кипренским, стал классическим и дублировался еще при жизни поэта разными способами. Пушкин оказался прав ― социальный стереотип его облика родился именно из портрета Кипренского и аналогов (работ Уткина, Райта, позднее ― Матэ и Безлюдного и т. д.). После гибели поэта спрос на его портреты сильно возрос, раскупались все гравюры и литографии, сделанные по работам Тропинина и Кипренского. Любопытно, но их печатали в соотношении один к девяти. Видимо, и поэтому мы, потомки, воспринимаем облик поэта прежде всего по образу, созданному Кипренским. Дальнейшая судьба этого портрета известна. Он принадлежал другу поэта, А. А. Дельвигу, после его смерти (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.
Первым этот портрет удачно скопировал и размножил выдающийся мастер резцовой гравюры Николай Иванович Уткин (1780―1836). Хотя его гравировка (8), казалось бы, всего лишь повторение оригинала Кипренского, но Уткину удалось усилить выразительность портрета богатством и разнообразием штриха, а возможно, и собственными представлениями о натуре поэта. Профессиональный уровень этих трех живописцев не может подлежать сомнению. Однако Пушкин, изображенный ими примерно в одно и то же время, видится по-разному.
К этой же портретной группе следует отнести акварельные работы Петра Федоровича Соколова (1791―1848). Приведенный портрет поэта (10) почти на десять лет отстоит от работ Тропинина и Кипренского, Пушкин на десять лет старше, но он такой же. Из этого истока родилась большая «гибридная река» изобразительного ряда похожих, с небольшими вариациями, обликов поэта ― от Т. Райта (17) до К. Ф. Юона (28) и далее.
Но был ли истинный образ поэта таким, каким он показан на своих прижизненных портретах? Единого мнения не было. Одни из современников говорили «да», другие ― «нет». Пожалуй, вторых больше. Но подобные споры не решаются голосованием. Необходим независимый источник информации. Что думал по этому поводу сам поэт? С одной стороны, Пушкин не был высокого мнения о своей внешности, и можно найти много его высказываний по этому поводу. Вот примеры:
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бысстыдным бешенством желаний.
(«Юрьеву», 1820)
«Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (Из письма к жене, 1835).
«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Из письма жене, 1836).
Но есть его высказывание и противоположного рода:
«В... газете объявили, что я собою неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко тронула» (А. С. Пушкин. Опровержение на критику, 1830).
Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Художник Н. П. Ульянов
Заключая анализ портретного ряда, порожденного тропинино-кипренским истоком, приведем цитату из заметки художника Н. П. Ульянова «Мои встречи» (М.: изд-во АХ СССР, 1959), написавшего в 1936 году картину «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (36 ― это фрагмент названной картины):
«...В сущности есть всего два блестящих художественных документа из иконографии поэта. Это портреты Тропинина и Кипренского. Для одних они неоспоримо верный синтез внешнего и внутреннего "я" Пушкина; в других они вызывают некоторые чувства недоверия. Слов нет, оба портрета, и каждый по-своему, замечательны... Но не надо забывать, что тогда было принято "крахмалить" образ. Эпоха требовала некоторой пышности, приподнятости изображения».
Второй поток портретов поэта (28―36) был вызван желанием художников снять с образа поэта «исторический крахмал» (образ, созданный Ульяновым, относится к этому направлению) и отойти от сложившегося социального стереотипа. У истоков этого потока стояли портреты Г. А. Гиппиуса, Жана Вивьена и прежде всего И. Л. Линева.
Во многих высказываниях современников подчеркивается, что Пушкин был собою «неблагообразен». В качестве примера ограничимся тремя цитатами.
«Пушкин, писатель, разговаривает очаровательно без претензий, живо, пламенно. Нельзя быть безобразнее его ― это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикое во взгляде... Рядом с ней (имеется в виду жена поэта. ― Прим. авт.) его уродливость еще более поражает, но когда он говорит, забываешь, чего ему недостает, чтобы быть красивым» (из дневника графини Д. Ф. Фикельмон, урожденной Тизенгаузен, внучки Кутузова, близкой знакомой поэта).
«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевлено, ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно...» (из воспоминаний Л. С. Пушкина). Рост Пушкина в зрелом возрасте был 166,6 см ― это известно из подписи под изображением поэта во весь рост в исполнении художника Г. Г. Чернецова: «Рисовал с натуры, 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».
«Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор по-прежнему, в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению...» (из письма П. Л. Яковлева, брата однокашника Пушкина М. Л. Яковлева. Ноябрь 1826 г.).
Портрет Пушкина работы Жана Вивьена (15) и миниатюра (13), которая также с большой вероятностью выполнена Вивьеном, показывают нам поэта в возрасте приблизительно 28 лет (миниатюра датирована, а на портрете даты нет). Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса (11) изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии. Линию Ж. Вивьена в изображении поэта явно продолжил Г. Г. Мясоедов (32) в известном большом полотне «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской» (1905―1907).
Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской. Художник Г. Г. Мясоедов. 1905-1907
Поздний Пушкин (1836―1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева (16), на котором изображен вне романтического ореола. Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали:
«Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его» (П. Х. Граббе, знакомый Пушкина, автор воспоминаний о встрече с ним).
«К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться» (П. В. Нащокин, один из близких друзей Пушкина).
«Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти» (Н. М. Смирнов, близкий знакомый Пушкина).
Особого упоминания требует история создания портрета работы Линева. Она полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х ― начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе ― марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Автор версии С. М. Куликов, рассматривая записку неизвестному (возможно, Жуковскому), написанную рукой Пушкина ориентировочно в 1835―1837 годах и содержащую следующие слова: «Посылаю тебе мою образину», ― высказывает гипотезу, что речь идет о портрете Пушкина именно работы Линева.
Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29―30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы... Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица ― приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.
Как бы там ни было, но линевский портрет совместно с портретами Вивьена и Гиппиуса породил свою линию в галерее портретов Пушкина ― от К. П. Мазера (29) до В. И. Шухаева (38).
Сюда же следует отнести известную совместную романтическую картину И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. Прощай, свободная стихия!» (1887), где Пушкин (30) в изображении Репина явно унаследовал некоторые черты портрета Линева.
Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» Художники И. Е. Репин и И. К. Айвазовский. 1887
А вот Пушкин, изображенный самим Айвазовским (21) в картине «Пушкин на берегу Черного моря» (1868), ближе к линии портретов Тропинина и Кипренского.
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868
Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868. Фрагмент
Это все, что касается портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Первые три зарисовки выполнены 29 января 1837 года, вторые две ― на следующий день. Посмертная маска была снята с лица в первый день после смерти.
На полях рукописей Пушкин часто рисовал свое лицо. Существует свыше 50 его автопортретов. Наиболее типичные из них мы использовали в работе.
Известно, что и дома, и в Лицее молодому Пушкину преподавали основы рисования, он любил и умел рисовать, и эти автопортреты-шаржи дают дополнительные сведения об облике поэта. На всех рисунках присутствует характерный профиль ― срезанный лоб и выдающаяся вперед нижняя часть лица.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор наиболее вероятного портрета из синтезированного компьютером множества был, без сомнения, самым сложным этапом работы. На читательский суд мы представляем три портрета, относящиеся к разным временным отрезкам жизни А. С. Пушкина.
В центре ― портрет, отобранный экспертами как наиболее вероятный облик А. С Пушкина в возрасте 27―28 лет. Отбор производился из сотни новых синтезированных компьютером портретов, полученных комбинаторными перестановками из элементов базовых портретов и наложением изображений друг на друга. Перед нами наяву, как перед Татьяной во сне, проходила галерея причудливых образов поэта. Метод компьютерного «фоторобота» дает возможность создавать фантасмагорию подвижных химер, подобную описанной А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
Отобранный экспертами портрет получен прямым объединением (по специальной программе) портретов работы О. А. Кипренского (6) и работы В. А. Тропинина (Елагинская копия ― 9). Чем же руководствовались эксперты, выбирая образ? В первую очередь были учтены близость антропометрических параметров его изображения к средним значениям всей совокупности прижизненных портретов этого периода жизни и соответствие данного образа описаниям, составляющим словесный портрет поэта. Например:
«С Пушкина списал Кипренский портрет, необычно похожий» (Н. А. Муханов, знакомый Пушкина, в письме к брату 15 июля 1827 года).
«Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским» (профессор Петербургского университета А. В. Никитенко, 2 сентября 1827 года в дневнике ― о выставке в Академии художеств, открывшейся 1 сентября).
«Не распространяясь в исчислении красот сего произведения г. Кипренского, мы скажем только, что это живой Пушкин» (Ф. В. Булгарин. Газета «Северная пчела», 1827. Обзоры выставки).
«Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь... Лучше всего, по-моему, передает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос ― выдающимся ― это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с негустыми, кудрявыми волосами» (из воспоминаний И. А. Гончарова, когда он студентом увидел А. С. Пушкина при посещении им Московского университета, 27 сентября 1832 года).
Далее эксперты учитывали выраженность на выбранном портрете характерных особенностей подбородка и губ, связанных с абиссинской (эфиопской) наследственностью поэта, и высокую квалификацию художников ― Тропинина и Кипренского, создавших эти два портрета.
Тем не менее выяснилось (и это очень важно), что, делая свой выбор, каждый из экспертов подсознательно испытывал влияние уже сформировавшегося социального стереотипа облика поэта. И это не позволяло заметно отклоняться от принятого стандарта. Кроме того, привлекательность образа, полученного методом наложения и усреднения, обусловлена и другим психологическим фактором ― так называемым «давлением усреднения». Обычно считалось, что среднее лицо непривлекательно. С этим соглашался и иронизировал по этому поводу сам поэт (строки из основного черновика поэмы «Медный всадник»):
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.
Однако, как показали экспериментальные исследования, именно средний образ человека обладает для большинства наибольшей привлекательностью. Если взять несколько десятков черно-белых фотографий разных людей, собранных по методу случайной выборки, и изготовить из них усредненный образ, то для подавляющего большинства наблюдателей он будет привлекательнее индивидуальных. «Средние глаза, уши, рты» ― симпатичнее индивидуальных. И еще одно интересное обстоятельство. Чем больше отдельных лиц привлекается для получения усредненного изображения, тем красивее для наблюдателей противоположного пола оказывался полученный результат. У таких образов есть только один недостаток ― таких «полностью усредненных» лиц не существует.
Вероятно, такое «давление усредненного стандарта» проявилось не только у наших экспертов при выборе, но и при изображении поэта разными художниками. Наибольшую сложность у рисовальщиков портретов А. С. Пушкина вызывали самые информативные элементы его облика ― глаза и нижняя часть лица. Художники, вольно или невольно, пытались «подтянуть» наблюдаемый ими реальный образ под усредненный стандарт европейских лиц или, наоборот, как можно больше утрировать подмеченное ими индивидуальное отличие.
У Пушкина, как отмечали современники, были удлиненные голубые глаза. Наши измерения показали, что среднее соотношение размеров ширины открытого глаза к его длине равно 1 : 3. Но именно такого соотношения на индивидуальных прижизненных портретах поэта мы не встречаем. У стандартного глаза европейца это соотношение приблизительно 1 : 2,5. По-видимому, этим и объясняется столь большое различие в геометрии глаза на разных портретах Пушкина: одни подтягивали размеры под «европейский» глаз, другие уходили от стандарта. Разброс отношений составляет до 25%. На портрете работы Тропинина отклонение составляет 7% в сторону удлинения по горизонтали, а на портрете работы Кипренского ― на 16% в противоположную сторону и почти соответствует европейскому стандарту глаза (1 : 2,6). Сам Пушкин на своих автопортретах рисовал глаза удлиненными.
Форма нижней части лица ― выдвинутые вперед подбородок и крупные губы ― настолько сильно отклонялась от стандартного европейского облика, что ставила как художников-современников, изображавших поэта, так и их последователей и самого поэта перед проблемой: как сделать изображение похожим на оригинал и в то же время скрыть «его непривлекательную наружность». На портретах 3, 5, 7, 16 и на зарисовке М. Ф. Бруни «Пушкин на смертном одре» тем не менее в целом передана эта наиболее сложная и нестандартная часть лица поэта. На портретах 4 и 6―14 в отличие от портрета работы Тропинина в значительной степени исчезла скошенность лба, которая присутствует на всех автопортретах поэта.
Вот и решайте, соответствует ли усредненный портрет Тропинина ― Кипренского реальному облику поэта, или его выбор определили подсознательные процессы в головах экспертов?
Далее мы обратились к реконструкции образа молодого Пушкина. От лицейских времен сохранились два мало схожих между собой пушкинских портрета. Первый нарисован в начале лицейской жизни, второй (4) ― в ее конце Е. А. Энгельгардтом, директором Лицея. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным подростком первого портрета, нарисованным гувернером, учителем рисования С. Г. Чириковым. Только большой лоб да острота взгляда те же. Возможно, директору Лицея хотелось, чтобы вверенные ему лицеисты выглядели подтянутыми и по-немецки опрятными. Третий портрет (3) ― это гравюрная авторская копия, выполненная Е. И. Гейтманом с портрета Чирикова.
Из трех этих образов молодого поэта были синтезированы 24 новых портрета, из которых был выбран портрет, полученный из образов 2 и 3 с подбором весовых коэффициентов при наложении. При выборе учитывались два обстоятельства. Первое. Образ поэта в зрелом возрасте, уже отобранный экспертами, и возможность перехода к нему при взрослении выбираемого детского лица. Второе. Издатель Н. И. Гнедич приложил портрет 3-му к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 году, вероятно, потому, что он был сходен с натурой. Выбранный синтезированный портрет не только весьма похож на образы 2 и 3, но и совпадает со словесными описаниями, относящимися к этому периоду:
«...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик... со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались...» (из воспоминаний Е. П. Яньковой).
Соответствует этот портрет и приводившемуся уже высказыванию о своей внешности молодого Пушкина:
«У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».
Наконец, мы попытались сформировать облик позднего Пушкина, после 1830 года. Выбранный экспертами образ получен методом «фоторобота» из портретов 15 и 38. Похожий на этот образ портрет получается также методом «фоторобота» из портретов 15 и 16. Выбор этого портрета определился, в частности, и тем, что при повороте синтетического портрета 27-летнего Пушкина дополнительно к исходному ракурсу на 15 градусов выбранный образ соответствует ему, но выглядит несколько старше. Этот выбор экспертов подтверждают уже приводившиеся выше словесные портреты позднего Пушкина и собственные рисунки поэта (образы 5, 6, 8, 10-12 автопортретов Пушкина).
* * *
Для восприятия творческого наследия А. С. Пушкина не так уж важно, как он сам выглядел и как воспринимался современниками. Сегодня Пушкин для нас ― национальный символ нашей культуры и истории. Он для россиян значит больше, чем Шекспир или Байрон для англичан, а Гете ― для немцев. Его обобщенный хрестоматийный образ (пусть не совсем похожий на оригинал) уже живет сам по себе, вне времени. Юбилей поэта явился для нас лишь поводом, чтобы с позиции современного компьютерного распознавания образов под неожиданным ракурсом взглянуть на социопсихологическую проблему восприятия и отображения художниками разных поколений облика Пушкина. Мы попытались воссоздать наиболее вероятный образ методами, которые раньше не существовали.
Елена Байер,
01-07-2010 09:53
(ссылка)
НАСЛЕДИЕ. ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сто лет назад догорал костер европейского пожара, и тогда начала существовать Московская Духовная академия. Зарево нового, еще более ужасного, европейского пожара освещает ее столетний юбилей. Против кого воевала наша Россия тогда, сто лет назад? Против Франции, против «просвещенной», передовой Франции. Тогда нашим врагом была страна, только что пережившая век Просвещения, Вольтера, революцию, страна, провозгласившая великие принципы свободы, равенства и братства — и изобретшая гильотину для проведения в жизнь этих высоких принципов. Теперь мы воюем с Германией. Но не Германия ли за последнее время идет во главе европейской культуры и прогресса? Несомненно, она. По пути прогресса она бесспорно далеко опередила всех. Русский человек в Германии невольно изумляется тому, как много можно сделать для удобства жизни земной. В сознании невольно мелькает мысль: как далеко мы отстали! Я сам испытал это, проезжая Германию от Торна до Кельна и Аахена. «Во всем, касающемся земного устроения, Германия занимает первое место, играет роль школы цивилизации, ей принадлежит сейчас культурная гегемония, ибо вся современная фабрично-капиталистическая и научно-идеалистическая культура, до известной степени, made in Germany, носит на себе печать германского духа».
Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.
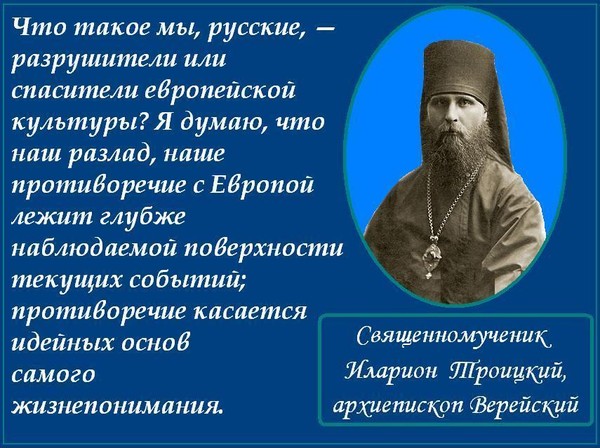
Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.
Но не трудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной, и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель — сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они порок и погибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут… такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске ― какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику, и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому «пройти бы можно, чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland liber alles!» — вот припев германского патриотизма. Слабые народы — это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства — так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уже с несомненными варварами турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не сметь! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подожженная немцами!
Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.
Война — это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны недавно прошедшего столетия порою кажутся детскими забавами. Это — прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война — это самопроклятие прогресса!
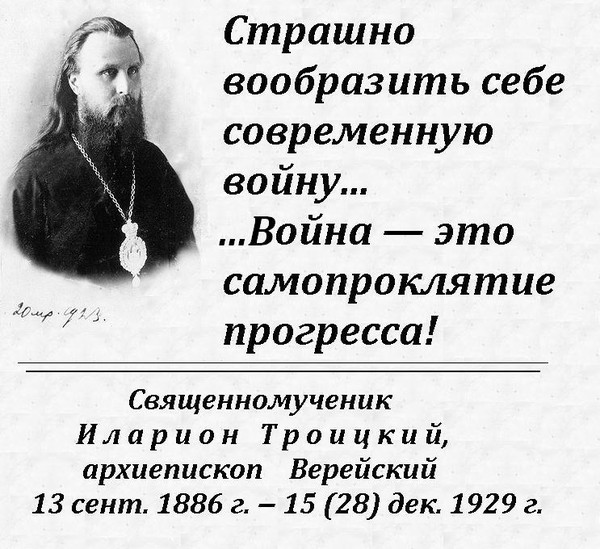
Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но… но “да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!”. Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!» Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, — и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.
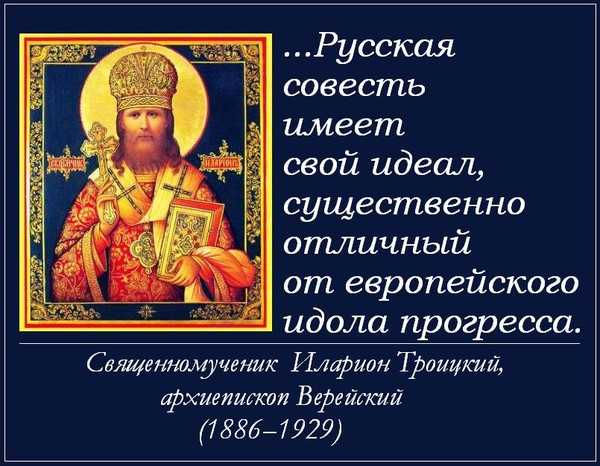
Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал православия.
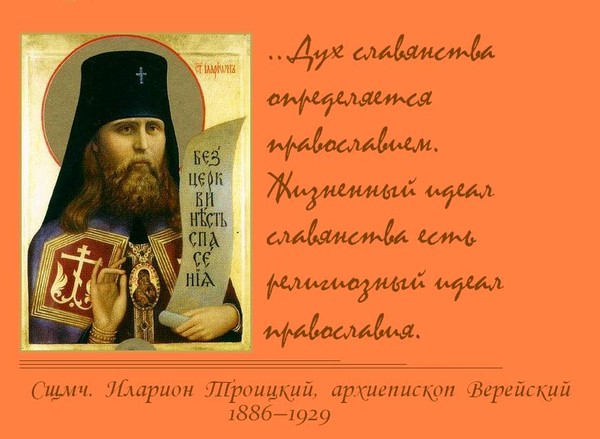
Но в чем религиозный идеал православия? Идеал православия есть не прогресс, но преображение. О преображении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Никодиму. По слову апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (1 Кор. 15,. 49). От славы в славу преображаются они от Духа Господня (2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» — говорил Господь устами древнего пророка (Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит:
«Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 1–4).
Процесс преображения человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5, 48).
Идеалом преображения жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков, и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» — смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин — новый, как бы только что родившийся человек. Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть крест, пользуясь вервию — Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все — богоносцы и храмоносцы, христоносцы, святоносцы. Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.
В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви, начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.
Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение — не слащаво-сантиментальное завывание самодовольного буржуя-протестанта в своей кирхе, не боязливая просьба несчастного католика о пощаде и помиловании, наше богослужение — гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к небу, на гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси». В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Востаните ленивии, иже всегда низу поникший в землю, возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения».
Итак, идеал православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним».
При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противоположность обнаруживается в культе. В культе, говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европеец преклонял колена пред богиней разума, потом пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подземелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это — прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговейно лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. Зато они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник — храм, посвященный имени святого, а не великого только.
Я уже сказал, что идеалом православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западноевропейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным. Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западноевропейскому прогрессу. Ему ясно и понятно, что за чечевичную похлебку культурной жизни европеец продал невозвратно права Божественного первородства. Немец душу черту продал, а русский так отдал, и в этом несомненное превосходство русского, потому что он так же и уйти от черта может, а немцу выкупиться нечем.
Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?.. Бог с ними.
По прихоти своей скитаться здесь и там ,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!
Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него — излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.
Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, — по словам Достоевского, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».
Отбившись от народной веры и жизни — что стало случаться после петровского окна в Европу, — русский делается скитальцем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:
Оставь нас, гордый человек!
Ты для себя лишь хочешь воли…
Ты зол и смел — оставь же нас.
Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».
Чем дальше от народа и православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство — все же признак того, что не спокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преображения печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне», Акт третий) рассказывает: «Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил… Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо… и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько — пожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю… Одна у него радость была — земля эта… И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого… с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками… Человек и говорит ученому: „Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?“ Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет! Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: „Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…“ Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой — и удавился!..»
По этому представлению и наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия — философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а оканчивает «Размышлением о Божественной литургии».
Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность — душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преображения, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
И милость к падшим призывал.
Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него преступление обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преображению и веру в его возможность. «Всеобщее исцеление во всеобщем преображении — в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде — у Толстого, а из мыслителей — у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего» (кн. Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума.). У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «свете Фаворском и преображении ума». У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преп. Ефрема Сирина и признается:
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой (А. С. Пушкин).
Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель — «сердцем возлетать во области заочны».
Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.
Напрасно я бегу к сионским высотам —
Грех алчный гонится за мною по пятам.
Грех — вот самый главный враг преображения. Отсюда у носителя идеала преображения особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал апостол Павел в послании к римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского пред европейцем. Европеец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европеец смеется, а иногда сам грех облекает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, не мало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древе пишут хулы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво. Европейский Иуда, предав — Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо». При этом «один каторжный бросился было на него в решительном исступлении».
А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, — люди несчастные, страдающие; они ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многажды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма», и «у последней черты», по их представлению, — страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.
Итак, если идеал Запада — прогресс, то русский народный идеал — преображение. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник — Бог (Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен, он — матерь всем нам (Гал. 4, 26).
Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преображение, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.
В истории Московской Духовной Академии мы стоим на грани двух столетий, и нам весьма полезно, хотя бы под давлением грандиозных событий, напомнить себе религиозный идеал православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преображения нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преображения, чтобы, когда придет время трудиться на ниве народной, не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.
Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.
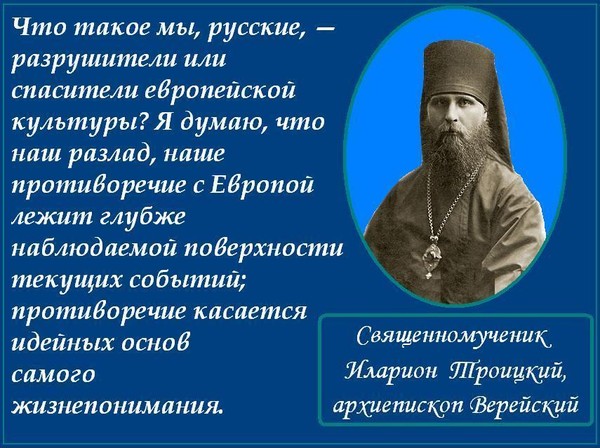
Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.
Но не трудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной, и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель — сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они порок и погибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут… такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске ― какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику, и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому «пройти бы можно, чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland liber alles!» — вот припев германского патриотизма. Слабые народы — это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства — так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уже с несомненными варварами турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не сметь! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подожженная немцами!
Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.
Война — это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны недавно прошедшего столетия порою кажутся детскими забавами. Это — прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война — это самопроклятие прогресса!
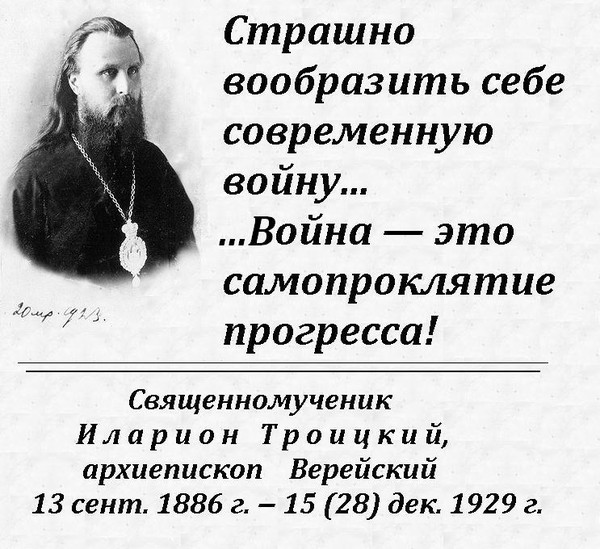
Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но… но “да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!”. Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!» Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, — и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.
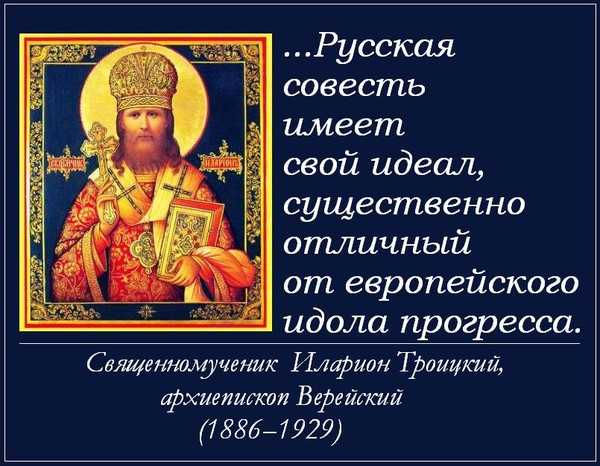
Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал православия.
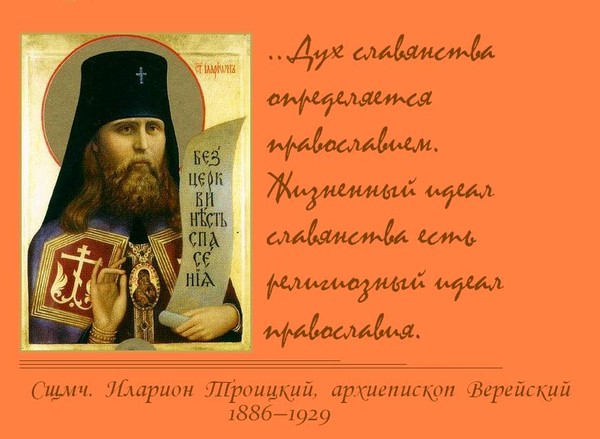
Но в чем религиозный идеал православия? Идеал православия есть не прогресс, но преображение. О преображении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Никодиму. По слову апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (1 Кор. 15,. 49). От славы в славу преображаются они от Духа Господня (2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» — говорил Господь устами древнего пророка (Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит:
«Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 1–4).
Процесс преображения человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5, 48).
Идеалом преображения жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков, и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» — смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин — новый, как бы только что родившийся человек. Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть крест, пользуясь вервию — Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все — богоносцы и храмоносцы, христоносцы, святоносцы. Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.
В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви, начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.
Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение — не слащаво-сантиментальное завывание самодовольного буржуя-протестанта в своей кирхе, не боязливая просьба несчастного католика о пощаде и помиловании, наше богослужение — гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к небу, на гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси». В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Востаните ленивии, иже всегда низу поникший в землю, возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения».
Итак, идеал православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним».
При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противоположность обнаруживается в культе. В культе, говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европеец преклонял колена пред богиней разума, потом пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подземелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это — прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговейно лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. Зато они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник — храм, посвященный имени святого, а не великого только.
Я уже сказал, что идеалом православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западноевропейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным. Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западноевропейскому прогрессу. Ему ясно и понятно, что за чечевичную похлебку культурной жизни европеец продал невозвратно права Божественного первородства. Немец душу черту продал, а русский так отдал, и в этом несомненное превосходство русского, потому что он так же и уйти от черта может, а немцу выкупиться нечем.
Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?.. Бог с ними.
По прихоти своей скитаться здесь и там ,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!
Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него — излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.
Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, — по словам Достоевского, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».
Отбившись от народной веры и жизни — что стало случаться после петровского окна в Европу, — русский делается скитальцем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:
Оставь нас, гордый человек!
Ты для себя лишь хочешь воли…
Ты зол и смел — оставь же нас.
Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».
Чем дальше от народа и православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство — все же признак того, что не спокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преображения печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне», Акт третий) рассказывает: «Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил… Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо… и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько — пожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю… Одна у него радость была — земля эта… И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого… с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками… Человек и говорит ученому: „Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?“ Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет! Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: „Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…“ Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой — и удавился!..»
По этому представлению и наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия — философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а оканчивает «Размышлением о Божественной литургии».
Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность — душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преображения, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
И милость к падшим призывал.
Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него преступление обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преображению и веру в его возможность. «Всеобщее исцеление во всеобщем преображении — в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде — у Толстого, а из мыслителей — у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего» (кн. Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума.). У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «свете Фаворском и преображении ума». У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преп. Ефрема Сирина и признается:
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой (А. С. Пушкин).
Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель — «сердцем возлетать во области заочны».
Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.
Напрасно я бегу к сионским высотам —
Грех алчный гонится за мною по пятам.
Грех — вот самый главный враг преображения. Отсюда у носителя идеала преображения особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал апостол Павел в послании к римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского пред европейцем. Европеец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европеец смеется, а иногда сам грех облекает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, не мало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древе пишут хулы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво. Европейский Иуда, предав — Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо». При этом «один каторжный бросился было на него в решительном исступлении».
А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, — люди несчастные, страдающие; они ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многажды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма», и «у последней черты», по их представлению, — страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.
Итак, если идеал Запада — прогресс, то русский народный идеал — преображение. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник — Бог (Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен, он — матерь всем нам (Гал. 4, 26).
Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преображение, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.
В истории Московской Духовной Академии мы стоим на грани двух столетий, и нам весьма полезно, хотя бы под давлением грандиозных событий, напомнить себе религиозный идеал православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преображения нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преображения, чтобы, когда придет время трудиться на ниве народной, не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.
Вступительная лекция-речь, сказанная в академической аудитории 3 сентября 1914 года. Впервые опубликовано в журнале «Богословский вестник», 1914, т. 3, № 10-11. Подписано «Архимандрит Иларион».
Священномученик Иларион (Троицкий)
Священномученик Иларион (Троицкий)
Метки: Наследие, самобытность, Русь, Россия, открытка
Елена Байер,
16-05-2010 13:29
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ II
Удивительно то, что происходит в России и с Россией сейчас. Весь мир признал российско-советскую систему образования как самую эффективную, а мы отказались от нее и... по дурному примеру Запада ввели ЕГЭ. Испокон Русь семьей крепла, а мы ратуем за введение ювенальной юстиции, разрушающей семью. Веками о героях слагали песни, а мы почти готовы признать под давлением "просвещенного" Запада, что наши герои были... оккупантами... Всё опрокинулось... Вразуми нас, Господи!..
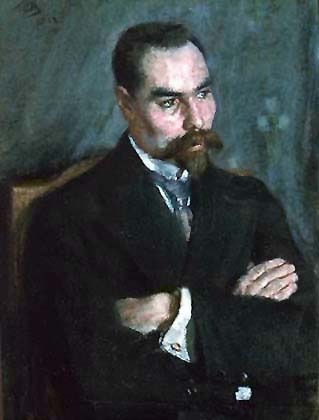
Валерий Брюсов
СТАРЫЙ ВОПРОС
СТАРЫЙ ВОПРОС
Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнёмся спокойно и тесно.
Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий;
Но Рок подымает вопрос:
Мы кто в этой старой Европе?
Случайные гости? орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Все губит в бессмысленной злобе?
Иль мы - тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита?
Иль мы - тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжелых?
Иль мы - тот народ, кто обрел
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?
Да, так, мы - славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?
И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?
Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы величавой,
Мы явим пред ликом веков,
В чем наше народное право.
Не надо несбыточных грез,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?
30 июля 1914
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнёмся спокойно и тесно.
Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий;
Но Рок подымает вопрос:
Мы кто в этой старой Европе?
Случайные гости? орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Все губит в бессмысленной злобе?
Иль мы - тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита?
Иль мы - тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжелых?
Иль мы - тот народ, кто обрел
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?
Да, так, мы - славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?
И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?
Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы величавой,
Мы явим пред ликом веков,
В чем наше народное право.
Не надо несбыточных грез,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?
30 июля 1914
Метки: стихи, писатели, Русь, самобытность, поэты, Россия, брюсов
Елена Байер,
16-05-2010 12:48
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
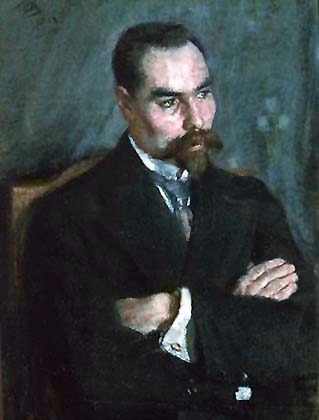
Валерий Брюсов
К МОЕЙ СТРАНЕ
Моя страна! Ты доказала
И мне и всем, что дух твой жив,
Когда, почуяв в теле жало,
Ты заметалась, застонала,
Вся - исступленье, вся - порыв!
О, страшен был твой недвижимый,
На смерть похожий, черный сон!
Но вдруг пронесся гул Цусимы,
Ты задрожала вся, и мнимый
Мертвец был громом пробужден.
Нет, не позор бесправной доли,
Не зов непризванных вождей,
Но жгучий стыд, но ярость боли
Тебя метнули к новой воле
И дали мощь руке твоей!
И как недужному, сквозь бреды,
Порой мелькают имена, -
Ты вспомнила восторг победы,
И то, о чем сказали деды:
Что ты великой быть - должна!
Пусть ветры вновь оледенили
Разбег апрельский бурных рек:
Их жизнь - во временной могиле,
Мы смеем верить скрытой силе,
Ждать мая, мая в этот век!
1911
И мне и всем, что дух твой жив,
Когда, почуяв в теле жало,
Ты заметалась, застонала,
Вся - исступленье, вся - порыв!
О, страшен был твой недвижимый,
На смерть похожий, черный сон!
Но вдруг пронесся гул Цусимы,
Ты задрожала вся, и мнимый
Мертвец был громом пробужден.
Нет, не позор бесправной доли,
Не зов непризванных вождей,
Но жгучий стыд, но ярость боли
Тебя метнули к новой воле
И дали мощь руке твоей!
И как недужному, сквозь бреды,
Порой мелькают имена, -
Ты вспомнила восторг победы,
И то, о чем сказали деды:
Что ты великой быть - должна!
Пусть ветры вновь оледенили
Разбег апрельский бурных рек:
Их жизнь - во временной могиле,
Мы смеем верить скрытой силе,
Ждать мая, мая в этот век!
1911
Елена Байер,
07-05-2010 17:48
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". БЕНЕДИКТОВ
Владимир БЕНЕДИКТОВ
(1807–1873)

К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
(От стариков)
Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу!
Дай Бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час.
Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу
Шагайте через нас!
Мы грузом наших дней недолго вас помучим;
О смерти нашей вы не станете тужить,
А жизнью мы своей тому хоть вас научим,
Что так не должно жить.
Не падайте, как мы, пороков грязных в сети!
Не мрите заживо косненьем гробовым!
И пусть вины отцов покроют наши дети
Достоинством своим!
Молитесь! — Ваша жизнь да будет с мраком битва!
Пусть будет истины светильником она!
Слышней молитесь! Жизнь — единая молитва,
Которая слышна.
Молитесь же — борьбой с гасильниками света,
Борьбой с невежеством и каждым злом земным!
Пред вами добрый царь: хвала и многи лета!
Молитесь вместе с ним!
Прямую вечную прокладывать дорогу
Вы, дети, научась блужданием отцов,
Молитесь, бодрые, живых живому Богу —
Не богу мертвецов!
Служите Господу — не аскетизма скукой,
Не фарисейства тьмой, не бабьим ханжеством,
Но — делом жизненным, искусством и наукой,
И правды торжеством!
И если мы порой на старине с упорством
Стоим и на ходу задерживаем вас
Своим болезненным, тупым противоборством —
Шагайте через нас!
(1807–1873)

К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ
(От стариков)
Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу!
Дай Бог вам добрый путь! Спешите! Дорог час.
Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу
Шагайте через нас!
Мы грузом наших дней недолго вас помучим;
О смерти нашей вы не станете тужить,
А жизнью мы своей тому хоть вас научим,
Что так не должно жить.
Не падайте, как мы, пороков грязных в сети!
Не мрите заживо косненьем гробовым!
И пусть вины отцов покроют наши дети
Достоинством своим!
Молитесь! — Ваша жизнь да будет с мраком битва!
Пусть будет истины светильником она!
Слышней молитесь! Жизнь — единая молитва,
Которая слышна.
Молитесь же — борьбой с гасильниками света,
Борьбой с невежеством и каждым злом земным!
Пред вами добрый царь: хвала и многи лета!
Молитесь вместе с ним!
Прямую вечную прокладывать дорогу
Вы, дети, научась блужданием отцов,
Молитесь, бодрые, живых живому Богу —
Не богу мертвецов!
Служите Господу — не аскетизма скукой,
Не фарисейства тьмой, не бабьим ханжеством,
Но — делом жизненным, искусством и наукой,
И правды торжеством!
И если мы порой на старине с упорством
Стоим и на ходу задерживаем вас
Своим болезненным, тупым противоборством —
Шагайте через нас!
Метки: Бенедиктов, стихи
Елена Байер,
07-05-2010 18:15
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". БЕНЕДИКТОВ
Владимир БЕНЕДИКТОВ
(1807–1873)

И НЫНЕ
Над нами те ж, как древле, небеса,
И так же льют нам благ своих потоки,
И в наши дни творятся чудеса,
И в наши дни являются пророки.
Бог не устал: Бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой Змия;
Там зрит слепой, там мертвый восстает:
Исайя жив, и жив Иеремия.
Не истощил Господь своих даров,
Не оскудел духовной благодатью:
Он все творит, — и библия миров
Не замкнута последнею печатью.
Кто духом жив, в ком вера не мертва,
Кто сознает всю животворность слова,
Тот всюду зрит наитье божества.
И слышит все, что говорит Егова.
И, разогнав кудесничества чад,
В природе он усмотрит святость чуда,
И не распнет он Слова, как Пилат,
И не предаст он Слова, как Иуда,
И брата он, как Каин не убьет;
Гонимого с радушной лаской примет,
Смирением надменных низведет,
И слабого и падшего подымет.
Не унывай, о малодушный род!
Не падайте, о племена земные!
Бог не устал: Бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой Змия.
(1807–1873)

И НЫНЕ
Над нами те ж, как древле, небеса,
И так же льют нам благ своих потоки,
И в наши дни творятся чудеса,
И в наши дни являются пророки.
Бог не устал: Бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой Змия;
Там зрит слепой, там мертвый восстает:
Исайя жив, и жив Иеремия.
Не истощил Господь своих даров,
Не оскудел духовной благодатью:
Он все творит, — и библия миров
Не замкнута последнею печатью.
Кто духом жив, в ком вера не мертва,
Кто сознает всю животворность слова,
Тот всюду зрит наитье божества.
И слышит все, что говорит Егова.
И, разогнав кудесничества чад,
В природе он усмотрит святость чуда,
И не распнет он Слова, как Пилат,
И не предаст он Слова, как Иуда,
И брата он, как Каин не убьет;
Гонимого с радушной лаской примет,
Смирением надменных низведет,
И слабого и падшего подымет.
Не унывай, о малодушный род!
Не падайте, о племена земные!
Бог не устал: Бог шествует вперед;
Мир борется с враждебной силой Змия.
Метки: стихи, Бенедиктов
Елена Байер,
29-01-2009 18:56
(ссылка)
Давид Самойлов. "...И тогда узнаешь вдруг..."
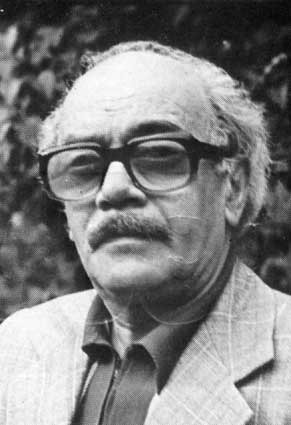
...И тогда узнаешь вдруг,
Как звучит родное слово.
Ведь оно не смысл и звук,
А уто́к пережитого,
Колыбельная основа
Наших радостей и мук.
Как звучит родное слово.
Ведь оно не смысл и звук,
А уто́к пережитого,
Колыбельная основа
Наших радостей и мук.
Метки: СТИХИ О Р ЯЗ, Самойлов
Елена Байер,
15-04-2010 01:42
(ссылка)
"ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО". ВОЛОШИН
Максимилиан Волошин
СВЯТАЯ РУСЬ

А. М. Петровой
Суздаль да Москва не для тебя ли
По уделам землю собирали
Да тугую золотом суму?
В рундуках приданое копили
И тебя невестою растили
В расписном да тесном терему?
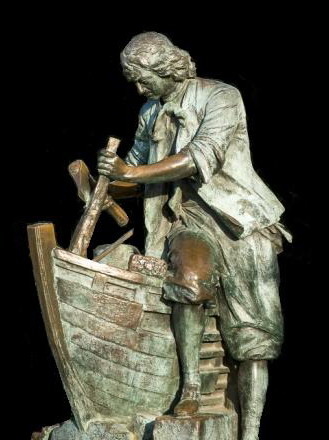
Царь-плотник. СПб
Не тебе ли на речных истоках
Плотник-Царь построил дом широко —
Окнами на пять земных морей?
Из невест красой да силой бранной
Не была ль ты самою желанной
Для заморских княжих сыновей?

М. В. Нестеров. В скиту. 1915
Но тебе сыздетства были любы —
По лесам глубоких скитов срубы,
По степям кочевья без дорог,
Вольные раздолья да вериги,
Самозванцы, воры да расстриги,
Соловьиный посвист да острог.

Персидский поход Стеньки Разина. Палех
Быть царевой ты не захотела —
Уж такое подвернулось дело:
Враг шептал: развей да расточи,
Ты отдай казну свою богатым,
Власть — холопам, силу — супостатам,
Смердам — честь, изменникам — ключи.

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба.
Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!
И. Глазунов. Вечная Русь
СВЯТАЯ РУСЬ

А. М. Петровой
Суздаль да Москва не для тебя ли
По уделам землю собирали
Да тугую золотом суму?
В рундуках приданое копили
И тебя невестою растили
В расписном да тесном терему?
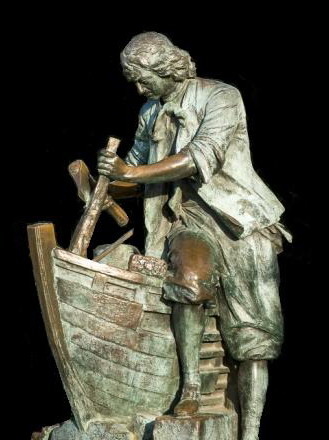
Царь-плотник. СПб
Не тебе ли на речных истоках
Плотник-Царь построил дом широко —
Окнами на пять земных морей?
Из невест красой да силой бранной
Не была ль ты самою желанной
Для заморских княжих сыновей?

М. В. Нестеров. В скиту. 1915
Но тебе сыздетства были любы —
По лесам глубоких скитов срубы,
По степям кочевья без дорог,
Вольные раздолья да вериги,
Самозванцы, воры да расстриги,
Соловьиный посвист да острог.

Персидский поход Стеньки Разина. Палех
Быть царевой ты не захотела —
Уж такое подвернулось дело:
Враг шептал: развей да расточи,
Ты отдай казну свою богатым,
Власть — холопам, силу — супостатам,
Смердам — честь, изменникам — ключи.

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба.
Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!
И. Глазунов. Вечная Русь
Елена Байер,
30-01-2014 18:23
(ссылка)
ССЫЛКИ НА РАЗДЕЛЫ СООБЩЕСТВА
Персоналии
Абузяров Ильдар
http://my.mail.ru/community...
Афанасьев А. Н.
http://my.mail.ru/community...
Ахматова Анна
http://my.mail.ru/community...
Бенедиктов Владимир
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бродский Иосиф
http://my.mail.ru/community...
Брюсов Валерий
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бунин Иван
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Волошин Максимилиан
http://my.mail.ru/community...
Высоцкий Владимир
http://my.mail.ru/community...
Гоголь Николай Васильевич
http://my.mail.ru/community...
Гумилев Николай
http://my.mail.ru/community...
Достоевский Федор Михайлович
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Есенин Сергей
http://my.mail.ru/community...
Заболоцкий Николай
http://my.mail.ru/community...
Карамзин
http://my.mail.ru/community...
Леонов Леонид
http://my.mail.ru/community...
Лермонтов. 10 прижизненных портретов
http://my.mail.ru/community...
Лесков Николай
http://my.mail.ru/community...
Ломоносов Михаил Васильевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Майков Аполлон Николаевич
http://my.mail.ru/community...
Окуджава Булат
http://my.mail.ru/community...
Прилепин Захар о Леониде Леонове
http://my.mail.ru/community...
Пушкин
http://my.mail.ru/community...
Пушкин в живописи
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История венчания
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История одного портрета
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Миниатюра Тропинина
http://my.mail.ru/community...
Пушкин на войне
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Прижизненные портреты
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Усредненный компьютерный портрет
http://my.mail.ru/community...
Рубцов Николай
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Толстой Лев Николаевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Тургенев Андрей
http://my.mail.ru/community...
Тютчев Федор
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Чаадаев Петр
http://my.mail.ru/community...
Чехов Антон Павлович
http://my.mail.ru/community...
Шукшин Василий
http://my.mail.ru/community...
Эппель Асар
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии
Русский Буккер-2012
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии 2011 года
http://my.mail.ru/community...
Русский Буккер-2011
http://my.mail.ru/community...
"Русский Букер"-2010 и другие годы
http://my.mail.ru/community...
Юбилеи и праздники
Книги - юбиляры-2010. Руслан и Людмила
http://my.mail.ru/community...
Книги - юбиляры-2010. Путешествие из Петербурга в Москву
http://my.mail.ru/community...
Современная поэзия
Каталог новых поэзий
http://my.mail.ru/community...
Минимальная картина современной поэзии
http://my.mail.ru/community...
Русская поэзия конца ХХ века
http://my.mail.ru/community...
Современная проза
«Кровавые кусочки воробьев»
http://my.mail.ru/community...
Не-проблемы русской литературы
http://my.mail.ru/community...
Библейский сюжет
«Бесы» Достоевского
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
Беречь родной язык
http://my.mail.ru/community...
Борьба за чистоту языка
http://my.mail.ru/community...
Дар и бездарность
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
http://my.mail.ru/community...
Искажение сути слов
http://my.mail.ru/community...
Кирилл и Мефодий. Житие
http://my.mail.ru/community...
Народный язык
http://my.mail.ru/community...
Праздные слова
http://my.mail.ru/community...
Проблемы языка и "Старое радио"
http://my.mail.ru/community...
Пустословие
http://my.mail.ru/community...
Сквернословие
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Слово - благодать
http://my.mail.ru/community...
Черная брань (о русском мате)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты (понятие)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Битва
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Взгляд
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. День
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Женщина
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Земля
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Ночь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Речь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Слово
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Счастье
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Язык, беседа, разговор
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Хохма
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Язычник
http://my.mail.ru/community...
Образование
ЕГЭ и Хармс
http://my.mail.ru/community...
Школа
http://my.mail.ru/community...
Школьные страницы
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Древняя Русь и литература
Слово о Законе и Благодати
http://my.mail.ru/community...
Литература и...
История. Православный князь Аскольд
http://my.mail.ru/community...
Карамзин. Великий князь Владимир
http://my.mail.ru/community...
Мемориал. Никто не забыт...
http://my.mail.ru/community...
Наследие. Прогресс и преображение
http://my.mail.ru/community...
Новая притча на старый лад
http://my.mail.ru/community...
Память
http://my.mail.ru/community...
Степанов Юрий. Интервью
http://my.mail.ru/community...
Чему нам учиться у Европы
http://my.mail.ru/community...
Опросы
ЕГЭ. Как вам это нравится?
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид. Свободный стих
http://my.mail.ru/community...
Читаете ли Вы дома вслух?
http://my.mail.ru/community...
Трудные вопросы
Проверьте свою грамотность
http://my.mail.ru/community...
Словари и справочники
http://my.mail.ru/community...
Словарный запас. Тест
http://my.mail.ru/community...
Смешно о важном
http://my.mail.ru/community...
Фонетика по Галичу
http://my.mail.ru/community...
Что скажут филологи
http://my.mail.ru/community...
Альбомы
Бродский
http://foto.mail.ru/communi...
ВОЙНА и МИР в иллюстрациях
http://foto.mail.ru/communi...
Гоголь
http://foto.mail.ru/communi...
Лермонтов
http://foto.mail.ru/communi...
Настольные книги
http://foto.mail.ru/communi...
Пушкин. Наше всё
http://foto.mail.ru/communi...
Русь
http://foto.mail.ru/communi...
Стихи на открытках
http://foto.mail.ru/communi...
Хранители слова
http://foto.mail.ru/communi...
Абузяров Ильдар
http://my.mail.ru/community...
Афанасьев А. Н.
http://my.mail.ru/community...
Ахматова Анна
http://my.mail.ru/community...
Бенедиктов Владимир
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бродский Иосиф
http://my.mail.ru/community...
Брюсов Валерий
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Бунин Иван
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Волошин Максимилиан
http://my.mail.ru/community...
Высоцкий Владимир
http://my.mail.ru/community...
Гоголь Николай Васильевич
http://my.mail.ru/community...
Гумилев Николай
http://my.mail.ru/community...
Достоевский Федор Михайлович
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Есенин Сергей
http://my.mail.ru/community...
Заболоцкий Николай
http://my.mail.ru/community...
Карамзин
http://my.mail.ru/community...
Леонов Леонид
http://my.mail.ru/community...
Лермонтов. 10 прижизненных портретов
http://my.mail.ru/community...
Лесков Николай
http://my.mail.ru/community...
Ломоносов Михаил Васильевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Майков Аполлон Николаевич
http://my.mail.ru/community...
Окуджава Булат
http://my.mail.ru/community...
Прилепин Захар о Леониде Леонове
http://my.mail.ru/community...
Пушкин
http://my.mail.ru/community...
Пушкин в живописи
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История венчания
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. История одного портрета
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Миниатюра Тропинина
http://my.mail.ru/community...
Пушкин на войне
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Прижизненные портреты
http://my.mail.ru/community...
Пушкин. Усредненный компьютерный портрет
http://my.mail.ru/community...
Рубцов Николай
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Толстой Лев Николаевич
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Тургенев Андрей
http://my.mail.ru/community...
Тютчев Федор
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Чаадаев Петр
http://my.mail.ru/community...
Чехов Антон Павлович
http://my.mail.ru/community...
Шукшин Василий
http://my.mail.ru/community...
Эппель Асар
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии
Русский Буккер-2012
http://my.mail.ru/community...
Литературные премии 2011 года
http://my.mail.ru/community...
Русский Буккер-2011
http://my.mail.ru/community...
"Русский Букер"-2010 и другие годы
http://my.mail.ru/community...
Юбилеи и праздники
Книги - юбиляры-2010. Руслан и Людмила
http://my.mail.ru/community...
Книги - юбиляры-2010. Путешествие из Петербурга в Москву
http://my.mail.ru/community...
Современная поэзия
Каталог новых поэзий
http://my.mail.ru/community...
Минимальная картина современной поэзии
http://my.mail.ru/community...
Русская поэзия конца ХХ века
http://my.mail.ru/community...
Современная проза
«Кровавые кусочки воробьев»
http://my.mail.ru/community...
Не-проблемы русской литературы
http://my.mail.ru/community...
Библейский сюжет
«Бесы» Достоевского
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
Беречь родной язык
http://my.mail.ru/community...
Борьба за чистоту языка
http://my.mail.ru/community...
Дар и бездарность
http://my.mail.ru/community...
Дар слова
http://my.mail.ru/community...
Искажение сути слов
http://my.mail.ru/community...
Кирилл и Мефодий. Житие
http://my.mail.ru/community...
Народный язык
http://my.mail.ru/community...
Праздные слова
http://my.mail.ru/community...
Проблемы языка и "Старое радио"
http://my.mail.ru/community...
Пустословие
http://my.mail.ru/community...
Сквернословие
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Слово - благодать
http://my.mail.ru/community...
Черная брань (о русском мате)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты (понятие)
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Битва
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Взгляд
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. День
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Женщина
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Земля
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Ночь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Речь
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Слово
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Счастье
http://my.mail.ru/community...
Эпитеты. Язык, беседа, разговор
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Хохма
http://my.mail.ru/community...
Этимология. Язычник
http://my.mail.ru/community...
Образование
ЕГЭ и Хармс
http://my.mail.ru/community...
Школа
http://my.mail.ru/community...
Школьные страницы
http://my.mail.ru/community...
http://my.mail.ru/community...
Древняя Русь и литература
Слово о Законе и Благодати
http://my.mail.ru/community...
Литература и...
История. Православный князь Аскольд
http://my.mail.ru/community...
Карамзин. Великий князь Владимир
http://my.mail.ru/community...
Мемориал. Никто не забыт...
http://my.mail.ru/community...
Наследие. Прогресс и преображение
http://my.mail.ru/community...
Новая притча на старый лад
http://my.mail.ru/community...
Память
http://my.mail.ru/community...
Степанов Юрий. Интервью
http://my.mail.ru/community...
Чему нам учиться у Европы
http://my.mail.ru/community...
Опросы
ЕГЭ. Как вам это нравится?
http://my.mail.ru/community...
Самойлов Давид. Свободный стих
http://my.mail.ru/community...
Читаете ли Вы дома вслух?
http://my.mail.ru/community...
Трудные вопросы
Проверьте свою грамотность
http://my.mail.ru/community...
Словари и справочники
http://my.mail.ru/community...
Словарный запас. Тест
http://my.mail.ru/community...
Смешно о важном
http://my.mail.ru/community...
Фонетика по Галичу
http://my.mail.ru/community...
Что скажут филологи
http://my.mail.ru/community...
Альбомы
Бродский
http://foto.mail.ru/communi...
ВОЙНА и МИР в иллюстрациях
http://foto.mail.ru/communi...
Гоголь
http://foto.mail.ru/communi...
Лермонтов
http://foto.mail.ru/communi...
Настольные книги
http://foto.mail.ru/communi...
Пушкин. Наше всё
http://foto.mail.ru/communi...
Русь
http://foto.mail.ru/communi...
Стихи на открытках
http://foto.mail.ru/communi...
Хранители слова
http://foto.mail.ru/communi...
Метки: ссылки
Елена Байер,
13-04-2010 11:23
(ссылка)
КАК ОПИСАТЬ НОЧЬ
Ф. Тютчев
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул -
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальный гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Все во мне и я во всем!..
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Цвет поблекнул, звук уснул -
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальный гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Все во мне и я во всем!..
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Звездная ночь. Винсент Ван Гог
ТЕНЬ
1. Темное отражение на чем-либо предмета, освещенного с противоположной стороны.
О величине, форме, густоте, цвете
О величине, форме, густоте, цвете
Ажурная, бледная, большая, волнистая, вытянутая, гигантская, глубокая, голубая, громадная, густая, густо-синяя, длинная, дымная, жидкая, жидко-зеленоватая, заостренная, зеленая, золотая, зубчатая, исполинская, короткая, кружевная, крупная, кудрявая, куцая (разг.), лапчатая, легкая, лиловая, мертвенно-синяя, молочно-голубая, мутная, мягкая, неопределенная, нечеткая, неясная, огромная, плотная, полупрозрачная, причудливая, продолговатая, прозрачная, размытая, расплывчатая, растянутая, редкая, резкая, светлая, свинцовая, седая, серая, сетчатая, сизая, синяя, сквозная, слабая, слитная, смутная, странная, темная, темно-мглистая, темно-серая, темно-синяя, тонкая, тусклая, угловатая, удлиненная, узорчатая, черная, четкая, широкая, ясная.
О подвижности тени; о ее психологическом восприятии
Беглая, бегущая, бесшумная, боязливая, вкрадчивая, дрожащая, зыбкая, летучая, мелькающая, мрачная, мягкая, неуловимая, пляшущая, ползучая, робкая, скользящая, строгая, таинственная, трепетная, трепещущая, угрюмая, унылая, шаткая.
Индивидуально-авторские эпитеты
Душная.
2. Место, заслоненное чем-либо от солнца; затененное пространство.
Блаженная, большая, глубокая, густая, дубравная, жидкая, мирная (устар. поэт.), мрачная, обильная, огромная, отрадная, приятная, прозрачная, прохладная, свежая, свежительная (устар.), сладостная, сплошная, хладная (устар.), холодная, хранительная (устар.), широкая.
Индивидуально-авторские эпитеты
Тощая, уютная.
3. Неясное, трудно различимое в темноте очертание кого-, чего-либо; призрак, привидение.
Безгласная, безмолвная, бесформенная, бледная, волшебная, грозная, густая, диковинная, дьявольская, жуткая, загадочная, зловещая, мерцающая, молчаливая, мрачная, немая, необычная, непонятная, нервная, неясная, полупрозрачная, прозрачная, слабая, смешная, смутная, странная, страшная, таинственная, тихая, туманная, тусклая, угрюмая, ужасная, уродливая, фантастическая, черная, чертовская (разг.), чудовищная.
СУМРАК
О цвете, степени густоты; о температуре, влажности и т. п.
Белёсый (белесый), белый, бестенный (устар.), бледно-голубой, бледный, влажный, глубокий, глухой, голубой, густой, душистый, душный, желтый, зеленый, золотистый, зыбкий, зябкий, лазурный (устар. поэт.), лиловый, лунный, мглистый, мутно-голубой, мутный, неподвижный, пахучий, пепельный, перламутровый (устар. поэт.), плотный, плывучий, полусветлый, прозрачный, прохладный, редкий, ровный, светлый, серебристый, серый, сизый, синий, сиреневый, сребристый (устар.), стеклянный, стойкий, текучий, теплый, тонкий, трепетный, туманный, тусклый, холодный.
О впечатлении, психологическом восприятии
Безжизненный, безмолвный, грустный, дремотный, задумчивый, ласковый, молчаливый, мрачный, мягкий, нежный, немой, печальный, святой (устар.), священный (устар.), сладостный, сонный, странный, таинственный, тихий, угрюмый, унылый, хмурый.
Индивидуально-авторские эпитеты
Застенчивый, интимный, кроткий, кудрявый, торопливый.
ВЕЧЕР

1. Часть суток.
О состоянии погоды; об окраске неба, о прозрачности воздуха, запахе
О состоянии погоды; об окраске неба, о прозрачности воздуха, запахе
Алый, багровый, багряный, безветренный, безоблачный, ветреный, влажный, голубой, горячий, грозовой, дождливый, духмяный (простореч.), душистый, душный, жаркий, звездный, золотой, красный (нар.-поэт.), ледяной, лунный, лучезарный (устар. поэт.), метелистый, мокрый, морозный, ненастный, непогожий (разг.), непроглядный, облачный, оранжевый, пасмурно-багровый, пасмурный, пахучий, погожий (разг.), прозрачный, прохладный, розовый, росистый, румяный, свежий, светлый, синий, слякотный (разг.), снежно-голубой, студеный, сухой, сырой, темный, теплый, тихий, туманный, хмурый, холодный, хрустальный, чистый, янтарный, ясный.
О впечатлении, психологическом восприятии
Беззаботный, безмолвный, безмятежный, безрадостный, безысходный, беспечный, беспокойный, бесцветный, бодрый, великолепный, веселый, восхитительный, гнетущий, горький, грустный, дивный, длинный, добрый, долгий, задумчивый, замечательный, изумительный, красивый, ласковый, молчаливый, мрачный, мучительный, невыносимый, незабываемый, немой, очаровательный, памятный, печальный, прекрасный, прелестный, приятный, радостный, развеселый (разг.), скучный, славный, сонный, томительный, томный, тоскливый, тревожный, тяжелый, угрюмый, удачный, унылый, хмурый, хороший, чудесный, чудный.
Индивидуально-авторские эпитеты
Ароматный, болезненный, бронзовый, глухой, кроткий, матовый, нерукотворный, питерский, пламенный, плакучий, пряный, тощий, черный.
2. Общественное вечернее собрание, посвященное какому-либо событию, памятной дате и т. п.
Терминологические и бытовые определения
Терминологические и бытовые определения
Выпускной, званый, костюмированный, литературный, музыкальный, праздничный, прощальный, студенческий, танцевальный, творческий, торжественный, традиционный, чайный (устар.), школьный и т. п.
НОЧЬ

О состоянии погоды; об окраске неба, о наличии луны, звезд
Аспидно-синяя, бархатная, безветренная, беззвездная, безлунная, белая, белёсая (белесая), беспросветная, благоуханная (устар.), бледная, бледно-голубая, весенняя, ветреная, ветровая, вьюжливая, вьюжная, вязкая, голубая, густая, густо-черная, дегтярно-черная, дождливая, душная, жаркая, звездная, зимняя, знойная, золотистая, зябкая (разг.), кристально-ясная, кромешная, лазоревая, лазуревая (устар.), лазурная, ледяная, летняя, лунная, матово-белая, месячная (устар.), метельная, мокрая, молочная, морозная, мутная, ненастная, непогодная, непроглядная, непроницаемая, облачная, осенняя, пасмурная, пепельно-белая, полнолунная, прозрачная, прозрачно-синяя, промозглая, прохладная, росистая, росная, светлая, светозарная (устар. поэт.), северная, седая, серебристая, серебряная, синяя, сиреневая, слепая, снежная, стылая (простореч.), сухая, сырая, темная, теплая, тихая, туманная, тусклая, ультрамариновая, удушливая, фосфорическая, холодная, черная, ядреная, ясная.
О продолжительности; о поздней ночи
Бесконечная, бескрайняя, воробьиная (нар.-поэт.), глубокая, глухая, длинная, долгая, короткая, огромная, поздняя, полная, предутренняя.
Об отсутствии или наличии звуков, шума
Безгласная (устар.), бездыханная (устар.), безмолвная, бесшумная, гробовая, гулкая, звонкая, мертвая, мертвенная, молчаливая, немая, покойная, спокойная, тихая, шумная.
О впечатлении, психологическом восприятии; о характере протекания, проведения ночи
Адская (разг.), бездомная, беззаботная, безмятежная, безумная, бесподобная, беспокойная, беспутная, бесприютная, бессонная, бестолковая, бесцветная, благополучная, божественная, буйная, бурная, вакханальная, великолепная, вкрадчивая, волшебная, восхитительная, горестная, горькая, греховная, грустная, жуткая, задумчивая, замечательная, златая (устар. поэт.), злая, золотая, изнурительная, изумительная, колдовская, кошмарная, ласковая, мирная, мрачная, мятежная (устар. поэт.), нарядная, нахмуренная, невыразимая, недобрая, нежная, незабываемая, неизгладимая, нелегкая, непередаваемая, неприглядная, неприютная, неспокойная, несравненная, одинокая, очарованная, очаровательная, памятная, пленительная, покойная, поразительная, праздничная, прекрасная, прелестная, радостная, райская, роскошная, святая (устар. поэт.), сказочная, скучная, славная, сладкая, сладостная, смертная, смутная, соловьиная, спокойная, странная, сумасшедшая, суматошливая (разг.), сумбурная, счастливая, тихая, томительная, торжественная, тоскливая, тревожная, трудная, тусклая, тягостная, тяжелая, тяжкая, угарная, угрюмая, ужасная, умопомрачительная (разг.), унылая, упоительная, утомительная, фантастическая, хмурая, целомудренная, чистая, чудесная, чудная, чужая, шикарная (разг.).
Индивидуально-авторские эпитеты
Алмазная, безглазая, бездонная, выцветшая, железная, жирная, каменная, непроходимая, обнаженная, омутная, певучая, пустая, светлоглазая, сиреневая, соломенная, тупая, хрупкая, чужестранная, шершавая, ядовитая.
Терминологические и бытовые определения
Арктическая, брачная, новогодняя, пасхальная, полярная, предпраздничная, рождественская, святочная, тропическая и т. п.
ТЬМА
Абсолютная, адская, бархатная, бездонная, беспроглядная, беспросветная, властная, глубокая, глухая, гробовая, густая, египетская, злая, зловещая, зыбкая, кромешная, мертвая, могильная, мозглая (простореч.), морозная, мрачная, мутная, немая, непроглядная, непроницаемая, неуютная, полная, серая, синяя, слепая, сплошная, студеная, сумрачная, сырая, теплая, тоскливая, туманная, (тьма-)тьмущая (разг.), тяжелая, угрюмая, унылая, холодная, черная, чернильная.
Индивидуально-авторские эпитеты
Гремящая, дегтярная, дремучая, сладкая.
МРАК

Бездонный, беззвездный, безмолвный, безнадежный, безрассветный, белёсый (белесый), беспросветный, вечерний, глубокий, глухой, грозный, густой, давящий, душный, жуткий, зловещий, космический, кромешный, мглистый, могильный, мягкий, немой, ненастный, непробудный, непроглядный, непроницаемый, ночной, осенний, первозданный, плотный, ровный, сизый, синий, сиреневый, сплошной, сырой, таинственный, теплый, тоскливый, тусклый, тяжелый, угрожающий, угрюмый, унылый, хмурый, холодный, чернильный, черный.
Индивидуально-авторские эпитеты
Безвыходный, великолепный, столетний, торжественно-угрюмый, угольно-черный, чуткий.
МГЛА
Мрак, тьма; туман; воздух, насыщенный пылью, дымом и т. п.
О цвете, степени густоты, насыщенности влагой; о температуре; о времени появления
О цвете, степени густоты, насыщенности влагой; о температуре; о времени появления
Безбрежная, безграничная, бездонная, беззвездная, белая, белесая, беспредельная, беспросветная, бесцветная, бледная, бледно-синяя, вечерняя, влажная, водянистая, волнистая, глубокая, густая, душная, дымчатая, едкая, желтая, застойная, золотистая, кромешная, легкая, ледяная, лиловая, лилово-сизая, мозглая (простореч.), мокрая, молочная, молочно-белая, мутная, неподвижная, непроглядная, ночная, одноцветная, оранжевая, осенняя, пахучая, плотная, подвечерняя (разг.), поздняя, полупрозрачная, предрассветная, прозрачная, промозглая, прохладная, радужная, розовая, свежая, свинцовая, серая, серебристая, серебряная, сизая, синяя, сиреневая, сплошная, студеная (разг.), сумеречная, сумрачная, сухая, сырая, темная, теплая, трепетная, туманная, тусклая, тяжелая, удушливая, утренняя, хладная (устар.), холодная, чернильная, черная.
О впечатлении, психологическом восприятии
Безрадостная, бесприветная, дремотная, мертвая, мертвенная, мрачная, немая, неприветливая, обманчивая, печальная, призрачная, слезливая, сонная, странная, таинственная, томительная, тяжелая, угрюмая, унывная (устар.), унылая, хмурая.
Индивидуально-авторские эпитеты
Волчья, гостеприимная, железная, огненная, слепящая, хрустальная.
Терминологические и бытовые определения
Дымная, пороховая, пыльная, снежная и т. п.
С. Есенин
НОЧЬ
Усталый день склонился к ночи,
Затихла шумная волна,
Погасло солнце, и над миром
Плывет задумчиво луна.
Долина тихая внимает
Журчанью мирного ручья.
И темный лес, склоняясь, дремлет
Под звуки песни соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река.
И тихо слышится над нею
Веселый шелест тростника.
Усталый день склонился к ночи,
Затихла шумная волна,
Погасло солнце, и над миром
Плывет задумчиво луна.
Долина тихая внимает
Журчанью мирного ручья.
И темный лес, склоняясь, дремлет
Под звуки песни соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река.
И тихо слышится над нею
Веселый шелест тростника.
А. Фет
Какая ночь! На всём какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!
Какая ночь! Все звёзды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.
Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд её убор.
Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной - и последней, может быть.
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!
Какая ночь! Все звёзды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.
Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд её убор.
Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной - и последней, может быть.
Метки: эпитеты, Вечер, ночь, сумрак, Мрак, Тень, Фет, Есенин, тютчев
Людмила Шевелёва,
14-03-2010 13:19
(ссылка)
Что скажут филологи?
"Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках,
то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье..."
(И.Бунин "Жизнь Арсеньева")
Как можно охарктеризовать данное предложение, вернее, вид связи, представленный союзом что...?
А может, здесь запятая перед ЧТО не нужна...и ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ ЧТО ЛЕЖАЛ - сказуемое?
то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье..."
(И.Бунин "Жизнь Арсеньева")
Как можно охарктеризовать данное предложение, вернее, вид связи, представленный союзом что...?
А может, здесь запятая перед ЧТО не нужна...и ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ ЧТО ЛЕЖАЛ - сказуемое?
Метки: синтаксис
Елена Байер,
27-03-2010 16:40
(ссылка)
КАК ОПИСАТЬ ДЕНЬ
РАССВЕТ

О цвете, окраске; о времени наступления, продолжительности; о дождливом, холодном и т. п. рассвете
Алый, багряный, белесый, бледный, весенний, ветреный, вялый, дождливый, долгий, дымчатый, желтый, жемчужный, жидкий, запоздалый, зимний, золотистый, золотой, зябкий, короткий, кровавый (поэт.), летний, лиловый, мокрый, молочный, мутный, нежно-розовый, неяркий, неясный, осенний, пасмурный, поздний, полуденный, предосенний, прозрачный, промозглый, ранний, робкий, розовый, росистый, рубиновый, румяный, свежий, светлый, серый, сизый, скудный, скупой, сырой, теплый, тихий, туманный, тусклый, холодный, штормовой, ясный.
О впечатлении, психологическом восприятии
Беспокойный, бодрый, бодрящий, веселый, грустный, ласковый, мирный, мрачный, неласковый, нерадостный, печальный, радостный, тихий, тревожный, тягостный, угрюмый, унылый, хмурый, чудесный.
Индивидуально-авторские эпитеты
Едкий, ленивый, молодой, немощный, розоволикий, смуглый, соловьиный, торопливый, тяжелый.
УТРО

О состоянии погоды; о цвете неба, прозрачности воздуха и т. д.
Алое, безветренное, безоблачное, белёсое (белесое), белое, бледное, бледно-лиловое, быстрое, ветреное, влажное, голубое, голубонебое, горячее, дождливое, дымное, знойное, золотистое, золотое, изумрудное, красное (нар.-поэт.), лазурное, лиловое, лучезарное, мглистое, мокрое, молочное, морозное, мрачное, мутное, ненастное, непогожее (разг.), оттепельное, пасмурное, погожее (разг.), прохладное, розовое, росистое, росное, ростепельное (простореч.), румяное, свежее, сверкающее, светлое, седое, серое, синее, сияющее, скупое, снежное, солнечное, сумрачное, сырое, темное, теплое, тихое, туманистое, туманное, тускло-белесоватое, тусклое, умытое, хмурое, холодное, хрустальное, чистое, ядреное (простореч.), яркое, ясное.
О впечатлении, психологическом восприятии
Беззаботное, безмятежное, безрадостное, благословенное, благостное, бодрое, великолепное, веселое, восхитительное, говорливое, гомонливое (разг.), грустное, дивное, доброе, дремотное, задумчивое, замечательное, звонкое, изумительное, красивое, ласковое, молодое, мрачное, насупленное, нежное, неприятное, нехорошее, обворожительное, отличное, отрадное, очаровательное, печальное, прекрасное, прелестное, приятное, радостное, славное, сонливое, сонное, суровое, томительное, томное, тоскливое, тревожное, тяжелое, удачное, унылое, хорошее, чудесное, чудное.
Индивидуально-авторские эпитеты
Высокое, ленивое, немощное, покорительное, просторное, пустынное, светозарное, слезливое, тугое, хилое.
ДЕНЬ

О состоянии погоды; об окраске неба, прозрачности воздуха
Безветренный, беззакатный, безоблачный, безрассветный, белёсый (белесый), белый, бесцветный, бледный, блестящий, ведренный, ветреный, влажный, вьюжливый, гнилой, голубой, горячий, грозовой, дождливый, душный, жаркий, жгучий, звенящий, звонкий, знойный, золотистый, золотой, искристый, красный (нар.-поэт.), ладный (разг.), лазоревый (устар.), лазурный, лучезарный (поэт.), лучистый, маревый, мглистый, метелистый, мозглый (простореч.), мокрый (разг.), морозный, мрачный, мутный, нежный, ненастливый (разг.), ненастный, непогодливый (разг.), непогодный (разг.), непогожий, неяркий, облачный, ослепительный, палящий, пасмурный, пламенный, погожий, прозрачный, промозглый (разг.), прохладный, розовый, ростепельный (простореч.), румяный, свежий, сверкающий, светлый, светозарный (устар. поэт.), серебристо-мутный, серебристый, серебряный, серый, синий, слякотный (разг.), смурый (простореч.), снежный, солнечный, студеный, сумрачный, сухой, сырой, темный, теплый, тихий, туманный, тусклый, удушливый, хмурый, холодный, хрустальный, ядреный (простореч.), янтарный, яркий, ясный.
О наступлении, продолжительности, об окончании дня
Бесконечный, битый (разг.), быстролетный (устар. поэт.), быстрый, гаснущий, грядущий, длинный, длительный, догорающий, долгий, короткий, круглый, крылатый, медленный, минувший, молодой, недолгий, новорожденный, отошедший, погасший, полный, потухающий, тягучий, угасающий.
О знаменательном (трудовом, боевом, мирном и т. п.) дне (обычно во мн. числе); о времени, поре свершения чего-либо
Баррикадный, боевой, важный, великий, величавый, величественный, военный, героический, грозный, достопамятный (устар.), заветный, знаменательный, исторический, кровавый, мирный, мятежный, незабываемый, памятный, партизанский, пламенный, победный, поворотный, походный, праздничный, ратный, решающий, светлый, славный, солдатский, спокойный, торжественный, трудовой, ударный, фронтовой, штурмовой.
О впечатлении, психологическом восприятии; об оценке дневной работы, деятельности
Беззаботный, безмятежный, безнадежный, безотрадный, безрадостный, безумный, безысходный, беспокойный, беспросветный, бесцветный, бесценный, благодатный, благоприятный, благословенный, благостный (устар.), блаженный, бурный, везучий (разг.), веселый, волнующий, гнетущий, горький, грустный, дивный, долгожданный, желанный, жестокий, жуткий, замечательный, златой (устар.), злой, золотой, изнурительный, изумительный, ликующий, лиходейный (устар.), лихой, милый, молчаливый, мучительный, напряженный, неблагоприятный, невезучий (разг.), невеселый, недобрый, нелегкий, неповторимый, несчастливый, несчастный, неудачный, неуемный (разг.), нещадный, однообразный, отрадный, пестрый, печальный, покойный, прекрасный, пустой, радостный, развеселый (разг.), роковой, скучный, спокойный, страшный, суетливый, суетный, сумасшедший (разг.), суматошливый (разг.), суматошный (разг.), сумбурный, суровый, сутолочный (разг.), счастливый, томительный, тоскливый, тревожный, трудный, тусклый, тягостный, тягучий, тяжелый, тяжкий, угрюмый, удачливый (разг.), удачный, ужасный, унывный (устар.), унылый, утомительный, хлопотливый, хлопотный, хороший, чудесный, чудный, шумливый, шумный.
Индивидуально-авторские эпитеты
Бессветный, блаженно-роковой, высокий, глухой, громкий, задумчивый, искристый, исполинский, любезный, могучий, нарядный, несмелый, обетованный, огнеупорный, пестрый, слепой, спичечный, стыдный, улыбчивый, тлеющий, угарный, чадный.
Терминологические и бытовые определения
Базарный, будний, будничный, вакантный (устар.), весенний, воскресный, выходной, зимний, летний, майский, нерабочий, пасхальный, полярный, праздничный, рабочий, субботний, январский и т. п.
Елена Байер,
20-03-2010 18:11
(ссылка)
АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ МАЙКОВ
21 марта 1897 года умер поэт Аполлон Николаевич Майков (родился 23 мая 1821 г.).
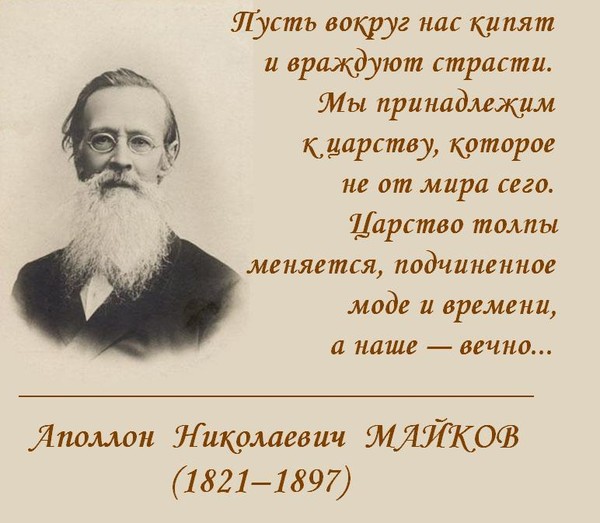
Майков ― один из трех поэтов, которых современная им критика записала в знаменитую «триаду» «поэтов чистого искусства» (двумя другими были Фет и Полонский).
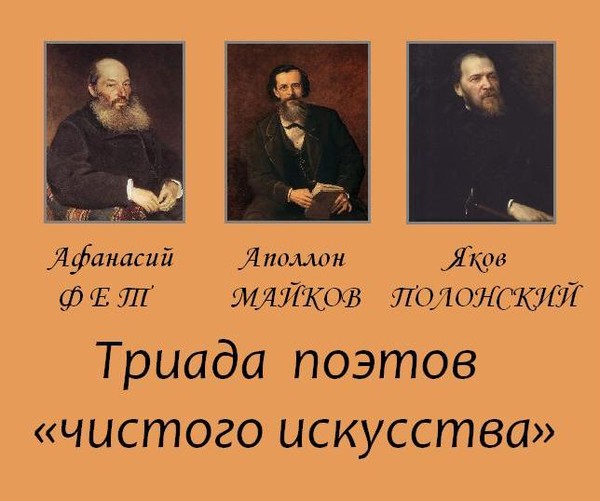
Древний род Майковых был богат одаренными людьми.
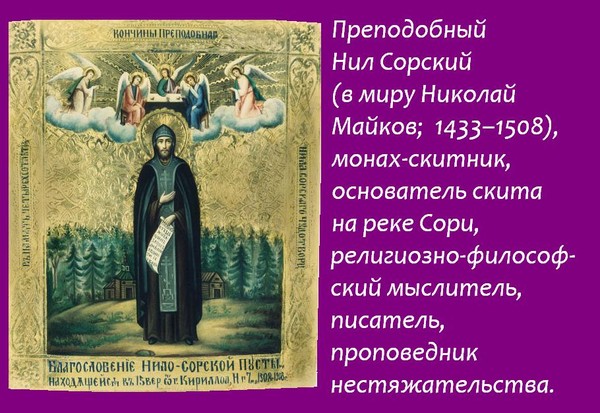
Среди них ― русский богослов XV века Нил Сорский, поэт екатерининских времен Василий Майков. Отец Майкова ― академик живописи, мать ― поэтесса и переводчица, брат Валериан известен как литературный критик и публицист, другой брат, Леонид, стал историком литературы, издателем.
И. А. Гончаров, который в юности давал уроки словесности братьям Майковым, вспоминал: «Дом... кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств».
Детство Аполлона Николаевича Майкова прошло в имении отца неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. В 1834 году семья переехала в Петербург. В ранние годы Майков почти в равной степени увлекался и живописью, и литературой (лишь сильная близорукость не позволила ему в дальнейшем пойти по стопам отца). Первые свои, преимущественно прозаические, опыты, в которых заметно влияние Гоголя, Майков помещал в домашних рукописных журналах. Затем в его занятиях стала преобладать поэзия, и в 1842 году, едва закончив юридический факультет Петербургского университета, он издал свою первую книгу стихов.
Большую часть книги составили стихи, исполненные пластики, изящества и ясности, которых так не хватало поэзии 1840-х годов. Сам Майков заметил однажды, что «антологическая поэзия в европейской и нашей литературе... оказала ту услугу, что постоянно служила противодействием туманному, мечтательному... стремлению поэтов». Уже в первом сборнике Майков заявил о себе как продолжателе не основной, но боковой ветви русской поэтической традиции, идущей от Батюшкова (в XX веке эта традиция найдет свое наиболее яркое выражение в творчестве О. Мандельштама).
В том же 1842 году Майков уехал за границу, где провел около двух лет.
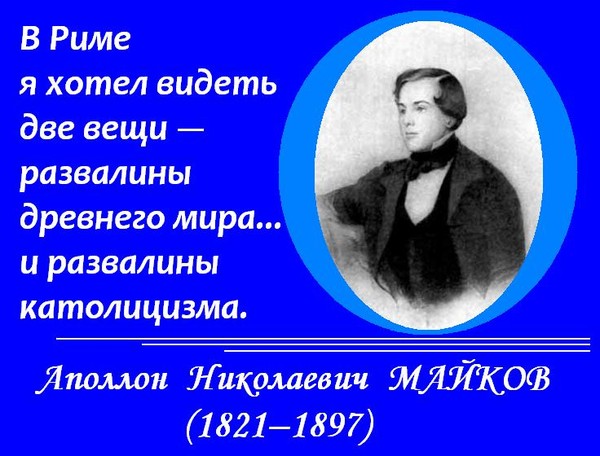
Именно в итальянский период Майков стремится к поэзии «мысли и чувства», а от старины ― к жизни современной. «Теперь уже не довольствуешься, ― пишет он, ― одними картинами греко-фламандской школы, а хочется заглянуть в человека поглубже». Сам поэт, пожелав однажды кинуться в омут житейской сутолоки, вскоре оказался увлеченным в голубую высь, далеко от земли. «Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом...» ― так начал Майков первое стихотворение римского цикла, безмерно удивив и восхитив при этом Гоголя.
Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь.
Природа и люди здесь будто другие, как будто картины
Из ярких стихов антологии древней Эллады.
Ну, вот, поглядите: по каменной белой ограде разросся
Блуждающий плющ, как развешанный плащ иль завеса;
В средине, меж двух кипарисов, глубокая темная ниша,
Откуда глядит голова с преуродливой миной
Тритона. Холодная влага из пасти, звеня, упадает.
К фонтану альбанка (ах, что за глаза из-под тени
Покрова сияют у ней! что за стан в этом алом корсете!),
Подставив кувшин, ожидает, как скоро водою
Наполнится он, а другая подруга стоит неподвижно,
Рукой охватив осторожно кувшин на облитой
Вечерним лучом голове... Художник (должно быть, германец)
Спешит срисовать их, довольный, что случай нежданно
В их позах сюжет ему дал для картины, и вовсе не мысля,
Что я срисовал в то же время и чудное небо,
И плющ темнолистый, фонтан и свирепую рожу тритона,
Альбанок и даже - его самого с его кистью!
1844
Вернувшись в Россию, Майков общается с Тургеневым, Григоровичем, Некрасовым, Белинским. Идеологически Майков в это время близок западничеству. Через брата Валериана он приобщается к движению петрашевцев. Но уже вскоре здесь Майков усматривает утопизм, «не соответствующий идеалу человеческого совершенства», «много вздору, много эгоизма и мало любви». В кризисный для него момент Майков попадает в «молодую редакцию» «Москвитянина» и неожиданно для себя находит там не только сочувствие, но и поддержку своим изменившимся взглядам. Отрицание принципов западноевропейской цивилизации пройдет сквозной темой сборника Майкова «1854-й год», очень точно отразившего умонастроения поэта того времени. Другая сквозная тема сборника ― историческая миссия России, преградившей полчищам Батыя путь на Запад и предотвратившей тем самым гибель европейской цивилизации. В эти же годы Майков становится убежденным монархистом.
Творчество Майкова 1850-х годов, как бывает у истинного поэта, оказывается гораздо шире его идейных установок. Гармонический взгляд на природу теперь дает себя знать в зарисовках русских деревенских пейзажей. Золотой дождь, памятный всем по греческой мифологии, становится у Майкова постоянным атрибутом сельского пейзажа и сквозной метафорой.
В 1859 году еще раз возникнет в творчестве Майкова итальянская тема, связанная с его участием в морской экспедиции на острова греческого архипелага. Корвет, на котором плыл Майков, в Грецию не попал, но задержался в Неаполе. В результате по свежим итальянским впечатлениям был написан «Неаполитанский альбом» ― своеобразная повесть в стихах из народной жизни Неаполя. И опять основным впечатлением Майкова от Италии было всеохватывающее чувство красоты природы и любви к жизни. «Море и воздух Неаполя, ― писал он, ― не изменятся с переменою правительств и не перестанут производить веселое и светлое расположение духа в человеке...»
Последняя четверть XIX века в жизни Майкова стала временем его ухода от эмпирической действительности в сферу вечных вопросов бытия. Когда-то Майков объяснял Никитину: «У меня юность прошла на греках и римлянах... А что этот идеальный мир перед живым и близким?..» И конечно, центральное место в размышлениях позднего Майкова занимают судьбы России, ее настоящее и прошлое, ее историческое предназначение. Майков говорит о трагедии высшего общества, порвавшего духовное единство с народом. Слова «мани текел фарес», предвестившие некогда гибель царства Валтасара, обращаются Майковым в современность, ибо угрозу такой же гибели предвидит он и для России:
Иль не зришь в киченьи многом,
Над своим уж ты порогом
Слов: мани факел фарес!
В 1880-е годы у Майкова появляется ряд стихотворений, проникнутых чувством глубокой религиозности и веры в то, что смирение составляет главную особенность русского человека.
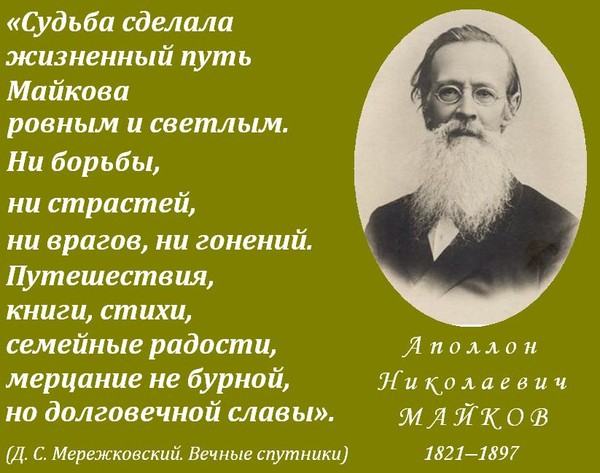
Пожалуй, и в самом деле, для русского поэта Майков имел малопоэтическую биографию: не был преследуем, не умирал на дуэли или на эшафоте, его не раздирали мучительные страсти. Все внешнее у него ушло глубоко внутрь. Но именно его внутренняя, духовная эволюция, его путь от «греков и римлян» к русской действительности, русской истории, истории чужих народов, поэзии Священного Писания, к вечным вопросам бытия ― все это и стало его биографией, его истинной судьбой.
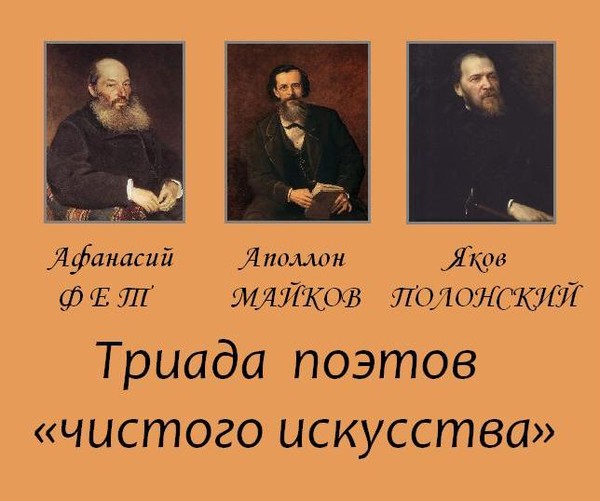
Древний род Майковых был богат одаренными людьми.
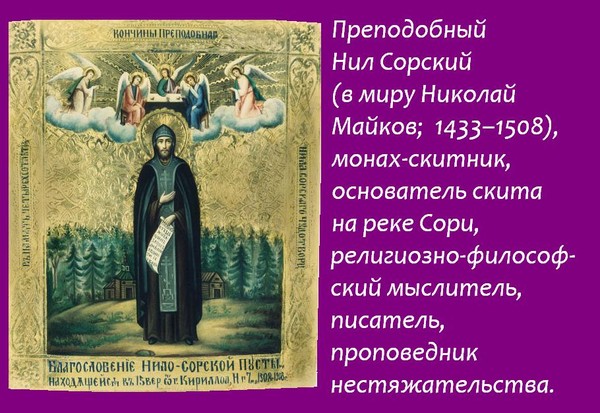
Среди них ― русский богослов XV века Нил Сорский, поэт екатерининских времен Василий Майков. Отец Майкова ― академик живописи, мать ― поэтесса и переводчица, брат Валериан известен как литературный критик и публицист, другой брат, Леонид, стал историком литературы, издателем.
И. А. Гончаров, который в юности давал уроки словесности братьям Майковым, вспоминал: «Дом... кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств».
Детство Аполлона Николаевича Майкова прошло в имении отца неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. В 1834 году семья переехала в Петербург. В ранние годы Майков почти в равной степени увлекался и живописью, и литературой (лишь сильная близорукость не позволила ему в дальнейшем пойти по стопам отца). Первые свои, преимущественно прозаические, опыты, в которых заметно влияние Гоголя, Майков помещал в домашних рукописных журналах. Затем в его занятиях стала преобладать поэзия, и в 1842 году, едва закончив юридический факультет Петербургского университета, он издал свою первую книгу стихов.
Большую часть книги составили стихи, исполненные пластики, изящества и ясности, которых так не хватало поэзии 1840-х годов. Сам Майков заметил однажды, что «антологическая поэзия в европейской и нашей литературе... оказала ту услугу, что постоянно служила противодействием туманному, мечтательному... стремлению поэтов». Уже в первом сборнике Майков заявил о себе как продолжателе не основной, но боковой ветви русской поэтической традиции, идущей от Батюшкова (в XX веке эта традиция найдет свое наиболее яркое выражение в творчестве О. Мандельштама).
В том же 1842 году Майков уехал за границу, где провел около двух лет.
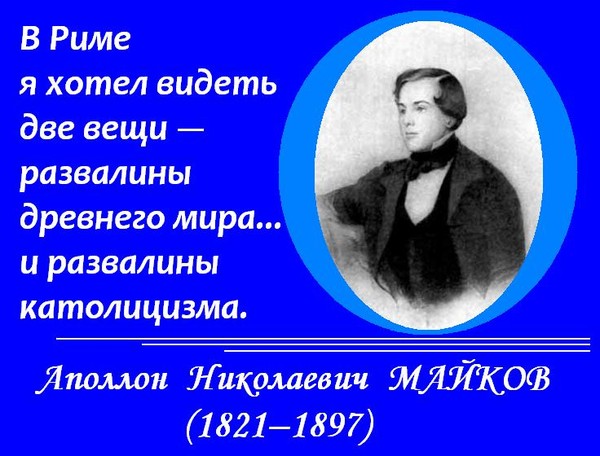
Именно в итальянский период Майков стремится к поэзии «мысли и чувства», а от старины ― к жизни современной. «Теперь уже не довольствуешься, ― пишет он, ― одними картинами греко-фламандской школы, а хочется заглянуть в человека поглубже». Сам поэт, пожелав однажды кинуться в омут житейской сутолоки, вскоре оказался увлеченным в голубую высь, далеко от земли. «Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом...» ― так начал Майков первое стихотворение римского цикла, безмерно удивив и восхитив при этом Гоголя.
Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь.
Природа и люди здесь будто другие, как будто картины
Из ярких стихов антологии древней Эллады.
Ну, вот, поглядите: по каменной белой ограде разросся
Блуждающий плющ, как развешанный плащ иль завеса;
В средине, меж двух кипарисов, глубокая темная ниша,
Откуда глядит голова с преуродливой миной
Тритона. Холодная влага из пасти, звеня, упадает.
К фонтану альбанка (ах, что за глаза из-под тени
Покрова сияют у ней! что за стан в этом алом корсете!),
Подставив кувшин, ожидает, как скоро водою
Наполнится он, а другая подруга стоит неподвижно,
Рукой охватив осторожно кувшин на облитой
Вечерним лучом голове... Художник (должно быть, германец)
Спешит срисовать их, довольный, что случай нежданно
В их позах сюжет ему дал для картины, и вовсе не мысля,
Что я срисовал в то же время и чудное небо,
И плющ темнолистый, фонтан и свирепую рожу тритона,
Альбанок и даже - его самого с его кистью!
1844
Вернувшись в Россию, Майков общается с Тургеневым, Григоровичем, Некрасовым, Белинским. Идеологически Майков в это время близок западничеству. Через брата Валериана он приобщается к движению петрашевцев. Но уже вскоре здесь Майков усматривает утопизм, «не соответствующий идеалу человеческого совершенства», «много вздору, много эгоизма и мало любви». В кризисный для него момент Майков попадает в «молодую редакцию» «Москвитянина» и неожиданно для себя находит там не только сочувствие, но и поддержку своим изменившимся взглядам. Отрицание принципов западноевропейской цивилизации пройдет сквозной темой сборника Майкова «1854-й год», очень точно отразившего умонастроения поэта того времени. Другая сквозная тема сборника ― историческая миссия России, преградившей полчищам Батыя путь на Запад и предотвратившей тем самым гибель европейской цивилизации. В эти же годы Майков становится убежденным монархистом.
Творчество Майкова 1850-х годов, как бывает у истинного поэта, оказывается гораздо шире его идейных установок. Гармонический взгляд на природу теперь дает себя знать в зарисовках русских деревенских пейзажей. Золотой дождь, памятный всем по греческой мифологии, становится у Майкова постоянным атрибутом сельского пейзажа и сквозной метафорой.
В 1859 году еще раз возникнет в творчестве Майкова итальянская тема, связанная с его участием в морской экспедиции на острова греческого архипелага. Корвет, на котором плыл Майков, в Грецию не попал, но задержался в Неаполе. В результате по свежим итальянским впечатлениям был написан «Неаполитанский альбом» ― своеобразная повесть в стихах из народной жизни Неаполя. И опять основным впечатлением Майкова от Италии было всеохватывающее чувство красоты природы и любви к жизни. «Море и воздух Неаполя, ― писал он, ― не изменятся с переменою правительств и не перестанут производить веселое и светлое расположение духа в человеке...»
Последняя четверть XIX века в жизни Майкова стала временем его ухода от эмпирической действительности в сферу вечных вопросов бытия. Когда-то Майков объяснял Никитину: «У меня юность прошла на греках и римлянах... А что этот идеальный мир перед живым и близким?..» И конечно, центральное место в размышлениях позднего Майкова занимают судьбы России, ее настоящее и прошлое, ее историческое предназначение. Майков говорит о трагедии высшего общества, порвавшего духовное единство с народом. Слова «мани текел фарес», предвестившие некогда гибель царства Валтасара, обращаются Майковым в современность, ибо угрозу такой же гибели предвидит он и для России:
Иль не зришь в киченьи многом,
Над своим уж ты порогом
Слов: мани факел фарес!
В 1880-е годы у Майкова появляется ряд стихотворений, проникнутых чувством глубокой религиозности и веры в то, что смирение составляет главную особенность русского человека.
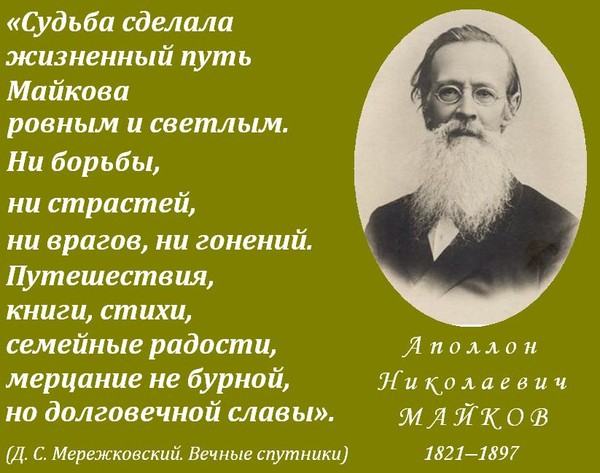
Пожалуй, и в самом деле, для русского поэта Майков имел малопоэтическую биографию: не был преследуем, не умирал на дуэли или на эшафоте, его не раздирали мучительные страсти. Все внешнее у него ушло глубоко внутрь. Но именно его внутренняя, духовная эволюция, его путь от «греков и римлян» к русской действительности, русской истории, истории чужих народов, поэзии Священного Писания, к вечным вопросам бытия ― все это и стало его биографией, его истинной судьбой.
Е. Дмитриева
По http://www.litera.ru/stixiy...
По http://www.litera.ru/stixiy...
Е. Н. Опочинин. ВОСПОМИНАНИЯ
МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ
МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ
«Майков». Издавна, еще в ранней моей юности, когда при мне произносили это имя, мне представлялось, что в первый раз после зимы открыли окно и весенний воздух свежей струей хлынул в комнату. Вероятно, это впечатление от имени поэта связывалось у меня с глубоко врезавшимся в память его стихотворением:
Весна. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался...
И вот, представьте себе, как я был поражен, когда в Петербурге, в один из «вторников» у А. П. Милюкова, хозяин, Александр Петрович, подвел меня к пожилому господину среднего роста, самой обыденной наружности и назвал его А. Н. Майковым.
Прямые, седеющие, но еще с большой темнотой волосы его лежали непослушными прядками на голове; вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная бородка, из-за толстых очков смотрели пристально многодумные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадаются на каждом шагу, но стоило заговорить ему ― и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы...
Раньше, не зная лично Майкова, я любил и почитал его как поэта-художника. Я знал наизусть много его стихотворений, целые поэмы, как «Два мира» и «Три смерти», сами собой укладывались у меня в памяти.
Но вот странное дело, когда я узнал поэта лично и стал с ним встречаться, мое отношение к некоторым его произведениям совершенно изменилось: раньше мне все казалось высоко и прекрасно, а тут, помимо моей воли, произошла какая-то переоценка и многое, что казалось мне прекрасным, я отбросил в сторону, как недостойное великого поэта.
Я повинился в этой своей новой разборчивости перед Аполлоном Николаевичем. Помню, недоверчивое выражение едва мелькнуло в его глазах и сменилось ясной улыбкой.
― Ах, если б вы знали, сколько я хотел бы отбросить из написанного мною, да не только отбросить, а и забыть навсегда... Да вот беда: не только из песни, а из песен слова не выкинешь.
Часто приходилось мне встречаться с Аполлоном Николаевичем в разных местах, бывал я и у него несколько раз в его небольшой скромной квартирке на Никольской улице. Случалось, подолгу беседовали мы о русской поэзии, о литературе вообще, и я уверен, многое довелось мне воспринять от Аполлона Николаевича в этих беседах. Никого в жизни не встречал я, кто бы так любил, почитал и понимал Пушкина. Он чувствовал каждый звук в его стихах, улавливал тончайшие оттенки гениальных образов и картин и преклонялся перед ними, как перед святыней. «В нем все совершенно, ― говорил Аполлон Николаевич о нашем великом поэте, ― даже его недостатки. В другом, обыкновенном человеке мы, может быть, осудили бы безудержную вспыльчивость, не всегда разборчивую наклонность к сарказму и ядовитой насмешке, а без них он немыслим, у него все безгранично и все совершенно. Даже горькая смерть его на барьере от пули противника как-то подходит к образу поэта, трагично завершая его жизнь. Право, мне кажется, умри он спокойно после долгой болезни, окруженный заботами семьи и врачами, это как-то не вязалось бы с его образом и кипучей жизнью» [...].
С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга. Как известно, поэт был страстный рыболов и на Сиверскую привлекла его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкой в руках. […]
Навсегда запечатлелась в моей памяти спокойная фигура А. Н. Майкова на фоне красивого пейзажа, при свете угасающего солнца.
То, что я пишу о Майкове, есть лишь маленькая памятка. Я не биограф и не панегирист, и цель моя поделиться глубоким впечатлением, какое оставил в моей душе образ поэта-классика.
Как известно, А. Н. Майкова связывала долголетняя дружба с Ф. М. Достоевским. В труднейших случаях жизни великий писатель наш прибегал к помощи друга-поэта и находил ее неизменно. Я, раньше чем познакомился с Майковым, много знал о нем от Достоевского. «Читайте Майкова, ― говорил мне Федор Михайлович, ― глубже вчитывайтесь в него... Это истинный поэт, и каждое слово его дорого» [...].
Весна. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался...
И вот, представьте себе, как я был поражен, когда в Петербурге, в один из «вторников» у А. П. Милюкова, хозяин, Александр Петрович, подвел меня к пожилому господину среднего роста, самой обыденной наружности и назвал его А. Н. Майковым.
Прямые, седеющие, но еще с большой темнотой волосы его лежали непослушными прядками на голове; вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная бородка, из-за толстых очков смотрели пристально многодумные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадаются на каждом шагу, но стоило заговорить ему ― и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы...
Раньше, не зная лично Майкова, я любил и почитал его как поэта-художника. Я знал наизусть много его стихотворений, целые поэмы, как «Два мира» и «Три смерти», сами собой укладывались у меня в памяти.
Но вот странное дело, когда я узнал поэта лично и стал с ним встречаться, мое отношение к некоторым его произведениям совершенно изменилось: раньше мне все казалось высоко и прекрасно, а тут, помимо моей воли, произошла какая-то переоценка и многое, что казалось мне прекрасным, я отбросил в сторону, как недостойное великого поэта.
Я повинился в этой своей новой разборчивости перед Аполлоном Николаевичем. Помню, недоверчивое выражение едва мелькнуло в его глазах и сменилось ясной улыбкой.
― Ах, если б вы знали, сколько я хотел бы отбросить из написанного мною, да не только отбросить, а и забыть навсегда... Да вот беда: не только из песни, а из песен слова не выкинешь.
Часто приходилось мне встречаться с Аполлоном Николаевичем в разных местах, бывал я и у него несколько раз в его небольшой скромной квартирке на Никольской улице. Случалось, подолгу беседовали мы о русской поэзии, о литературе вообще, и я уверен, многое довелось мне воспринять от Аполлона Николаевича в этих беседах. Никого в жизни не встречал я, кто бы так любил, почитал и понимал Пушкина. Он чувствовал каждый звук в его стихах, улавливал тончайшие оттенки гениальных образов и картин и преклонялся перед ними, как перед святыней. «В нем все совершенно, ― говорил Аполлон Николаевич о нашем великом поэте, ― даже его недостатки. В другом, обыкновенном человеке мы, может быть, осудили бы безудержную вспыльчивость, не всегда разборчивую наклонность к сарказму и ядовитой насмешке, а без них он немыслим, у него все безгранично и все совершенно. Даже горькая смерть его на барьере от пули противника как-то подходит к образу поэта, трагично завершая его жизнь. Право, мне кажется, умри он спокойно после долгой болезни, окруженный заботами семьи и врачами, это как-то не вязалось бы с его образом и кипучей жизнью» [...].
С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга. Как известно, поэт был страстный рыболов и на Сиверскую привлекла его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкой в руках. […]
Навсегда запечатлелась в моей памяти спокойная фигура А. Н. Майкова на фоне красивого пейзажа, при свете угасающего солнца.
То, что я пишу о Майкове, есть лишь маленькая памятка. Я не биограф и не панегирист, и цель моя поделиться глубоким впечатлением, какое оставил в моей душе образ поэта-классика.
Как известно, А. Н. Майкова связывала долголетняя дружба с Ф. М. Достоевским. В труднейших случаях жизни великий писатель наш прибегал к помощи друга-поэта и находил ее неизменно. Я, раньше чем познакомился с Майковым, много знал о нем от Достоевского. «Читайте Майкова, ― говорил мне Федор Михайлович, ― глубже вчитывайтесь в него... Это истинный поэт, и каждое слово его дорого» [...].
Елена Байер,
18-03-2010 13:15
(ссылка)
КАК ОПИСАТЬ БИТВУ
БИТВА.
Беспощадная, великая, гигантская, грандиозная, грозная, давняя, жаркая, жестокая, знаменитая, историческая, кровавая, кровопролитная, лютая (простореч.), напряженная, небывалая, неутомимая, ожесточенная, победная (устар.), победоносная, решительная, роковая, свирепая, смертная, страшная, титаническая, упорная, яростная, ярая (простореч.).
БОЙ
1. Столкновение враждебных армий, отрядов, группировок; сражение; поединок
Беспощадный, бесславный, богатырский, большой, вечный, горячий, грозный, длительный, долгий, жаркий, жестокий, затяжной, изнурительный, короткий, кровавый, кровопролитный, лютый (простореч.), напряженный, нелегкий, неравный, нещадный, ожесточенный, отчаянный, победный (устар.), победоносный, правый, продолжительный, решающий, решительный, роковой, свирепый, святой (устар. поэт.), сильный, смертельный, смертный, страшный, суровый, трудный, тяжелый, тяжкий, удалый, упорный, шумный, яростный, ярый (простореч.).
Редкие, авторские эпитеты
Железный, пламенный.
Терминологические и бытовые определения
Арьергардный, ближний, воздушный, встречный, генеральный, местный, морской, наступательный, ночной, оборонительный, огневой, рукопашный, танковый, уличный, фланговый, фронтальный, штыковой и т. д.
2. Схватка, состязание
Кулачный, неравный, открытый, поединочный (устар.), потешный (устар.), рукопашный, ручной (устар.), словесный, чернильный (разг.), честный (честной, нар.-поэт.).
БОРЬБА
О силе, характере проявления, широте размаха, продолжительности
Активная, беззаветная, безумная, бескомпромиссная, бескровная, беспощадная, бешеная, благородная, вековая, вековечная, всенародная, героическая, геройская, гибкая, длительная, долгая, жаркая, жестокая, закулисная, изощренная, изуверская, интенсивная, кровавая, кровопролитная, лихорадочная, лютая (разг.), мелочная, мирная, мужественная, мучительная, напряженная, насильственная, настойчивая, неистовая, нелегкая, непрестанная, непримиримая, неравная, обостренная, общенародная, ожесточенная, опасная, острая, отважная (устар.), отчаянная, подспудная, постоянная, принципиальная, решительная, самоотверженная, святая, священная, словесная, смертельная, справедливая, страшная, суровая, тайная, титаническая, тяжелая, тяжкая, упорная, фанатическая, честная, широкая, энергичная, яростная.
О характере исхода, о результате борьбы
Безнадежная, безрезультатная, бесплодная, бесполезная, бесцельная, гибельная, напрасная, победная, победоносная, пустая, роковая, смертельная, трагическая, тщетная, убийственная, удачная, успешная.
Редкие, авторские эпитеты
Железная, исполинская, эпическая.
Терминологические и бытовые определения
Административная, антифашистская, военная, идейная, идеологическая, избирательная, классовая, народно-освободительная, парламентская, партизанская, подпольная, политическая, профсоюзная, революционная, сознательная, социальная, стачечная, стихийная, теоретическая, фракционная, хозяйственная, экономическая и т. п.
ВОЙНА
О справедливых войнах
Великая, всенародная, защитная (устар.), народная, освободительная, ответная, отечественная, праведная, священная, справедливая.
О несправедливых войнах
Авантюристическая, агрессивная, бандитская, безрассудная, безумная, бессмысленная, братоубийственная, грабительская, грязная, завоевательная, завоевательская, захватная (устар.), захватническая, несправедливая, позорная, разбойническая, разбойничья, человекоубийственная.
О длительности, размахе, исходе войны
Безрезультатная, бесплодная, большая, всемирная, глобальная, длительная, долголетняя, затяжная, локальная, малая, молниеносная, небывалая, невиданная, неудачная, победная, победоносная, проигранная, удачная, успешная.
О тяжести, характере, последствиях войны
Беспощадная, бесчеловечная, варварская, горестная, горькая, горячая, губительная, жестокая, зловещая, злодейская, изнурительная, испепеляющая, истребительная, кровавая, кровопролитная, нещадная (устар.), ожесточенная, опустошительная, разорительная, разрушительная, скрытая, смертельная, страшная, суровая, тайная, тяжелая, тяжкая, ужасная, холодная, чудовищная, яростная.
Редкие, авторские эпитеты
Жадная, злая, неотступная, пустоглазая, счастливая.
Терминологические и бытовые определения
Атомная, бактериальная, бактериологическая, водородная, воздушная, гражданская, империалистическая, коалиционная, колониальная, локальная, маневренная, междоусобная (междуусобная), мировая, морская, молниеносная, наступательная, оборонительная, партизанская, подводная, позиционная, превентивная, ракетно-ядерная, революционная, сухопутная, тотальная, химическая и т. п.
ЯРОСТЬ
Адская (разг.), беззаветная, безрассудная, безудержная, безумная, бесплодная, бессильная, бессмысленная, бешеная, благородная, бойцовская, болезненная, буйная, бурлящая, бурная, бушующая, веселая, восторженная, гложущая, глубинная, глухая, горячая, грубая, дикая (разг.), дьявольская, жестокая, запальчивая, запоздалая, злая, злобная, зловещая, злорадная, исступленная, кипучая, клокочущая, лютая, могучая, мрачная, мстительная, мятежная (устар. поэт.), неизъяснимая, неистовая, необузданная, неописуемая, неукротимая, неутомимая, огненная, пьяная, пьянящая, ревнивая, самозабвенная, святая, священная, скрытая, слепая, слепящая, сокрушительная, солдатская, страшная, стремительная, сумасбродная, сумасшедшая, суровая, тихая, тщетная, удвоенная, удесятеренная, упорная, упрямая, утроенная, хмельная, холодная.
Редкие, авторские эпитеты
Вулканическая, неподвижная, неурядная, огнепальная, патетическая, пумовая, слезливая, сырая, тяжелая, удушливая, четкая.
Беспощадная, великая, гигантская, грандиозная, грозная, давняя, жаркая, жестокая, знаменитая, историческая, кровавая, кровопролитная, лютая (простореч.), напряженная, небывалая, неутомимая, ожесточенная, победная (устар.), победоносная, решительная, роковая, свирепая, смертная, страшная, титаническая, упорная, яростная, ярая (простореч.).
БОЙ
1. Столкновение враждебных армий, отрядов, группировок; сражение; поединок
Беспощадный, бесславный, богатырский, большой, вечный, горячий, грозный, длительный, долгий, жаркий, жестокий, затяжной, изнурительный, короткий, кровавый, кровопролитный, лютый (простореч.), напряженный, нелегкий, неравный, нещадный, ожесточенный, отчаянный, победный (устар.), победоносный, правый, продолжительный, решающий, решительный, роковой, свирепый, святой (устар. поэт.), сильный, смертельный, смертный, страшный, суровый, трудный, тяжелый, тяжкий, удалый, упорный, шумный, яростный, ярый (простореч.).
Редкие, авторские эпитеты
Железный, пламенный.
Терминологические и бытовые определения
Арьергардный, ближний, воздушный, встречный, генеральный, местный, морской, наступательный, ночной, оборонительный, огневой, рукопашный, танковый, уличный, фланговый, фронтальный, штыковой и т. д.
2. Схватка, состязание
Кулачный, неравный, открытый, поединочный (устар.), потешный (устар.), рукопашный, ручной (устар.), словесный, чернильный (разг.), честный (честной, нар.-поэт.).
БОРЬБА
О силе, характере проявления, широте размаха, продолжительности
Активная, беззаветная, безумная, бескомпромиссная, бескровная, беспощадная, бешеная, благородная, вековая, вековечная, всенародная, героическая, геройская, гибкая, длительная, долгая, жаркая, жестокая, закулисная, изощренная, изуверская, интенсивная, кровавая, кровопролитная, лихорадочная, лютая (разг.), мелочная, мирная, мужественная, мучительная, напряженная, насильственная, настойчивая, неистовая, нелегкая, непрестанная, непримиримая, неравная, обостренная, общенародная, ожесточенная, опасная, острая, отважная (устар.), отчаянная, подспудная, постоянная, принципиальная, решительная, самоотверженная, святая, священная, словесная, смертельная, справедливая, страшная, суровая, тайная, титаническая, тяжелая, тяжкая, упорная, фанатическая, честная, широкая, энергичная, яростная.
О характере исхода, о результате борьбы
Безнадежная, безрезультатная, бесплодная, бесполезная, бесцельная, гибельная, напрасная, победная, победоносная, пустая, роковая, смертельная, трагическая, тщетная, убийственная, удачная, успешная.
Редкие, авторские эпитеты
Железная, исполинская, эпическая.
Терминологические и бытовые определения
Административная, антифашистская, военная, идейная, идеологическая, избирательная, классовая, народно-освободительная, парламентская, партизанская, подпольная, политическая, профсоюзная, революционная, сознательная, социальная, стачечная, стихийная, теоретическая, фракционная, хозяйственная, экономическая и т. п.
ВОЙНА
О справедливых войнах
Великая, всенародная, защитная (устар.), народная, освободительная, ответная, отечественная, праведная, священная, справедливая.
О несправедливых войнах
Авантюристическая, агрессивная, бандитская, безрассудная, безумная, бессмысленная, братоубийственная, грабительская, грязная, завоевательная, завоевательская, захватная (устар.), захватническая, несправедливая, позорная, разбойническая, разбойничья, человекоубийственная.
О длительности, размахе, исходе войны
Безрезультатная, бесплодная, большая, всемирная, глобальная, длительная, долголетняя, затяжная, локальная, малая, молниеносная, небывалая, невиданная, неудачная, победная, победоносная, проигранная, удачная, успешная.
О тяжести, характере, последствиях войны
Беспощадная, бесчеловечная, варварская, горестная, горькая, горячая, губительная, жестокая, зловещая, злодейская, изнурительная, испепеляющая, истребительная, кровавая, кровопролитная, нещадная (устар.), ожесточенная, опустошительная, разорительная, разрушительная, скрытая, смертельная, страшная, суровая, тайная, тяжелая, тяжкая, ужасная, холодная, чудовищная, яростная.
Редкие, авторские эпитеты
Жадная, злая, неотступная, пустоглазая, счастливая.
Терминологические и бытовые определения
Атомная, бактериальная, бактериологическая, водородная, воздушная, гражданская, империалистическая, коалиционная, колониальная, локальная, маневренная, междоусобная (междуусобная), мировая, морская, молниеносная, наступательная, оборонительная, партизанская, подводная, позиционная, превентивная, ракетно-ядерная, революционная, сухопутная, тотальная, химическая и т. п.
ЯРОСТЬ
Адская (разг.), беззаветная, безрассудная, безудержная, безумная, бесплодная, бессильная, бессмысленная, бешеная, благородная, бойцовская, болезненная, буйная, бурлящая, бурная, бушующая, веселая, восторженная, гложущая, глубинная, глухая, горячая, грубая, дикая (разг.), дьявольская, жестокая, запальчивая, запоздалая, злая, злобная, зловещая, злорадная, исступленная, кипучая, клокочущая, лютая, могучая, мрачная, мстительная, мятежная (устар. поэт.), неизъяснимая, неистовая, необузданная, неописуемая, неукротимая, неутомимая, огненная, пьяная, пьянящая, ревнивая, самозабвенная, святая, священная, скрытая, слепая, слепящая, сокрушительная, солдатская, страшная, стремительная, сумасбродная, сумасшедшая, суровая, тихая, тщетная, удвоенная, удесятеренная, упорная, упрямая, утроенная, хмельная, холодная.
Редкие, авторские эпитеты
Вулканическая, неподвижная, неурядная, огнепальная, патетическая, пумовая, слезливая, сырая, тяжелая, удушливая, четкая.
Из "ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО"
Н. М. Карамзина
[МАРТ 1238 ГОДА]
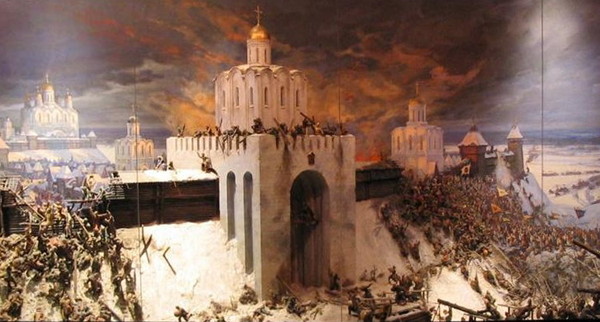
Завоевав Владимир, татары разделились: одни пошли к волжскому Городцу и Костромскому Галичу, другие к Ростову и Ярославлю, уже нигде не встречая важного сопротивления. В феврале месяце они взяли, кроме слобод и погостов, четырнадцать городов великого княжения — Переславль, Юрьев, Дмитров — то есть опустошили их, убивая и пленяя жителей. Еще Георгий стоял на Сити: узнав и гибели своего народа и семейства, супруги и детей, он проливал горькие слезы и, будучи усердным христианином, молил Бога даровать ему терпение Иова.

Чрезвычайные бедствия возвеличивают душу благородную: Георгий изъявил достохвальную твердость в несчастии; забыл свою печаль, когда надлежало действовать; поручил воеводство дружины боярину Ярославу Михалковичу и готовился к решительной битве. Передовой отряд его, составленный из 3000 воинов под начальством Дорожа, возвратился с известием, что полки Батыевы уже обходят их. Георгий, брат его Святослав и племянники сели на коней, устроили войско и встретили неприятеля. Россияне били мужественно и долго [4 (17) марта]; наконец обратили тыл. Георгий пал на берегу Сити. Князь Василько остался пленником в руках победителя.

Сей достойный сын Константинов гнушался постыдною жизнию невольника. Изнуренный подвигами жестокой битвы, скорбию и голодом, он не хотел принять пищи от руки врагов. «Будь нашим другом и воюй под знаменами великого Батыя!» — говорили ему татары. «Лютые кровопийцы, враги моего отечества и Христа не могут быть мне друзьями,— ответствовал Василько:—о темное царство! Есть Бог, и ты погибнешь, когда исполнится мера твоих злодеяний». Варвары извлекли мечи и скрежетали зубами от ярости: великодушный князь молил Бога о спасении России, Церкви Православной и двух юных сыновей его, Бориса и Глеба.— Татары умертвили Василька и бросили в Шеренском лесу.— Между тем ростовский епископ Кирилл, возвращаясь из Белаозера и желая видеть место несчастной для россиян битвы на берегах Сити, в куче мертвых тел искал Георгиева. Он узнал его по княжескому одеянию; но туловище лежало без головы. Кирилл взял с благоговением сии печальные остатки знаменитого князя и положил в ростовском храме Богоматери.

Туда же привезли и тело Василька, найденное в лесу сыном одного сельского священника: вдовствующая княгиня, дочь Михаила Черниговского, епископ и народ встретили оное со слезами. Сей князь был искренно любим гражданами. Летописцы хвалят его красоту цветущую, взор светлый и величественный, отважность на звериной ловле, благодетельность, ум, знания, добродушие и кротость в обхождении с боярами. «Кто служил ему,— говорят они:— кто ел хлеб его и пил с ним чашу, тот уже не мог быть слугою иного князя». Тело Василька заключили в одной раке с Георгиевым, вложив в нее отысканную после голову великого князя.

Многочисленные толпы Батыевы стремились к Новугороду и взяв Волок Ламский, Тверь (где погиб сын Ярославов), осадили Торжок. Жители две недели оборонялись мужественно, в надежде, что новогородцы усердною помощию спасут их. Но в сие несчастное время всякий думал только о себе; ужас, недоумение царствовали в России; народ, бояре говорили, что отечество гибнет, и не употребляли никаких общих способов для его спасения. Татары взяли наконец Торжок [5 (18) марта] и не дали никому пощады, ибо граждане дерзнули противиться.
Войско Батыя шло далее путем Селигерским; села исчезали; головы жителей, по словам летописцев, падали на землю как трава скошенная. Уже Батый находился в 100 верстах от Новагорода, где плоды цветущей, долговременной торговли могли обещать ему богатую добычу; но вдруг — испуганный, как вероятно, лесами и болотами сего края — к радостному изумлению тамошних жителей, обратился назад к Козельску (в губернии Калужской). Сей город, весьма незнаменитый, имел тогда особенного князя еще в детском возрасте, именем Василия, от племени князей черниговских. Дружина его и народ советовались между собою, что делать. «Наш князь младенец,— говорили они: — но мы, как верные россияне, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия». Сказали и сделали.
Татары семь недель стояли под крепостию и не могли поколебать твердости жителей никакими угрозами; разбили стены и взошли на вал: граждане резались с ними ножами и в единодушном порыве геройства устремились на всю рать Батыеву; изрубили многие стенобитные орудия татарские и, положив 4000 неприятелей, сами легли на их трупах.
Хан велел умертвить в городе всех людей безоружных, жен, младенцев и назвал Козельск Злым городом: имя славное в таком смысле! Юный князь Василий пропал без вести: говорили, что он утонул в крови.
Батый, как бы утомленный убийствами и разрушением, отошел на время в землю половецкую, к Дону…
Н. М. Карамзина
[МАРТ 1238 ГОДА]
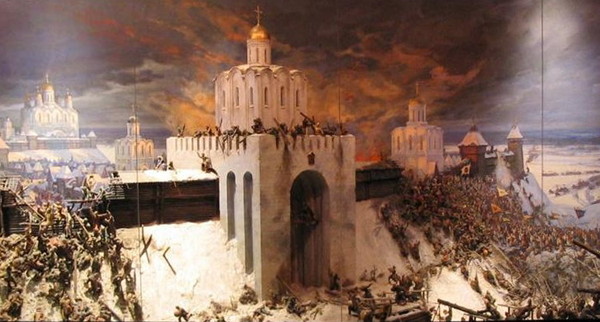
Завоевав Владимир, татары разделились: одни пошли к волжскому Городцу и Костромскому Галичу, другие к Ростову и Ярославлю, уже нигде не встречая важного сопротивления. В феврале месяце они взяли, кроме слобод и погостов, четырнадцать городов великого княжения — Переславль, Юрьев, Дмитров — то есть опустошили их, убивая и пленяя жителей. Еще Георгий стоял на Сити: узнав и гибели своего народа и семейства, супруги и детей, он проливал горькие слезы и, будучи усердным христианином, молил Бога даровать ему терпение Иова.

Чрезвычайные бедствия возвеличивают душу благородную: Георгий изъявил достохвальную твердость в несчастии; забыл свою печаль, когда надлежало действовать; поручил воеводство дружины боярину Ярославу Михалковичу и готовился к решительной битве. Передовой отряд его, составленный из 3000 воинов под начальством Дорожа, возвратился с известием, что полки Батыевы уже обходят их. Георгий, брат его Святослав и племянники сели на коней, устроили войско и встретили неприятеля. Россияне били мужественно и долго [4 (17) марта]; наконец обратили тыл. Георгий пал на берегу Сити. Князь Василько остался пленником в руках победителя.

Сей достойный сын Константинов гнушался постыдною жизнию невольника. Изнуренный подвигами жестокой битвы, скорбию и голодом, он не хотел принять пищи от руки врагов. «Будь нашим другом и воюй под знаменами великого Батыя!» — говорили ему татары. «Лютые кровопийцы, враги моего отечества и Христа не могут быть мне друзьями,— ответствовал Василько:—о темное царство! Есть Бог, и ты погибнешь, когда исполнится мера твоих злодеяний». Варвары извлекли мечи и скрежетали зубами от ярости: великодушный князь молил Бога о спасении России, Церкви Православной и двух юных сыновей его, Бориса и Глеба.— Татары умертвили Василька и бросили в Шеренском лесу.— Между тем ростовский епископ Кирилл, возвращаясь из Белаозера и желая видеть место несчастной для россиян битвы на берегах Сити, в куче мертвых тел искал Георгиева. Он узнал его по княжескому одеянию; но туловище лежало без головы. Кирилл взял с благоговением сии печальные остатки знаменитого князя и положил в ростовском храме Богоматери.

Туда же привезли и тело Василька, найденное в лесу сыном одного сельского священника: вдовствующая княгиня, дочь Михаила Черниговского, епископ и народ встретили оное со слезами. Сей князь был искренно любим гражданами. Летописцы хвалят его красоту цветущую, взор светлый и величественный, отважность на звериной ловле, благодетельность, ум, знания, добродушие и кротость в обхождении с боярами. «Кто служил ему,— говорят они:— кто ел хлеб его и пил с ним чашу, тот уже не мог быть слугою иного князя». Тело Василька заключили в одной раке с Георгиевым, вложив в нее отысканную после голову великого князя.

Многочисленные толпы Батыевы стремились к Новугороду и взяв Волок Ламский, Тверь (где погиб сын Ярославов), осадили Торжок. Жители две недели оборонялись мужественно, в надежде, что новогородцы усердною помощию спасут их. Но в сие несчастное время всякий думал только о себе; ужас, недоумение царствовали в России; народ, бояре говорили, что отечество гибнет, и не употребляли никаких общих способов для его спасения. Татары взяли наконец Торжок [5 (18) марта] и не дали никому пощады, ибо граждане дерзнули противиться.
Войско Батыя шло далее путем Селигерским; села исчезали; головы жителей, по словам летописцев, падали на землю как трава скошенная. Уже Батый находился в 100 верстах от Новагорода, где плоды цветущей, долговременной торговли могли обещать ему богатую добычу; но вдруг — испуганный, как вероятно, лесами и болотами сего края — к радостному изумлению тамошних жителей, обратился назад к Козельску (в губернии Калужской). Сей город, весьма незнаменитый, имел тогда особенного князя еще в детском возрасте, именем Василия, от племени князей черниговских. Дружина его и народ советовались между собою, что делать. «Наш князь младенец,— говорили они: — но мы, как верные россияне, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия». Сказали и сделали.
Татары семь недель стояли под крепостию и не могли поколебать твердости жителей никакими угрозами; разбили стены и взошли на вал: граждане резались с ними ножами и в единодушном порыве геройства устремились на всю рать Батыеву; изрубили многие стенобитные орудия татарские и, положив 4000 неприятелей, сами легли на их трупах.
Хан велел умертвить в городе всех людей безоружных, жен, младенцев и назвал Козельск Злым городом: имя славное в таком смысле! Юный князь Василий пропал без вести: говорили, что он утонул в крови.
Батый, как бы утомленный убийствами и разрушением, отошел на время в землю половецкую, к Дону…
Елена Байер,
18-03-2010 09:40
(ссылка)
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Все части этой 4-частной скульптурной композиции З. Церетели можно посмотреть по метке "Церетели": Окуджава, Бродский, Шукшин, Высоцкий.
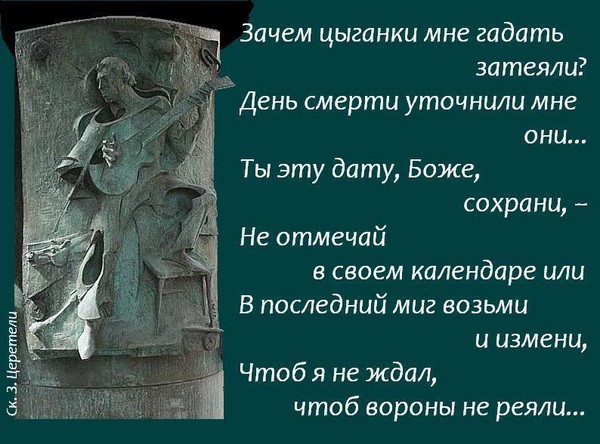
В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу